Жорж Корм Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна
Издание осуществлено в рамках программы содействия издательскому делу «Пушкин» при поддержке Посольства Франции в России и Французского института
Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme d’aide à la publication Pouchkine, a bénéficié du soutien de l’Ambassade de France en Russie et de l’Institut français
Georges Corm
La question religieuse au XXIe siècle: géopolitique et crise de la post-modernité
La Découverte Paris
2006
Перевод с французского Дмитрий Кралечкин
Редактор Михаил Тресвятский
Введение
Как «феномен религиозности» стал главным из мировых вопросов
За последние несколько десятилетий религия исподволь пропитала собой всё наше окружение, а может даже вошла в число важнейших наших забот. Где бы мы ни оказались – в Париже, Нью-Йорке, Бейруте, Багдаде, Стамбуле, Москве, Нью-Дели или Джакарте – повсюду телеэкраны, заголовки газет и еженедельников говорят нам о религии. Мы открываем или, как считают некоторые, переоткрываем странный, тревожащий нас мир, считавшийся исчезнувшим. Это раньше мы были либералами, социалистами, коммунистами, националистами стран, недавно обретших независимость, могли различаться всевозможными расцветками, связываемыми с этими ярлыками, то есть быть ультраправыми, правыми, центристами, социал-демократами, марксистами, сторонниками Москвы или Мао, борцами за свободу третьего мира и т. д. Но теперь всё иначе: мы, в первую очередь, – приверженцы «французской» светскости или «англосаксонского» мультикультурализма, жители новообразовавшихся стран, идущих к демократии, и, разумеется, иудеи, христиане и мусульмане, католики, протестанты, православные, сунниты, шииты, индуисты или буддисты.
Всего лишь тридцать лет назад: мир без Бога
Мы страстно высказываем доводы за или против ношения «хиджаба». И с тем же рвением мы обсуждаем терроризм и его связи с исламом и Кораном. Но также мы обсуждаем государство Израиль, антисионизм, антисемитизм или последний фильм о страстях Христовых. На Западе во время салонной беседы или на званом ужине каждый может оказаться потомственным иудеем или протестантом, который будет пространно излагать свое мировоззрение, свои суждения о недавних или сегодняшних событиях. А на Востоке во время разговора интеллектуалов на те же самые темы эрудиция участников неизбежно свернет на ислам, толкование той или иной суры Корана, последнее заявление бин Ладена, разделение бренного и духовного и связанные с ним проблемы. Что более странно, в тех же дискуссиях речь заходит о легитимности вооруженного сопротивления на оккупированных палестинских территориях или в Ираке, о равном безумии Буша и бин Ладена, об оранжевых революциях или революциях роз, наконец о бейрутской «весне»[1].
Всем тем, для кого сознательная жизнь начиналась с шума и ярости 1950 и 1960 годов, как на Востоке, так и Западе, всё это кажется каким-то абсолютным вселенским переломом. Наиболее удивительной представляется, возможно, не столько радикальная природа этого изменения, сколько та скрытность, с которой оно произошло – за нашими спинами, так что мы его даже не заметили. Ещё вчера, всего лишь тридцать лет назад, нельзя было обнаружить ни одного из элементов этих новых декораций нашего мира. А сегодня мы окружены, зажаты, даже задушены их повсеместным присутствием. Но нам неизвестно, откуда они взялись, кто их нарисовал и столь удачно расставил вокруг нас.
О молодом поколении, его мыслях, мотивах, формирующихся на фоне этих декораций, с которыми оно столкнулось чуть ли не при рождении, мы знаем немного. Многие не попадают под их влияние, остаются равнодушными, не желая поддаваться на новые фантазмы взрослых; а другие, те, что живут по обеим берегам Средиземноморья, мобилизуются и – по самым разным причинам – поддаются чарам декораций, отождествляясь с тем или иным из узоров религиозной или этнико-религиозной идентичности, предлагаемых им лабиринтом нового мира, сфабрикованного в последние десятилетия. В 1960 годы специалисты и эксперты говорили об этнико-национальных движениях. Сегодня же, как мы увидим, всё, похоже, захватывается религиозной идентичностью: иудео-христианский Запад, мусульманский или арабомусульманский мир, Иерусалим, ставший «вечной» столицей государства Израиль, Мекка, Рим – все они стали мирными или воинственными пунктами сбора; так же как Москва, Афины или Белград – средоточиями жизни православной церкви, возрожденными падением коммунизма. При этом протестантский фундаментализм, новые евангелисты или «рожденные заново христиане» (born again Christians) тоже принимают весьма шумное участие в создании новых декораций. Зрелищные поездки папы Иоанна-Павла II, а затем его кончина и похороны в апреле 2005 года стали крупнейшими медийными событиями общемирового уровня.
Азиатский континент неспокоен: во вполне светской Индии пробуждается индуизм, а за ним следуют убийства как мусульман, так и индуистов, особенно в районе храма Амритсар; жестокие схватки в Кашмире, где исламское сопротивление, поддерживаемое Пакистаном, выступает против индийской части этой мятежной провинции; в том же ряду – мусульманское восстание на Филиппинах, покушения террористов-смертников в Индонезии, самой густонаселенной из мусульманских стран; Далай-лама, духовный вождь Тибета, живущий в вечном изгнании, стал интернациональным медиа-персонажем.
Нужно ли упоминуть, чтобы заметить яркость декораций, в которых мы живем, те старые центры религиозного добрососедства, которые были взорваны и распались на куски: Ливан, ставший жертвой демонов религиозного раздробления, бушевавших на протяжении 1975–1990 гг., многорелигиозную и многоэтническую Боснию, рассыпавшуюся вместе с ушедшей в небытие Югославией. Можно также было бы упомянуть об ужасной чеченской драме, о более ранних событиях в Шри-Ланке, Афганистане, о талибане или об Ираке, с которым после американского вторжения вообще непонятно что будет и где теперь мы видим лишь шиитов, суннитов и курдов, которые веками жили друг с другом, но теперь стремятся во что бы то ни стало обособиться, вступив в схватку. К этой бесконечной веренице кровавых и смертоносных декораций, над которыми витает тень религии, добавляются массовые убийства в Алжире 1990-х и вездесущая фигура бин Ладена.
Однако полвека назад цвета образов и декораций мира не имели религиозного оттенка. Бог – в своих разных обличьях и наименованиях – не руководил разработкой и организаций этих декораций. Возможно, он с ужасом во взоре продолжал обозревать чудовищную бойню многочисленных войн за освобождение, в которых, к счастью, его имя не упоминалось. Кое-кто из его паствы перешел даже к проповеди теологии освобождения[2], становясь на сторону колонизированных и угнетенных. Папы в те времена редко отправлялись в путешествия, а больше занимались тем, что стирали пыль с Римской католической церкви, пытаясь сделать ее доступной для других религий и для народов Третьего мира.
Если открыть фотоальбом тех лет, в котором сохранились фотографии с Востока, в нём почти не увидишь исламских бород и еще меньше – хиджабов женщин. В те времена поражали «маоистские» или «вьетнамские» одеяния – если двигаться с Ближнего Востока на Дальний Восток. В Европе и в США на головах иудеев редко можно было увидеть киппу, а на груди христиан – крест; священники уходили в рабочие, меняя сутану на робу; режиссеры думали не о том, как снять фильм о страстях Христовых, о Магомете или о Холокосте, а создавали утонченные комедии нравов, смешные и сентиментальные; в лучшем случае могли снять историю смелого кюре Дон Камилло и не менее отважного мэра-коммуниста из живописного итальянского городка, уморительные водевили вроде фильма «Рев мыши» (The Mouse That Roared), в котором микроскопическое государство пытается шантажировать США, или фильм о докторе Стрэйнджлаве и его неудержимом желании применить атомную бомбу.
Тогда казалось, что мир живёт, не ощущая повсеместного присутствия Бога. Можно было подумать, что в результате деколонизации, освободившей значительные территории мира, простая, светская, гуманистическая мораль достигла всеобщего признания, которого ранее у неё никогда не было (она включала в себя право народов на самоопределение, на выбор политического и социального режима, уважение к национальному суверенитету, международное сотрудничество с целью лучшего распределения мировых богатств и т. д.). Не понадобился ли Богу поэтому, как скажет кое-кто позже, некий «реванш», способствующий распространению той моды, которую со всем своим талантом будут раскручивать раскаявшиеся в своих тоталитарных заблуждениях бывшие марксисты? В конце 1970 годов целое поколение французских «новых философов» сбросило марксистские или экзистенциалистские (в стиле Жана-Поля Сартра) одежды, чтобы расплатиться за свои грехи, разоблачив эти идеологии и объявив их ответственными за тоталитаризм и все несчастья мира. Неужели с миром все было настолько плохо, что ему не оставалось ничего другого, кроме как призвать на помощь Бога, снова обратиться к нему для того, чтобы оправдать вереницу нового насилия и новых «варварств», которые разразятся десять лет спустя, когда рухнет Советский Союз, – в Югославии, в Афганистане, в Чечне, Ираке, а также в Африке, – когда вроде бы только-только ушли в прошлое ужасы «короткого XX века», который был веком «крайностей», идеализма, фанатизма и расизма[3]?
Как декорации сцены мира, которые нас окружают и в которых мы отныне живём, могли измениться столь внезапно? Как стало возможным осуществить такое драматическое преобразование за столь короткий промежуток времени? Ещё вчера, в 1989 году, пала Берлинская стена, открыв новое пространство свободы. Ещё вчера, в 1991 году, Кувейт был освобожден самыми впечатляющими со времен Второй мировой войны союзническими действиями, а президент США объявил об установлении нового международного порядка, справедливого и честного по отношению ко всем сторонам, порядка, в котором агрессия сильного против слабого будет и впредь сурово караться. Ещё вчера, в 1992 году, американский политолог Фрэнсис Фукуяма стал всемирной знаменитостью из-за своей книги, в которой провозглашался «конец Истории»[4], к которому мы пришли благодаря триумфу демократической системы и её безоговорочной победе над всеми сегодняшними и будущими монстрами авторитарных или диктаторских режимов.
Идентичности, корни, воспоминания: новые декорации мира
Через год после громкого успеха работы Фукуямы другой американский политолог, Сэмюэль Хантингтон сообщил нам о неизбежном «столкновении цивилизаций» (под которым понималось, главным образом, столкновение религий)[5]. Тогда как во Франции обеспокоенный специалист по исламу Жиль Кепель пообещал нам «реванш Бога», а также описал возникновение «исламских пригородов» на периферии разросшихся европейских городов[6]. В те годы в США и Европе появилось множество работ по политическому исламу, мусульманскому фундаментализму, «воинам Аллаха»[7] и «глобальному исламу»[8]. А в 1979 году, в разгар холодной войны, произошло событие, ставшее предвестником новых времён: религиозная революция, которая сметает старую, имперскую по своим претензиям монархию, желавшую выступать в роли светского модернизатора. Иран – страна с тысячелетними корнями, располагающаяся на пересечении азиатских и средиземноморских культур, – вступает в эпоху поразительных преобразований. У одних она вызывает восхищение властью, стремящейся вернуться к духовным корням[9], у других – ужас перед революцией, которая атакует все символы современности и прежде всего США.
В ту же эпоху в январе 1979 года в США дает о себе знать ещё один мощный импульс: президент Джимми Картер запускает программу официальных мемориальных мероприятий, посвященных «европейским евреям», уничтоженным нацистами[10]: в Вашингтоне открывается музей Холокоста. С этого акта, привлекшего внимание множества СМИ, в США и Европе начинается период, когда в господствующих представлениях постепенно будет закрепляться особая чувствительность, отводящая центральную роль поминовению мученического иудаизма, но при этом не способствующая глубокому осмыслению всей совокупности сложнейших факторов, которые привели к этому позорному эпизоду европейской истории[11].
Государство Израиль, как убежище выживших в геноциде, приобретет новый смысл – более впечатляющий, чем тот, что был утвержден силой его оружия и территориальными завоеваниями: отныне оно является наследником миллионов жертв, хранителем религии, к которой История отнеслась не слишком благосклонно[12]. Поэтому в политических и информационных кругах Америки и Европы уместным становится искать и находить в своей генеалогии потомственных иудеев, писать эссе об иудаизме, готовить новые публикации Библии и упоминать о «памяти Авраама»[13] или даже о «крови Авраама», говоря об арабско-израильском конфликте[14].
В те же годы работы Лео Штрауса (1899–1973 гг.), эмигрировавшего в 1937 году в США немецкого философа, размышлявшего о противоположности гуманизма Просвещения и логики религиозного Откровения, внезапно приобретают большую известность[15]. Штраус исследовал составляющие этой непреодолимой, с его точки зрения, дилеммы, размышляя о положении евреев и проблеме эмансипации европейских евреев, которую политический либерализм, возникший из Просвещения, не смог решить. Платоновскую логическую модель и скандал смерти Сократа (то есть Афины) он противопоставляет модели божественного Откровения, профетизма и божественного Закона (то есть Иерусалиму)[16], причём первая, в конечном счёте, не способна, по его мнению, доказать свое превосходство над второй, тогда как политический сионизм, как решение еврейской проблемы, вдохновляемое европейским либерализмом и национализмом, не может не увлечься возвращением к религиозной иудейской традиции.
Со своей стороны Жак Лакан на пресс-конференции 1974 года в Риме решительно заявит о полном превосходстве религии над психоанализом: «Она одержит верх не только над психоанализом, но и над многими другими вещами. Мы просто не можем себе представить, насколько религия сильна […] Ведь религия, особенно истинная, обладает ресурсами, которые даже невозможно предположить. Достаточно посмотреть, к примеру, на то, как она копошится. Это просто чудо. […] С самого начала, всё то, чем является религия, заключается в придании смысла вещам, которые когда-то были естественными вещами. Но не чтобы вещи теперь станут менее естественными, благодаря реальному, что люди перестанут выделять смысл. Религия наделит смыслом самые странные из испытаний, те, из-за которых даже у ученых случаются приступы тревожности. Религия даст всему этому вполне реалистичный смысл. Достаточно лишь посмотреть, как это всё сегодня вертится, как такие смыслы ложатся на страницу»[17]. По Лакану, аналитик работает лишь с «симптомом», который не может продолжаться и который будет вытеснен «в силу того, что он будет утоплен в смысле, в религиозном, разумеется, смысле»[18].
В действительности, в нижеследующих главах мы увидим, что декорации поколения, жившего после Второй мировой войны, несмотря на свою внешнюю прочность, были изъедены изнутри, а материал, из которого они были изготовлены, страдал множеством дефектов. Мы постараемся выявить их и проанализировать, чтобы лучше понять это случившееся за 1990-е годы столь быстрое изменение декораций мира, ранее считавшихся незыблемыми.
Но что же это за декорации, которые неумолимо принуждают говорить нас об идентичности, о корнях, о религии, когда мы собираемся на политических конгрессах, на коллоквиумах или круглых столах? Даже если мы агностики, нас приглашают заново открыть наш Коран, без конца обсуждать толкование его сур, перечитывать нашу Библию или Тору, – ради того, чтобы лучше понять, а затем и принять эту новую декорацию или же поучаствовать в выравнивании её излишне шероховатых участков. Эта, многое определяющая, декорация в основном сложена из газет и телевизионных дебатов, из обложек самых престижных европейских и американских еженедельников: они объявляют и объясняют нам всё то, что нужно знать об иудаизме, исламе, евангелистском возрождении в США, взрыве религиозного национализма в Индии…
Конец политического или захват религиозности политикой?
В общем, нас не удивит невыносимая тяжеловесность разговоров о религии, кочующих с Востока на Запад, с Севера на Юг, с Запада на Восток и обратно. Все эти декорации – от политического фундаменталистского или фанатичного памфлета, взывающего к авторитету религии, памяти и идентичности, до успокоительного в своей взвешенности академического или журналистского дискурса, перетасовывающего избитые клише и нисколько не озабоченного их уточнением, – все они создают искаженную перспективу вездесущей религиозности и религии, непрерывный и раздражающий фоновый шум, от которого иногда, в момент какого-нибудь кризиса, просто глохнешь, – он не дает нам прислушаться к истинным звукам мира во всем их многообразии. Что ещё мы можем услышать, какую часть подлинной жизни мы можем воспринять помимо этой новой декорации и шумовой завесы, произведённой ею, какие истинные цвета и голоса жизни мы способны заметить? И если идеологии прошлого могли смутить наш взор шорами, исказить наше восприятие реальности, не ослепляют ли нас в ещё большей степени сегодняшние речи о Боге, возвращении религиозности, испорченной идентичности или пробужденной памяти?
Каковы функции этой декорации? Что она скрывает, камуфлирует или искажает? Наблюдаем ли мы «конец политического» в благородном значении этого термина, или же политическое – в предельно оппортунистическом, мелочном и лишенном всякого идеализма смысле – смогло полностью захватить наш мир, призвав на помощь религиозность и сакральное, дабы лучше замаскироваться, посеяв страх и ужас, который вызывают эти феномены в нашем бессознательном? В таком случае мы, видимо, имеем дело с новой формой идеологии, гораздо более опасной, нежели вчерашняя идеология, объявленная умершей, ведь она работает прежде всего за счет психологического устрашения, производимого упоминанием о сакральном.
Конечно, можно посчитать, что до всего этого ещё далеко и что возвращение или возрождение религиозности – всего лишь проявление истинной свободы, обретённой благодаря крушению старых тоталитарных или тотализующих систем мышления, включая диктатуру националистических и светских идей, которые правили миром в своей либеральной или марксистской версии. Идеологический неоконсерватизм, легитимирующий расширение имперской американской власти, оказывается в таком случае «новым гуманизмом» XXI века, который восстанавливает утерянные ценности авторитета и традиции[19]. А человек якобы обретает заново ту размерность, которая была утрачена им под влиянием Модерна – размерность корней, исходной идентичности, то есть религиозной матрицы как таковой. Это обретение выписывается в виде благодеяния постмодернистской демократии. Конечно, силы зла, скрывающиеся в недоразвитом мире ислама, попытаются подорвать это новое завоевание демократии, но им мы ответим безжалостной войной, даже если «Союзники» могут расходиться во взглядах на средства, которые в этой войне следует задействовать.
В данном эссе мы не будем напрямую вступать в подобные дебаты. Скорее, мы попытается прояснить наши познания, понятия, системы мышления о мире, которые сегодня, как кажется, претерпевают либо кризис, либо обновление. Какой диагноз выбрать – кризиса или обновления – зависит от нашей общей точки зрения на ход мировых процессов, которая может быть оптимистичной или пессимистичной. Также этот выбор зависит от нашей большей или меньшей привязанности к ценностям «старого» мира, то есть ценностям гуманизма и универсализма Нового Времени, начавшего бурно развиваться в период европейского Возрождения, но пришедшего в упадок из-за ужасов двух так называемых «мировых» войн, а потом и всеобщей запуганности холодной войной, ныне завершенной.
Опустошение, принесенное тремя этими войнами, потрясло философские основания модерного или нововременного мира, создало опасную пустоту, которую ныне пытается заполнить мысль новых консерваторов. Как мы увидим, глубочайшее разочарование в так называемых «прогрессистских» идеях эксплуатировалось многочисленными философскими и политическими течениями, которые вернули к жизни самые крайние формы традиционализма; последний сегодня набирается сил вместе с распространением американского имперского мировоззрения, второе дыхание которого связано с «войной против терроризма», за демократию и экономическую глобализацию рынков.
Развертывание американской военной, научной и экономической власти, которая стремится возвыситься надо всеми имперскими системами, известными по истории человечества, не может не впечатлить. Интеллектуалы толпятся у дверей, надеясь стать теоретиками «Государя», кустарями его новой легитимности; индивидуальные, профессиональные и финансовые успехи в «новом» мире, возникающем на наших глазах посреди этих декораций, столь экзотичных в силу самой своей непривычности, рассматриваются в качестве дополнительного доказательства благотворной природы новой власти. Бесспорно, бракосочетание возвращающейся религиозности с миром научных и технологических достижений, миром экономической глобализации, воплощающейся в США, может послужить причиной «чудесного» в веберовском смысле этого термина: таких чудес давно никто не видел. Те, кто противятся этому новому порядку, изображаются в качестве мрачных реакционеров, отбросов, которые надо вымести или, по крайней мере, не давать им голоса, поскольку их отказ от нового порядка помогает внешним врагам, тем, кто отрекаются от цивилизации и ее благодеяний.
В данной работе речь пойдет о том, как лучше представить спор, который мы только что обозначили. В частности, мы попытаемся понять изъяны в устройстве старых, исчезающих декораций, чтобы отчетливее уяснить слабости декораций новых, о которых мы пока не можем сказать, в какой мере они завершены и насколько долговечны. Для этого важно преодолеть нашу естественную склонность, заставляющую игнорировать обратную сторону таких декораций, не видеть реалии, ставшие слепыми пятнами господствующих представлений, определяющих содержание здравого смысла. И если мы понимаем, что истина множественна и зависит от угла зрения, с которого мы смотрим на реальность, довольствоваться одним лишь осмотром декораций, которые возводят вокруг нее, – значит окончательно удалиться от анализа новых, недавно сформировавшихся систем. Которые мы уже считаем «режимами истины», если использовать выражение, которое любил Мишель Фуко[20]; или, как замечательно сформулировал Пьер Лежандр, «догматической памятью современного Запада, памятью, которая задействована в историческом времени, но также и во времени мифологическом»[21]. Пьер Шоню, со своей стороны, не колеблясь говорит о «ярости припоминания»[22].
На протяжении всего этого исследования мы будем пытаться прояснять язык и концепции, которые вращаются вокруг представлений об идентичности, культуре, цивилизации, соотносясь с концепциями и восприятием религии, истории, философии и организации города. Именно при помощи той культуры, которую когда-то называли – с изрядной скромностью – культурой «честного человека», мы в первых трех главах предпримем это опасное, но, надеюсь, спасительное путешествие, требующееся для анализа строительных материалов новых декораций, посреди которых нам приходится жить.
В последующих главах мы сможем перейти к сложнейшим проблемам отношения модерна и постмодерна к религии, проблемам кризиса международного порядка, чтобы расшифровать наконец тенденции и потенциалы будущего развития. Мы попытаемся выяснить, в какой мере на волне глобализации, захватившей мир еще несколько веков назад и порождающей комплексный мультикультурализм как явление, одновременно привлекающее и отталкивающее, мы всё ещё можем надеяться сохранить пространство «республиканского настроя», то есть гражданственности и политической морали, освобожденной от судорог идентичности, религии или этноса.
Хотя эта тема всё ещё остается привлекательной, её всё больше считают преодолённой новыми «реалиями», всё чаще она рассматривается в качестве ностальгической мечты. Однако мы ощущаем и то, что эти плохо определённые и еще хуже понятые новые реалии, к которым относят глобализацию, терроризм, мультикультурализм, возвращение религиозности, взрывное распространение индивидуальных свобод, требуют новой рефлексии. Рефлексии, которая не будет сводиться к оптимистической очарованности благодеяниями глобализированного мира и постиндустриальной демократии, очарованности, порой излагаемой в форме академических работ, и в то же время не будет пессимистическим отказом от этого нового порядка и ностальгией по порядку старому, по «Славному тридцатилетию» Европы, по антиимпериализму, достигшему своего триумфа в антиколониализме, по светскому гуманизму, который напрямую определил надежды людей всех континентов, хотя и внес в них множество противоречий.
Неоконсерватизм и возвращение религиозности
Нижеследующие страницы являются продолжением старого интеллектуального пути, начатого еще на скамье Сорбонны более сорока лет назад, когда я решил посвятить свою докторскую диссертацию влиянию религиозного плюрализма на политические системы средиземноморского бассейна[23]. Выбор моей темы был продиктован озабоченностью судьбой моей страны, Ливана, «исторической» родины религиозного плюрализма, которая преждевременно, еще в конце XVII века, открылась влиянию европейского Нового времени, пережив в итоге множество социальных, политических и культурных бед. Прослеживая хронологию возникновения различных моделей религиозного сосуществования, я решил, что различие языческих и монотеистических обществ можно считать решающим для организации города, своеобразным водоразделом. Из исследования классического язычества я вывел, что оно представляло собой теологическую систему, идеально приспособленную для согласования этнических и религиозных различий, поскольку народ-завоеватель принимал в свой пантеон богов побежденного народа, осуществляя, таким образом, расширение своей базовой мифологии.
Этот механизм объединения, который Римская империя смогла довести до совершенства, столкнулся сначала с непримиримостью еврейского монотеизма, а затем – с отказом христиан приносить клятву императору; а исчез он тогда, когда христианство стало официальной религией империи. Исламская религия, не такая несговорчивая, как христианство, являясь последним отпрыском монотеизма, признавала религиозное многообразие, а в мусульманском праве был выработан режим автономии, которая предоставлялась еврейским и христианским сообществам, получавшим возможность жить, как и раньше, по собственным законам. Османской империи удавалось долгое время поддерживать эту систему в качестве отдельного института; однако склонясь к упадку и, поддавшись влиянию новых идей Французской революции, она рухнула, вызвав ужасающее кровопролитие, спровоцированное именно этим режимом плюрализма, который начали эксплуатировать противоборствующие европейские амбиции.
Многоэтническая империя Габсбургов сопротивлялась не дольше. Эту историю я попытался описать позже в работе «Европа и Восток»[24], где был выполнен всесторонний анализ проблем многосоставных обществ Балкан и Ближнего Востока, в которых институциональный плюрализм всё больше сжимался как шагреневая кожа под влиянием политического модерна, занесённого идеями и широкомасштабными манёврами европейских наций. Затем ту же траекторию исследований я продолжил в многочисленных размышлениях о современной истории арабского мира и Ближнего Востока, об их сложных и страстных отношениях с просвещенческой Европой, проявившихся, в частности, в спорах об исламской или светской природе современного арабского национализма, в безжалостной борьбе двух этих концепций, попавшей в поле действия мировых геополитических игр, холодной войны и тех волнений, которые в арабском мире были вызваны созданием государства Израиль[25].
В книге «Восток-Запад, воображаемый разлом», вышедшей в 2002 году, я попытался, сделав привязку к первой годовщине теракта 11 сентября 2001 года в США, подвести итог этим размышлениям, которые я продолжаю здесь, обращаясь ко всем тем драматическим событиям, которые всё это время сотрясали мир, ускорив смену декораций и изменение языка, динамику которых я пытаюсь здесь прояснить. Мой путь остается верным определённому принципу, требующему связывать развитие политического мышления с феноменами власти и с распределением этой власти в жизни наций и империй, которые правят миром. Ведь если чаще всего мысль стремится оправдать или теоретизировать власть «Государя», действительно критическая политическая мысль оказывается гораздо более изнурительным занятием, пребывая в постоянном раздоре с политической властью; поэтому она встречается реже и на неё всегда нападают оппортунисты, которым выгоден существующий порядок.
Лишь иногда, в редкие эпохи жизни идей удаётся освободиться от структур власти, выйти за пределы начетнического интеллектуального конформизма – такое случалось в самом начале христианства или во время религиозных войн в Европе, наконец в век Просвещения, последние отблески которого мы наблюдали в период после Второй мировой войны. Сегодня же, напротив, мне кажется, что мы вступили в эпоху, когда господствовать начинает новый интеллектуальный конформизм, авторитарный по своей природе и подчинённый современным, главным образом экономическим властям: такой конформизм старается навязать однобокое представление о мире, исключающее всякий критический подход.
Цель подобного мировоззрения – дать философскую легитимацию американской сверхдержаве, царствующей в мире и пытающейся восстановить утерянные ценности, в частности, авторитет религий Откровения, которые отныне называются иудео-христианской религией, а также авторитет свободного экономического обмена, который неизбежно сопровождает всемирное развёртывание американского владычества. Таким образом, мы постараемся показать, что модный сегодня неоконсерватизм в его различных англосаксонских и европейских вариантах настоятельно требует возращения религиозности, чтобы обосновать свой интеллектуальный авторитет и легитимировать новый геополитический порядок, который стали постепенно выстраивать после крушения биполярной системы Востока-Запада, управлявшей миром в период 1945–1990 гг.
Ив Рукот, один из французских глашатаев американского неоконсерватизма, заявляет: «Улисс вернулся домой, теперь он загоняет в ловушку тиранов, которые считают, будто могут терроризировать человечество; он вступает в идеологическое противоборство с теми мыслями, из которых выстроены плотины, преграждающие путь свободе. Он провозглашает предельную позитивность глобализации экономического обмена, сопровождающуюся всё новыми и новыми технологиями. Отвечая тем, кто более не способны мыслить должное, он верит в смысл Истории, поведанной той Одиссеей свободы, итогом которой стал наш Новый Мир. Формуле марксистского теоретика Антонио Грамши “пессимизм разума, оптимизм воли” неоконсерватизм готов противопоставить свою формулу: “Оптимизм разума, оптимизм воли”»[26]. Больше никакого Аушвица, никакого абсолютного Зла, никакого Гулага, никакого 11 сентября 2011 года, стремящегося разрушить «Цивилизацию». «Таким образом, – добавляет Рукот, – мы обвиняем в реакционности исламистских адептов “Четвертой” мировой войны, которые в своей ненависти готовы дойти до желания разрушить саму Цивилизацию. Лишь с этими реакционерами, то есть варварами, которые вчера были коричневыми или красными, а сегодня стали дикими силами терроризма, неоконсерватизм ведет свою непрекращающуюся войну»[27].
Позиция современных американских неоконсерваторов, которые якобы черпают вдохновение в Лео Штраусе, в некоторых отношениях напоминает приводимое последним замечательное описание «немецкого нигилизма», который легитимировал нацизм в качестве реакции на опасность мнимого конца цивилизации. По Штраусу, именно «любовь к морали, чувство ответственности за мораль, которая в опасности», парадоксальным образом привело идеологов нацизма к освобождению от законов и от обычной морали, к провозглашению нового порядка насилия, стремящегося уничтожить символы мнимого вырождения, которое было сочтено недопустимым.
Mutatis mutandis, интеллектуальный механизм того же типа движет сегодня, по всей видимости, и идеологами «нового мирового порядка»: разрушительное высокомерие нацизма само по себе отвергается и, разумеется, не стоит в повестке дня, однако теперь во имя защиты «иудео-христианской цивилизации» в самом центре дискурса господ нового мирового порядка, строящегося на американской силе, утверждается то же самое презрение к жизни Другого, представляющего собой угрозу, – с той поправкой, как мы увидим, что этот «Другой» – уже не «большевик»-революционер, а «исламистский адепт “Четвертой” мировой войны». Разумеется, было бы неправильно уподоблять американскую армию нацистским ордам разрушителей, несмотря на все «нарушения» в ходе многосторонних военных действий, которые она ведет против терроризма (лагерь военнопленных афганцев, содержащихся на территории американской военной базы в Гуантанамо на Кубе, или приобретшие скандальную известность сексуальные развлечения американских военных в тюрьме Абу-Грэйб в Ираке – достаточно красноречивые примеры). Этот законный аргумент не может, однако, вести к упрощению и оправданию практик современной американской войны, в которой пытки и «умные бомбы», убивающие невинных гражданских людей тысячами, стали «нормой», представляясь в качестве всего лишь «побочного ущерба».
В контексте этих размышлений мы будем исследовать ту, весьма примечательную, роль, которую в 1980-е годы сыграл, получивший широкую огласку в СМИ, поворот нескольких бывших французских марксистов, которые взялись восстанавливать связи с консервативными интеллектуальными традициями, умалявшими Французскую революцию и философию Просвещения, вложив в это занятие ту же горячность и неумеренность, с которыми ранее они отстаивали различные варианты марксистской идеологии. Всемирная геополитика изменилась, и ангажированные идеологи приспособились к новому контексту, предав огню то, что раньше обожали, выковав новый философский и моральный язык, оказавшийся столь же авторитарным, что и прежний. Мекка политкорректного мышления – это больше не Париж, Москва или Пекин, а исключительно Новый Мир, защищающий светоч цивилизации.
Новые одежды для старых идей – в мире, который понять еще сложнее, чем вчера. Именно это мы и попытаемся показать, стремясь объяснить интеллектуальные и материальные ставки сегодняшнего мира, чтобы отказать в итоге как вчерашнему марксистскому фундаментализму, так и авторитарной мысли в новом обличье, которая пользуется нацизмом как пугалом, внушающим отвращение, а также болезненным провалом социалистических экспериментов и сегодняшними случаями террористического насилия, чтобы внушить чувство вины всем, кто пытаются сохранить свободу суждения и независимость собственной рефлексии.
В этом смысле, продолжая критическое размышление, начатое в «Востоке-Западе, воображаемом разломе», в этой книге я буду стремиться деконструировать значение новых геополитических языков начала XXI века, будь они западными или исламистскими, – языков, которые самым бесстыдным образом смешивают религиозное с политическим, словно бы все уроки минувших столетий стерлись из воспоминаний человечества. Вот почему в центральной части данного эссе я возвращаюсь к эпизодам коллективного насилия, которые были оправданы апелляцией к религии, и этот экскурс я считаю полезным для вынесения более критического суждения относительно современных властных политик. По моему мнению, эти насильственные политики, судя по всему, в большей степени являются продолжением кризиса «оснований» и «легитимности» международного порядка, в котором мы существуем уже несколько веков, а не новой главой в истории наших старых монотеистических обществ. Как раз это я и постараюсь доказать в данной работе, опираясь на исследования известных политических философов, таких как Ханна Арендт, хотя они и далеки от поля изучения новой неоконсервативной мысли.
Теперь я хотел бы со всей ясностью отговорить от чтения этой книги всех тех, у кого есть четкие и окончательные, то есть эмоциональные, мнения о том, в каком направлении развивается мир. В моей книге они найдут лишь тот ход мысли, который покажется им рефлексивным, вопрошающим, то есть, с их точки зрения, подрывным, что само по себе способно зачастую вызвать гнев и возмущение. Тем же, кто, как и я чувствуют себя, напротив, потерянными, кто обеспокоен развитием мировых процессов, эти страницы, надеюсь, помогут понять пружины интеллектуального универсума, который сегодня как никогда раньше затоплен идеологией. Ведь нужно как можно скорее начать борьбу с коварной – в своей ложной успокоительности – картиной мира, который якобы освободился от тисков идеологий, рожденных гуманизмом Просвещения, подвергшимся сегодня всеобщему поношению, мира, который в новой «героической» борьбе будто бы добился свободы и изобилия.
1. Генезис тревог по поводу идентичности
Мир, вышедший из Второй мировой войны, быстро и успешно структурировался благодаря особым политическим системам и системам идентичности. Два крупнейших блока производили идейные и теоретические конструкции, обладали своими собственными художественными концепциями, собственными ангажированными художниками и писателями[28], экономическими и политическими доктринами. Общества, вступившие на путь деколонизации, объединились в 1955 году в Бандунге, образовав «Движение за неприсоединение», ставшее своеобразным форумом, где нашли выражение новые национализмы светского толка. «Лига арабских государств» в соответствии со своим пактом об основании, принятом в 1945 году, вообще не признает религиозной связи, которая может существовать между различными арабскими обществами, большинство жителей которых являются мусульманами (за исключением Ливана той эпохи). Идентичность, корни, память пока еще не стали повесткой дня. Новые национализмы могут иметь социалистическую окраску или, напротив, отличаться антикоммунистической доминантой, но пока они еще не столкнулись с поразительной, запущенной к концу 1970 годов мобилизацией религиозных фундаменталистских движений ислама, иудаизма или христианства, которая ускорит падение коммунизма.
С началом в СССР эры Хрущева и разрядкой отношений двух сверхдержав в 1960-е годы цивилизованный мир постепенно приучается к той мысли, что американская и русская системы в итоге должны встретиться друг с другом, поскольку обе они исходят из одних и тех же европейских философских источников, из эпохи Просвещения, и потому они в равной мере нацелены на счастье человечества, которого должно достичь за счет изобилия благ, обеспечиваемого наукой, техническим прогрессом и завоеванием космоса. Никто пока и представить не может библейские обертоны американской риторики, которую президент Рональд Рейган навяжет миру в начале 1980 годов, объявив СССР «империей зла». Инструментализация религии и религиозной идентичности еще не стала тем оружием массового уничтожения, в которое она превратится после избрания Кароля Войтылы в 1979 года Папой Иоанном-Павлом II или, если брать тот же год, благодаря набору и тренировке тысяч молодых арабов, которые должны будут вести в Афганистане джихадскую войну против советских войск, захвативших страну. Имам Хомейни еще никому не известен. Израиль пока еще не стал главной силой Ближнего Востока, пользующейся исключительным статусом на Западе, который появится у него, когда он станет изображаться в качестве возрождения попранного иудаизма; это государство еще не стало ключевым игроком международной геополитики.
Чтобы понять, как могло произойти столь радикальное преобразование декораций, не объясняющееся скачками и рывками мировой геополитики, необходимо вначале обратиться к историкам и проанализировать переоценку интерпретаций революционного наследия. В частности, во Франции конца 1970-х и начала 1980-х годов начинается хорошо спланированное наступление на это наследие, являющееся существенной составляющей универсалистского гуманизма, который многие считали неотъемлемым условием управления мировой политикой, не зависимым от соперничества Запада и Востока. В ту же эпоху это наступление дополняется успехом, которого в Америке добиваются произведения Лео Штрауса, решительно оспаривающие все философские и политические достижения модерна. Во введении к одной из своих работ Лео Штраус без обиняков говорит о том, что он отвергает любую политическую философию, которая может быть лишь идеологией, и в частности «доктрину, сформированную современной политической философией для поддержки преуспевающего всеобщего общества», которая, по его мнению, оказывается, «как все могут признать, идеологией, то есть доктриной, которая по праву и по истине не превосходит ни одну из множества бесчисленных идеологий»[29]. Он объясняет, что это его убеждение родилось под впечатлением от ужасов коммунистического режима России, которые не позволяют ему сомневаться в действительном провале гуманистической философии[30]– этот аргумент впоследствии будут использовать как поколение новых философов, так и французский историк Франсуа Фюре вместе со своими учениками.
Все это заставит в 1988 году двух французских академических ученых, комментаторов и переводчиков немецкого философа Юргена Хабермаса, пытающегося через критическое осмысление спасти наследие века Просвещения и Французской революции, заявить: «Страх всего того, что может как-то уподобляться мысли, в той или иной форме сохраняющей какие-то элементы гегелевско-марксистского наследия, не оставляет места для какого-либо третьего термина между более или менее прозрачными неоконсерваторами и более или менее темными постмодернистами, которые делят между собой интеллектуальную сцену и власть в университетах»[31]. Хабермас же сам прекрасно описал дрейф постмодернизма и его политические двусмысленности: «Во всяком случае, мы не можем a priori быть уверены в том, что мышление, характерное для постмодерна, не присваивает себе статус “трансцендентного”, фактически оставаясь во власти предпосылок самосознания модерна, использованных Гегелем. Нельзя заранее исключить, что неоконсерватизм или эстетически инспирированный анархизм во имя прощания с модерном не начнет восстания против модерна. Возможно, постпросвещением они просто маскируют свою сопричастность к почтенной традиции контрпросвещения»[32].
Пересмотр Французской революции
Пересмотр революционного французского наследия позволит открыть дорогу упрощенному, но повсеместно распространившемуся тезису о «возврате религиозности» и его роли в кризисах и новых системах идентичности, зарождающихся в эру глобализации. Согласно этому тезису, крушение светских идеологий, ставшее необратимым в результате исчезновения марксизма, естественным образом открывает дверь возвращающейся религиозности. Этот тезис питается достаточно мощной критической рефлексией, осмысляющей формирование современных национализмов и, в частности, роль, которую сыграла в них Французская революция и ее «неистовство». Поэтому во множестве работ нового поколения историков разоблачениям подвергнутся: казнь Людовика XVI; насилие периода Террора, особенно против священников, не подчинившихся закону о реорганизации Церкви, или бретонцев, привязанных к традиционному религиозному культу; якобинизм и различные формы диктатуры, практикуемой сменявшими друг друга режимами, включая Директорию, институт консулов и Империю, которая, благодаря европейским войнам, разбросала семена националистического движения и современного национализма.
Именно в этом заключается смысл работы, посвященной Французской революции, проведенной Франсуа Фюре и его учениками, пытающимися «деконструировать» великие республиканские мифы якобинского толка, из которых вышли идеологии французского левачества конца XIX – начала XX веков и которые они представляют архетипом современного революционного насилия и «конфигурации революционного сознания». В книге «Обдумать Французскую революцию», опубликованной в 1978 году, Фюре проводит крайне въедливый анализ революционной идеологии, действие которой, по его словам, «обессиливает мир ценностей, то есть разрушает сам смысл существования»[33]. Любопытно то, что, несмотря на свою обширную эрудицию, он совершенно не принимает в расчет прецедент, представленный английской революцией (к нему мы еще вернемся), который был отмечен обезглавливанием короля Карла I в 1649 году[34] и первыми коммунитарными эгалитаристскими идеями, проповедуемыми некоторыми пуританскими и анабаптистскими движениями; также он пренебрегает выводами знаменитого курса «Христианство и Французская революция»[35], прочитанного Эдгаром Кине в Коллеж де Франс, к которому мы также еще будем обращаться. Несмотря на твердо установленные Кине многочисленные связи между Революцией и различными ответвлениями христианской мысли, не раз возникавшими в истории христианства благодаря расколам и ересям, а также появлению различных форм протестантизма, Фюре в качестве единственной и исключительной причины Французской революции выделяет труды философов и энциклопедистов, возвращая, таким образом, к жизни интеллектуальную антиреволюционную традицию. Точно так же он полностью игнорирует крайне проницательные соображения крупнейшего немецкого политического философа Ханны Арендт, чья работа «О революции», опубликованная пятнадцатью годами ранее в США, представляет собой, насколько можно судить, наиболее глубокое и насыщенное размышление о феномене революции в период модерна[36].
В последней главе этого значительного произведения, посвященной «Революционной традиции и ее потерянному наследству», Арендт сожалеет по поводу того, что Соединенные Штаты, чья революция сыграла определенную роль в развязывании Французской революции, удалились от нее и даже забыли своё собственное революционное наследие. «Уже в нашем веке, – писала Арендт в 1963 году, – когда революции стали вполне обыденным явлением в политической жизни большинства стран и континентов, неудачная попытка вписать Американскую революцию в революционную традицию бумерангом ударила по внешней политике Соединенных Штатов, которым пришлось заплатить непомерную цену за то, что о корнях американской истории во всем мире совсем не знали, а у себя дома – забыли»[37]. Арендт прекрасно показывает – в этой же главе – как революции, вопреки тезису Фюре, оказываются не делом элит, единственная цель которых – это власть, а результатом «прогрессирующей дезинтеграции государства и общества». Она добавляет: «Начало революции заставало врасплох революционные группы и партии так же, как и всех остальных. И едва ли найдется хотя бы одна революция, которую можно было бы отнести на их счет. Обычно все складывалось противоположным образом: разражалась революция и освобождала профессиональных революционеров от тех местонахождений, где им случалось в тот момент быть – тюрем, кафе или библиотек»[38].
Фюре же полагает – вопреки всем свидетельствам, подтверждающим беспокойство среди эмигрантов, находившихся при королевских дворах других европейских государств, – что Революция нуждалась, главным образом, в воображаемом заговора, в данном случае – заговора аристократов. Он говорит: «Это действительно центральное полиморфное понятие, посредством которого действие организуется и мыслится». По его мнению, Революция «извращает причинно-следственную схему, в рамках которой любой исторический факт сводится к интенции, субъективной воли; она гарантирует непомерность преступления, поскольку в нем невозможно признаться, а также берет на себя санитарную функцию его искоренения»[39]. Революционное сознание, – добавляет он, оказывается в таком случае всего лишь «воображаемым дискурсом о власти. […] Как воля народа, заговор – это бред о власти»[40]. Далее, рассуждая о войне 1791 года, он дополняет свою мысль, утверждая, что эта война была «первой демократической войной Нового времени», поскольку ее целью была исключительно «победа или поражение», в отличие от войн Старого порядка, ограниченных и, по его мнению, умеренных[41].
В этой работе Фюре награждает похвалами и порицаниями многих историков Революции, большинство из которых, как ему кажется, были слишком снисходительны к Террору и преступлениям этого периода: наибольшее возмущение у него вызывают историки марксистские. С заметной любовью пестует он ностальгию по корпорациям и орденам Старого порядка: в них он видит систему равновесия различных интересов, гораздо более рациональную и соответствующую человеческой природе, нежели та, смертоносная, по его мнению, утопия революционного сознания, что была выкована свободомыслием философов Просвещения и союзов единомышленников, которые впадают в абстракцию всеобщей воли в стиле Руссо и создают абстрактное право[42]. По Фюре, «в пространстве всеобщей воли народ-король будет отныне мистически совпадать с властью; убежденность в этом является матрицей тоталитаризма»[43].
Тот же колокольный звон мы слышим в текстах Патрика Генифе, ученика Фюре, который полагает, что «именно внутренняя логика Революции, запущенная созывом Генеральных Штатов в 1789 году, обращается к динамике Террора»[44]. Этот автор, противореча всей традиционной историографии, полагает, что «революционеры всеми силами создавали возможность возвращения эмигрантов и вторжения во Францию коалиции европейских монархий». Близкое мнение высказывали, например, авторы «Черной книги коммунизма»[45], которые отвлекаются от факта военной интервенции европейских держав во время русской революции, стремившихся остановить ее развитие, что повлекло новую войну, принесшую с собой неисчислимые жертвы и запустившую процесс формирования устойчивой паранойи изоляционизма и опасностей, которую воплотит в себе безжалостная диктатура сталинизма.
Еще больше расширяя проблематику пересмотра Просвещения и революции, другой университетский ученый, Фредерик Рувийуа, разоблачает одновременно «систему прогресса» – механистическую и картезианскую по своим идейным корням, иллюзию направленности истории, зарождающийся деизм и «буржуазный дух»[46]. То же самое стремление обвинить всю философию в целом, а в частности – французскую и немецкую философию Просвещения, обнаруживается у Алена Безансона, специалиста по русской истории, в его весьма известной работе по интеллектуальному генезису ленинизма, в которой систематически принижаются политические идеологии модерна[47].
Здесь мы возвращаемся к стародавнему гневу Эдмунда Бёрка (1729–1797 гг.) на Французскую революцию («бесформенная, грубая, прокисшая, страшная, печальная смесь педантизма и похоти»[48]) и к упрощенческим теориям Луи де Бональда (1754–1840 гг.), который обвинил философию XVII и XVIII веков, представив её источником всех мировых бед. «Впрочем, – пишет де Бональд, – философия не предлагала разрушения без замены; она заменяла реальность абстракциями: у знати она ставила разум на место религии; у народа – закон на место власти; а у всех – она ставила неведомую мне филантропию на место милосердия и любви к ближнему: ведь религия, которая для некоторых есть разумение, для всех является любовью; ведь не все люди обладают просвещенным умом, но все – чувствительным сердцем»[49]. Также можно упомянуть традиционализм Рене Генона (1886–1951), который пригвождает Декарта и его поворот к рациональности к позорному столбу за то, что они подорвали основы традиции и интеллекта (понимаемого в смысле мистического и космического постижения мира – в той форме, в какой оно практиковалось в религиях Дальнего Востока, в эзотерических формах ислама или же было открыто христианством европейского Средневековья до того, как последнее пошло по пути развития, заставившему его довольствоваться исключительно мирским использованием разума, направленным на утилитарные цели[50]).
Обвинение, выдвинутое Фюре, свою окончательную форму приобретет в 1995 году в его последней работе, посвященной крушению коммунизма, «Прошлом одной иллюзии», удостоенной множества наград[51]. Через год после его смерти в 1997 году будет опубликована переписка по вопросу происхождения фашизма с Эрнстом Нольте, современным немецким историком (к которому мы еще вернемся), все труды которого направлены на представление нацизма в качестве простой реакции на угрозу советского тоталитаризма[52].
Таким образом, Французская революция перестает восприниматься в качестве источника новых политических идей, которые «очаровали» мир: теперь ее оценивают исключительно мерилом вызванного ею насилия и первых в Новое время диктаторских режимов. То есть она оказывается матрицей революций, поскольку она стала причиной бед множества народов – в большевистской России, в Китае Мао Цзедуна, а также в большинстве стран третьего мира, революционные и националистические элиты которых черпали вдохновение в этом источнике французских идей.
С этой точки зрения, крушение СССР и диктатур Восточной Европы логически закрывает революционный цикл мира, аннулируя яростные идеологические битвы сторонников марксистских и социалистических ценностей и защитников ценностей либеральных и капиталистических: это событие, следовательно, отмечает собой конец идеологи и даже «конец истории», тем самым открывая, как мы поймем в дальнейшем, двери возвращению религиозности. Но, скорее, оно отмечает пришествие новой идеологии, идеологии глобализации, призванной конкретизировать эти фундаментальные изменения: она якобы разрушит стены, разделяющие человечество, до сего момента существующее в форме агрессивных и конкурирующих друг с другом наций; она освободит индивидуума, позволив ему вернуться к своей истинной идентичности, фундаментальной матрице, то есть, к его родной религии или базовому этническому характеру (либо к смеси обоих, когда религия тесно связана с этнической принадлежностью).
Работы Фюре приобретут немалую известность и влияние – уподобляясь в определенном смысле произведениям
Нольте. Будучи созвучны духу эпохи, они пригодились для того, чтобы отыскать в прошлом простое объяснение нацистских зверств, случившихся в самом сердце культурной Европы[53]. Перекладывая ответственность на прошлое событие, Французскую революцию, и на советский тоталитаризм, европейское прекраснодушие могло снова вступить в свои права – так же как и поверхностный морализм в международных делах, якобы обосновываемый идеологией прав человека, носителем которой оказывается Запад. Как объясняет Юрген Хабермас, «сила воспоминания, несущая освобождение, должна означать […] не избавление современности от власти прошлого, но снятие с современности ее вины перед прошлым». К этому он добавляет: «[понимание того факта, что] этический универсализм необходимо принимать всерьез вместе с уже совершившейся и очевидно необратимой несправедливостью; что существует солидарность тех, кто родился позже, с их предшественниками, со всеми, кто потерпел ущерб от руки человека в своей телесной или личностной целостности; эта солидарность утверждается и инициируется только посредством памятования»[54].
Возвращение или применение религии в мире глобализации?
Впрочем, как мы увидим далее, речь идет скорее о чисто политической идеологии, а не о конструкции идентичности, которая опиралась бы на объективные основания, например на почитание предков или старейшин, вместе с вытекающей из него привязанностью к языку, культуре и поэзии. Тем не менее, ясно, что на протяжении 1980-х и 1990-х годов мы наблюдаем глубинное смещение представлений о мире, разделяемых большей частью западных элит, – которое для тех, кто его проживает в опыте, кажется медленным, многосторонним, поступательным, тогда как на деле оно более чем радикально, если посмотреть на него с определенной исторической дистанции.
До сего момента на протяжении примерно двух веков «прогрессистские» и, в основном, нерелигиозные (пусть и не всегда совершенно «светские») ценности преобладали в среде этих элит, выступая оправданием как дурных дел (таких как колонизация, проводившаяся европейскими державами во имя «прогресса»), так и благих (например деколонизации, поддерживаемой после Второй мировой войны США и обосновываемой теми же мотивами). Но с 1980-х годов устанавливается новый консенсус, не лишенный, разумеется, противоречий и внутренних трений, который утвердится в среде новых элит, правящих на Западе. Падение Берлинской стены в 1989 году и последующее крушение СССР в 1991 г. кристаллизуют этот консенсус. Успех предпринятых «пересмотров истории», проведенных такими интеллектуалами, как Франсуа Фюре, Фрэнсис Фукуяма или Сэмюэль Хантингтон, и получивших широкое освещение в центральных СМИ, поможет нарастить мясо на этом новом консенсусе и наделить, пусть даже бессознательно, новой легитимностью специфическое западное Weltanschauung[55]*, взращенное в основном на религиозных убеждениях, которые, казалось, давно ушли с международной политической сцены.
Конечно, не все западные руководители 1980-х и 1990-х годов готовы будут разделять подобные убеждения. Но всей они, в большей или меньшей степени, разделяют новые представления о мире, которые лежат в основании политического успеха консервативных религиозных течений, составляющих ядро новой мировой сверхдержавы, США, во главе с президентом Рональдом Рейганом, избранным в 1981 году, и, особенно, старшим Джорджем Бушем и младшим, избранными соответственно в 1988 и 2001 гг.
В действительности, западное обращение к религии – идет ли речь о так называемых иудео-христианских ценностях или об использовании фундаментализма американских церквей, – свидетельствует не столько о возвращении религиозности, сколько о противоположном – о применении религии. Такое применение затребовано необходимостью придать лоск легитимности политическим актам, которые, с точки зрения классических критериев нововременного гуманизма, сформировавшегося под влиянием философии Просвещения и Французской революции, представлялись совершенно нелегитимными.
Здесь небесполезно напомнить о том, что большинство недавних заявлений и инициатив католической церкви, как и либеральных протестантских церквей, противоположны по своему смыслу этой идеологии, являющейся, скорее, воинственной и замкнутой на себя. С 1960-х годов Римская церковь во многих отношениях открылась незападным народам и религиям, рабочим классам и угнетенным группам; папа Иоанн-Павел II решительно и со всей откровенностью осудил две войны на Ближнем Востоке, которые велись США и присоединившимися к ним странами. Многочисленные протестантские церкви демонстрировали постоянное стремление к экуменизму, озабоченность правом народов распоряжаться своей судьбой, борьбой против апартеида и всех форм дискриминации одних людей другими.
То есть возвращение религиозности – не какое-то естественное явление, не квазибиологическая реакция на те эксцессы, к которым привела весь мир светскость, а важный политический феномен, религиозный лишь по названию. Он никак не связан с основной линией развития теологических и политических построений либо вероисповеданий, если не брать в расчет возрождение буквалистского прочтения Ветхого завета и Писания, распространившегося в США, а также, как мы увидим, в мусульманских странах и в иудаизме, хотя в этих случаях причины такого распространения были иными. Так же, как подъем исламского фундаментализма в арабском мире с его матрицей идентичности зачастую обслуживает запуск коллективной политической реакции антизападного толка, движимой, на самом деле, вполне приземленными причинами, укрепление христианского буквализма в США служит легитимации новой имперской горячки, проявившей себя после неудачи во Вьетнамской войне, когда целое поколение американцев начало сомневаться в легитимности действий их собственной страны на международной арене, ставить под вопрос авторитаризм и незыблемость традиционных политических и экономических ценностей.
Историческое развитие протестантского фундаментализма хорошо описано Мализом Рутвеном, университетским ученым, преподававшим в США[56]. Его корни он обнаруживает в начале XX века, но не в «Библейском поясе» старого американского Юга, а в Южной Калифорнии, наиболее развитом регионе США, центре индустрии Голливуда: «Два этих набожных брата [Милтон и Лайман Стюарты], разбогатевшие на нефтедобыче, начинают патронировать пятилетнюю программу публикации бесплатных брошюр, предназначенных для англоязычных протестантских пасторов, миссионеров, преподавателей теологии и студентов, секретарей “Христианской ассоциации молодежи”, директоров воскресных школ, светских сотрудников религиозных институтов и издательств, выпускающих религиозную литературу по всему миру. Эти брошюры назывались “The Fundamentals. A Testimony of Truth” [“Основания. Свидетельство истины”], писали их видные консервативные теологи; они должны были остановить разрушение того, что два брата и их издатели считали основополагающими верованиями протестантизма: непогрешимость Библии; непосредственное сотворение мира и человечества Богом ex nihilo (что противоречит дарвиновской эволюции); подлинность чудес; непорочное рождение Иисуса, Его распятие на кресте и телесное воскрешение, а также (для некоторых, но не для всех верующих) Его неизбежное возвращение в конце времен, когда Он будет судить мир и установит свое царство»[57].
Это все те же круги, которые, начиная со знаменитого «обезьяньего процесса» 1925 года в Теннесси[58], пытаются воспрепятствовать преподаванию теорий Дарвина или, по крайней мере, навязать ученикам уроки по «креационизму», который защищает тезис о сотворении мира Богом за семь дней, изложенный в Библии, представляя его равным теории эволюции. В 1995 году в штате Алабама был введен закон, предписывающий включать в учебники по биологии, используемые в государственных школах, особую сноску, согласно которой теория эволюции человеческого вида не является достоверной и оспаривается; другой штат, Луизиана, проголосовал за закон, обязывающий преподавать в школах креационизм, но в 1987 году он был отменен Высшим судом США[59]. Короче говоря, во всем этом мы можем обнаружить агрессивное кредо новых евангелистов, одно из оснований власти американских неоконсерваторов, которые настаивают на том, что возвращение евреев в Израиль и их собирание на этой земле следует считать событием, в эсхатологическом горизонте предвещающим их обращение в христианство и возвращение Христа на землю[60].
Отлично понимая, что такую инструментализацию религии легко разоблачить, агрессивные идеологи новой системы власти, устанавливаемой на всемирном уровне, предпочитают говорить о «цивилизациях» и войнах, которые они могут разжечь. Нет речи о том, чтобы согласиться с фатальностью судьбы, предопределившей падение былых великих цивилизаций, предков Запада, напротив, требуется отказаться от мнимой динамики упадка и слабости, чтобы опередить «врага», прежде чем он сможет вас уничтожить. Именно эту мысль внушает своим читателям Сэмюэль Хантингтон в своей работе «Столкновение цивилизаций». И ту же идею транслируют другие успешные американские эссеисты, особенно Роберт Каган, разоблачающий психологию «слабости» старого европейского континента и превозносящий психологию «силы», воплощенную в США, которые, даже если их оставили некоторые из европейских союзников, пытаются преобразить мир, сделав его лучше и безопаснее[61]. Точно такую же мысль внушает и другой американский эссеист, близкий к неоконсерваторам – Роберт Каплан: он отвергает иудео-христианскую мораль, ценности которой не пригодны для того, чтобы дать отпор варварству, которое вот-вот захватит весь мир[62].
В этой интеллектуальной среде мы чувствуем оттенок безумия: народ, раса, нация, империя, цивилизация, культура, религия – все это смешивается в сплошную беспорядочную массу; эти понятия подменяют друг друга в зависимости от аудитории или новых систем политических и даже экономических ценностей, которые стремятся заменить классический гуманизм и старое доброе «право народов», на котором были выстроены правила ведения войн или заключения мира между «нациями».
В следующих главах мы увидим, что религия, несмотря на поверхностное впечатление, вообще не может быть первичной матрицей идентичности. Даже в глубоко религиозных обществах индивидуум никогда не теряет представления о своей семейной генеалогии, о специфике своего языка и географической среды. Это и есть три главных составляющих идентичности, которую религия подменить не может, если только не брать те особые случаи, когда индивид решает посвятить свою жизнь религии, становясь священником, монахом, раввином, улемом или муллой. Но даже в случае посвящения себя религии этнический характер, то есть сочетание только что упомянутых нами основных составляющих идентичности, сохраняется.
Зато нет никакого сомнения в том, что религия – это важный источник общественной или индивидуальной морали, влияющий на неё напрямую или косвенно. Задавая критерии добра и зла, она определяет то, что законно, осуждая незаконные поступки. Именно поэтому религия и власть тесно связываются друг с другом, обеспечивая возможность появления различных типов сложных отношений между религиозными системами и политическими, которые мы попытаемся продумать в следующих главах. То есть мы поймем, что важно раскрыть именно модальности обращения одной системы к другой, чтобы не впасть в наивную веру, утверждающую, что некая религиозная сущность определяет человеческое поведение, а также социальные и политические системы, из него вытекающие.
Но прежде чем перейти к этому сложному осмыслению, остановимся на мгновение на наших собственных концепциях «сущности» человека и природы его чувств, то есть прочного ядра его «первичной» или «врожденной» идентичности.
Расизм, эссенциализм и колониализм: извращенная трилогия
Мы снова упоминаем здесь идентичность, но не в смысле этнической или генеалогической идентичности, которую мы будем обсуждать в следующей главе, а в плане предположительной социальной идентичности человека, то есть идентичности определенного представления, задающего для индивида его систему метафизических, религиозных или философских верований, образец и пути развития которой призвана определять человеческая природа в её «первичной» или «врожденной» структуре, в её сущности. Быть «эссенциалистом» – значит верить в то, что в природе человека присутствует некая неизменная сущность, прочное ядро, которое сохраняется несмотря на внешние изменения систем, верований, политических и социальных институтов, вызываемые историческими событиями. Итак, человек должен считаться религиозным животным еще до того, как он станет животным политическим, а отсюда возникает столь популярная сегодня тема возвращения религиозности, которая якобы по прошествии веков вернет человеку его первичную сущность Homo religious, завершая исторический цикл, в котором воинственная и антирелигиозная светская культура попыталась обрезать религиозные корни человека, обеспечивающие его метафизический покой и моральный порядок.
Так же можно счесть, что человек является еще и «экономическим животным», обладающим по своей сущности способностью к экономическому расчету, необходимому для поддержания собственного благополучия; то есть он в таком случае в равной мере и Homo religious, и Homo economicus. С этой точки зрения, так же, как крушение антирелигиозных режимов и культур якобы позволяет человеку обрести свою религиозную природу, крах этатистских или интервенционистских экономических режимов, отнявших у человека экономическую свободу, ему её возвращает. Возвращение религиозности, обретенная религиозная свобода вместе со снятием ограничений, наложенных на креативность и экономическую свободу человека, возвращают его к его врожденной «первичной природе», позволяя ему наконец полностью раскрыть свой потенциал. Этим миражем манит нас союз теорий экономической глобализации и возвращения религиозности. Они облачены в призыв к универсальности; ведь, как утверждается, они наконец-то примиряют религиозную веру и свободу, чего не смог достичь гуманизм модерна, принижающий одновременно и религию, и экономический потенциал людей, и те общества, в которых они живут. Человек обретает свою «сущность», открывая, таким образом, путь к примирению морали, политики и религии в рамках синтеза, значительно превосходящего всё то, что было до сего момента известно истории человечества. Именно так подает себя постмодернистский эссенциализм, ставший главным кредо американской доктрины и её многочисленных адептов в Европе и других частях мира.
Этот новый эссенциализм занимает место космополитической культуры, вышедшей из философии Просвещения, замещает её в качестве системы организации международных отношений, вытеснившей старую систему суверенных национальных государств. Он утверждает, что сможет преодолеть национальные и цивилизационные антагонизмы (чья воинственность и возможная враждебность никуда, однако, не исчезает) за счет мультикультурализма: последний может распространиться именно благодаря выстраиванию системы глобализации, основополагающему и окончательному утверждению примата религиозности и экономики. Отсюда вытекает тема свободы, центральная для американского дискурса, как и необходимость утвердить её в общемировом масштабе, подавить анклавы фанатичных «врагов свободы», единственное оружие которых – насилие и террор. В центре этого дискурса стоит мессианизм как главное качество американского национализма, который всегда отличался от европейского национализма своей ярко выраженной религиозной окраской (это отличие мы проанализировали в другой работе[63]). Такая окраска сохраняет след того, что можно было бы назвать библейским монотеистическим архетипом. Соответствующая ему концепция добра и зла приобретает здесь абсолютное, трансцендентное измерение, отстранённое от объективных условий сложной и изменчивой реальности: она не признает многообразия характеров и культур разных исторических эпох, событий, травмировавших коллективную психологию тех или иных народов, как и «скрытую», лишенную и морали, и этики сторону любой политической системы.
Сегодня этот эссенциализм стал возможен потому, что светскому гуманизму модерна не удалось его подавить, но также и потому, что последний сам широко использовал такой эссенциализм в XIX и XX веках. Как он работал, мы увидим в следующих главах, где будут рассматриваться расистские теории, построенные на достижениях лингвистики, создавшей концепции антропологического разнообразия мира. Расизм, эссенциализм и колониализм образуют трилогию, которая оставила глубокий след в европейской культуре XIX и XX веков. Она предполагает наличие особых инвариантов цивилизаций, наций, народов: мир иерархически делится не только на арийцев и семитов, но и на культурные народы, обладающие историческим сознанием, и первобытные или дикие племена, не имеющие истории; так же, если следовать терминологии Вебера, мир можно поделить на магические или харизматические общества, в которых правят религия и власть племенного или патриархального вождя, и общества рациональные, наделенные научной бюрократией, которая организует функционирование государства и общества так, чтобы максимизировать благосостояние людей[64]. Короче говоря, для значительных регионов европейской культуры мир делится на два вида людей[65]. Как мы еще увидим, это деление мира легитимирует колонизацию и империализм.
Однако гуманистические стороны этой культуры будут стремиться ослабить жесткий эссенциализм, лежащий в основе этого «цивилизационного» расизма и являющийся объектом желания всех политических традиционалистов, отвергающих идею изменчивости структуры обществ и цивилизаций, порождаемой ими. Философия Просвещения, подхваченная гегелевской философией, а затем – позитивизмом и марксизмом, выработает представление об «эпохах» человечества, через которые проходят общества, двигаясь от стадии первобытного племени к цивилизации. Марксизм поделит мир на докапиталистические и капиталистические общества, так же выделив обширные фазы человеческой истории: эта концепция потом будет воспроизведена под другим соусом, в ином идеологическом контексте, американскими экономистами-теоретиками «этапов» экономического развития[66]. Но все эти теории во всей их совокупности не помешают новым формам расизма, представленным европейским этноцентризмом, видеть в европейской культуре и технической цивилизации «авангард» человечества, который должен открыть путь другим нациям, народам или цивилизациям.
Колониализм раньше прикрывался также легитимностью, основанной на предположительном превосходстве европейской цивилизации и христианства как всеобщей религии. Рауль Жирарде сумел хорошо описать тесный союз Церкви и государства в европейской колониальной экспансии: «На протяжении XIX века, – пишет он, – исторически сложилась фактическая общность интересов Церкви с ее апостольской миссией, проводимой в заморских странах, и государства, осуществляющего свои имперские амбиции: с точки зрения подавляющей части верующих, как и неверующих, понятия евангелизации и колонизации никогда не теряли тесной связи друг с другом. Для Церкви распространение сферы её влияния – в пространстве и во времени – совпало с усилением европейского господства. Почти всегда миссионеры стремились опереться на колонизирующее государство, требуя от него защиты и успешно сотрудничая с ним в установлении и поддержке его политической власти. С другой стороны, практически всегда государственные органы признавали доктрину, согласно которой миссионерские акции в общем и целом являются важным вкладом в процесс колонизации, поскольку они способны помочь администрации в огромном числе задач, включая вопросы санитарного обеспечения и медицины, так что влияние миссионеров чаще всего считалось желательным с точки зрения образования и “нравственного воспитания туземцев”. В этом плане довольно значимо то, что миссионерская деятельность почти не пострадала из-за конфликта Церкви и республиканского государства, который разразился в конце XIX века и начале XX-го»[67].
Речь тогда шла о том, как «привести» другие народы к цивилизации, открыть новые торговые рынки, обеспечив процветание и технический прогресс на общемировом уровне. Так, в 1931 году французский преподаватель Альбер Байе на конгрессе Лиги прав человека, посвященном колонизации, заявил: «Отсюда следует, что колонизация легитимна, когда колонизирующий народ приносит с собой сокровищницу идей и чувств, которые обогатят другие народы; если это условие выполняется, колонизация оказывается не правом, а прямой обязанностью […]. Мне кажется, что современная Франция, дочь Возрождения, наследница XVII века и Революции, предлагает миру самоценный идеал, которая она может и должна распространить по всему мирозданию. Принести науку народам, которым она не известна, дать им дороги, каналы, железнодорожные пути, автомобили, телеграф, телефон, организовать у них гигиеническую службу, познакомить их с правами человека – вот задача братства. […] Страну, провозгласившую права человека, сделавшую огромный вклад в развитие наук, создавшую светское образование и служившую всем другим нациям примером борьбы за свободу, само её прошлое обязывает распространять везде, где она только сможет, идеи, ставшие причиной её величия»[68]. Действительно, европейские национализмы в конце XIX века представляли собой формы империализма, который разрабатывал идеологии легитимации колонизации через мега-идентичности. К слову, Ханна Арендт ясно продемонстрировала сложные связи, объединяющие этот подъем империализма с возникновением в Европе тоталитарных увлечений, а также с рождением современного антисемитизма, не имеющего ничего общего с христианским антииудаизмом, имевшим теологические основы[69].
Однако эволюция антиколониальных идей в самой европейской культуре и развитие в международном праве принципа права народов на самоопределение расшатали такую легитимность, способствуя одновременно оформлению принципов борьбы против расизма и антисемитизма[70]. В XIX веке понятие империализма в европейской политической культуре имело положительные коннотации, поскольку колониальное расширение рассматривалось в качестве положительного, нормального и полезного явления, свидетельствующего о жизненной силе великий наций, их культуры и ценностей. Во второй половине XX века термин «империализм» приобрел отрицательное значение, а европейские государства были вынуждены отказаться от своих колониальных владений, чему зачастую предшествовали долгие и кровопролитные войны. На смену классическому империализму приходит неоколониализм, который США начинают практиковать в Латинской Америке, а потом и во многих других частях мира, по мере того как развертывание холодной войны приводит к политической клиентелизации недавно обретших независимость стран, попадающих в сферу влияния двух сверхдержав.
В то же самое время идеология мега-идентичности Запада претерпевает изменения. На смену колонизаторскому цивилизационному фанатизму XIX века с его гуманистическими претензиями приходит дискурс защиты прав человека и демократии, пророком которого становится Запад в целом, а стражем – США. Поэтому американский империализм оправдывает сегодня свои интервенции понятием «войны цивилизаций», в котором центральную роль играет война с терроризмом, позволяющая легитимировать превентивные войны. Проблематика меняется, однако в основе мы обнаруживаем всё тот же союз религиозного монотеистического архетипа и светской концепции счастья и спасения человечества, который оправдывал колонизацию XIX века, никогда не осуждавшуюся даже Марксом (действительно, для марксизма триумф западной капиталистической цивилизации является предварительным условием победы коммунизма, которая должна обеспечить счастье всего человечества).
Итак, невозможно избежать связи между расизмом и религией, сколько бы неприятной она ни казалась, ведь здесь мы имеем дело с невыносимым парадоксом: как религия, то есть источник нравственности, может порождать столь яростный по своим настроениям расизм? Чтобы объяснить этот парадокс, нужно обратиться к фундаментальному различию потребности в религии, присутствующей в человеческой природе, и институ-циализированной и догматизированной религии, – это различие мы подробно проработаем в третьей главе.
Упадок европейского национализма, и зарождение потребности в «корнях»
Господствующее сегодня объяснение катаклизмов, пережитых миром в период с конца XIX века, в общих чертах выглядит так: распад классических национализмов, конец воинствующих светских идеологий, например марксизма, возвращение религиозности и этики в контексте развития индивидуальных свобод и раскрепощения обществ. Но является ли религия в самом деле первичной матрицей идентичности? Какие отношения поддерживает она с различными типами обществ и их отличительными чертами? Вот предварительные фундаментальные вопросы, которыми необходимо заняться, если мы хотим трезво проанализировать серьёзнейшие проблемы идентичности, возникшие уже в нашу эпоху.
Можно задаться вопросом, не напоминает ли странным образом презрение, с которым после двух мировых войн XX века на Западе относятся к светскому национализму, столь модному в веке XIX, то презрение, с которым, mutatis mutandis, стали смотреть на религию и религиозную практику на исходе религиозных войн между протестантизмом и католичеством, которые шли в Европе XVI века. Устав от фанатизма и насилия современного национализма, европейская культура последней половины века отказывается от ценностей, связанных с национализмом, «деконструирует» национальный феномен, обнаруживая, что он является искусственным, изобретённым, что им манипулируют системы власти и политические амбиции[71]. Этот феномен теряет свою притягательную, мистическую, нравственную силу, также как и свою, ранее считавшуюся чуть ли не биологической, функцию организации обществ и высшего выражения их идентичности. Культура просвещенческой Европы оказала то же самое разрушительное воздействие на религиозные чувства и религию как систему веры, организующую жизнь в городе. «Бог» был разоблачен в качестве сотворенного человеком изобретения, используемого в манипуляциях, нацеленных на укрепления систем власти и подавления.
Однако конец эры наций открыл, по крайней мере для Европы, пустоту идентичности, на которую со всей ясностью указывают тенденции поиска «корней» – само это слово отсылает к растительному миру и, соответственно, природе, неявно противопоставляемой преходящей деятельности политических систем. Эти поиски ведутся во всех направлениях, стремясь проникнуть в вытесненные воспоминания, покрытые свинцовым куполом национальных чувств и культурно-политических систем, выстроенных вокруг них. И этот свинцовый купол сегодня начинается плавиться, подчас заставляя нас снова вспомнить о значении Бога. Сумеет ли формирующаяся идеология европейской идентичности, следующая учреждению институтов Евросоюза, полностью стереть память суверенных наций? Эта память питает некоторые из форм сопротивления неолиберальной экономической идеологии глобализации, которая управляет выстраиванием Европейского Союза. Согласятся ли старые суверенные нации вернуться к статусу провинциальных наций, включенных в обширное экономическое пространство, конструирование собственной политической идентичности которого еще далеко от завершения?
По правде говоря, крушению национализма предшествовал мощный ураган, также дувший с силой и фанатизмом, – ураган столкновения двух концепций мира. Одна считала себя преодолением мира эгоизма и эксплуатации наций, достигаемым за счет братства угнетенных классов, ставших жертвой эксплуатации, систематизацией которой выступала организация мира в виде буржуазно-капиталистических наций; другая же с победным видом цеплялась за эту организацию, которая первоначально освободила общества от старого феодального гнета, создала современного гражданина, учредив свободу в самом благородном смысле этого термина. Вторая мировая война, а затем и холодная война вплели это всё ещё мощное дуновение национализма в ветра этой борьбы двух непримиримых идеологий.
И хотя марксизм послужил рычагом для русского национализма, так же как затем и для национализмов китайского и вьетнамского, мир с удивлением наблюдал за крушением этой идеологии и ее системы ценностей.
Марксизм и национализм исчезли одновременно, оставив пустоту в представлениях, которую редко можно было наблюдать в истории человечества. Эта пустота неоспорима для Европы, которая, начиная с середины XIX века, мыслила и организовывалась исключительно на основании двух этих верований, пусть они иногда и смешивались, а иногда противопоставлялись, в зависимости от географии, обстоятельств, большей или меньшей степени влияния на культуру европейского центра, которым могла быть Германия, Франция или Англия.
2. Пришествие нации и изменения в системах формирования идентичности
Идентичность – это социальный феномен в строгом значении этого термина, хотя мы подчас забываем, что она строится на отличии от того, что считается иной идентичностью. Идентичность функционирует, отсылая к тому или иному негативному полюсу, заданному видением другого, чем-то отличающегося, а может быть и врага. Вот почему любая система ценностей, структурирующая идентичность, в то же время является существенной составляющей системы власти, организующей порядок в рамках определенного общества и решающей, вести ли войну или заключить мир с соседним иным сообществом.
Как общества назначали себе, организовывали собственную идентичность, как определяли отношения с другим и иным до эпохи современных наций? Это основные вопросы, ответить на которые необходимо, чтобы понять дисфункции современного национализма, его сегодня уже заметное стирание и замещение другими системами идентичности. От ответа на них зависит также более полная оценка тех бурных изменений, которые мир претерпевает в наши дни и чья главная характеристика заключается вроде бы в возврате религиозности, вытесняемой светским модернизмом на протяжении двух последних столетий.
Вопреки эссенциалистским тезисам, идентичность не является неким неподвижным и неизменным феноменом; она развивается в зависимости от изменений, затрагивающих системы власти и силы, нормы цивилизации той или иной эпохи. Грек XX века – не грек века XVI, который жил в тени Османский империи; последний – не грек эпохи
Византийской империи, а он, в свою очередь, – уже не тот, что существовал в эпоху Перикла. Мы увидим, что в Европе нация довольно поздно сложилась в качестве базовой системы идентичности, выстраиваемой ранее на основе «провинциальных» микро-идентичностей, включенных в гораздо более обширные структуры власти, основанные на той религиозной идентичности, которую можно назвать мега-идентичностью. Само понятие современного Запада наследует многим векам европейской истории, когда сознание микро– и мега-идентичностей присутствовало в равной мере, прежде чем в XIX веке установилась система национального государства, а также вытекающее из нее международное право, истоки которого восходят к великим юристам Возрождения. Именно эта система сегодня, похоже, исчезает на наших глазах вместе со всей европейской конструкцией, чему сопутствует имперское развертывание Америки и поддержка НАТО. Создаётся цивилизационный национализм, которые должен заменить национализмы, развившиеся в XIX и XX веках, которые мы подробнее будем изучать в дальнейшем.
От «провинциальной» нации до нации суверенной и мистической
С конца XIX века мы привыкли считать, что мир, по крайней мере то, что обычно называют «цивилизованным миром», то есть Европу, сложены из «наций». Эти нации, республиканские или монархические, в своём построении опирались на то, что можно было считать естественными факторами – на географические или лингвистические границы, ареалы проживания населения с предположительно одними корнями, на непрерывность системы власти и, соответственно, желание жить вместе.
В те светские времена религию, в общем, не считали определяющим элементом нации. Травмы, оставшиеся от крайне болезненных и кровопролитных европейских религиозных войн, в конце концов привели к терпимости в религиозной сфере[72]; в свою очередь эта терпимость, позволяющая католикам, протестантам и иудеям жить вместе в качестве граждан одной и той же нации, привела к маргинализации религии и религиозной идентичности как факторов, определяющих конституцию нации. Как мы видели, Луи де Бональд станет маяком для католического антиреспубликанского консерватизма, ненавидящего философов, провозглашающих «атеизм для знати и республиканизм для народов», то есть философию, которая ставит «разум на место религии», а «закон на место власти»[73]. Конечно, «традиционные» силы сохранялись, особенно во Франции, где они оплакивали вытеснение религии на обочину жизни нации. Франция, старшая дочь Церкви, была особенно дорога сердцу некоторых католиков, которые видели в современных идеях результат разрушительной работы протестантов, иудеев и франкмасонов. К этим традиционным или, скорее, традиционалистским силам мы вернемся позже, ведь их карьера, не завершившись в XIX веке, в конце XX и начале XXI века вступит в фазу изменений и морфологических преобразований, из которых мы никак не можем выйти.
Однако в конце XIX века и в начале XX в Европе, несомненно, главной составляющей идентичности является совсем не религия, а нация, отныне рассматриваемая в качестве естественного, подлинного и объективного феномена. Каждый теперь – француз, итальянец, немец, англичанин или испанец. У многих историков мы находим талантливое описание того, как нации и европейские национализмы фабриковались, как вводились в строй большие национальные мифологии, как деревенские территории представлялись в качестве элемента фольклора, как выстраивались новые воспоминания[74]. Идентичность в таком виде настолько придется европейцам по вкусу, что дважды за XX век их нации развяжут убийственную войну, театром которой будет не только Европа, но и колонии, которыми она обзаводилась, начиная с XVII века. Другие страны также будут втянуты в две этих войны: США и Османская империя в войну 1914–1918 года, а Япония – в войну 1940–1945 гг.
Можно заметить, что в историческом контексте XIX века слово «нация» стало использоваться в новом значении, сформировавшемся в период Французской революции, которая связала понятие нации со священной мистикой суверенитета, которым ранее в соответствии с принципами божественного права удостаивался лишь монарх: теперь же несуверенная нация – это нация угнетенная, неполная, лишенная свободы и человеческого достоинства. Само слово «нация» не было для европейской культуры новым. Оно происходит от латинского корня, означавшего «рождаться в определенном месте и определенной среде». То есть до Французской революции оно означало провинцию, из которой происходил данный человек (как бретонец, провансалец, бургундец и т. п.), а название провинции отсылало к определенной этнической характеристике (которой часто выступал местный говор), к патрониму старинного племени, когда-то захватившего провинцию, или же к древним феодальным семьям, добившимся господства над этой провинцией.
Парадокс, который можно здесь выделить, состоит в том, что современное употребление слова «нация» – как суверенного народа, хозяина своей судьбы, – сохраняет ту силу мистики, принудительной и безусловной морали, которую обычно приписывают вере и религиозной идентичности. Тогда как по своему происхождению слово было гораздо более нейтральным. Нация в смысле «провинции», конечно, предполагала гордость за те или иные качества своей земли, включая и ее религиозную специфику; но она не была всеобщим и исключительным критерием идентичности, каковым станут нации XX века. Тогда как XIX век в Европе характеризовался тем, что историки назвали «движением национальностей»: революции 1830 и 1848 гг. стали «весной народов»; объединение Германии и Италии открыло путь «пробуждению национальностей» во всей остальной Европе, а также на ее периферии[75]. В то же самое время квази-мистическая концепция суверенного «тела» нации почти везде порождает «проблему меньшинств»: те, кто не говорят на том же языке и не практикуют ту же религию, что и остальная нация, превращаются в некое инородное «тело», «меньшинство», вызывающее подозрения[76].
Как же произошел в Европе этот переход от провинциального смысла латинского слова к суверенной нации, романтически воплощающей в себе дух «народа», описанный в XIX веке немецкими философами и историками, а затем и французскими – в особенности Мишле? Понятие народа в процессе исторического развития приобретало различные значения, эволюцию которых стоит обрисовать хотя бы в самых общих чертах.
Организация идентичности: от культа, предков к современному национализму
Два тысячелетия монотеизма, по сравнению с которыми два последних века светской культуры – сущий пустяк, столь сильно повлияли на нас, что мы склонны забывать о том, что идентичность человеческих групп структурировалась культом предков. Организация идентичности и сопровождающей ее системы власти выражается в племенной солидарности и родстве или же в сосуществовании нескольких расширенных оседлых семей, живущих в рамках одного города («агнатическая семья»). Первичной матрицей идентичности является, соответственно, не столько религия – достаточно сложно выстроенный в интеллектуальном отношении феномен – сколько общее происхождение от одного предка. С течением времени, когда потомство становится все значительнее, сам предок окружается ореолом все более славных деяний, которые, в конечном счёте, приобретают мифический характер. В то же время, вполне логично, что эта связь, объединяющая нас с нашими родителями, а потом, по цепочке, и с нашими древними предками, оказывается первичной матрицей идентичности. В самых разных частях человечества культ предков в его различных формах издавна выступал единственным критерием идентичности[77]. Эта система идентичности служила опорой для авторитета старейшин, главы племени или собрания стариков и вождей: эти формы власти появлялись по мере того, как образовывались все более крупные союзы, как кочевые, так и оседлые. Именно на основе культа предков развились те религии, которые мы обычно называем «языческими», религии, множественность богов которых отражает множественность предков.
Развитие и усложнение социальной организации, сопутствовавшие укрупнению политических образований античности, приведут к существенным изменениям в функционировании древних религий. Боги различных племен и различных мест будут объединены большими космогониями, эволюционирующими по направлению к концепции единого бога. Это случится, собственно говоря, в Египте и Месопотамии, которые подготовят пришествие еврейского, а затем и христианского монотеизмов, которые сумеют сплавить воедино множество философских и религиозных концепций. Зигмунд Фрейд в своей работе «Моисей и монотеизм» сделает даже из Моисея египтянина, который якобы попытался увековечить концепцию единого всеобщего бога, сторонником которой был фараон Эхнатон. Такой ход означал расширение области происхождения иудаизма, рассматриваемого, конечно, в качестве предка монотеизма, однако лишь такого монотеизма, который остался привязанным к определенной линии родства, линии племен Израилевых, народа Яхве.
В действительности, именно в Ветхом завете мы находим архетип бога, привязанного к избранному им народу. Ключевые понятия «избрания» и Откровения закрепятся, приобретая самую разную форму, включая и атеистические формы расизма (к которым мы ещё вернёмся) или же идеологий современного национализма, сколько бы светским он ни желал предстать. В истории Израиля выстраивается целая система, объясняющая славу и превратности судьбы народа-племени, и эта система совмещается с идеей трансцедентности божества, идеей организации мира и его истории, замещающей языческие мифологии.
Об исторической судьбе евреев мы привыкли поэтому говорить как о чём-то уникальном и, одновременно, всеобщем.
Христианство увековечит эту идею святости народа, определяемую его религией. Именно об этом пишет святой Петр в своем «Первом Послании» (2.9): «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет».
Ислам тоже не останется в стороне. Действительно, христианский Запад, как и иудаизм, часто забывает, что ислам – это строгий и непреклонный монотеизм, религия Откровения, которая считает, что у неё общий предок с иудаизмом и христианством, а именно Авраам. Миссия ислама распространяется на все человечество; конечно, Коран был дан в Откровении на арабском языке, а в качестве печати пророков он избрал араба, однако его слово обращено ко всему человечеству через арабский народ. Более того, ислам намеревается сгладить теологические различия, связанные со взглядами на природу Христа, которые могли разделять иудеев и христиан, а также христиан в их собственной среде. Как и христианство, ислам, предполагается, разорвал племенные и этнические связи, чтобы утвердить всеобщность единой веры и уникальность идеала.
Здесь интересно задаться вопросом о совершенном в нашей культуре переходе от понятия племени к понятию народа. Если история Израиля исходно является историей племен, она становится также и историей народа, поскольку эти племена объединяются, обретают своего исторического вождя и закрепляются на обетованной земле согласно божественному завету, а их жизнь организуется вокруг Храма. Отсюда, вероятно, и возникает, когда мы используем слово «народ», неявная аура святости. Однако то, что отличает народ от племени, не связано с религией. Народы создаются оседлостью и урбанизацией; на них сказываются в равной мере географическая среда и унификация языка, которая позволяет развивать общую культуру.
Современный национализм будет бессознательно опираться на библейский архетип. Французские революционные принципы, задающие суверенитет, ранее ограниченный сферой действия Бога или сюзерена, правящего от его имени, а также немецкая философия, сакрализующая «дух» народа, усилили двусмысленность, с которой стало использоваться слово «народ». Гегель также внесёт свой вклад в эту сакрализацию, заявив: «В истории Дух – это индивид одновременно всеобщей и определенной природы, то есть народ»[78]. В Европе, характеризуемой движением национальностей, народы снова становятся в каком-то смысле племенами с трансцендентным призванием: у них есть душа, они – носители миссии и Откровения, руководимые благороднейшими из идеалов. Народ, осуществляющий себя как «нация», пользуясь полным суверенитетом, который завершает его завоевания и определяет его исторические границы, выстроен по образу Израиля, который после длительной истории мучений находит свою Обетованную землю и расцветает на ней, прежде чем познать другие горести.
Поэтому слово «народ» сохраняет и до наших дней чрезвычайно сильный эмоциональный потенциал, наследующий библейскому архетипу, который светскость модерна так и не смогла преодолеть; скорее, она перевела его в светский регистр, усвоив его нетерпимую трансцендентность, которая привязывается к Откровению и понятию избрания, которые свойственны для Ветхого завета. В этом смысле понятие народа сохраняет близкое родство с понятием племени, в котором господствует органическая солидарность кровных уз и сила генеалогии. Таким образом, современные национализмы изобрели для себя предков, скрытых в глубинах истории, и генеалогическую линию, свободную якобы от любой примеси иных племен или, скорее, полностью поглотившую и растворившую в себе чуждые привнесения в особой, уникальной личности зачинателя благородной родословной.
Вот почему вплоть до наших дней сохраняется столь очевидная двусмысленность в понятии «еврейский народ». Евреев зачастую продолжают считать (и даже сами они себя считают) единственном народом в этническом значении этого термина, несмотря на тысячелетнюю включенность еврейских сообществ в столь различные культурные и этнические среды, как, например, славянская, германская, французская, англосаксонская, арабская или берберская цивилизации; несмотря на равенство прав, утверждающееся в Европе с XVIII века, многочисленные браки с гражданами других религий, участие в литературном и художественном творчестве различных культур, которым они принадлежат, и даже в политической жизни стран, где они укоренились; несмотря также на взаимные философские влияния, заметные между иудаизмом, христианством и исламом на протяжении всей их истории. Чаще всего евреев считают не просто религиозным сообществом, таким же как католики, протестанты, мусульмане или представители многочисленных конфессий всех этих религий (сунниты, шииты, алауиты, исмаилиты и т. д.), а группой, характеризуемой особой национальной религией, так что в каждом обществе она оказывается отдельной группой, обособленным «народом» или даже «нацией». Груз Ветхого завета и его архетипов продолжает давить со страшной силой, даже если наши общества достигли величайшей степени светскости или секуляризации.
Как мы уже напоминали, Ханна Арендт убедительно показала, что современный антисемитизм берет начало в движении европейских национальностей[79], и только это парадоксальное влияние библейского архетипа на религиозное христианское сознание националистической конструкции западной идентичности может объяснить разнузданный характер модерного антисемитизма в России и Европе. Впрочем, несмотря на свою исключительную проницательность, Арендт также использует выражение «еврейский народ», который она рассматривает лишь в его европейской составляющей, проводя специфическую для нее дихотомию между, с одной стороны, «евреями по сердцу», пользующимися привилегиями (и ставшими потом «ассимилированными» буржуазными евреями), и, с другой, «евреями гетто», хранителями традиции древнееврейского народа. То есть она не принимает в расчёт многочисленные еврейские сельские или городские общины арабского или берберского происхождения, встречаемые в Йемене или Северной Африке, не говоря уже о городских еврейских сообществах на Балканах, в Ираке, Сирии и других городах Леванта, где они своими тысячелетними или столетними корнями уходят в этническую почву этих обществ, и где они долго жили – так же, как арабские христианские сообщества – под защитой исламского режима «милета», которым признавалась законность существования подобных сообществ.
Следовательно, сегодня невозможно считать иудаизм исключительной этнико-национальной реалией в «европейском» духе, так же как не можем мы и проецировать трагический опыт еврейских сообществ Европы на всех сторонников этой религии в целом. Здесь требуется более широкая рефлексия, которая должна вписываться в критику понятий нации, этничности и цивилизации, а также расы, то есть понятий, формировавшихся европейской культурой начиная с XIX века и ставших уже в наши дни основой для крайне постмодернистского понятия «иудео-христианской цивилизации»[80]. Именно исторический опыт, специфичный исключительно для Европы, создал «еврейский вопрос», который не имеет значения для многочисленных неевропейских еврейских сообществ, например тех, что живут на американском (северном или южном) континенте или в Австралии, или же для так называемых «сефардов», как называют сегодня не только евреев, давно обосновавшихся в Северной Африке или на Ближнем Востоке, но и тех, кто нашел там, как и на Балканах, убежище после изгнания из Испании в 1492 году. Как мы видим, «еврейский вопрос» тесно связан с формированием европейских национализмов и со сложной игрой, которую европейские национальные идеологии вели в пространстве этнических корней и корней религиозных или даже расистских (арийцев и семитов). Сначала религиозный, а потом националистический взгляд, который до недавнего времени определял в Европе позицию по отношению к еврейству, создавал это двойное движение исключения/ассимиляции «беспокоящего» Другого; сегодня же, с западной точки зрения, именно мусульманская идентичность становится тем Другим, на которого перенаправляется всё то же парадоксальное движение.
В действительности, именно эти европейские национализмы определили правило конструкции идентичности, которая строится, как в индивидуальном плане, так и в коллективном, на положительном и нарциссическом образе самого себя, которому соответствует отрицательный образ Другого. Любопытно однако то, что в XIX веке и в большей части XX века, когда европейская социология переживала пору своего наибольшего расцвета, понятие народа не вышло из оборота и, в общем и целом, так и не было заменено понятием общества. Ведь осуществление нации – это не столько осуществление народа в квазирелигиозном или сакральном значении этого термина, сколько осуществление именно общества, созданного как политически объединяющая система, politeia, расширенный град, включающий в себя разрозненные, маргинальные или гетерогенные социальные элементы: именно это делали греки, а потом и римляне.
Но когда в европейской культуре мы переходим от понятия народа со всеми его библейскими коннотациями к понятию «града», греческое понятие politeia начинает стираться, и причина именно во влиянии мысли святого Августина, оставившей глубокий след в истории христианства. По Августину (354–430 гг.), град человеческий должен знать, что он не может осуществить град божий, потому он должен по возможности к нему стремиться и управляться в соответствии с наставлениями, данными Откровением. Именно эта концепция позволит утвердить на обломках Римской империи мега-идентичность всеобщего характера, то есть христианство. У последнего вскоре появится брат-близнец, ислам, тогда как иудаизм, рассеянный и одновременно изолированный, будет удерживаться в «христианском граде» лишь в качестве «народа-свидетеля» пришествия христианства, которое «спасает человечество»[81]. Протестантизм, особенно работы Кальвина и его женевский опыт, заново разожжет чувство святости призвания града. Надо будет дождаться Французской революции, чтобы понятие града приобрело его модерную окраску, дающую рождение термину «гражданство», источником вдохновения для которого послужил древнегреческий полис.
Значимость религиозных памятных мест
Истории Европы известны длительные периоды религиозного возбуждения и (как мы увидим в следующей главе) исключительного религиозного насилия, которого не встретишь в других цивилизациях. Возможно, именно эти вытесненные «памятные места» сегодня снова становятся действующими, поскольку обесценивается революционное и гуманистическое наследие, сформированное Французской революцией и веком Просвещения, которые, как утверждают некоторые, стали местами «холодной» памяти.
Прежде всего надо сказать о конструировании европейского «христианского мира», начавшейся с Карла Великого в IX веке, с деятельностью которого совпало утверждение папского суверенитета. Затем будут крестовые походы, норманнские вторжения, испанская Реконкиста, которая прогоняет с юга Европы мусульманские сообщества, обосновавшиеся там много веков назад. Наконец, приходит долгий век религиозных войн (1517–1648 гг.), а потом Реформация и Контреформация, вместе с английской революцией (1640–1660) – все это подлинные и многосторонние религиозные революции, ко многим аспектам которых мы еще будет возвращаться, – они решительно изменили облик Европы, подготовив почву для Просвещения и Французской революции. Поэтому последнюю нельзя трактовать, как это делает Франсуа Фюре и его ученики, в качестве события sui generis[82]*, которое якобы вообще не связано ни с каким более широким историческим контекстом. Как весьма уместно напоминает нам немецкий историк Томас Ниппердей, занимающийся вопросом возникновения нацизма, любое историческое событие является плодом и непрерывности, и разрывов[83]; а как убедительно показывает Тедда Скокпол, ни одна революция не является результатом исключительно эндогенного развития, сколь бы гениальными и уникальными ни были ее главные действующие лица[84].
Очевидно, завоевание Нового света каким-то образом связано с этими религиозными революциями. Оно берет начало в весьма распространенной вере, будто за океаном располагается новая «Обетованная земля» христиан, которая при этом должна стать заповедной землей различных протестантских церквей, пытающихся сбежать из Европы, ставшей ареной религиозного насилия. «С точки зрения многих европейцев, – пишет Ричард Венц, историк религиозной жизни в США, – Реформация стала осуществлением их старых надежд на обетованную землю, обещанную святым. Переоткрытие Америки в конце XV века было тесно связано с подъемом Реформации, который начнется двадцатью годами позже. Оба этих момента – открытие Америки и Реформация – служили предвестниками радикального преобразования мира: вот-вот должно было случиться нечто грандиозное. Начиналась новая, священная история. На другой стороне западного горизонта был открыт земной рай – там, где солнце, следуя своему пути, подавало знак колонистам: как считали многие английские писатели, религия и культура всегда движутся с востока на запад. Америка долго была скрыта от европейцев, пока не наступили времена Реформации. И тогда Америка предстала как очаг, место притяжения, где Церковь сумеет завершить свою реформу и достигнет наконец совершенства»[85].
Военный историк Майкл Говард также ясно показывает, как завоевание Америки кристаллизовало смесь протестантизма, патриотизма и грабежа, которые «становятся практически синонимами»: мелкое дворянство, потерявшее средства к существованию из-за действия принципа майората, начало обращаться в протестантство, эмигрировало, уходило в море и в корсары, которые атаковали суда морских коммерческих монополий, прикрываемых авторитетом Папы[86]. Это подтверждает и другой историк XVI века Жан-Мишель Салман, который приводит слова португальского мореплавателя Васко де Гама, прибывшего в Индию в 1498 году и заявившего, что он приехал за «христианами и пряностями»: «Португальцы и испанцы никогда не разделяли два этих аспекта провиденциальной миссии, как они ее понимали, – завоевание мировых рынков и завоевание душ посредством евангелизации, выступающей одновременно предварительным условием политического господства и его высшим достижением. Распространение христианства, закрепляемое мессианскими настроениями сначала португальской монархии – король Себастьян называл себя даже «капитаном Бога», – а затем в ещё большей степени испанской монархии Филиппа II и его преемников, стало главным смыслом внешней политики иберийских государств, основных протагонистов этой истории»[87]. Несколько столетий назад похожим феноменом выступали крестовые походы, реализовавшиеся в рамках развития папской власти и отношений мусульман с христианами.
Впрочем, сегодня мы забыли о том, что понятие Запада, в значительной степени влияющее на политику начала XXI века и продолжающее выступать мощным фактором геополитической враждебности, восходит к разлому между Восточной византийской церковью и Западной церковью. Жак Ле Гофф так описывает этот процесс: «Здесь мы встречаем большую цезуру, созданную или, скорее, усиленную Средними Веками, поскольку она существовала уже и в Римской империи, цезуру между Восточной Европой и Западной, цезуру лингвистическую, политическую и религиозную. “Западный” характер христианской латинской Европы, лежащей у истоков Европы современной, был еще больше закреплен теориями некоторых христианских интеллектуалов XI и XII веков. Именно идеей переноса власти и цивилизации с востока на запад – translatio imperii, translatio studii – подчеркивается перенос власти от Византийской империи к Империи германской, а также перенос знаний из Афин и Рима в Париж. Это продвижение цивилизации на запад, несомненно, способствовало упрочению идеи превосходства западноевропейской культуры в умах многих европейцев последующих веков»[88].
Можно также вместе с историком крестовых походов Жаном Флёри[89] признать, что они станут «плавильным тиглем идеологий» – идеологии теократии, которую собирается установить церковь, идеологии рыцарства, священной войны, а также идеологии христианского Запада, исключающего в равной мере и турков, и греков вместе со всем восточным христианством, и объединяющего в себе все народы христианской Европы, несмотря на их взаимные антипатии и провинциальные особенности, в рамках одной мега-идентичности Запада. Курт Флэш, специалист по средневековой философии, со своей стороны, возводит раскол между Восточной церковью и Западной к «каролингской рациональности, столкнувшейся с византийским культом образов»[90]. Но это, несомненно, ничем не оправданное утверждение, поскольку нам известно, насколько важными были религиозные образы в западном христианстве (и особенно в развитии живописного искусства), как и те споры, которые возникнут из-за них несколько веков спустя, когда различные протестантские церкви захотят их запретить. В действительности, речь идет о проведении воображаемых границ, выделяющих уникальность и исключительность гения Запада, которые якобы проявились уже на ранних исторических этапах.
Двусмысленная роль монотеизма, в формировании Запада
Поскольку мы пытаемся ухватить сознание идентичности XXI века и проследить его генеалогию, на данном этапе будет полезно расширить область рефлексии, включив в неё влияние религии на системы власти и структурацию идентичности. И здесь специфику Запада снова определяет роль монотеизма.
Действительно, мега-идентичность на религиозной основе не является в средиземноморском мире каким-то новшеством. Однако именно монотеизм придаст ей особую нетерпимость и стремление к всеохватности, которые отличают её от мега-систем власти, которыми были великие месопотамские империи или Римская империя. Последние не структурировались религиозной идеологией идентичности, разве что в самой малой мере. Как мы уже упоминали во введении, монотеизм, в отличие от язычества, как только он становится государственной религией, в значительной степени повышает ригидность конструкции идентичности.
И наоборот, можно вспомнить великие религиозные учения Индии и Дальнего Востока, своеобразные этические или мистические системы, такие как конфуцианство, даосизм, буддизм или ведизм: они организуют общество, но при этом свободно перемещаются между племенами, народами, империями. Они смешиваются, создавая разнообразные сочетания, затем растворяются и восстанавливаются в ином виде через несколько веков, чему немало способствует то, что в этих странах не существует понятия единого Бога, связанного с одним определенным народом. Только у китайцев и японцев будут императоры, говорящие от имени Неба, понимаемого как божественная сила, управляющая миром, хотя это и не предполагает понятий спасения и Откровения, свойственных монотеизму.
В монотеистическом мире – в соответствии с образцом, представленным библейским царством Израиля, в котором религия, власть и святость тесно связываются друг с другом, – христианство, одержавшее победу, а за ним и ислам, закрепляют религию в центре системы человеческой идентичности, вытесняя родовые и, соответственно, этнические корни на нижний уровень самосознания. Постепенно система власти выстраивает и ставит под контроль идентичность, которая всё больше опирается на религию, порождая в итоге Византийскую империю, германскую Священную Римскую Империю, а также систему мусульманского халифата. И если Византийская империя сохраняет свою хорошо заметную этническую и культурную греческую окраску, германская Священная Римская Империя будет придавать Европе, даже после своего исчезновения, мультиэтнические и мультикультурные качества, которые начнут стираться только после религиозных войн католиков с протестантами и подъёма централизованных монархий, унифицирующих собственное пространство. Латынь надолго станет научным языком Европы, прежде чем утвердятся национальные языки, а французский получит статус языка космополитической образованной Европы[91], уступая уже в XX веке языку английскому как языку международному и научному.
Неудивительно, что подобную систему можно найти и в исламе, где арабский язык, обогащённый греческими, персидскими и сирийскими привнесениями, становится языком высокой культуры среди побеждённых и обращенных народов. И как христианство, которое, заявив, что больше нет границ между евреями и язычниками, между греками и варварами, задало первые каноны универсализма, так и ислам в слове Корана отменил различие между арабами и не-арабами, учредив равенство всех людей и их равные, с точки зрения Бога, заслуги в соблюдении истин Откровения.
Кажется, что в XIX веке Европа современных наций отв брасывает всякую политическую идеологию, основанную на мега-идентичности. Империя Габсбургов или османский султанат, всё ещё правящие разными народами, различающимися этнически и лингвистически, кажутся какими-то пережитками, чья система легитимации основывается на религии и верности определенной династии, представляя которую, монарх выступает отцом народов. Сразу после Первой мировой войны организуется Лига Наций, само название которой впечатляет[92]. На исходе Второй мировой войны создается Организация Объединенных Наций (ООН), чье название не менее замечательно. Мир отныне складывается исключительно из государств, представляющих суверенные нации или те, что готовятся добиться суверенитета; признаком их высокой цивилизованности служит то, что они формируют собственную «лигу», а затем организуют представительскую систему, заявляющую об их единстве и их солидарности после недавнего кровопролития Второй мировой войны.
Но ностальгия по мега-идентичности, которая господствовала в Европе на протяжении нескольких веков, с наступлением эры национализмов XIX века на самом деле никуда не исчезает. Скрывшись за научными интересами, она привела, разработав теории определения и классификации человеческих рас, к попытке снова построить сверх-идентичность на обломках европейского христианства, навсегда разорванного Реформацией и Контрреформацией, а затем потрясениями, порожденными религиозными войнами. Разделение мир на арийцев и семитов[93], так же как эволюционная теория Дарвина, использовались для выработки сознания превосходства белой расы и европейской цивилизации. В перспективе мира, разделенного на арийцев и семитов, лингвистика послужила основанием для расизма, который обосновался в европейской культуре: первые считаются динамическими, они создатели, художники и носители цивилизации, тогда как вторые несут печать своего бедуинского или племенного происхождения, мира пустыни, из которого они вышли и в котором нельзя ничего построить. Поэтому наличие евреев в арийской Европе всеми теми, кто поддался чарам этой надуманной идеологии, стало считаться неким пороком, с которым надо бороться, что привело к рождению различных форм современного антисемитизма, чьей крайней формой станет нацизм.
Хотя идеология расы как матрицы идентичности, служащей для конструирования мифической мега-идентичности, постепенно теряет силу вместе с исчезновением гитлеровской Германии, мы, тем не менее, с конца Второй мировой войны наблюдаем, как идет массовое политическое инвестирование в создание другой мега-идентичности, сходной по своему функционированию. Речь идет о политическом и военном понятии Запада, но уже не просто как идеологии мега-идентичности, а как системы власти с её наднациональными институтами, такими как Организация североатлантического договора (НАТО) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), являющимися плотью «атлантического альянса» США и Европы, которым задаётся единый союз либерально-демократических обществ, разделяющих общую судьбу и противостоящих тоталитарной опасности, после падения нацизма воплощаемой в СССР.
Разумеется, понятие Запада, связанное одновременно с идентичностью и культурой, само по себе не ново. Мы видели, что его можно возвести к разлому Римской империи, а также расколу Церкви на Восточную и Западную. В то же время утвердившимся сознанием западной идентичности мы обязаны, главным образом, немецкой философской и социологической мысли, а также философии Просвещения, в особенности размышлениям Монтескье «о причинах величия и упадка римлян». Став могущественной и динамичной, европейская культура, открывающая свой новый гений и философствующая об истории мира, начинает понимать, что великие цивилизации не вечны, что политическая и экономическая власть может оказаться мимолетной. Отсюда и рождается судорожная боязнь упадка, который якобы подстерегает западную цивилизацию, ставшую слишком утонченной и бескровной в результате всеобщей урбанизации и вырождения крестьянских земель, главных источников энергии и силы.
В 1916 году свой клич об опасности бросает немецкий философ Освальд Шпенглер (1880–1936 гг.) – в замечательной и крайне эрудированной работе с вызывающим названием «Закат Европы», где он ставит вопрос: не будет ли Запад, как главная мифическая мега-идентичность, сломлен в зените своей славы и мощи, как когда-то Римская империя, варварскими ордами, появившимися на том горизонте, за которым Запад перестал следить?
Долгое время страх варваров был страхом желтой расы – «желтой угрозы», как тогда говорили. Позже это будет страх русского большевизма, который послужил отличным предлогом для нацизма. Тот же большевизм американский президент Рональд Рейган назовет «империей зла». Когда же после падения Советского Союза «коммунистический подрыв» перестает быть угрозой и пугалом, поддерживающим атлантическую солидарность, именно ислам становится варваром, угрожающим Америке Джорджа Буша после терактов 11 сентября 2001 года в США (к этому мы ещё вернёмся).
Понятие мега-идентичности «Запада» с его так называемыми демократическими и индивидуалистическими ценностями, глубоким чувством абсолютного превосходства над всем остальным человечеством, наследует, конечно, многим традициям, но главное – возможно неосознанному чувству превосходства христианства и так называемых «иудео-христианских» традиций, сегодня подаваемых с самыми разными историческими, политическими и философскими соусами, не говоря уже о старых бредовых учениях о превосходстве арийской расы, которые не так уже далеки от наших времен. В момент, когда европейские нации, как многим может показаться, стремятся раствориться в Европе общего рынка и единой валюты, когда США окончательно забыли о доктрине Монро и изоляционизме, пытаясь всеми силами утвердить имперскую республику, нет ничего странного в том, что мы наблюдаем парадоксальное шествие старых, но не желающих умирать микро-идентичностей, таких как баски или корсиканцы. Тогда как индивидуальная или коллективная идентичность в Европе, лишенная национальной привязки, может крепиться лишь на туманной идентичности, представляемой Западом.
Следовательно, последствия исчезновения современных светских национализмов ещё далеко не отыграны. Созданная в Европе этим исчезновением политическая пустота никоим образом не восполняется дискурсом свободной торговли, который продвигают бюрократия Евросоюза и её союзники в различных политических партиях стран-членов ЕС (красноречивым доказательством сего факта являются результаты двух референдумов 2005 года – французского и голландского – по проекту европейской Конституции).
Возвращаясь же к современному национализму и продолжая наше размышление о формировании систем выстраивания идентичности, работающих в начале XXI века, нам нужно теперь понять, как современные национальные идеи распространялись за пределами Европы.
Колониализм и инструментализация «национальных меньшинств» на Ближнем Востоке
Понятие нации как явление, чьи последствия просчитать невозможно, будет использоваться европейскими колониальными державами для обозначения (двусмысленно смешивающего старый смысл этого термина и современный) обществ, которые они колонизируют или затягивают в орбиту своего господства. На практике это понятие одинаково используется для обозначения религиозных, христианских или мусульманских сообществ. Так, в рассказах путешественников на Восток и в донесениях дипломатов, служивших в Османской империи, постоянно заходит речь о «маронитской нации» или о «друзской нации», если речь о Ливане, о «православной нации» (так обозначали греков, живших в империи), курдской нации, берберской и т. д. В то же время все эти нации квалифицируются в качестве угнетенных меньшинств, защищать которых берутся европейские державы.
Эта традиция оказалась весьма устойчивой. Она закрепится в самых разных формах, в том числе и у одного весьма тонкого специалиста по арабскому миру, Максима Родинсона, который будет говорить о маронитах или других группах этого региона мира как «квази-нациях»[94]. В 2002 году посол Франции в Бейруте во время визита к патриарху маронитской общины также упоминал о «глубоких отношениях, связывающих маронитскую нацию с французским народом»[95]!
Защита меньшинств станет, таким образом, важной отраслью международного права, которое определяют европейские державы, а также весьма опасным инструментом, применяющимся одной державой для вмешательства в дела другой; она послужит основанием для права на гуманитарную интервенцию, которое развилось в последние полвека. Андре Каюе, внимательный наблюдатель за делами Востока и за европейским соперничеством на Балканах начала прошлого века, упоминая «доводы человечности», выдвинутые тройным англо-франко-русским союзом для обоснования вмешательства в дела Османской империи в Греции, писал в 1905 году: «Как только осуществляется переход к интервенции, соображения, касающиеся человечности, могут, в действительности, послужить оправданием для совершенно возмутительного произвола, поддерживая самые низменные интересы. Поэтому европейские правительства никогда не вмешивались в дела Востока исключительно во имя принципа человечности. Всевозможные иные причины, например убийство иностранных резидентов или консулов, оправдывали действие этих держав. Косвенно внутренние волнения одной страны, особенно если эта страна – Турция, могут, в общем-то, вызывать общую обеспокоенность экономическим положением, парализуя коммерческие сношения и создавая, таким образом, убедительный мотив для вмешательства»[96].
Кроме того, воскрешая романтическую моду на восточные путешествия, можно пестовать как ностальгию по Римской империи или гению греческих городов, посещая крупнейшие археологические центры, свидетельствующие о былом и навеки ушедшем величии, так и ностальгию по христианским корням Запада, обнаруживаемым в Палестине, Ливане или Сирии: по Иерусалиму, Тибериадскому озеру, Елеонской горе, Антиохии, кедрам Ливана, упоминаемым в Ветхом завете… Здесь находят следы восточного христианства, столь долго стиравшиеся из памяти христианства западного. И тогда эти сообщества подвергаются полной инструментализации европейскими колониальными политиками, оправдывающими свое вмешательство в дела Османской империи времен упадка. Впрочем, в результате этого вмешательства эти сообщества будут поставлены под удар в мусульманской среде, в которой теперь тоже всё запуталось. Европейская «страсть» к так называемым восточным христианам не служит основой для философской, исторической и теологической рефлексии о том, что действительно привело к первым расколам внутри вселенской Церкви, а превращается во вполне мирскую заинтересованность в легитимации курса, направленного на расчленение Османской империи как светского соседа, хорошо знакомого друга или врага европейского христианства и современных национальных государств, а также для подготовки крушения Австро-Венгерской империи, обречённой современными национализмами, постепенно набирающими силу. По ходу развёртывания этой европейской конкуренции Англия пускает в дело своих протестантских миссионеров, пытаясь вытеснить русских и французов, лишить их влияния на Востоке, действуя через маронитов Ливана или греческие православные общины.
Историк Ливана Адель Исмаил, опирающийся на французские дипломатические архивы, проследил то, как европейские колониальные державы использовали различные религиозные течения на Востоке[97]. Французское влияние, достигшее своего апогея в Египте, в Ливане и Сирии на какое-то время блокируется действиями Англии, которой в 1840 году удается добиться вывода из Ливана египетских войск, введенных в эту страну в 1830 году по просьбе эмира Бешира Шебаба, желавшего бросить вызов османскому контролю. Причин английской интервенции, помимо желания лишить французов влияния в Египте и Ливане, было много, одна из них заключалась в том, что патриарх маронитской общины мешал протестантским миссионерам обращать маронитов и публично сжёг протестантские библии. Этот пример заставил православных греков, подуськиваемых Россией, перейти к отлучению каждого члена общины, дети которого попали в руки «библистов». Как объясняет Адель Исмаил, эти британские неудачи на Востоке привели британскую дипломатию к разработке проекта возвращения европейских евреев в Палестину[98], а затем, когда этот проект окончился неудачей, к попытке заключить тесный союз с друзской общиной, у которой не было европейского покровителя.
Этот эпизод соперничества европейских держав на Востоке со всей отчетливостью показывает бесстыдную геополитическую инструментализацию, которую европейские страны проводили по отношению к религиозному многообразию Ближнего Востока: сюда же относится и британский план переноса «восьми миллионов европейских израелитов» в Палестину, необходимый, чтобы закрепить влияние Великобритании, – проект, который будет легитимирован ужасами нацизма веком позже, в предельно драматичных для всех спасшихся от геноцида еврейских сообществ обстоятельствах.
Для христиан Востока результат этих европейских интервенций на Восток окажется катастрофичным. Малая Азия к концу XIX века и началу XX-го постепенно лишится значимого для нее христианского населения – греческого, армянского, ассирийского, арабо-христианского (с юга Турции), маронитов Ливана, – причиной чему стали резня, вынужденные перемещения населения или эмиграция в Европу и США. Значимые колонии левантинцев, которые веками, еще со времен крестовых походов и капитуляций, жили в крупных городах Средиземноморья, особенно в Египте, также постепенно рассеются из-за разгула насилия, вызванного войнами за деколонизацию и провальной франко-британо-израильской экспедицией в Суэц в 1956 году. Создание государства Израиль в 1948 году привело к крайне быстрому упадку различных иудейских сообществ, арабских, берберских или испанских по своему этническому происхождению, которые издавна были укоренены на различных средиземноморских землях. Параллельно мусульмане Балкан и Греции на протяжении всего XX века покидали свои земли, так что в итоге их число сократилось до минимума[99].
Распространение европейского национализма, за пределами Европы
Другой примечательный феномен – восприятие понятия нации элитами обществ, напрямую подчиненных господству Европы или же испытывающих значительное культурное и политическое влияние с её стороны. Приписывание себе статуса нации – в том священном, мистическом и благородном смысле, какой это понятие приобрело в Европе, не говоря уже о связываемой с ним в те времена военной власти, – вызвало глубочайшие изменения в социальном и политическом сознании этих элит. Мы будем часто возвращаться к этому вопросу, поскольку в некоторых частях мира последствия классического национализма в европейском стиле и сегодня далеко не исчерпаны, и уж конечно не погребены они в Европе или США, где «возвращение религиозности» отражает в определенной мере возвращение национального чувства, пусть и в новой форме.
Различные формы национализма, возникшие в Европе, так же как и марксизм, проникли во многие другие части мира и закрепились там. И практически везде национализм, шовинизм, ксенофобия образуют смесь, которая становится еще более опасной потому, что эти общества по большей части испытали на себе европейское господство в той или иной из его форм, – в качестве примеров можно привести общества Балкан, Россию, арабский мир, Иран, Афганистан, Индию, Китай, Индокитай, Японию, Индонезию, Малайзию…
Самые удивительные реакции последуют из России. Ее вестернизация (в культурном значении этого термина) породит русскую литературу, лихорадочную и истерзанную, глубочайшие метафизические размышления, вплетенные в ее великие романы, в особенности у Достоевского, которые выражают «русскую» душу, отличающуюся привязанностью к традиционным ценностям, верой в Бога, связью с исторически сложившимися социальными институтами, которые выглядят устаревшими на фоне прогресса соседней Европы. Русская элита на протяжении всего XIX века будет расколота на «славянофилов», стремящихся сохранить особый характер русской цивилизации и уклониться от разлагающего воздействия материалистической цивилизации Европы, и «западников», сторонников ускоренной европеизации и модернизации русских институтов.
Россия также породит модель значительного культурного напряжения, которая впоследствии будет работать в других частях света – в Индии, у японцев, китайцев[100]и арабов. В России, как и во всех этих местах, подобное напряжение вырождается, создавая более или менее сильную и длительную политическую дестабилизацию. Терроризм будет сотрясать Россию на протяжении всей второй половины XIX века[101] – так же, как и Балканы с их совершенно иным контекстом. А затем случится революция 1917 года, которая полагает себя одновременно в качестве основания новой эры и осуществления той миссии, что была задана философией Истории гегелевско-марксистского типа. Таким образом, философская и политическая вестернизация России приводит к новой революционной модели, под влиянием которой будут долго оставаться многие западные интеллектуалы, разочаровавшиеся в том, что такой революции не случилось в самом лоне европейского модерна.
Япония также ответила динамизмом, который, будучи во время революции Мэйдзи по своему характеру оборонительным, затем стал наступательным, выбрав в качестве своих целей сначала более слабых соседей, а затем и Штаты, сформировав вместе с нацистской Германией единую ось, направленную против европейской демократии и колониализма. Что касается коммунистического Китая, он избавился от несправедливых договоров, которые эта страна была вынуждена заключить с основными европейскими державами в XIX веке. Китай также вступил в конфликт с США, что привело к войне в Корее (и разделению этой страны на две части). Затем это воинственное настроение, установившееся в Азии, приведет к вьетнамской войне и ужасающему геноциду в Камбодже.
В арабских странах, получивших независимость в XX веке, многочисленные военные государственные перевороты приведут к националистическим диктатурам, создаваемым в сложном и весьма неспокойном контексте холодной войны и рождения Израиля. Цепочка военных арабских поражений подорвала уважение к различным видам арабского национализма, что вызвало исламистский протест, в том числе и в форме различных типов зарождающегося терроризма, который приобретает исламскую окраску начиная с афганской войны.
Индия получила свою независимость в 1947 году лишь ценой отделения значительной части своих жителей-мусульман, что привело к созданию Пакистана («Земли чистых»), который определяет свою идентичность исключительно через религию. Как мы увидим, в те времена мы не особенно много размышляли о столь любопытном обстоятельстве, каковым было основание нового государства на основе исключительно религиозной идентичности. Также мы не уделили достаточного внимания использованию современных национальных идей в культурных средах, весьма отличающихся от европейского исторического контекста, в котором они родились. Чуть позже, в 1971 году, когда бенгальцы в свою очередь отделятся от Пакистана, чтобы освободиться от господства северной части страны, отличающейся культурно и лингвистически, несмотря на общую религию, это также не заставит нас продумать отношение, в котором религия состоит с политической и культурной идентичностью.
Но разве мы больше думали о рождении еврейского национализма, обозначаемого предельно религиозным ярлыком «сионизм», который отсылает к библейской стране Сион, одновременно апеллируя к светскости современного национализма, чтобы утвердить свою легитимность перед лицом европейской культуры, из которой он на самом деле и вышел[102]? Государство Израиль было создано в 1948 году, через год после создания Пакистана. Арабы и индийцы выступили с решительным протестом против этих территориальных отсоединений, оправдываемых лишь религиозным отличием, но ничего не добились. Национализмы находят свое завершение в основании суверенных государств, и европейской политической культуре нечего сказать на это. Пакистан, во всяком случае, находится слишком далеко; тогда как Израиль – слишком близок к ужасам лагерей смерти, а христианство слишком остро ощущает свою вину, чтобы следить за тем, что некогда было его «святой землей», ради которой оно организовывало крестовые походы, стремившиеся освободить могилу Христа от захвативших её мусульман.
В сущности, в европейской культуре послевоенного периода начинает развиваться страх перед национализмом, если только это не национализм угнетенных народов или тех, кому грозит некая опасность. Это исключение на руку израильтянам, как и мусульманскому национализму пакистанцев. Любопытно то, что в случае арабского национализма эта модель не сработает, когда он в те же годы подхватит европейские идеи и сделает своим героем главу египетского государства, Гамаля Абделя Насера. Франция и Англия выступят против, подвергнув этот национализм, противостоящий национализму израильскому, жестокому унижению. В 1956 году франко-британо-израильская экспедиция против Египта, получившая название «суэцской», закрепляет эту враждебность. Помимо временных обстоятельств, подтолкнувших к созданию этого альянса, возможно, Францией и Англией в те годы двигал ещё и страх возрождения панисламизма, который был удобным «врагом» в XIX веке, оправдывающим колониальные по своей природе вторжения в Османскую империю и в Индию.
От колониализма, к холодной войне: инструментализация религии
Дело в том, что современный светский европейский национализм, организующий мир с середины XIX века, парадоксальным образом пробудил чувства религиозной идентичности. Если брать иудаизм, дело Дрейфуса и русские погромы выступают объяснением сионизма, который долгое время будет высказываться за светскость, прежде чем согласится приписать себе религиозную идентичность. Что касается ислама, несомненно, именно европейское колониальное расширение заставило османского султана и некоторых интеллектуалов рассмотреть возможность инструментализации религии, дабы организовать общее сопротивление всех затронутых этим процессом расширения обществ. Европейское державы, о чем мы уже упоминали, когда говорили о Франции, сколь бы светскими они ни стали в XIX веке, не смог-к ли удержаться от подзуживания этого панисламизма, когда в голове своих колониальных начинаний ставили миссионеров, озабоченных «защитой» немусульманских подданных османского султана или даже тем, как помочь им в образовании независимых наций[103]. Таким образом, они подарили панисламизму лучшее из оправданий.
Каковы же корни этого панисламизма? Нам важно на какое-то время обратиться к ним, поскольку «ислам» стал сегодня ключевым фактором международной политики и внутренней проблемой обществ, где ислам является главной религией, а также тех, где имеются мусульманские сообщества, особенно в Европе. Панисламизм развился именно в Османской империи, особенно в период правления султана Абделя Хамида (1876–1909 гг.)[104]. Ислам, несмотря на значительное число немусульманских подданных, которые были у империи на Балканах, Кавказе или в Малой Азии, рассматривался в качестве главной составляющей легитимности имперской власти, которая полагала себя в качестве преемника древних величественных халифатов, вокруг которых была выстроена классическая исламская цивилизация.
Итак, с начала XIX века одряхлевшая империя теряла все больше своих территорий, переходивших к русским, англичанам или французам. Поэтому султан Абдель Хамид, противостоя европейским и русским атакам, которые неумолимо сокращали рынки империи, занялся агитацией, нацеленной на то, чтобы вызвать националистские чувства, поддерживаемые религиозными смыслами. Экспансия европейских держав на территорию империи разоблачалась упоминанием того факта, что эти державы христианские, так что их агрессия предстала посягательством на мусульманские народы и угрозой для них. Отсюда призыв к мусульманам объединиться, чтобы противостоять новому христианскому крестовому походу. Так родился панисламизм.
Идеологически ему способствовали политические работы многих одаренных интеллектуалов, как сторонников модернизации, так и панисламистов. Их привязанность к модерну обуславливалась тем, что они, как светские люди, понимали упадок мусульманских обществ и необходимость глубоких реформ, которые проводились бы на европейский манер. Их панисламизм родился не из той или иной формы религиозного фанатизма, а из убежденности в необходимости создать общий фронт сопротивления многосторонней агрессии европейских стран, которая затрагивала все мусульманские общества – арабское, турецкое, иранское, афганское, индонезийское, малайзийское… Таким образом, панисламизм стремился стать идеологией транснационального сопротивления европейскому многонациональному (французскому, английскому, русскому, австрийскому) империализму. Объединение вокруг османского султана, который провозгласил себя халифом, стало казаться единственно возможным спасением[105].
Занятно отметить, что после исчезновения турецкого халифата в 1924 году европейские державы, и прежде всего Англия, начнут поиски нового халифа, который мог бы обладать авторитетом в мусульманском мире, что станет отправным моментом для нового соперничества двух арабских суверенов, которые претендовали на этот титул[106]. Франция, также занятая предприятиями на Востоке и в западном Средиземноморье, всегда мечтала о возрождении ислама и управлении им[107]. Можно вспомнить о Наполеоне Бонапарте, который прибыл в Египет, представив себя как друга, с симпатией относящегося к этой религии[108]. В сравнительно недавнее время, в конце XX века, США также работали над мобилизацией ислама, понадобившейся, чтобы создать противовес советской экспансии в Третьем мире, (и в результате внесли вклад в процесс радикализации, который в конечном счете приведет к терактам 11 сентября 2001 года). Эта инструментализация, которую мы описывали в других работах, долгое время была неизвестна крупным западным СМИ и никак не рассматривалась в академических исследованиях ислама. Саудовская Аравия и Пакистан как активные распространители мусульманского фундаментализма в Третьем мире находились тогда на переднем фронте борьбы с коммунизмом, а США не только соглашались с этим, но и всячески стимулировали их и воодушевляли. Лишь в самое последнее время завесу тайны начали приподнимать, особенно в англосаксонской прессе, которая заинтересовалась феноменом распространения ваххабизма при поддержке США[109].
Но панисламизм сохраняется и в наши дни, в том числе благодаря обильной, но однообразной литературе (её мы рассмотрим в пятой главе), издание которой прерывалось лишь на короткий период расцвета светского панарабизма в 1950–1967 гг. Сегодня это уже не тот панисламизм, которым он был в XIX веке и в начале XX-го, когда он вдохновлялся философией модерна и стремлением к глубокой реформе религиозных и политических институтов мусульманских стран и не поддерживал терроризм ни в одной из его форм. Как мы увидим далее, панисламизм, носителями которого сегодня выступают исламские движения джихадистского толка, стал, напротив, антимодернистским и антизападным (нацеленным именно против того, что теперь стали называть иудео-христианской традицией), он сосредоточен на замкнутой воображаемой картине идеального мусульманского города.
Тем не менее, можно также утверждать, что, поскольку тождественные причины ведут к тождественным следствиям, имперское американское расширение на Ближнем Востоке приняло эстафету у прежней европейской экспансии на мусульманский Восток[110]. И если морфология этого панисламизма радикально изменилась, создав ситуацию интеллектуальной изолированности, причина ещё и в том, что она отражает изменение интеллектуальной атмосферы на общемировом уровне, характеризующееся подъёмом антимодернистских идеологий, тон которых был задан Западом в контексте холодной войны.
Однако инструментализация религии в целях международной геополитики касается не только ислама. Иудаизм также был мобилизован в рамках холодной войны, чтобы создать препятствия для дряхлеющего Советского Союза за счёт поддержки русских диссидентов иудейского вероисповедания. В 1972 году даже ввели условия предоставления СССР режима наибольшего благоприятствования в торговле, связав их с соблюдением права советских граждан на эмиграцию, причем имелись в виду именно граждане иудейского вероисповедания[111]. В конце XIX века руководители зарождающегося сионистского движения выложили перед европейскими руководителями козырную карту – возможность, которой они якобы располагали, мобилизовать своих единоверцев по всей Европе, чтобы поддержать интересы Англии, в том числе и в других частях света[112]; именно это станет основанием для знаменитой декларации лорда Балфура в 1917 году, согласно которой министр иностранных дел Великобритании выделяет евреям «национальный центр» в Палестине, который станет зародышем будущего государства Израиль.
Несмотря на утверждение и развитие светскости в мире европейской политической культуры и ее центральную роль в развитии национализмов, смешение религии и национальности коснулось не только колониальной или имперской политики. Советский Союз еще в самом начале, применяя свою политику признания национальностей, создал еврейскую национальность и выделил ей особую область территорией в 42 тысячи квадратных километров, расположенную на границе с Китаем, в Биробиджане[113]. Позже маршал Тито, преобразовавший Югославию в коммунистическое государство, создал «мусульманскую национальность», в которую включил боснийцев.
В 1969 году, когда создается Организация исламского сотрудничества (ОИС), это новое применение религиозной идентичности в рамках международного порядка не вызывает никаких споров, ни даже недоумения, словно бы совершенно нормальным можно считать объединение государств, у граждан которых одна религия, а все остальное – язык, культура, политические режимы, уровни развития – разные.
Несомненно, причина в том, что это смешение религии и национальностей, которого европейская демократическая культура старательно избегала, когда речь шла о её собственных обществах, на самом деле постоянно практиковалось государствами Западной Европы в политике за пределами их собственных границ.
Бесспорно, однако, то, что за рамки этих новых феноменов религиозной идентичности, в значительной мере разогретых колониализмом, а затем геополитическим развитием конца XX века, выходит один из наиболее очеи видных признаков возрождения на Западе религиозной памяти – а именно та роль, которую играет выстраивание памяти о Холокосте и которая все больше становится центральной для системы западной идентичности.
Память о Холокосте: основополагающий акт возвращения религиозного?
В сущности, Европа этого исторического периода жила на двойной идентичности, составленной из национального чувства и в большей или меньшей степени окрашивающего его марксизма или антимарксизма. История немецкого национализма придёт при нацизме к окончательной кристаллизации убеждения в превосходстве немецкой нации над всеми остальными и к требованию освободить Европу от «злокозненного большевизма». Вот почему и в других европейских обществах нацистская идеология будет встречена с симпатией, объясняющей, на мой взгляд, её ошеломляющий успех, который не может быть приравнен к более позднему успеху её военной машины. Это ключевой момент, к которому мы ещё вернёмся, чтобы лучше выявить динамику возвращения религиозности в конце XX века и начале XXI-го (см. далее главу 4).
Имеет ли уничтожение нацизмом европейских евреев религиозное значение? Разве использование самого термина «Холокост» (долгое время предпочитаемого термину «Шоа», который утверждается сегодня), происходящего из жертвенного словаря Ветхого завета, не указывает на это? Феномену какого рода отвечают это крупнейшее событие и его отзвуки, которые слышны до сих пор? Не представляет ли особый модус формирования памяти о Холокосте – событии, вызванном взрывоопасной смесью расистского национализма и антимарксизма, ставшего главной составляющей современного антисемитизма, который теперь уже не связан исключительно с христианской традицией, – бессознательный основополагающий акт «возвращения религиозности» в нашей истории? Не служит ли выстраивание этой памяти образцом, ставшим практически универсальным, для прославления новых корней идентичности или же старых корней, забытых в далеком прошлом, а также фундаментом для нового исторического порядка и новых способов описывать Историю[114]? Этот исторический порядок, проницательно описанный историком Франсуа Артогом как «презентизм», полностью приспособлен к порядку глобализации, которая «выводит на рынок» само время, и к медийной экономике настоящего, которая «непрестанно производит и потребляет событие». К истории, таким образом, постоянно «обращаются за справкой» средства массовой информации, «которым выдан мандат экспертов по памяти»[115].
Придерживаясь того же строя идей, израильский историк Идит Зерталь полагает, что «можно было бы утверждать, что, если “Аушвиц” и другие великие катастрофы XX века сделали из воспоминания – особенно воспоминания жертв и выживших в исторической резне – всеобщее моральное обязательство, равного которому нельзя найти во всей истории, похоже, что патология памяти и одержимость ритуалами припоминания, характерными для нашей эпохи, в действительности складываются в хорошо выстроенную атаку против нашей способности самостоятельно запоминать прошлое. Если смотреть с точки зрения этого противоречия между потребностью вспомнить и силами забвения, диалектики непризнания и амнезии, имманентной самой избыточности ритуалов припоминания, возникает цепочка крайне острых вопросов: какова уместная экономия воспоминания и забвения? Какое количество истории и памяти нам нужно? Какой именно памяти, и что с ней делать?»[116]. Вот те ключевые вопросы, которые следует задать на пути нашего исследования и на которые мы попытаемся ответить по мере развития рассуждения.
Здесь мы не будем вступать в споры, спровоцированные теми, кто считают, что память о Холокосте инструментализирована, чересчур медиатизирована и приспособлена к разным целям[117]. Не это наш тезис, поскольку вопрос здесь в понимании той реальной почвы, на которой развилась память об этом исключительном по своей запредельной жестокости и безмерно отталкивающем событии. Зато нам надо будет задаться вопросом об историческом прочтении, представляющем нацизм в качестве «исторической случайности», исключительно немецкого события, ограничиваемого даже одной лишь монструозной личностью – Адольфом Гитлером. Не забывая об усилиях всех тех, кто возводит генеалогию нацизма к простой, чуть ли не биологической реакции на марксистское варварство, воплотившееся в советских диктатурах и потрясшее весь европейский цивилизованный мир[118]. В этой оптике нацистские преступления оказываются всего лишь результатом преступлений большевистских, совершенных в этой всё ещё недостаточно европеизированной и, соответственно, нецивилизованной России, которая угрожала всем своим соседям (мы вернёмся к этому вопросу в четвёртой главе).
Вернёмся однако к историческому моменту, который отмечает закрепление памяти о Холокосте в современном западном воображаемом. Как мы уже упоминали во введении, 11 января 1979 г. американский президент Джимми Картер создал в США комиссию по возведению памятника выжившим в Холокосте. Эли Визель, который получит нобелевскую премию мира в 1986 году, был назначен председателем этой комиссии; в своих многочисленных трудах он, как выживший в лагере смерти, попытался рассказать миру о страданиях евреев, подчеркивая их исключительный характер.
Однако в те времена можно было думать, что осуждение нацистских преступлений на Нюрнбергском суде 1945 года положило конец всем ужасам Второй мировой войны. Действительно, нацистский вопрос был признан окончательно закрытым, а мировая геополитика и интеллектуальные настроения, её сопровождавшие и обрамлявшие, были вскоре поляризованы холодной войной и войнами за деколонизацию. Однако Рауль Хильберг, наиболее признанный сегодня историк геноцида европейских евреев, сумел прояснить тот значительный поворот, который способствовал масштабному преобразованию мировых декораций: «Можно скрывать какие-то темы или, напротив, бомбардировать ими внимание публики, однако за этим всегда стоят мотивы, отражающие определенные проблемы и указывающие на потребности общества. В США феномен, известный под названием Холокоста, смог найти подходящую для себя почву только после шока вьетнамской войны, когда новое поколение американцев начало искать устойчивые моральные ценности, а Холокост стал мерой абсолютного зла, которой можно мерить и судить все остальные прегрешения наций. Что касается Германии, надо было дождаться начала 1980-х годов, когда палачи уже умерли или доживали в приютах, чтобы их дети и внуки, правнуки и правнучки смогли впервые открыто поставить вопросы о деятельности своих предков в нацистскую эпоху. Во Франции, стране весьма сложной, где бывшие участники Сопротивления живут бок о бок с бывшими коллаборационистами, ждать пришлось ещё дольше. И в Германии, и во Франции прошло много десятилетий, прежде чем мою работу наконец перевели, но тогда она получила признание, превзошедшее мои самые смелые ожидания»[119].
Действительно, французский перевод монументального, действительно прорывного труда Рауля Хильберга вышел только в 1988 году, а первоначально он был опубликован в 1961 году в США, но не привлек, однако, сколько-нибудь заметного внимания. В то же время в 1980-х годах Израиль и его судьба становятся во многих странах Запада предметом обеспокоенности. На примере Франции это хорошо показал журналист Дени Сиффер[120], – и его аналитическая модель подобной обеспокоенности может применяться и для описания механизмов голландского, германского или итальянского сопереживания Израилю, хотя его вершина – в США, где, согласно кредо религиозно настроенных правых, «быть против Израиля – значит быть против Бога»[121].
Как и 1978 г., 1979 год, когда президент Картер собирает комиссию для создания памятника Холокосту, богат на важные международные события, в которых кристаллизуются сходящиеся линии развития: подписание под эгидой США Кэмп-Дэвидских мирных соглашений в сентябре 1978 года между Египтом и Израилем после знаменитого визита египетского президента аль-Садата в Иерусалим в 1977 году; избрание в октябре 1978 года польского Папы Иоанна-Павла II; приход к власти к Китае Ден Сяопина в декабре 1978 г., ставший началом конца эры маоизма; религиозная революция в Иране 1979 года, низложившая светскую авторитарную монархию Пахлави; вторжение в декабре 1979 года в Афганистан Советского Союза, боявшегося, что хомейнистское влияние распространится на среднеазиатские мусульманские республики; кризис «евроракет», разыгравшийся между НАТО и СССР в декабре 1979 года; открытие масштабов геноцида, совершенного против собственного народа камбоджийскими коммунистами, пришедшими к власти в 1975 году. Как мы видели, в 1978 году были также опубликованы критические размышления Франсуа Фюре о Французской революции («Обдумать Французскую революцию»), закрепляющие сдвиг ранее господствующей в Европе политической мысли за пределы той историографической традиции, что оценивала Революцию в качестве основополагающего акта демократии и современного гуманизма.
Это удивительное совмещение важных исторических событий в 1978–1979 гг., закрепляемое другими событиями, более локального значения[122], разумеется, отмечает собой решающий идеологический поворот, символизирующий наступление периода «возвращения религиозности», который мы пытаемся прояснить в данной книге. Вторжение в Афганистан и камбоджийский геноцид обнажили те иллюзии относительно освободительного или прогрессистского характера «реального социализма», которые всё ещё могли сохраняться, что позволило придать убедительность тезисам, принижающим значение
Французской революции, авторами которых были Луи де Бональд, Жозеф де Местр и, уже в наши дни, Франсуа Фюре. Любая форма марксистской мысли, так же как и работы Сартра или всех тех крупных интеллектуалов и писателей, которые могли ещё верить в «истины» марксизма, – все они внезапно вышли из оборота. Теперь поле оказалось открытым для нового охлаждения, для захоронения революционной, националистической и гуманистической памяти ради «возвращения религиозности» и других исчезнувших или вытесненных воспоминаний.
Безмерность современного насилия, развязанного двумя мировыми войнами, была выставлена напоказ теми, кто решил проклясть фашизм и коммунизм, чья генеалогия связывалась, главным образом, с Французской революцией. Что касается памяти об этом насилии, она стала преломляться и закрепляться в поминовении Холокоста. Однако действительно ли генеалогия современного тоталитарного насилия установлена верно? Не сторонятся ли наши современные воспоминания одного особого, забытого памятного места, погребенного под густым слоем многозначительного забвения, места европейских религиозных войн? К этой археологии современного насилия мы как раз и должны теперь приступить.
3. Археология современного насилия: религиозные войны в Европе
Не нужно быть высокообразованным человеком, чтобы понять, что наша потребность в религии и трансцендентности возникает из нашего страха перед смертью, а также интеллектуального замешательства перед мирозданием и тайнами его сотворения, в которые не удается проникнуть даже самым современным и самым сложным из научных теорий. Мир без создателя или без принципа, который объяснял бы как наше преходящее существование, так и вечное движение светил, во многих из нас вызывает сильнейшее отвращение. Боги и божества, единый Бог трех монотеизмов, религии как учения или космические религии Дальнего Востока: все они делают мир и его тайны не такими ужасающими. Именно глубинная экзистенциальная тревога основывает веру в существование «сверхъестественных сил», которые управляют мировым порядком или, наоборот, нарушают его, и эта вера позволяет большинству смертных не задаваться постоянно вопросом о том, почему весь этот мир существует и зачем он нужен.
Как убедительно доказывает антрополог религий Анджело Брелих, «несмотря на крайнее разнообразие, они представляются нам производным особого творческого усилия, наблюдаемого в разных человеческих обществах, благодаря которому последние пытаются получить контроль над тем, что в их конкретном опыте реальности постоянно ускользает от всех иных способов человеческого контроля. Конечно, речь идёт не о чисто техническом контроле (который рано или поздно обнаружил бы свою иллюзорность), а, в основном, о том, как сделать для человека доступным то, что людьми контролироваться не может, как нагрузить эту неподконтрольную реальность теми или иными человеческими ценностями, придать ей смысл, чтобы оправдать и, тем самым, сделать возможными и выносимыми усилия, необходимые для существования»[123]. Рассматривая этот вопрос со своей точки зрения сравнительного изучения религий, Брелих показывает, что в зависимости от разницы в менталитете тех или иных исторических периодов наблюдается изменение отношения к разделению профанного и сакрального в различных аспектах человеческой жизни, а также изменение осознания этого разделения или согласия с традициями древних.
Потребность в религиозном, институциализированные религии и системы власти
Проблемы, связанные с вписыванием факта религиозности в общество, всегда возникают из-за эксплуатации этой жизненно важной потребности системами власти и их руководителями. Действительно, огромная пропасть разделяет, с одной стороны, индивидуальную веру в трансцендентные истины, данные в Откровении пророками или великими мудрецами восточных религий, или тот же племенной тотем, и, с другой, институциализированные религии, которые были догматизированы и оформлены в виде сложных и захватывающих ритуалов. Между религиозным посланием, которое пытается объяснить мир и снизить тревожность, и его закреплением в некоем социальном порядке подчас вообще довольно сложно установить связь. Институционализация ответа на религиозную потребность в определенную историческую эпоху чаще всего весьма далека от его исходного содержания, от «гения» того, чьи слова и поступки определяют основателя религии, которая строится уже после его ухода из жизни.
Впрочем, история религий прекрасно показывает многочисленные метаморфозы, которые они претерпевают, как только заливаются в форму систем власти, организующих общества и управляющих ими. Так, институциализированное христианство сумеет в определенной мере легитимировать разгул совершенно беспримерного насилия, забыв в итоге о главной заповеди Христа как символа ненасилия – об отказе от дискриминации людей, а также от догматического и ритуального прочтения книг Ветхого завета. Оно не отменит рабства и легитимирует принудительное обращение и колониальные завоевания. Также можно вспомнить всевозможные расколы и схизмы, часто приводящие к насилию и всегда сопровождавшие окончательное определение догматов Церкви.
Сначала, в IV веке это были убийственные споры по поводу божественной природы Христа – единой (монофизитство) или двойственной (несторианство), которые стали подлинным бедствием для восточного христианства[124], ослабляя его Церкви и внутреннее согласие, подготавливая территорию для появления ислама, который решил прекратить все эти теологические дискуссии, вернувшись к монотеизму, очищенному от сложностей трактовки Троицы христианского догмата и тайны воплощения. Затем, в XI веке, произошел раскол между Восточной византийн ской церковью (названной православной) и Римской церковью (названной католической), что подготовило почву для завоеваний турков-османов в Малой Азии и Европе; тогда как борьба в период с XII до XIV века с ересями на юге Франции (с альбигойцами, катарами, вальденсами), становление инквизиции, а также крестовые походы и изгнание мусульман из Европы – всё это наложило глубокий отпечаток на европейское христианство[125]. Наконец, рождение протестантизма в начале XVI века поставило под вопрос институт папства, который стал считаться выродившимся и коррумпированным.
Этот кризис, к которому мы еще будем возвращаться, вызвал цепочку религиозных революций, сопровождаемых новым насилием невиданного доселе масштаба. Итогом стали настоящие гражданские войны, разразившиеся внутри различных политических образований Европы, а их геополитическое значение ещё больше увеличилось в силу войн, которые суверены стали вести за превосходство собственных королевств или империй. Религия, политика и геополитика тесно сплелись друг с другом за все эти столетия войн и насилия, которые, в конечном счете, разорвали мега-идентичность, задаваемую европейским христианством, открывая, таким образом, путь универсализму века Просвещения, которое окончательно преодолеет религиозный фанатизм и его политическое применение, которым Европа не брезговала много веков.
Неизбежное переплетение политики и религии, возникающее при разных обстоятельствах внутри каждого института, который претендует на удовлетворение религиозной потребности, является, в действительности, источником ещё одного парадоксального феномена, влекущего крайне важные последствия. Институциализированная религия подвергается естественному износу, которым время грозит любому институту: она становится историчной и, следовательно, изменчивой, тогда как она несёт абсолютное, трансцендентное послание, особенно если речь идет о монотеизме. Отсюда новая склонность – рассматривать религиозное послание, «Откровение» божественного присутствия в качестве именно исторического события, которое, конечно, важнее других, но всё равно подвержено изменениям, всякий раз вызываемым историей, то есть в качестве события с началом и концом; и тогда мы вступаем в область сомнения относительно достоверности абсолютной трансцендентности послания.
Здесь же причина нередко встречающегося нарочитого отказа от изменений, которые затрагивают не только религиозные институты, но и институты политической власти, в которые они включены или которые они смогли как-то оформить (например монархию, основанную на божественном праве, у христиан, халифат у мусульман). А отсюда, наконец, рождается рассогласование между институтами и реальной жизнью, которое выражается в появлении и утверждении «еретических» движений, как воинственных, так и мирных, которые отказываются от установленного порядка. С этого момента обращение к основополагающим текстам становится главным моментом противостояния и борьбы. Однако такое обращение ничего не решает, даже наоборот, поскольку тексты допускают самые разные интерпретации и, к тому же, сами содержат противоречащие друг другу предписания. (Отметим мимоходом, что религии мудрости или созерцания Дальнего Востока, в меньшей степени включённые в политический порядок, чем так называемые религии «Откровения» или пророческие религии, были менее подвержены всем этим испытаниям.)
В той мере, в какой мораль, в отличие от идентичности, многим обязана религиозным концепциям, можно понять насилие, провоцируемое сомнением в светских религиозных институтах или даже просто появлением отстранённого взгляда, который вписывает религию в порядок исторических фактов, а не в порядок трансцендентности. Парадокс в том, что множество движений, протестовавших против общественно признанной религии, являются фундаменталистскими в том смысле, что они требуют вернуться к основаниям веры, которые якобы были подорваны институтом религии, ставшим в то же время институтом власти, развившим различные суеверия, позволяющие эксплуатировать наивность людей. Параллельно многие политические протестные движения будут обращаться к религии, чтобы оправдать те изменения, которые они желают вызвать в системе власти.
Действительно, религия, как только она становится институтом, некоей управляемой организацией, парадоксальным образом вступает в мир исторического износа, теряя свой первичный характер трансцендентности. Она неминуемо подцепляется «политическим» – в смысле систем власти и институтов управления обществом. Поэтому определенное число разочарованных верующих (или политиков) будут говорить о необходимости «вернуться к истокам», к корням. В этом случае религиозную идентичность несложно будет смешать с идентичностью национальной или принадлежностью к определенной цивилизации. Это «ностальгия по истокам», прекрасно описанная Мирче Элиаде, специалистом по истории религий[126]. Обращение к религии в такой ситуации должно помочь справиться с глубоким политическим недовольством, которое создает экзистенциальную пустоту и, следовательно, пробел в идентичности, который оказывается ещё более обширным из-за того, что система формирования современных национальных идентичностей, выстроенная как преодоление этнических связей или религиозной специфики, сама постепенно разлагается.
Поэтому именно обращение к религиозности, а не её возврат, проявляется в подобной реакции на расколдовывание мира. Впрочем, говорить о «возвращении религиозности» – вообще нелепица, если мы готовы допустить, что потребность в религии и трансцендентности является постоянным качеством человеческой природы, хотя эта потребность по-разному выражается в разных местах, средах и исторических эпохах. В рамках определенной религии интерпретация изначального послания является изменчивой и многообразной: христианство Византийской империи или германской Священной Римской Империи не похоже на христианство двух первых веков нашей эры, а христианство Реформации и Контрреформации – тоже совершенно другое. Та же ситуация в исламе, как и в иудаизме, не говоря уже о различных формах буддизма, индуизма, даосизма и синтоизма, если брать религии Индии и Дальнего Востока.
Под вопрос, разумеется, ставятся именно институциализированные религии, которые ожесточенно защищают себя именно потому, что они тесно связаны с политической властью или потому, что политическая власть использует их, чтобы отказаться от нежелательных изменений – либо, напротив, ускорить изменения, необходимые якобы для того, чтобы избежать вырождения социального тела. Особенно это верно в случае монотеистических религий, в которых идеал религиозной трансцендентности, воплощенной в едином и неделимом Боге как носителе эсхатологического проекта, который должен спасти человечество, создает крайне сложные и интенсивные отношения между религией и светской властью.
Распри в европейском христианстве
Именно это демонстрируют, в частности, многочисленные воплощения европейского христианства, с XII века разрываемого на части различными ересями, инквизицией, а затем опустошительными религиозными войнами, которые окончательно подрывают единство европейской цивилизации, основанное на религии. Тогда постепенно складывается Европа наций с ее различными культурами (английской, французской, итальянской, немецкой, испанской), а затем, уже после Французской революции, новые политические режимы, подчас антагонистичные друг к другу (монархии и республики, демократические системы и авторитарные фашистские или коммунистические системы). Редко религия оказывалась предлогом для столь болезненных разрывов, охватывающих столь долгий период времени, – разрывов, похороненных в глубине «догматической памяти» Запада ради возвеличивания и мифологизации его собственного гения, гения так называемых иудео-христианских источников, которые якобы ещё у самого истока щедро одарили Запад индивидуалистическими и гуманистическими ценностями, утверждаемыми со времен религиозной Реформации, а затем и Просвещения.
В действительности, первые признаки разлома в европейском христианстве проявились очень рано. С XII века ереси начинают распространяться на юге Европы, а на севере две крупные фигуры подготавливают движение Реформации: английский епископ Джон Уиклиф (13241381 гг.) и монах Ян Гус (1369–1415 гг.), сторонник Уиклифа в Богемии, который погибает на костре. Кроме того, Церковь подтачивается изнутри: в течение более полувека (в период 1294–1349 гг.) она сталкивается со множеством внутренних расколов, которые разрывают институт папства, так что на какое-то время он становится даже трехголовым. За этими руинами доверия к папству уже прорисовывается будущее соперничество европейских держав, которые попытаются использовать власть Папы в своих целях, фактически отказавшись подчинять свою преходящую власть власти духовной.
Жан Шелини, специалист по религиозной истории Запада, так описывает некоторые черты этого кризиса: «У наименее искушенных людей природные катастрофы, такие как “Черная смерть” (1348 г.), опустошение, вызванное Столетней войной во Франции, раскол папства, порождают отчаяние. Экзистенциальная тревога, присутствующая в любую эпоху, но чаще всего сдерживаемая религиозными структурами и социальными ограничениями, в таких случаях освобождается и проявляет себя во всей своей силе. Проблема спасения приобретает трагический характер, которого не было в XIII веке. Материальность смерти с ее кортежем обескровленных трупов преследует сознание людей, успокоить которое могут только новые религиозные обеты или безудержная погоня за наслаждениями. Обычай и хронологическая датировка предполагают, что эти века являются концом Средневековья, чем уже подразумевается некий упадок. Эта пессимистическая точка зрения, достаточно спорная, если говорить о цивилизации в целом, представляется оправданной, если рассматривать структуры католической Церкви. В действительности, равновесие средневекового христианства нарушилось, появились и новые элементы, способствовавшие формированию нового равновесия, в котором религия стала играть не менее важную личную и социальную роль, чем в Средневековье, однако уже в совершенно иной социально-политической рамке, внутри новых церковных структур, благодаря отчасти видоизмененной религиозной ментальности. В плане религиозных феноменов XIV и XV века представляют собой огромный интерес как периоды нонконформизма»[127].
Через несколько десятилетий после восстановления власти Папы начинается то, что можно назвать «длинным веком религиозных войн» (1517–1648 гг.). Этот век окажется сплошной чередой жесточайшего насилия, которое потрясло Европу, хотя сегодня оно и стерто из наших воспоминаний благодаря «миротворческой историографии периода Реформации», как объясняет Пьер Шоню. «История – это дочь своего времени, – напоминает он. – В умонастроения прошлого проецировалось желание примирения, которого не было в эпоху Kulturkampf, силлабуса или, скажем, Интерима и коллоквиума в Пуасси»[128].
Сегодня же, как мы уже отмечали, снова и снова навязчиво повторяются велеречивые осуждения насилия, чинимого современным тоталитаризмом. Генеалогия этого насилия, затмившего собой насилие былых религиозных войн, возводится исключительно к Французской революции и к веку Просвещения, чем упрощается закрепление в общественном воображении «возвращения религиозности» как благотворного явления, восстанавливающего нормальное положение дел, нарушенного гуманизмом Ренессанса, философией Просвещения, а затем Французской революцией. Вот почему нам необходимо описать то, что наша атрофированная историческая память отказывается вспоминать. Мы будем двигаться в обратном направлении, исследуя это вытесненное насилие, а начнем с самого долгого и самого забытого из его периодов, которым отметилась Англия, представляющаяся в собственной догматической истории образцом политического равновесия и умеренности.
Чтобы оценить его размах, надо, очевидно, учитывать различие в населенности Европы тех времен и XX века, а также различие в индивидуальных и коллективных средствах умертвления врагов, которые в ту пору оставались еще достаточно примитивными – по сравнению с сегодняшними. Не являются ли бесчисленные костры, на которых за несколько веков погибли десятки тысяч человек, объявленных еретиками, своеобразными прообразами химического оружия или лагерей смерти, изобретенных человеческой жестокостью спустя несколько столетий? Нельзя ли сказать, что в преступлениях тоталитаризма современного типа, как и в жестокости по отношению к гражданскому населению в период двух мировых войн, было воспроизведено – на современном промышленном уровне – то уничтожение Другого, что практиковалось во время религиозных войн и от которого цивилизованная Европа, как она привыкла думать, в какой-то момент окончательно освободилась? Опять же, с нашей точки зрения, признак чрезмерной близорукости – обвинять исключительно Французскую революцию, представляя ее главным источником современного насилия, и забывать при этом о многих веках религиозных преследований и кровопролитных религиозных революций, увенчавших собой период религиозных войн.
Как мы увидим, все современные формы подавления свободомыслия, все формы догматического и идеологического фанатизма, превратного использования основополагающих текстов, обвинений в сговоре с иностранцами, используемых, чтобы опровергнуть законность новых учений, – всё это много веков практиковалось инквизицией, а затем во времена религиозных войн, которые шли на европейском континенте между различными «католическими» и «протестантскими» силами, увенчавшись, в конце концов, Тридцатилетней войной (1618–1648 гг.). Религия станет в этих конфликтах всего лишь предлогом для столкновений стремлений к власти, и таким же предлогом станут тремя веками позже светские идеологии, провозглашаемые разными политическими объединениями, претендующими на имперское значение, – идеологии, итогом которых будет «Сорокалетняя война», как можно было бы назвать холодную войну (1948–1989 гг.).
Забытое английское насилие (1534–1668 гг.)
Вместе с Германией и Нидерландами Англия дает нам первый образец религиозного насилия, спровоцированного разрывом Генриха VIII с Папой в 1534 году и принятием «Акта о верховенстве», согласно которому король становился высшим главой Церкви Англии, получал право судить всякую ересь, заблуждение или злоупотребление, каковым ранее владела лишь Римская церковь. Немного позже был принят второй акт, который требовал от всех подданных короля принести клятву в верности, которую многие священники, как и во Франции периода установления Республики, откажутся дать, что будет стоить им жизни. К тому же, королевская власть присвоила множество монастырей. Столкнувшись с распространением различных протестантских мнений, Генрих VIII провозы глашает в 1539 году «Акт об отмене разности во мнениях», которым устанавливались «шесть статей», определяющих религиозную догму. Католиков, как и протестантов, преследовали, если они противились новой догме.
Такое двойное преследование продолжалось до смерти Генриха VIII в 1547 году: «И хотя оно не привело к большому числу жертв, – пишет Жозеф Леклер, специалист по религиозному кризису XVI и XVII веков, – в стране оно закрепило крайне нездоровый режим шпионажа и доносительства»[129]. Впоследствии Англия при правлении различных королей переживет несколько периодов натиска протестантов, навязывающих новые катехизисы, например «Prayer Book» («Требник») 1594 года, или же практикующих, говоря словами Жозефа Леклера, «методичный и хорошо организованный вандализм», заключавшийся в разрушении статуй, религиозных образов или алтарей, в захвате ценного движимого имущества церквей, поступающего в казну, – за этими атаками последовали католические реакции, например Марии Тьюдор (15531558), а за ними – снова протестантская реставрация в период долгого правления королевы Елизаветы (1558–1603 гг.), принесшего с собой преследование католиков[130].
Именно при этом правлении англиканская Церковь окончательно утверждается в качестве официальной Церкви всей страны, догмат и структура которой станут компромиссом между католицизмом и кальвинизмом. Тогда же пришлось дать отпор появившимся пуританским «сепаратистам», которые оспаривали сам принцип государственной Церкви, что вызвало новую волну религиозных преследований. При двух первых Стюартах примирение с католиками стало невозможным, особенно после знаменитого «Gunpowder Plot» («Порохового заговора»), первого современного террористического акта: этот заговор, реальный или воображаемый, приписывался католикам, которые якобы хотели взорвать здание парламента во время заседания, когда там присутствовал король. Штрафы, выплачиваемые теми подданными короля, которые упорно желали остаться католиками, стали непомерно высокими. В 1606 году при короле Якове I выходят многие постановления («bills»), которые еще больше ужесточат преследование католиков. Среди них – обязанность по крайней мере раз в год участвовать в англиканском причащении, более тщательный надзор за принесением антипапской клятвы, раздача наград доносчикам, сообщающим о католических священниках, ограничение перемещения католиков, обязанность жениться в протестантской церкви и там же крестить детей[131].
Вопреки широко распространенному представлению о большей терпимости реформистских Церквей, чем католических, именно в Англии начиная с 1534 года «закон карал верность Святому престолу, считая ее государственной изменой», напоминает историк Жозеф Леклер, уточняя при этом, что «события нашего века позволяют нам оценить всю вредоносность» практик, введенных Реформацией: «Именно этот полицейский режим шпионажа, заключений и штрафов позволил ловкому и решительному меньшинству постепенно удушить в королевстве всю деятельность католиков. Протестанты приложили много сил, чтобы не допустить появления чересчур большого числа мучеников, однако в итоге не отрекшихся католиков низвели до статуса париев»[132].
К этому он добавляет: «Часто рассуждают о терпимости в Англии эпохи Стюартов и Кромвеля; к несчастью, так же как в Голландии времен спора ремонтрантов, взаимная терпимость, за которую выступят апологеты, будет распространяться только на протестансткие конфессии, но не на католиков. За немногими исключениями – к которым можно отнести Роберта Коттона, Джона Селдена, Джона Гудвина, Роджера Уильямса и некоторых баптистов, – это будет общее мнение публицистов, которое Джон Локк в своем “Письме о терпимости” (1689 г.) просто зафиксирует. Как отмечает Дж. В. Аллен, в Англии эпохи Стюартов бытовала “наивная и искренняя” убеждённость в том, что “терпимость к протестантам со стороны католиков – это одна вещь, которая совершенно отличается от терпимости к католикам со стороны протестантов”. Первая затребована справедливостью, и потому естественным считается то, что король Франции терпит гугенотов. Вторая остается под запретом, поскольку католики подчиняются двум иностранным властям – Испании и Папе. Сохраняется всё тот же политический предлог, который позволил англиканам, пуританам, сектантам и т. д. с совершенно чистой совестью применять дискриминирующие законы»[133].
Убийство короля Генриха IV в 1610 году во Франции станет поводом для антикатолических волнений в Великобритании. Это еще не настоящее цареубийство, которое случится во время английской революции Кромвеля, которую историки считают первой современной революцией. В 1649 году, за сто сорок лет до французских революционеров, она приводит к обезглавливанию короля Карла I, которое прошло под чтение библейских текстов, говорящих о божественном благословении и Провидении[134]. В действительности это также и первая современная диктатура. Длительные религиозные волнения, с которыми столкнулось королевство, завершаются лишь новой революцией 1688 года, получившей название «Славной», когда произошла смена династии, позволившая закрепить конституционные достижения длительного периода революционных религиозных беспорядков[135]. Что касается положения католиков, оно нормализуется лишь в 1791 году, когда «Public Worship Act» («Акт о богослужении») учреждает свободу культа, которая будет закреплена в 1829 году «Актом об освобождении».
Однако причиной религиозных беспорядков и насильственных актов в Англии были не только столкновения протестантов и католиков; с не меньшей жестокостью они разгорались и между англиканами и пресвитерианами. В 1662 году, напоминает нам Жан Делюмо, английский парламент «проголосовал за “Акт о единообразии”, обязывающий всех священнослужителей принять весь “Prayer Book” целиком и объявить незаконным любой бунт. Август запомнился “Варфоломеевской ночью” пуритан: 1760 священников, отказавшихся принимать “Акт о единообразии”, должны были покинуть свой приход и были лишены жалования. В 1665 году им было запрещено приближаться на расстояние менее пяти миль к своим прежним приходам или к городу. Карл II и Яков II, поскольку они благоволили католицизму, склонялись к политике религиозной терпимости, которая, естественно, оказалась на руку всем диссидентам англиканства – пресвитерианам или даже сектантам, но также вернула законный статус католикам. Этим объясняются декларации об индульгенции 1672 и 1687 года. Однако парламент воспрепятствовал проведению этой политики и, ведя борьбу на два фронта, проголосовал за нацеленный против диссидентов “Акт против собраний”, а также в 1673 году за “Акт о присяге” (Test Act), который требовал, чтобы чиновники придерживались англиканского вероисповедания»[136].
«В Шотландии, – уточняет Жан Делюмо, – возвращение Стюартов привело к двадцативосьмилетней борьбе между пресвитерианами и властями, которые считали, что должны установить епископат. Большая часть населения отвергала даже епископов, игравших роль простых председателей и администраторов. Архиепископ-примас
Роберт Лейтон из-за этого провала покинул страну. Тогда в Шотландии начались преследования и волнения: тюремные заключения, отчаянные бунты, кровавые репрессии, пытки, утопления и казни переполнили собой этот жуткий период, получивший в Шотландии название “время убийств” (the killing time). По подсчетам, убито было 18000 человек[137]… Изгнанные из своих приходов и замещенные ничтожными наемниками, пасторы, которые не стали жертвами преследований, бежали в горы и леса, где они собирали верных сторонников, лишившихся своих храмов»[138].
Кроме того, как говорит Жан Делюмо, «религиозная нетерпимость сохранялась долгое время. Тогда как после 1648 года внешняя политика стала более светской, а католическая Испания объединилась с протестантскими державами в союзе против Франции, Англия конца XVII века продолжала подавлять католиков, а Франция – протестантов. Из-за “заговора”, разоблаченного Титусом Оутсом (1678 г.), многие лорды были заключены в лондонский Тауэр, 2000 подозреваемых – арестованы, все католики были изгнаны из столицы, а пять иезуитов – казнены. Несколькими годами ранее “Акт о присяге” (1673 г.), направленный специально на католиков, лишил государственных постов всех нонконформистов. В то же время во Франции многочисленные постановления и всё более строгие толкования Нантского эдикта, за которыми последовали драгонады, сделали жизнь кальвинистов практически невыносимой»[139].
Следует напомнить, что первые захваты церковного имущества случились не во Франции времен Французской революции, а в Англии – уже в XVI веке, когда Генрих VIII сокрушил власть католической Церкви. Распродажа этого захваченного имущества породила выражение «секуляризация»: секуляризировались богатства, ранее принадлежавшие Церкви. Результатом стало весьма значимое перераспределение богатств (тот же процесс наблюдался и в германских землях, где в качестве официальной религии был принят протестантизм). Напомним также, что первые воинственные эгалитаристские движения появились в Германии в начале XVI века вместе с анабаптистами[140], а затем, веком позже, и в Англии – вместе со знаменитыми «levellers» («уравнителями»), «diggers» («диггерами») и «ranters» («рантерами»), которые протестовали против дворянской собственности и требовали, чтобы крестьяне получили право на владение землей[141]. Таким образом, первые эгалитаристские идеи возникли не из философии
Просвещения и Французской революции, их породил водоворот, созданный протестантским движением во многих регионах Европы.
Сегодня, однако, английская революция, в отличие от французской, не становится объектом критической ревизии: она не включается в генеалогию форм насилия и террора, практиковавшихся в XX веке фашистскими или коммунистическими режимами. Не в том ли причина, что здесь речь о революции, прошедшей в контексте одержавшего в Англии победу протестантизма, который в общеевропейском мнении будет считаться главным (и по сей день почти не подвергающимся деконструкции) фактором экономического взлета и развития? У нас ещё будет возможность вернуться к этому вопросу. Однако английский протестантизм, как только он стал государственной религией, преследовал инакомыслящих не меньше, чем католицизм. Как отмечает крупный историк Жак Пиренн, «Лютер отказался от принципа римской власти лишь для того, чтобы передать её в руки князя, который, в результате, становится абсолютным господином вероисповедания своих подданных. Нисколько не отменяя религиозный авторитаризм, он разбивает его на части и, тем самым, делает его более цепким и более тираническим, тогда как подчиняя религию всемогуществу мирской власти, он делает эту религию совершенно материальной»[142].
И хотя ужасы религиозных войн сегодня исследуются в многочисленных работах[143], наши воспоминания о них весьма обрывочны. В прославлении Французской революции, как и в её принижении, которому она подверглась сегодня, когда её представили в качестве образца современного насилия, мы забыли о той линии преемствености, которую можно установить между данными формами насилия и теми, чтобы были задействованы религиозными войнами. Желание подорвать установленный порядок, бороться за внедрение порядка нового, более справедливого, подлинного, лучше согласующегося с идеей трансцендентности, пусть даже ценой смертоносного коллективного насилия, было открыто не Французской революцией. Скорее уж последняя, вызвав живейшие реакции всей монархической Европы, была связана с долгим веком религиозных войн, начавшимся в 1517 году, когда были обнародованы знаменитые 95 тезисов Лютера (против папских индульгенций), и длившимся до 1648 г., когда был заключен Вестфальский договор, завершавший Тридцатилетнюю войну и весь цикл войн, разрывавших Европу и особенно Германию, разделение которой на множество ослабленных княжеств было закреплено, поскольку оно отвечало интересам других европейских держав[144]. Впрочем, некоторые немецкие историки объясняют последствиями этой войны задержку в развитии страны, сохранившуюся вплоть до объединения несколькими веками позже[145].
Долгий век религиозный войн (1517–1648 гг.)
Английская революция, прославляемая как начало линии развития, которая приведет к конституционализму и равновесию властей, восхваляемому Монтескье, была, таким образом, вписана в насыщенный контекст насилия долгого века религиозных войн, который мы теперь должны описать.
В действительности, речь идет о новом типе насилия, ранее не известного в Европе, насилия, которое проникло во все слои общества, а его целью было буквальное истребление всех тех, кто стали «другими», «иными», кто стал опасностью или угрозой для сохранения целостности социального тела и мира королевств и княжеств. «Религиозная война, – убедительно поясняет Пьер Мигель, – это не гражданская война, которая могла идти между арманьяками и бургиньонцами. Она безжалостна, она восстанавливает одного человека против другого. Её цель – не в господстве над противником, а в его уничтожении, она стремиться к тому, чтобы обратить его – так же, как делают инквизиторы – в прах»[146].
В самом деле, разрыв единства Церкви вызывает всплеск яростного насилия, которое сопровождается всеми теми оправданиями и легитимациями, к которым будут впоследствии обращаться революционеры всех времен и всякой национальности – во Франции, в России, Германии, Китае и во многих других странах. У истоков этих явлений лежит именно слом западной христианской мега-идентичности, а предшествовали им века деятельности инквизиции, которая достигла своего апогея в крайне католической Испании.
Благодаря цитатам, которым мы приводим далее, можно будет понять, что современное революционное насилие, будь оно французским, русским или китайским, как и контроль за умонастроениями через шпионаж и доносительство, осуществляемые посредством хорошо организованного государственного или пара-государственного аппарата, ни в коей мере не могут считаться каким-то новшеством: всё это уже было и повсеместно применялось в Европе времён религиозных войн. Сами понятия «подрывной деятельности», «пятой колонны», служащей иностранным силам, коварного меньшинства, разлагающего социальное тело, сегодня связываемые исключительно с лексикой современных диктатур, где они оправдывают преследование оппозиционных сил, обнаруживаются уже в Европе Средних Веков и Возрождения.
Началось всё с вычищения остатков язычества, продолжилось насилием, которое понадобилось, чтобы уничтожить остававшиеся в Испании анклавы мусульманских и еврейских сообществ, а затем – крестовыми походами против еретиков, особенно альбигойцев, непрерывными актами насилия со стороны католиков и протестантов, которые вызывают массовые миграции людей, стремящихся избежать преследований. Это начало того, что сегодня мы называем «этническими чистками», практиковавшимися тогда в массовых масштабах в Европе, а потом и в обеих частях Америки: именно принцип господства, закрепленный Аугсбургским миром (1555 г.), установил отвратительное правило «cujus regio ejus religio», согласно которому пои данные правящего в данном регионе князя должны были принять ту же религию, что и он, или же уехать в другую провинцию, управляемую князем, официально придерживающегося их вероисповедания.
Революционная радикальность гугенотов
Но это также, несмотря на раскол в Церкви и подъём гуманизма, закрепление той идеи, что спасение всегда коллективно, что социальное тело должно оставаться племенным, иметь свой тотем, свою связь с богом. Модерн, в действительности, не принесёт изменений: потребность в трансцендентности остается столь же жгучей, как и ранее, однако теперь она будет фиксироваться уже не на боге или тотемной связи, а на разуме и духе, которые производят трансцендентные идеалы, первые основания которых заложит Гегель и которые затем, в свою очередь, выродятся в подавление индивидуальной свободы ради племени, ставшего нацией, народом, социальным классом или цивилизацией.
Историк Дени Крузе в своем замечательном исследовании насилия времен религиозных волнений во Франции воссоздал нарастание эсхатологической тревоги в XVI веке, обусловленной расколом в единой Церкви. Последний, как он объясняет, «заставил людей жить в состоянии крайней тревоги из-за неминуемого Страшного суда, в мире, переполненном знаками Бога, предупреждающего человечество о Его близящемся гневе. В этом мире они жили, творя насилие и переживая события, которые его требовали»[147]. Он добавляет: «Не следует ли в исторической перспективе мыслить религиозные войны в качестве столкновения традиционной культуры, основанной на присутствии Бога в мире, и культуры модерна, центрированной на автономизации светской сферы, культуры устранения тревоги? Таковы вопросы, к которым придёт сравнительный анализ систем представлений, которые поддерживают насилие. […] Разве не была победа Генриха IV, победа политического разума над мистическим очарованием, вписана в дестабилизирующую логику истории, которая увидела, как всё более нарастает интенсивность насилия, обусловленного тревогой, и как поднимается мечта о духовном осуществлении человечества»[148].
Опираясь на многочисленные тексты, Дени Крузе демонстрирует нам внутреннюю работу психологических механизмов, которые подталкивают индивида присоединиться к определенной системе, поскольку последняя «снимает его экзистенциальную тревогу, заставляет его переносить её в ликовании или экзальтации, или же скрывает её от него, словно бы вытесняя вовне, что также приводит к ликованию и экзальтации, но уже связанным с избавлением»[149]. Не это ли архетип современного насилия и не описание ли их действия: выход из одной, обветшавшей системы власти и принятие другой системы с новыми онтологическими и метафизическими основаниями, которые заявляют о собственной первозданной чистоте? Безжалостная борьба папистов с гугенотами – это война за уничтожение, истребление Другого, которая прерывалась краткими перемириями, тщетными попытками прийти к компромиссу, которые лишь на мгновение останавливали коллективное насилие, резню и беспорядки – убийства (в том числе двух королей), осквернение и разграбление церквей, а также имущества клириков, надругательство над могилами, протесты против монархии, народные комитеты, не подчинявшиеся больше ничьей власти, случаи «панической истерии» или же «цепной реакции» и «коллективной экзальтации», которые Дени Крузе описывает в своем монументальном труде.
«Мне, конечно, могут возразить, – говорит этот историк, – тем, что постоянное присутствие этой скрытой стороны Реформации замечается только благодаря нескольким точечным примерам, так что я искусственно обобщил то, что, вероятно, было лишь маргинальными проявлениями напряжения или даже фактами, вполне нормальными для периода религиозных волнений. Я же считаю, что ритуалы насилия доказывают, что гугеноты 1560 годов, будь они воинствующими иконоборцами или же дворянами, соблазненными тираноубийством, стали прародителями Революции – благодаря своему символическому отказу от любой политической сакральности и мечте о новом обществе святых. И если радикальность, что вполне рационально, прячется в арьергарде воюющих протестантов Евангелия, причина в том, что чаще всего она пользуется совсем другим языком – языком коллективного насилия. […] Сознательно или бессознательно в ритуалах агрессии гугеноты пытались воспользоваться продолжающимися вспышками насилия, чтобы выразить свою мечту об обществе, в котором они были бы главными распорядителями. Именно в реальном насилии, выходящем за рамки театра карнавального катарсиса, время от время проявляется напряжение, стремящееся к цареубийству»[150].
Свой первый том Крузе завершает следующим утверждением: «Как мы видим, желание полностью изменить устои, ввести новый порядок, хотя и известно, что он всё равно будет заражен первородным грехом, направляет коллективное сознание к воображаемому, более справедливому, более гуманному, более спокойному для всех обществу, к временному порядку, который был бы, по выражению Жанин Гарриссон-Эстеб, “совершенным образом потерянного рая”»[151].
Религиозные войны дестабилизируют также и институт монархии, оплот европейского христианства. Они поднимают вопрос о легитимности низложения короля-тирана, который презрел заповеди Бога, и даже вопрос о необходимости его физического устранения. Божественный закон превосходит закон тирана. С протестантской точки зрения, как объясняет Дени Крузе, «король не обладает властью, которая позволяла бы ему управлять вероисповеданием своих подданных, которые в этом вопросе признают лишь авторитет Бога и никого иного»[152]. Отсюда парадоксальное последствие религиозных войн: гугеноты, когда они опирались исключительно на авторитет Библии, чтобы лишить власть «божественного права», в действительности открывают путь секуляризации политической сферы.
С этой позиции, не оказывается ли Французская революция не столько основополагающим событием модерна или архетипом его насилия, сколько продолжением того, что было запущено некоторыми протагонистами религиозных войн, стремящихся подорвать устойчивость порядка европейского христианства? Не следует ли рассматривать её не столько в качестве пришествия, сколько в качестве завершения, итога долгого процесса «секуляризации», (почти) окончательно сокрушившего царскую власть и власть Церкви?
Мы уже упоминали позицию Мишле, который в своем великолепном введении к «Истории французской революции», признавая связь христианства с Революцией, пытается предупредить «недоразумения»: «Революция, – утверждает он, – продолжает христианство и оспаривает его. Она – одновременно его наследница и его противница»[153]. По Мишле, христианство лежит у истоков чувства человеческого братства; однако Революция возвестила это чувство «для всего мира, для всякой расы, всякой религии, светящей светом солнца», тогда как христианство осталось пленником произвола понятия благодати и предназначения, которое протестантизм доведёт до крайности, до противопоставления понятию справедливости. «Революция, – утверждает Мишле, – не что иное, как запоздалая реакция справедливости на власть покровительства и на религию благодати»[154].
Обращаясь к тем, кто уже в те времена желали всю вину за исключительно мерзкие преступления взвалить на Революцию, Мишле напоминает: «Не приведи Господь революционному террору сравнить себя с инквизицией! Или хвалиться тем, что за свои два или три года ему удалось воздать старой системе за всё то, что она делала с нами шестьсот лет. Как же инквизиция могла бы посмеяться! Что такое 16 тысяч гильотинированных одного по сравнению с миллионами повершенных, зарезанных, забитых, с этим пирамидальным костром, с этими горами горелой плоти, которые другая возвела до неба? В мгновение мимолетной откровенности руководитель инквизиции одной-единственной испанской провинции признается, что за шестнадцать лет они сожгли 20 тысяч человек. […] Но с какой стати говорить об Испании, а не об альбигойцах, альпийских вальденсах, бегинках Фландрии, протестантах Франции, ужасающем крестовом походе против гуситов или множестве иных людей, которых Папа предал шпаге?»[155]. Вскоре мы подробнее рассмотрим механизмы насилия, произведенные институтом инквизиции.
Эксцессы насилия в Европе XVI века
Жан Делюмо, упоминая об «общем контексте жесточайшей нетерпимости», составляет впечатляющую сводку насильственных актов, практиковавшихся в массовом порядке в Европе XVI века, а затем распространившихся в Англии и США, где они отмечались и в XVII веке. «На Западе, – пишет он, – ненависть к еретику становится законом. Франциск I позволил истребить 3000 вальденсов на юге Франции. На пяти больших “аутодафе” Филипп II уничтожил всех испанских протестантов и эразмим стов. Около 30 тысяч реформаторов стали во Франции жертвами Варфоломеевской ночи и похожих актов, как в Париже, так и в провинции. В Нидерландах осенью 1572 года герцог Альба разграбил город Мехелен, который ранее открыл свои врата принцу Оранскому и передавал оружие протестантам Зутпхена.
Однако нетерпимость была двухсторонней: ответом на казни, которых потребовала Мария Кровавая, стали не менее многочисленные казни, которые приказала совершить Елизавета. Почти повсеместно в Европе XVI века случаются вспышки иконоборческого бешенства: в Виттенберге в 1522 году, в Провансе и Дофине в 1560 г., в Нидерландах в 1566 г. В частности, в Голландии в 1572 году гёзы похоронили монахов, закопав их заживо по шею в землю; головы они использовали как мишени в своей зловещей игре в мяч. В Англии времен Елизаветы католическим мученикам вспарывали животы, вырывая сердце и внутренности; одну женщину, скрывавшую священника, раздавили под досками, на которые набросали камней. В Виваре около 1579 года протестанты закрыли католиков в колокольнях и оставили их там умирать с голоду; детей насаживали на вертел и зажаривали на глазах отцов и матерей.
Невозможно сказать, какой из двух противников оказался более жестоким и какая из стран дошла до крайностей в своем варварстве. […] Из 877 жертв, упоминаемых в протестантских мартирологах Нидерландов XVI века, 617 были анабаптистами. К 1530 году, по оценкам Себастьяна Франка, в Германии было казнено 2000 анабаптистов. Протестантские города и кантоны Швейцарии были не менее враждебны к индепендентам: в Женеве сожгли Сервета, причем Меланхтон, Теодор Беза и консистория швейцарских церквей одобрили смертный приговор, которого требовал Кальвин. […] Один из первых английских индепендентов, Роберт Браун, за свою жизнь прошёл через тридцать две тюрьмы. В пресвитерианском Массачусетсе преследовали первых квакеров, а некоторые были даже убиты»[156].
Говоря о Франции, историк войн гугенотов и католиков Арлет Жуанна упоминает о «диких зверствах»: «В городах, где особенно сильна католическая реакция, происходят систематические убийства гугенотов. Так, в Сенсе (12–14 апреля 1562 г.) по завершению своей процессии католики разрушают склад, служивший храмом, и убивают всех участников богослужения. В Туре в июле 1562 года убиты около двухсот гугенотов, которых бросают в Луару. Взятие городов, ранее завоеванных реформистами, зачастую отмечается ужасающими репрессиями, например, во время разграбления Оранжа в июне, Блуа в июле, а Систерона – в сентябре. Католические зверства изображаются в качестве орудия божьего гнева: поскольку еретик воплощает Сатану, надо постараться, чтобы он потерял всякий человеческий облик, а для этого его забрасывают камнями, вспарывают ему живот, калечат и расчленяют; участие детей в подобных актах по обезображиванию считается символом чистоты битвы за Бога. Насилие затягивает и гугенотов. Вначале они хотят ограничить его лишь образами и священниками, то есть в каком-то смысле “рационализировать” его; однако захват городов войсками гугенотов приводит к ужасающим эксцессам: примерами являются разграбление в начале июля Божанси в долине Луары, а затем убийство католических защитников Морнаса в Провансе, трупы которых погрузили на барку и отправили вниз по Роне с табличкой “Благочестивые жители Авиньона! Извольте пропустить сии товары, поскольку пошлину они уже оплатили в Морнасе!”»[157].
В той же Франции в Париже случилась знаменитая резня Варфоломеевской ночи (24 августа 1572 года), которая затем распространилась еще приблизительно на 15 городов. «Эти убийства в провинциях, – пишет Арлет Жуанна, – обнаруживают в тех, кто их совершали, всё ту же убежденность в том, что они исполняют волю Бога, очищая свой город от ереси, которая его запятнала; однако в то же время, особенно на юге Франции, они стали следствием внутренней борьбы за контроль над городской властью. В общем и целом, “Варфоломеевская ночь” во Франции унесла до 10 тысяч жизней»[158].
Католиков в Англии и протестантов Франции уже тогда стали считать своеобразной «пятой колонной» (как известно, само это понятие будет сформулировано только во время гражданской войны в Испании в 1930-е годы). Реформаторы считают католиков не только неисправимыми папистами, но и агентами или потенциальными шпионами Испании и Франции, католических держав. И наоборот, гугенотов считают не только опасными еретиками, но и агентами или шпионами Англии или кальвинистской Женевы и Голландии.
Анализируя причины, которые заставили Людовика XIV отменить Нантский эдикт в 1685 г., Жанин Гарриссон пишет: «На высшем уровне власть искренне (или притворно) обеспокоена европейскими связями французских протестантов. Эти опасения представляются достаточно логичными, ведь едва закончилась война, когда англичане сновали перед Ла-Рошель, предлагая помощь протестантам, которые принимали её. Возможность переговоров между Роханом и Испанией представляется правительству маловажной, поскольку больше оно боится союзов, основанных на религиозной общности, ведь в подобном случае гугенотам есть из кого выбирать – они могут вступить в связь с Англией, Республикой Соединенных провинций, Женевой, швейцарскими кантонами, немецкими городами и княжествами… Наверху знают, что существует некий реформистский интернационализм; швейцарские, женевские, шотландские и даже немецкие пасторы проповедуют во Франции и преподают теологию в академиях, тогда как французские пасторы-ученики уезжают завершать свое образование в Лозанну, Женеву, Гейдельберг, Лейден. Власть стремится разрушить это протестантское братство; оно представляется опасным государству, которое пытается утвердиться за счёт силы, а его пропагандисты прославляют “национализм”; путаный тезис, апеллирующий к “естественным границам”, начинает свою карьеру в тридцатых годах XVII века, а в учебниках по географии Рейн теперь фигурирует в качестве межи, разделяющей Францию и Германию. Несомненно, правительство начинает относиться к любым видам внешних связей как к определённой угрозе. Множество мер, принимаемых в период 1630–1656 гг., нацелены на то, чтобы сделать из протестантов добропорядочных французских подданных, а не участников общеевропейского общества»[159].
С другой стороны, жесткая цензура запрещает импорт иностранных книг, тогда как синодальные ассамблеи протестантов попадают под строгий государственный контроль, а пасторам запрещается использовать некоторые из терминов в своих проповедях. Уже здесь мы видим цензуру, предвосхищающую ту, что возникнет в тоталитарных обществах XX века, и чьё наследие ни в коей мере не сводится к наследию Французской революции.
Долгие века, инквизиции (XII–XVIII века): институционализация преступного инакомыслия
Мы уже говорили о драме Реформации и Контрреформации, но несколькими веками ранее Западной Церкви уже пришлось противостоять развитию ересей, которые привели её к учреждению судов инквизиции и к крестовым подходам против людей разных категорий, объявленных еретиками. Modus operandi инквизиции во многих отношениях будет задействован и в различных эпизодах Французской революции, русской революции и даже китайской культурной революции: похоже, что чистки, отлучения и физическое уничтожение противников догм господствующего учения, применяемые в политических режимах, вышедших из современных революций, довольно точно воспроизводят всё то, что происходило в лоне европейской католической Церкви в период между XII и XVI веками и что, в конечном счёте, выродилось во всеобщую религиозную войну.
Преступное инакомыслие в его современном понимании было институциализировано именно в Европе времён инквизиции, которая своего расцвета достигла в Испании при короле Филиппе II (правившем в 1555–1598 гг.). Начала этого понятия восходят к третьему Латранскому собору (1179 г.), который позволил власти, правящей по «божественному праву», противодействовать еретикам силой. Борьба с катарской ересью вызвала ожесточение, светская власть соединилась с папской, чтобы подавить ересь, и это подавление стало для неё практически религиозной обязанностью (в соответствии с решениями собора в Вероне 1184 года). В 1200 году в Авиньоне собор принял решение создать в каждом приходе комиссию, образованную из одного священника и трёх добропорядочных мирян, которые должны под присягой обещать разоблачать всех тех, кто перешел в ересь, кто поддерживал или скрывал еретиков[160]. После этого институт инквизиции будет постоянно развиваться, а испанцы даже экспортируют его в Южную и Северную Америку, где аутодафе будут практиковаться вплоть до 1815 года[161].
Арлет Жуанна прекрасно изображает чудовищную власть, которую в Испании XVI века приобрели суды инквизиции: «Расследуя любое инакомыслие, прямо или косвенно связанное с религией, суды инквизиции стали внушать ещё больший страх потому, что они не подчинялись общему праву. Инквизиция, как крайне централизованная организация, игнорирует форальный режим и любые апелляции, направляемые в Рим, поскольку Вальдес обладал даже папскими полномочиями, позволяющими инициировать процессы против епископов. Исключительность процедуры инквизиции, основанной на тайне, изоляции, анонимности доносчиков и отсутствии адвокатов, за исключением назначенных судом, делает её страшнее любого иного суда. Хотя пытки редки, а условия содержания, в общем, не так суровы, как в других тюрьмах, оправдательные приговоры или приостановки процесса почти не случаются, так что у задержанного мало шансов избежать осуждения. Последнее в среднем тоже было не таким суровым, как долгое время считалось; после “террористической” фазы первых десятилетий (1480–1530 гг.) число смертных приговоров упало до нескольких сотен на 27900 дел, рассмотренных в период 1560–1614 гг. Кроме того, хотя есть и другие тяжелые наказания, отправка на галеры или пожизненное тюремное заключение – приговоры довольно редкие. Тем не менее, весьма болезненны штрафы и конфискации имущества, ставшие источником доходов судов»[162]. Далее автор описывает «страх бесчестия», которое грозит всем тем, кто вызван в суд; не меньший страх вызывают и церемонии аутодафе.
«На воображение верующего человека всё это, – добавляет Арлет Жуанна, – оказывало такое воздействие ещё и потому, что “Святая инквизиция” могла карать власть имущих даже в большей степени, чем нищих, не щадила ни дворян, ни простолюдинов, а “letrados”[163]* преследовала больше, чем людей невежественных, – церковники вообще составляли значительную часть осуждённых. Также инквизиция привлекает к суду важных сеньоров, защищающих морисков, как и адмирала Арагонского и герцога Гандию»[164].
Генри Чарльз Ли, один из лучших историков инквизиции, попытался объяснить «чудовищную жестокость и варварское усердие», с которым еретиков предавали пыткам, а также изучить техники их разоблачения. «Таким образом, – пишет он, – всем христианам не только указывалось на то, что их первейший долг – способствовать искоренению еретиков, их ещё и безо всякого зазрения совести подталкивали к тому, чтобы доносить властям, презрев всякие человеческие или божественные устои. Кровные узы не могли служить извинением для того, кто скрывал еретика: сын должен был разоблачить своего отца, муж признавался виновным, если не предавал свою жену ужасающей смерти; детей учили тому, что они должны уйти от родителей; даже брачная клятва не могла сохранить связь правоверной женщины с мужем-еретиком. Частные обязательства также не заслуживали никакого уважения. Иннокентий III высокопарно заявляет, что, согласно канонам, мы не должны сохранять веру в того, кто сам не верит более в Бога. В случае ереси ни одна клятва о сохранении тайны не может действовать, поскольку “тот, кто верен еретику, не верен Богу”. Вероотступничество – величайшее из преступлений, – говорит епископ Лукас де Туй; следовательно, если кто-то поклялся хранить тайну о столь ужасной извращённости, он должен раскрыть ересь, а потом покаяться в клятвопреступлении, будучи уверенным в том, что, поскольку милость Божья способна простить множество грехов, к нему отнесутся со снисхождением, принимая во внимание его рвение»[165].
Как напоминают этот и многие другие историки, подобные эксцессы приведут даже к посмертным процессам, к вскрытию могил с извлечением тел и их осквернением. «По общепринятому мнению, – пишет он, – жизнь представлялась лишь точкой в вечности, так что все человеческие интересы приравниваются к нулю в сравнении с первостепенным долгом спасти стадо от паршивых овец, которые могут передать свои болезни. Само милосердие не могло колебаться в применении крайних средств, если они нужны для выполнения задачи спасения, возложенной на него. Искренность людей, служивших инструментами инквизиции, их глубокая убежденность в том, что они трудятся во славу Бога, подтверждается, в том числе, установившимся обычаем подкреплять их дух дарами индульгенций, напоминающими те, что причитались паломникам на Святую землю. Помимо радости от выполненного долга, это было единственное вознаграждение за их многотрудную жизнь и усталость, и его им было достаточно»[166].
Ли также разъясняет психологическое функционирование фанатизма: «Если учесть душевное состояние фанатиков, – пишет он, – даже самых милосердных и добросердечных из них, от них можно было требовать жалости к страданиям еретиков не в большей степени, чем к страданиям Сатаны и его демонов, бьющихся в вечных муках в аду. Если справедливый и всемогущий Бог столь жестоко мстил этим тварям, которые согрешили перед ним, не дело человека – ставить под вопрос божественную справедливость, напротив, он должен был смиренно следовать примеру своего Создателя и радоваться, когда ему предоставлялся случай ему уподобиться. […] В эпоху, когда всем мыслящим людям при воспитании прививались сходные чувства и когда они, в свою очередь, считали за свой долг распространять их в народе, легко понять, что никакое чувство жалости к жертвам не могло отвратить даже самых милосердных от самых жестоких из деяний справедливости. Безжалостное уничтожение еретиков было делом, которому правоверные души могли лишь радоваться, оставались ли они простыми наблюдателями, или же их совесть или положение вменяли им более высокий долг деятельного преследования. Если же, несмотря на всё это, у них и намечалось какое-то колебание, схоластическая теология тут же снимала его, доказывая, что преследование является актом милосердия, в высшей степени полезным для тех, на кого он направлен»[167].
Закрытие религиозного эсхатологического времени и открытие времени революционного
Не обнаруживаем ли мы здесь современные механизмы разоблачения «контрреволюционеров», «антисоциальных» и «подрывных» элементов и доноса на них? Современные революционные инквизиции представляются прямым продолжением этой старой традиции, в которой защита определенной догмы служит также и защите материальных интересов, ради которых могут мобилизоваться высоконравственные и честные люди, а также народные толпы, которых возбуждают жестокостью и страданием во имя высшего абстрактного идеала. Являются ли эти религиозные акты насилия менее предосудительными, чем насилие Террора во Франции? Можно ли отсчитывать генеалогию революционного насилия исключительно от Революции 1789 года, не устанавливая никакой связи с религиозным насилием XVI века?
Патрис Генифе в своем уже цитировавшемся нами труде вкратце напоминает о том, что и Мишле, и Кине в равной мере проводили эту связь. Например, он цитирует Кине, по мнению которого, во Французской революции «сентиментальная логика Руссо берется за топор Варфоломеевской ночи, становящийся её орудием»; точно также, по Мишле, закон Ле Шапелье об эмиграции от 28 февраля 1791 года «был скопирован с другого Террора, последовавшего за отзывом Нантского эдикта»[168]. Кине, как следует напомнить, – автор совершенно уникальной, но полностью забытой сегодня работы, в которой собраны его лекции в «Коллеж де Франс» о христианстве и Французской революции, прочитанные в 1845 году на кафедре языка и литературы, которую он занимал с 1842 года: этот курс повлек его исключение из Коллежа в 1846 году по приказу Гизо, что объяснялось его излишне новаторскими взглядами на ценность других цивилизаций, но главное – нападками на иезуитов[169].
Нужно будет дождаться Французской революции, чтобы улеглись все споры протестантов и католиков, чтобы евреи, католики и протестанты в равной мере получили все права, дарованные новым понятием гражданства, рожденным Французской революцией. Но действительно ли удалось ей упрочить основания модерна, так что их авторитет и легитимность уже не будут поставлены под вопрос, в отличие от оснований средневекового христианства, оспоренных чередой мучений, которые мы описывали на протяжении этой главы? Действительно ли завершена всеобщая гражданская война, характеризовавшая конец Средневековья и переросшая в практически непрерывные войны, когда религия стала инструментализироваться на всех уровнях – идеологическом, догматическом, теологическом, социальном, политическом и культурном? Или же мы увидим, как она снова возродится в других формах и при других обстоятельствах, но не потеряет ни силы, ни ожесточенности, особенно если учесть прогресс в использовании орудий насилия и средств уничтожения врагов?
Но возможно, наиболее фундаментальный разрыв, вызванный религиозными войнами, – это отмена замкнутости того, что можно назвать «эсхатологическим временем», то есть христианского понятия времени, противопоставляемого понятию циклического времени, которое существовало в культуре античной Греции. Это христианское понятие придает времени целенаправленность и временной горизонт, закрытый благодаря заранее предсказанному возвращению Христа на землю, который должен положить конец страданиям человека, окончательно уничтожить зло (Антихриста) и провести «Страшный суд». Религиозные войны представлялись людям тех времен эсхатологическими войнами, предвещавшими конец света; однако в результате они проложили путь современному понятию «открытого», разомкнутого, секуляризированного времени, заменившего собой религиозное ожидание конца времен.
Отныне политика и религиозное не зависят друг от друга, эсхатологическое ожидание, достигшее кульминации в эти полтора столетия религиозного кипения и непрерывного насилия, стирается, уступая место ожиданию открытого будущего, которое строится уже не на религиозном пророчестве, а на вере в прогресс человечества, движущегося к более совершенным формам социальной организации. Этот процесс замечательно описал один из лучших теоретиков истории, Рейнхарт Козеллек: «Сами эти понятия – составляющие триаду Древности, Средних Веков и Современности – вполне существовали уже во времена гуманизма, но ко всей истории в целом они стали применяться лишь начиная со второй половины XVII века. С тех пор мы живем в Новом времени, причем осознавая сей факт. Это чувство по-разному проявляет себя в разных нациях и социальных слоях, однако оно составляет константу, которую, если использовать выражение П.Хазарда, нужно понимать как кризис европейского сознания»[170].
Итак, мы вступаем во время светских пророчеств или, как говорит Козеллек, «прогнозов», описывающих лучшие способы устроить счастье для всего человечества и ускорить его осуществление. Отныне широко открыты двери для новых экспериментов, освободившихся от религиозной предначертанности истории, господствовавшей ранее. Таким образом, Французская революция, ни в коей мере не являясь тем изолированным и «уродливым» событием, которым она видится её разоблачителям, оказывается прямым следствием этой великой революции в понимании времени, ставшего открытым, а не закрытым, как раньше, эсхатологическим ожиданием, порождаемым европейской культурой. Также ни один анализ кризиса легитимности, поразившего сегодня наши современные концепции, не может обойти вниманием то, что в истории Европы значили религиозные войны и религиозное насилие. Пытаясь стереть это историческое наследие из наших воспоминаний, чтобы столь сурово судить и осуждать революционные идеологии, мы лишаем себя возможности понять многомерный кризис, которым страдает наш современный мир.
Более того, как замечательно поясняет Козеллек, Современность или Модерн заставляет нас вступить в новое время ожидания, время всеобщей революции во имя свободы и социального равенства. Революции должны принести пользу всем людям: «Применительно к политической ситуации сегодняшнего времени вопрос выглядит так: каковы отношения между гипостазированной легитимностью гражданской войны и фоновой легитимностью непрерывной мировой революции? Начиная с конца Второй мировой войны землю сотрясает лавина гражданских войн, которая, похоже, прокладывает себе путь между крупных держав, пожирая всё на своем пути»[171].
В двух следующих главах мы попытаемся объяснить смысл новых конфликтов, раздирающих Европу в XIX и XX веке. Мы постараемся также выделить линии преемственности и разрывы в европейской истории, которая, как мы видели, стала двигателем всемирной истории уже в XV веке, когда, как только мусульманская религия была изгнана с её территории, она принялась покорять мир.
4. Модерн как кризис культуры и авторитета
Итак, новые философы и новые историки перекрасили для нас декорации мира, ввели в действие режим истины, в котором возвращающаяся религиозность, этика и «раса» сливаются в одно довольно размытое понятие цивилизации. С этим понятием как заклинания связываются термины «демократия», «свобода», «глобализация» и «закон рынка». После терактов 11 сентября 2001 года господствующий политический дискурс все больше возвращался к той структуре, которая была для него характерна во времена холодной войны, несмотря на значительные изменения, произошедшие на международной сцене. «Империю зла», которую, как заявил Рональд Рейган, воплощает СССР, заменила «ось зла»; коммунизм, как угроза установленному порядку, постепенно стал замещаться «терроризмом», исламская окраска которого больше не представляет никакого сомнения, что ещё сильнее подкрепляет тезис о «войне цивилизаций».
Незавершенный кризис переобоснования Запада
Обращение к религиозности оказывается основным методом представления мира и истории в качестве непрекращающейся борьбы Добра и Зла. Любой непредвзятый и отстранённый анализ, который попытался бы определить мирские цели власти, задействованные в том или ином контексте, отметается в сторону, поскольку он якобы способен повредить единству, которое нужно сохранить внутри цивилизационного блока, чтобы противостоять новым опасностям, определяемым США, – оси зла, терроризму, оружию массового поражения. Как мы видели, мега-идентичность «Запада» становится исключительно иудео-христианской, забывая о своём светском и космополитическом гуманизме.
Эта революция, представляющаяся заблуждением и регрессом с точки зрения критериев разума и классического гуманизма, может, однако, быть достаточно логично вписана в кризис модерна и европейской культуры, который со знанием дела описывала во многих из своих работ Ханна Арендт, крупнейший немецкий философ. В частности, в «Кризисе культуры», Арендт демонстрирует то разрушающее воздействие, которое современные философии, которые она возводит к Декарту, оказывали на понятия традиции, авторитета, свободы и истины, на которых была основана западная цивилизация. По её мнению, эта цивилизация была выстроена на браке греческой философии и освященного понятия «основания» и основоположника, позаимствованного от греческого права. Согласно её анализу, Церковь – ценой разрыва со своим изначальным посланием, который наметился уже в V веке, – отливается в римскую форму, украшенную греческой философией. Это объясняет её успех в долгосрочной перспективе, обеспеченный продлением подновлённой традиции, гарантирующей сохранение авторитета вплоть до Возрождения, которое пытается представить себя непосредственным возвращением к греко-римским истокам. Такое возвращение к истокам выступает стимулом для Французской революции, которая играет с древнеримскими символами и пытается выстроить себя в качестве основополагающего акта нового мира. То же самое можно сказать об американской и русской революциях. Арендт объясняет также, почему гегелевская, марксистская и ницшеанская философии могут считаться попытками спасти традицию, на которой ранее стояла западная цивилизация, открывая или переоткрывая в ней основания, позволяющие провести изменения, затребованные развитием наук и промышленной революцией и легитимирующие их.
«Ведь если у меня есть основание подозревать, что кризис современного мира, – пишет Арендт, – по существу своему политический, а пресловутый “закат Запада” заключается, главным образом, в закате римской троицы религии, традиции и авторитета, а также в сопутствующем разрушении собственно римских оснований политической сферы, тогда революции эпохи модерна представляются грандиозными попытками починить эти основания, восстановить порвавшуюся нить традиции и учредить заново, основывая новые политические объединения, то, что в течение многих веков придавало делам человеческим достоинство и величие»[172].
«Как бы там ни было, – добавляет она, – революции, которые мы обычно считаем радикальными разрывами с традицией, в нашем контексте представляются, скорее, событиями, в которых действия людей всё ещё черпают вдохновение в истоках этой традиции, наделяющих их удивительной силой. Они кажутся единственным спасением, которое эта римско-западная традиция смогла предложить для данных критических обстоятельств. Тот факт, что не только различные революции XX века, но и все революции, начиная с Французской, окончились плохо, приведя к реставрации или к тирании, указывает, видимо, на то, что даже этих крайних средств, предложенных традицией, оказалось недостаточно. Авторитет в том виде, в каком он был известен когда-то, авторитет, родившийся из римского опыта основания и интерпретировавшийся в свете греческой политической философии, так и не был нигде восстановлен, ни в революциях, ни посредством ещё менее обнадеживающего средства, каковым стала реставрация, ни, главное, консервативным умонастроением и консервативными течениями, которые порой зачищают публичное мнение. Ведь жить в политической сфере без авторитета и без соответствующего ему знания о том, что источник авторитета выходит за пределы власти и тех, кто ей обладает, – значит снова оказаться лицом к лицу с элементарными проблемами совместной человеческой жизни, не имея при этом ни религиозного доверия к сакральному началу, ни защиты, обеспечиваемой традиционными и, потому, очевидными нормами поведения»[173].
Если мы примем выводы Арендт, чтобы понять господствующий сегодня политический дискурс о «возвращении религиозности», служащий, в действительности, как мы видели, легитимации применения религиозности в предельно фундаменталистском и буквальном модусе, мы получим возможность понять мотивы этого дискурса, как и его аудитории, и не только в США, но и в Европе, где он действует, несмотря на упадок религиозной практики. Кризис авторитета, связанный с функциональной практикой власти, оформленной современной наукой, своей кульминации достиг в провале недавних революций (русской, китайской и других революций Третьего мира), которые стремились создать новые легитимные и устойчивые формы политического авторитета.
Крушение СССР можно было бы, следовательно, рассматривать как последний из подобных провалов, которые стимулируют феномены возвращения к религиозности, способной поддержать или оживить давно исчезнувшую традицию. Подвиг институциализированного христианства, которое смогло влиться в мир римских институтов и поддержать в рабочем состоянии римские понятия авторитета и традиции, в период модерна повторить уже не удалось. Карикатурное обращение к религиозности, которая теперь названа «иудео-христианской» и которая якобы ведет войну «цивилизаций» с миром, замкнутом в варварстве и терроризме и воплощающем собой силы зла, служит компенсацией для общей утраты смысла, характерной для различных процессов постмодерна. Отсюда успех новых декораций, которые заставляют нас верить в надежность нового основания, на котором можно построить непрерывную религиозную традицию, утверждая при этом в качестве основной ценности индивидуальную свободу.
Один из центральных символов закладки этого нового основания запоздало кристаллизовался благодаря возникновению государства Израиль, подлинной иконы возвращения религиозности в самом фундаменталистском и буквальном смысле, связывающей практику науки и демократии с требованием нового воплощения прародителя монотеизма, то есть иудаизма. Потому-то в этой новой реконструированной традиции мы видим исключение греко-христианской (и греко-римской) традиции, которая уступает место «традиции» иудео-христианской, которой доселе вообще не было, поскольку два этих монотеизма (иудаизм и христианство) всегда находились в состоянии теологической войны. Ещё одно следствие заключается в затруднительности критики государства Израиль, а также поддержки сопротивления палестинцев оккупации или постепенному отъёму территорий за счет распространения колоний поселенцев, и столь же трудно применять к этому конфликту классические правила международного права, раз легитимность в данном случае определяется правом «божественным».
Гегель и Вебер первыми использовали в своих работах, хотя всего несколько раз, выражение «иудео-христианская традиция», пытаясь сделать монотеизм в целом, а не одно христианство, основанием современного разума и «Духа». Однако любопытно то, что третий из монотеизмов – ислам – всегда устранялся из этого мифологического и генеалогического поля Запада, тогда как его роль в переносе и передаче утонченной космополитической культуры со средневекового Востока на Запад вряд ли можно обойти молчанием. (Правда, именно этим уже занимаются европейские мыслители, примером которых может в данном случае выступить французский философ Филипп Немо, который попытался зафиксировать догматическую память Запада, отметая при этом любую возможность влияния мусульманского мира на Запад: «То, что научный дух Запада не был ничем существенным обязан мусульманскому миру, косвенно доказывается тем фактом, что аверроизм не получил никакого развития и в самом исламе. Мусульманские общества впоследствии не познали ни развития науки вместе с её рационализмом, ни прометеевского духа преобразования, которые были столь характерны для западных обществ. Это и есть признак того, что в исламе царил совсем иной дух»[174].)
В этом смысле Израиль можно рассматривать в качестве конечного «этапа» модерна, ищущего религиозной легитимности, чтобы задать новое основание для европейской культуры, которое до сего момента найти не удавалось. Впрочем, во второй главе мы уже упоминали о той легкости, с которой европейская культура продолжала считать религиозную идентичность приемлемым критерием существования нации или структурирующим принципом международного порядка, как только её взгляд направлялся за пределы Европы (создание Пакистана в 1957 году, создание Израиля в 1948 г., основание в 1969 году Организации исламского сотрудничества, иранская религиозная революция 1979 года, мобилизация в 1980 годах тысяч молодых арабов на священную войну, когда они должны были воевать с советскими войсками в Афганистане).
Современное использование религиозности, которым занимаются западные державы, родилось, следовательно, не вчера, поскольку оно вписывается в непрерывную череду событий, стоящих у истоков множества перманентных конфликтов, вышедших на международный уровень. В этой перспективе именно искусственное преобразование мира всемогущей техникой, вера в возможность управления Историей и соответствующее ускорение её хода, интеллектуальные усилия, направленные на проникновение в «порядок вещей» и на объяснение всех его скрытых пружин, – вот что может якобы считаться причиной драматических переворотов и насилия XX века, причиной большевизма, фашизма, нацизма, Холокоста и двух мировых войн.
Если выйти за рамки оппортунизма международных отношений, попытка заново обосновать мир за счет религиозности функционирует именно в качестве иллюзорного снадобья, должного помочь избавиться от того, что Рене Генон[175] называл «кризисом современного мира», и что Ханна Арендт объясняла как «кризис культуры», то есть того, что для Генона выступало как духовный, по существу, кризис, а для Арендт – как кризис философский и политический.
Кризис философий Истории
Со времен Возрождения различные варианты философии Истории стали заменять собой великие теологические мировоззрения, которые институциализированное христианство строило начиная со святого Августина. Они образуют наиболее очевидный отличительный признак модерна – вместе с исчезновением устойчивости мира, порядка вещей, к которому стремится основополагающий акт учреждения религии. И если ранее крушение Римской империи считалось актом божественного провидения, позволившим основать «всемирное» христианство, теперь это событие становится объектом позитивистских вопросов, нацеленных на причины как величия Римской империи, так и её крушения.
Поскольку европейский мир открыл другие миры, натолкнулся на иные цивилизации (находящиеся за пределами зоны монотеизма, которую почти полностью делили между собой христианство и ислам), он начинает беспокоиться по поводу сохранения своей собственной цивилизации. Его основание, заданное христианством, позволяет ему смотреть на себя как на наследника Римской империи, однако он боится нового упадка, связанного уже с чисто человеческими причинами, ведь Бог перестал выступать в качестве высшего организатора порядка вещей, в котором, как теперь стало понятно, центральную роль играет также и вмешательство человека. Отсюда возникает двойственность европейской культуры модерна, разрываемой между тем, что Вебер назовет «расколдовыванием» мира, ставшим результатом утраты «магического» воздействия религии, и навязчивой идеей упадка западной цивилизации; эта цивилизация разъедается одновременно «утратой смыла» и безмерной гордыней, даже расизмом и нарциссизмом, провоцируемыми её техническими подвигами, взрывом производительных сил, материальным благосостоянием и укреплением индивидуальной свободы в ущерб всем традиционным ценностям. Все философии XX века, потерявшие замечательную самоуверенность философии века XIX, выражают это недовольство, первым предвестником которого в литературной сфере стал романтизм, проповедующий возвращение к истокам и представляющий средиземноморский Восток в качестве места мистического паломничества. Как мы уже отмечали во второй главе, романтизм такого типа питает также и колониальную лихорадку, которая, благодаря ему, выглядит вполне законной в силу своей включенности в контекст того нарциссического образа, который Запад создает для самого себя и для своего призвания, требующего возродить весь мир.
Во всяком случае, ясно, что философии Истории, произведенные европейским модерном и основанные на иерархии цивилизаций, религий и культур, повсеместно вели к кризису: как в самом сердце Европе, где появился фашизм и нацизм, так и за пределами западного мира – везде, где они имели хождение и где им точно так же не удалось обеспечить стабильность и процветание. Но нужно ли вменять вину именно отказу от традиции в религиозном и фундаментальном смысле этого слова, как делали все европейские консервативные мыслители, ярые враги Французской революции и её политических принципов и как делают, и по сей день, модные новые политические философы, пытающиеся примирить обращение американцев к религиозной традиции с демократией и индивидуальными свободами, чтобы оправдать международный авторитаризм абсолютным моральным авторитетом?
Если же мы вместе с Ханной Арендт будет считать модерн моментом кризиса обоснования традиции, обеспечивающей стабильность и мир, в таком случае нет никакого сомнения в том, что положение, в котором находится западная цивилизация, стоя на пороге XXI века, ни в коей мере не свидетельствует об изживании этого кризиса. Более того, исходя из такого понимания, можно было бы утверждать, что мир сегодня переживает еще один дополнительный этап, быть может даже пароксизм, разразившийся в культурно и интеллектуально всё более и более беднеющей среде: мы видим диктатуру экономических рынков, близорукие и негибкие политические позиции, апокалиптический дискурс об угрозе, которая в облике терроризма нависла над будущим человечества, утрату всякого социального идеала, который задавался бы не техническими или экономическими дискурсами о необходимости искоренения бедности, борьбы с коррупцией, выстраивания благоприятного режима правления и прозрачности в руководстве делами мира.
Но если вернуться поближе к источникам этого болезненного состояния, станет ясно, что винить надо не Французскую революцию и её аналоги за пределами Европы, а совокупность многочисленных факторов, предшествующих Революции, то есть, если говорить точнее, крушение авторитета Римской церкви как многовекового гаранта сохранения греко-римского основания и открытие Нового Света. Как мы видели, новая форма уничтожения Другого в тотальной народной войне, которую представляет вооруженный гражданин, пришла к нам из религиозных войн. Эта форма насилия была подхвачена и усилена революционными войнами, у которых всегда была националистская окраска, сама возникшая из-за крушения суверенитета Бога, перенесённого на народ, преобразившийся в нацию. Наша политическая рефлексия, став исторической и философской, упускала значимость внутренних религиозных войн. По крайней мере, анализ почти всегда ограничивался подчеркиванием «освобождения», которое эти войны несли человеческому разуму, если рассматривать их в движении Истории. Именно этому движению гегельянство попыталось придать смысл, полагая его в примирении целесообразности Истории, заданной религиозной традицией, и профанной целесообразности, центрированной на прогрессе, которая разрабатывалась философией Просвещения.
Таким образом, философия становится заменой теологии, а философия истории приобретает вместе с Гегелем статус высшего знания, доселе отводившийся исключительно теологии. По Гегелю, история человечества – это уже не та история, в которой основополагающим моментом выступает религиозное послание, божественное Откровение, данное пророками, а затем и воплощением Бога в Христе: теперь история – это история прогресса человеческого духа, в которой божественное Откровение само рассматривается как необходимый и неизбежный этап, но не как цель Истории или окончательное определение неизменной рамки, в которой религия заставляет жить человека. Религия – уже не цель «в себе и для себя», как сказал бы Гегель, она суть орудие прогресса Духа и Разума[176].
Гегельянство, составляющее во многих отношениях (включая наиболее авторитарные и нарциссические) центр европейского модерна, по всей видимости, осуществило наиболее успешный синтез напряжений, родившихся, с одной стороны, из столкновения традиционного религиозного духа и профанного духа, сформированного религиозными войнами, и, с другой, сопутствующего движения, запущенного открытием Нового Света и других цивилизаций, научной любознательностью, характеризующей мир Возрождения. Мир метафизического сомнения по поводу смысла человеческого существования, открытого Декартом, гегелевская философия заменила видением, которое считает себя примирительным, уважающим и сохраняющим одновременно и основополагающую роль религиозной традиции, и движение развивающейся рациональности человеческого духа.
Отсюда, как мы думаем, поразительный успех этой философии, которая впоследствии даст рождение великим профанным идеологиям XIX века – позитивизму, историцизму и марксизму. В гегелевском понимании Истории монотеизм рассматривается в качестве главного этапа прогресса человеческого Духа. Именно он заменил циклическую концепцию Истории, столь ценимую греками, концепцией эсхатологической, в которой ожидание будущих событий (возвращения Христа на землю или прихода мессии иудаизма) создает постоянное напряжение, которое посредством теологии обеспечивает прогресс Духа. Событийное и героическое видение Истории, которого придерживались греки, замещается глобальным, всеобщим и, якобы, рациональным видением монотеизма, который, по крайней мере, с христианской точки зрения, поставил в центр Истории индивида, а не его предков или племя: спасение теперь достигается на индивидуальном уровне, а не коллективном[177].
Это движение примирения религии и разума, прочные основания которого заложил Гегель, несомненно, внесёт вклад в обоснование современной «западности» европейской культуры, то есть в переписывание европейской культуры, необходимое, чтобы придать ей единство и рациональность, которые выдерживались бы с основополагающего монотеистического момента. Средневековье будет постепенно реабилитироваться и перестанет считаться эпохой упадка и обскурантизма: оно становится некоей прихожей, в которой подготавливается будущий прогресс; теологи этого периода начнут расцениваться в качестве предшественников светскости и рационалистического мышления. Несмотря на все злоключения, случившиеся в истории Европы после крушения Римской империи, несмотря на рождение и исчезновение политических формирований различной природы и степени устойчивости, историческое исследование после Гегеля пытается показать единство и непрерывность так называемой западной цивилизации. Даже религиозные войны, несмотря на все их ужасы и зверства, воспринимаются в качестве важного этапа прогресса человечества, воплощенного в истории Запада, всегда оказывающейся в авангарде. Макс Вебер завершит гегелевское обоснование этой заново выстроенной истории Запада, представив протестантизм в качестве главной составляющей европейской цивилизации, особенно её материального и экономического прогресса. Таким образом, он приручил еще одну антропологическую и социологическую традицию, открытую Монтескье и развитую Гегелем, которая состояла в прямом связывании религии и прогресса наук и разума.
Идеология «исключительности» Запада по отношению к другим народам, расам, нациям, цивилизациям и религиям, общие черты которой мы попытались описать в другой работе[178], приобретает здесь наиболее полную и завершенную форму. Функции у этой идеологии весьма многочисленные: она служит не только легитимации полученного мирового господства (и, соответственно, крупных колониальных завоеваний или гегемонии в сфере управления современной межгосударственной системой), но также для примирения внутри самого блока великих «западных» стран консервативных мнений тех, кто ностальгирует по старым формам авторитета, и мнений «прогрессистов», сторонников устранения этих форм авторитета, которые, как помеха прогрессу, должны остаться в прошлом.
Европейская «гражданская война» и ее всемирные последствия
Если мы и должны считать историю Европы исключительной в сравнении с историями других континентов или цивилизаций, исключительность эта заключается в едва ли не непрерывной гражданской войне, которая идет в Европе со времен религиозных войн и итальянского Возрождения (когда Макиавелли становится крупнейшим теоретиком государственной войны и государственного интереса). Французская революция – не более чем этап, пусть и значительный, этой войны между традиционными концепциями авторитета и различными формами новых концепций, которые сами постоянно меняются. Как мы видели, в противоположность тому, что утверждает новая историография, описанная нами в первой главе, Французская революция связана с предшествующим этапом религиозных войн, в определенном смысле завершая их и преодолевая, то есть она относится к ним примерно так же, как христианство считало возможным отнестись к иудаизму.
Поэтому история Европы XIX века размечена революционными извержениями, которые взывают к принципам Французской революции, проповедуя применение принципа национальностей, выступавшего в ту эпоху новшеством. Эти извержения повлекли последствия в непосредственном окружении Европы – в России, на Балканах, в Османской империи, а также на арабском средиземноморском побережье (см. выше вторую главу).
Союз европейских держав, складывающийся после крушения империи Наполеона, пытается ограничить их прямые столкновения и организовать экспансию за пределы Европы, которая ускоряется в ритме грохочущего колониального пульса. Крымская война (1853–1856 гг.) или балканские войны (1912–1913 гг.) – это кровопролитные «срывы», которых этому союзу не удается избежать в период постепенного расчленения Османской империи, близкого соседа Европы. Они предвещают Первую мировую войну, свеча которой зажжется на Балканах. В противоположность тому примирительному видению истории Европы XIX века, которое можно найти у Рэймона Арона, она вовсе не была историей мирного века[179], скорее уж продолжением противоречивой и силовой динамики, «диалектическим» теоретиком которой хотел выступить Гегель, а затем Маркс. Гегелевско-марксистская диалектика давно лишилась смысла: «хитрости Истории» или насилие как «повитуха человеческого прогресса» привели лишь к неожиданному варварству двух мировых войн, а также к бессчетным яростным войнам на периферии Европы, вызванным деколонизацией и холодной войной.
Эти войны, заданные образцом европейских войн, начавшихся ещё с войн религиозных, были одновременно идеологическими гражданскими войнами и националистскими или цивилизационными войнами, смешивающими различные регулярные и партизанские армии разных стран (идеальном типом, в веберовском смысле этого термина, европейской гражданской войны могли бы послужить различные войны в Испании начиная с наполеоновского вторжения и заканчивая гражданской войной 1936 года). Первая война в Заливе, последовавшая за вторжением Ирака в Кувейт в 1990 году, а затем война в Афганистане и вторжение в Ирак, ставшие ответом на теракты 11 сентября 2001 года, несмотря на окончание холодной войны сохраняют те же качества, что и предшествующие войны: идеологическая интенсивность нарастает, даже если формулировки и лозунги внешне изменились под влиянием искусственного применения религиозности – как Америкой, так и воинственными движениями, считающимися «террористическими», которые оспаривают эту самопровозглашенную автономию «Запада», намеревающуюся получить легитимность от взрывоопасного понятия «войны цивилизаций».
Поднимая эту тему, достаточно сложно согласиться с упрощёнными тезисами уже упоминавшегося нами немецкого историка Эрнста Нольте, который ограничивает понятие европейской «гражданской войны» битвой нацистской Германии и большевистской России[180]. Таким образом он стремится заретушировать чудовищные черты нацистской теории, являющейся отвратительной смесью из мыслей Ницше, сдобренных ароматом различных европейских консервативных теорий, и яростного расизма, который Гитлер извлек из юдофобских тезисов традиций, направленных против Французской революции. «Mein Kampf», как известно, – книга, переполненная истерической ненавистью к «еврею», одновременно франкмасону, космополиту и большевику, единственной целью которого является якобы попрание превосходства традиционной цивилизации арийской Европы; более того, с его точки зрения, европейские евреи – не более чем «отброс» врождённого отставания семитского духа, проникшего в Европу и загрязняющего территорию «арийской расы». В этой апокалиптической картине евреи выступают главными проводниками большевизма как последнего на тот момент воплощения революционной «гидры», которая продолжает подтачивать основания традиционного авторитета и, соответственно, величия цивилизации, считающейся индогерманской или арийской.
А для Нольте большевистская революция станет главным катализатором нацизма, который «радикально» правеет, наблюдая подъём коммунизма и тоталитарные способы мобилизации, используемые советским государством как внутри самого себя, так и вовне своих границ[181]. «Если фашистские движения, – утверждает он, – могли возникнуть лишь на территории либеральной системы, это вовсе не означает, что они сами по себе изначально являются выражением радикального протеста, который возможен на этой территории. Напротив, они всегда проявляются именно как ответ на этот радикальный протест и в начале они чаще всего стремятся защитить систему от атаки, перед которой государство бессильно. Не бывает фашизма без провокации со стороны большевизма»[182]. Кроме того, Нольте считает, что, хотя большевистские попытки захватить власть в Европе после революции 1917 года терпят неудачу, они «вызовут огромную симпатию к сопротивлению, противостоящему им, которое черпало силы в глубоких слоях общества, и, судя по всему, спасло государство. Без этой симпатии итальянский фашизм вряд ли смог бы пережить кризис Маттеотти, а пацифистские речи Гитлера не смогли бы найти слушателей»[183].
Вопреки этому навязчивому мнению Нольте (под которым подписался и Франсуа Фюре, пусть с некоторыми оговорками, высказанными в их переписке, о которой мы упоминали в первой главе), Гитлером движет не столько страх перед большевизмом, сколько страх перед евреями, в которых он видит демонических изобретателей марксизма и большевизма. Величественный гегельянский синтез, философский и исторический, который попытался заново основать авторитет на примирении разума и религии, не смог гарантировать гражданский мир в самом сердце Европы – в Германии, стране великой философии и высокой музыкальной и литературной культуры, где рождается нацизм, которому удается утвердиться лишь благодаря другому, смертоносному, синтезу разнузданного расизма, выбравшего себе искупительную жертву, наконец-то опознанную в фигуре евреев, и потребности в восстановлении традиционного авторитета, которая характеризовала всю европейскую историю начиная с религиозных войн и католической Контрреформации[184].
Именно благодаря этой взрывоопасной – в силу своего предельно эмоционального характера – смеси нацизму удалось собрать вокруг себя все консервативные и традиционалистские мнения Европы и сделать из еврея легкую искупительную жертву, отвечающую за разрушительное влияние модерна. Этот синтез оказал магнетическое воздействие, мобилизуя значительные части европейского политического мира и заставляя нацистских правителей верить в то, что они могут запросто объединить Европу под своим владычеством. Сначала они развязали военную агрессию против стран либеральной демократии, надеясь подчинить их и объединить под своим управлением, прежде чем броситься на главного врага, большевистскую Россию. И как хорошо показал американский историк Арно Майер, именно затягивание войны с СССР как главного сражения привело осенью 1941 года к выработке нацистским руководством концепции «Окончательного решения», а потом и к ее реализации[185].
Видеть в нацизме всего лишь «чудовище», упавшее с неба или же родившееся из какого-то необычного казуса немецкой истории, или, что еще хуже, «оправдывать» нацизм большевизмом и сталинским безумием, – значит отказываться от сколько-нибудь серьёзной рефлексии нашей неспособности справиться с могущественными силами, которые определяли сложное историческое движение Европы на протяжении последних пяти веков, что, в свою очередь, ведет к отказу от искупления. Иссушающее дыхание этой истории проникло во все уголки мира, сея семена прогресса и изменений, которые прорастают сквозь вековую почву иных цивилизаций, но вместе с ними и семена новых войн, новых потрясений и нового насилия.
Война, мифологий и контрмифологий
Следовательно, дело здесь, вопреки всё более и более распространяющемуся мнению, вовсе не в философии Просвещения или светскости, и уж тем более не во Французской революции или марксизме. Ведь, так же как и в случае с религией, институционализация идеала, родившегося из системы объяснения мира, сталкивается с другим аспектом человеческой природы, с инстинктивной, почти биологической конкуренцией за власть, правление и возможность влияния на себе подобных. Современное государство европейского типа как высшая стадия «Разума» и «Духа», описанная Гегелем, вполне могло привести к мясорубке двух мировых войн, к антисемитскому и антибольшевистскому безумию нацистов. Но следует ли, имея дело с этими событиями, обвинять непременно идеологии, вышедшие из Французской революции и марксизма, представляя их источником любого террора и всякого насилия? Необходимо ли предполагать, что светский характер этих идеологий, которые отвернулись от институциализированной религии и вытеснили её на обочину политического порядка, имеет некую связь с новым отчуждением человека, даже с утратой им собственной идентичности и корней, и, соответственно, считать, что возвращение к религиозности – в смысле источника авторитета и, таким образом, основания – является необходимым противовесом?
Во всяком случае, именно так выглядит новая мифология, которая стремится навязать себя с 1970-х годов, мифология, чьи интеллектуальные источники мы пытаемся проследить. Как утверждает Жильбер Дюран, числящий себя специалистом по «мифодологии», науке о создании мифов, эта мифология к началу XXI века приобретает значительную власть. «Ведь какое-то время назад мы вступили, – пишет он, – под “мы” я имею в виду нашу западную цивилизацию, – в то, что можно назвать зоной высокого давления в воображении»[186].
В точности как Фюре, который разоблачает традицию «мифологической» историографии Французской революции, приписываемой почти исключительно марксистским авторам, Дюран разоблачает запуск мифа, который он называет «прогрессистским», а ответственным за него он считает «позитивизм» XIX века (включая и промышленную религию Сен-Симона), который, по его словам, «парадоксальным образом представляет самого себя в качестве разрушителя мифа»[187]. Далее он добавляет: «Следовательно, здесь наблюдается некое выбивание “клина клином”, поскольку для того, чтобы бороться с обскурантизмом эпохи мифа и “теологических” образов, акцент ставится на прогрессистскую мифологию, в которой царствует миф Прометея и где, главное, уже брезжит “светлое завтра” окончательной победы святого Духа»[188]. Наконец, он приходит к выводу: «Итак, мы видим пример вполне отчетливого возникновения мифа внутри идеологии, считающей себя демистифицирующей»[189]. Но разве этот автор не делает как раз то, в чем упрекает других, питая тот самый контрмиф, из-за которого Французская революция оказывается вроде бы истоком всех форм тоталитаризма, неся, таким образом, ответственность не только за всё фашистское насилие, но также за все большевистские и нацистские преступления?
Нисколько не задумываясь о происхождении своих собственных мотивов, Дюран задаётся вопросом об уклонении немецкого народа, столь культурного, что «Жермена де Сталь предлагала [его] в качестве образца и противопоставляла наполеоновскому варварству», причем формулирует этот вопрос в следующем виде: «Как этот народ смог броситься в объятья опереточной или, скорее, трагикомичной ремифологизации и, не брезгуя даже преступлениями, присягнуть на верность простецкой системе, изложенной в “Мифе XX века” Альфреда Розенберга?»[190]. И он тут же отвечает, ставя на одну доску нациста Альфреда Розенберга и аббата Сиеса (а также, видимо, Руссо, Монтескье и Вольтера): «Дело в том, что нацизм, как и Французская революция, подарил народу наивную, топорную коллекцию ритуалов и мифов, снабдил его неким протезом религиозности, от которой были отлучены как немец эпохи Kulturkampf, так и француз эпохи Просвещения»[191]. Неслучайно то, что через несколько страниц Дюран, прекрасно понимающий, что он сам является ангажированным и вполне активным деятелем перелицовки традиционалистской контрмифологии, без обиняков излагает свою идеологическую и философскую аксиому: «Запад, принося жертву демифологизирующим мифологиям позитивизма, утратил одновременно две высших инстанции – религиозную и политическую. Этим объясняется то, что в наших “современных” обществах заметна огромная нехватка, сильнейшее анархическое влечение ко всему чудесному, ко всем мечтаниям и всевозможным утопиям»[192]. Разумеется, революционные или гуманистические утопии века Просвещения остервенело разоблачаются этим автором и другими упомянутыми нами интеллектуалами в качестве источника современного тоталитаризма, а потому надо, конечно, прославить все утопии, мечты и запросы на чудо, которые исходят от вновь разочаровавшихся людей открывающегося тысячелетия! Под псевдонаучным введением в «мифодологию» мы снова обнаруживаем традиционалистскую антиреволюционную и антиутопистскую мифологию, которую желает воплотить в себе неоконсерватизм.
Однако все пагубные заблуждения Церкви, как Восточной, так и Западной, как католиков, так и протестантов, не отменяют истины христианского слова и достоинства религиозного чувства. Точно так же и ошибки Французской революции, ужасы русской революции времен Сталина или красные кхмеры Камбоджи не отменяют определенной доли безусловной истины, содержащейся как в либерально-буржуазной революции французского типа, так и в большевистской и китайской революциях, осуществлённых, впрочем, в различных контекстах, в ситуации военной блокады, которая способствовала их радикализации. То же самое можно сказать о Французской революции и бонапратизме, который стал её наследником. Из него выросла европейская гражданская война, длившаяся весь XIX век, которая отличалась взрывоопасным смешением националистских идеологий и сильнейших народных стремлений, получивших отчётливое выражение в Парижской коммуне 1871 года. Именно эта война приводит к Первой мировой, а затем, после провала Лиги Наций, и ко Второй мировой войне, в которой националистские идеологии вместе с теми глобальными социальными идеологиями, которыми были нацизм и большевизм, взорвутся смертоносным безумием, равного которому не знала человеческая история. Эта война подготовила территорию для Третьей мировой, то есть холодной войны, в которой США будут неизменно опираться на инструментализацию религии, необходимую, чтобы раздавить советское тоталитарное «чудовище».
Демонизировать русский революционный опыт, представляя его причиной нацистского насилия, как попытался сделать Эрнст Нольте, или же анализировать репрессии крестьянства, устроенные Сталиным, не принимая в расчет ту роль, которую сыграла в возникновении голода блокада СССР (чем, естественно, не отменяются сталинские преступления), как делает составитель предисловия к «Черной книге коммунизма»[193] – все это, как и ревизионизм в вопросе о вкладе Французской революции, происходит благодаря возобновлению старой интеллектуальной и идеологической битвы, которая теперь развертывается в новом обличье, битвы традиционалистов-моралистов, сколько бы «современными» они себя не называли сегодня. Эта битва, похоже, черпает вдохновение в эссенциализме, особой модальности представления Другого и иного, которая лежит у истоков как некоторых форм расизма, так и увлеченности темой войны цивилизаций. Раньше это течение не колеблясь называли «правым», поскольку оно привязано к порядку и стабильности, которые надо поддержать любой ценой, отказываясь понимать то, что Земля вертится, а общества меняются…
Место нацизма, и Холокоста, в западном мировоззрении
Именно идеология, разоблачающая революционное насилие, нагнетает страсти вокруг «возвращения религиозности», забывая при этом обо всех актах насилия, совершаемых веками во имя религии, наследником которых, как мы видели, как раз и стало насилие революции. Если принимать в расчёт это наследие, можно ли в самом деле удивляться чудовищности нацизма, представлять его в качестве некоего отклонения, объясняющегося разве что безумием его вдохновителя, или же законной реакцией на большевистскую опасность? Должны ли мы рассматривать уничтожение европейских евреев нацистами в качестве исключительного и уникального события? Здесь возможны две позиции, образующие в действительности скрытую линию разлома, который становится всё более глубоким, разлома в европейском и американском общественном мнении, разделяющем неоконсерваторов и либералов. И, по нашему мнению, эта линия должна быть чётко обозначена, поскольку зачастую она совпадает с линией разделения тех, кто пытается задавить авторитетом любую критику государства Израиль и американских методов урегулирования непрекращающегося кризиса Ближнего Востока, ставшего плавильным котлом новой волны терроризма, и тех, кто, напротив, пытается сохранить универсальные ценности, основы современного международного права, всё больше попираемые США и Израилем.
Первые стремятся не замечать или же преуменьшать историческое значение и современные последствия насильственного истребления еретиков, религиозных войн и геноцида индейцев обеих Америк, общераспространенной практики рабства с её массовым перемещением африканского населения в Америку; они уличают и обвиняют основополагающие события светского модерна, организаторами которых выступают, с их точки зрения, Робеспьер, Дантон, Сен-Жюст, Жан-Жак Руссо и Вольтер, а Ленин, Сталин, Мао Дзедун и Гитлер – их подражателями, причем всё они сваливаются в одну кучу. Тогда как вторые пытаются восстановить всю цепочку насильственных действий, которыми было отмечено расширение христианской Европы, стремящейся к завоеваниям, насилия, с одной стороны, разыгрывающегося внутри самой Европы, а с другой – экспортируемого в колониальной экспансии, в геноциде и резне, к которой эта экспансия привела.
В рамках первого подхода геноцид европейских евреев представляется уникальным и несоизмеримым со всеми остальными драмами, ставшими вехами истории человечества[194]; как мы уже видели, он может рассматриваться в качестве события, обосновывающего возвращение религиозности, которому сопутствует развёртывание геополитики американской власти, значительно влияющей на Европу. С точки зрения второго подхода, Холокост – это, разумеется, событие значительное и даже исключительное, общеисторическое уже в силу создания той массовой индустрии смерти, жертвами которой стали миллионы безоружных гражданских людей; но при таком подходе становится возможным исследовать его генеалогию, обнаруживаемую в столкновении ментальностей и мировоззрений, связанном с интеллектуальной и политической гражданской войной, объявленной в Европе вместе с религиозными войнами: именно её главными жертвами станут еврейские сообщества, когда начнется бойня Второй мировой[195].
В рамках первой позиции, господствующей сегодня на Западе и представляющей нацизм и Холокост исключительной и уникальной фазой Истории, явно или неявно утверждается новая форма морали и религии, ущемляющая религию как веру и духовную помощь, необходимую человеку. В то же время вновь законными становятся наивные мнения о превосходстве «белого человека» и западной цивилизации над всеми остальными культурами, религиями и ценностными системами. Действительно, в рамках этого мировоззрения только западные люди достигли высшей стадии нравственности, поскольку прошли через покаяние после резни Второй мировой войны, покаяние, определённое постоянным разоблачением Холокоста, а также тем, что была достигнута «высшая стадия» демократии, которая отныне закрыла путь войне и насилию между государствами, в былые времена вступавшими в жестокие поединки. Поэтому разоблачения расизма постепенно выходят из моды, ограничиваясь одними лишь разоблачениями антисемитизма и антисионизма[196], которые теперь систематически отождествляются друг с другом. Пусть даже этот антисионизм проповедуется самими евреями, отстаивающими гуманистическую этику, отвергающую насилие, применяемое государством Израиль к палестинцам, или же являющимися сторонниками определённых аргументов самой иудейской теологии, одно из течений которой полагает, что возвращение в Обетованную землю не может быть результатом человеческой воли, представляясь проявлением исключительно воли божественной[197].
Конечно, разоблачение антисемитизма должно оставаться долгом каждого, но насколько же более действенным оно стало бы, если бы вписалось в более глубокую проблематику сложных отношений насилия, морали, религии и политики в европейской сфере. В течение пяти последних столетий европейские нации, идущие по пути технического и научного прогресса, глубоких философских и политических рефлексий, породили сильнейшее стремление к установлению всеобщих ценностей, которое распространилось на весь мир; но также они запустили циклы смертоносного насилия. Именно от этой рефлексии уклоняются новые традиционалистские и консервативные, даже эссенциалистские идеологи, зачастую – перебежчики из светских идеологий гуманистического, марксистского или либерального типа, которые считают себя новыми стражами храма, в котором славится новый порядок мультикультурной глобализации, проводимой по англосаксонским лекалам. Язвительно изобличая революционные и прогрессистские мифы, они столь же страстно фабрикуют новые мифы о возвращении религиозности и традиции. Поставленная Лео Штраусом дилемма рациональности «возврата в Иерусалим», то есть подчинения божественному закону, и рациональности возврата к политическому разуму древних греков, о которой мы упоминали в первой главе, затмила рациональность закона, вышедшего из концепций Французской революции, всё больше оспариваемой различными практиками, отрицающими всеобщее равенство перед законом как внутри государств, так и на международном уровне. Искажение достаточно сложных произведений Лео Штрауса становится при этом элементом весьма действенной легитимации той контрмифологии, которая куётся на наших глазах, становясь отныне основой для новых декораций.
Быть может, стоит снова обратиться к Ханне Арендт, чтобы попытаться понять это вырождение идеалов, носителем которым была великая европейская культура XVIII и XIX веков. В её эссе «О революции», которое мы уже цитировали в начале наших размышлений, это вырождение убедительным и ясным образом связывается с несколькими существенными причинами, проявившимися в США. К ним, в частности, как мы уже говорили, относятся «неспособность вспомнить» о своей собственной революции, так же как «неприязнь к концептуальной мысли» и готовность Америки «заимствовать и возводить в ранг откровения практически любую идею, которую не “закат запада”, но распад европейской политической системы после Первой мировой войны вынес на авансцену интеллектуальной жизни, сколь бы нелепой и вычурной она ни была»[198].
Любопытно то, что именно эту неприязнь к абстрактному мышлению мы находим у Фюре и его традиционалистских и антиреволюционных предшественников (см. выше главу 1), которые стремятся рассматривать его в качестве пагубного последствия Французской революции. Тогда как Ханна Арендт не колеблясь заявляет, опровергая все доказательства фабрикантов традиционалистских контрмифов: «Как уже указывалось ранее, по моему мнению, эта утрата “чистого” теоретического интереса к политическим вопросам была не “гением” американской истории, а напротив, основной причиной того, почему Американская революция не принесла в мировую политику ожидаемых плодов. Вдобавок к этому мы склонны считать, что чрезмерный интерес, проявленный европейскими мыслителями и философами к Французской революции, невзирая на её трагическую развязку, способствовал её рекламе во всем мире. К неспособности послереволюционной мысли извлекать из прошлого необходимые уроки и восходит провал в исторической памяти Америки»[199].
Арендт, спасшаяся от нацизма и ставшая крупнейшим немецким философом, критикует также и израильскую политику, дистанцируясь от сионизма. Она отлично понимала и США, где она начала строить свою жизнь заново и преподавать. Поэтому никак нельзя считать легковесным её анализ механизмов этого монументального исторического забвения, поразившего американскую интеллигенцию, отказавшуюся от собственной революции, которая была заменена англосаксонским утилитаризмом и функционализмом, «притянутыми за волосы теориями» или «вычурными понятиями». Её анализ общемировой роли США сегодня становится как никогда раньше актуальным и рельефным. Однако, её многостороннее творчество, в значительной мере ещё малоизученное, не занимает интеллектуальной авансцены исторической рефлексии, обращенной на крупнейшие проблемы политической философии, отразившиеся резкой болью в столкнувшемся с ними XXI веке.
В почете сегодня работы Лео Штрауса, который ограничивает нас извращенной дилеммой выбора из двух взаимоисключающих альтернатив: подчинения божественному закону Откровения и подчинения философскому разуму. Как будто бы не было возможным различить веру и потребность в трансценденции, с одной стороны, и ситуации, которые всегда навязываются теми, кто применяет божественный закон для основания города, с другой. Как будто бы, несмотря на многие века практического существования трёх разных форм монотеизма вместе с их бессчетными внутренними спорами, нам всё ещё запрещалось заниматься символическим чтением религиозных текстов, данных в «Откровении»[200]. По мере развертывания Истории это чтение всё больше скрывалось в христианском гностицизме или мистицизме, в еврейской Каббале и в мусульманском суфизме, уклоняясь от буквального прочтения текстов, прочтения первого уровня. Все усилия европейских гуманистов, от Эразма до Декарта и Спинозы будут направлены именно на то, чтобы помочь нам отстраниться от такого буквального чтения; тогда как современный гуманизм и революции, возникшие из него, попытаются дать Европе новое основание, столь тщательно исследованное Арендт.
Сегодня разгорается война мифологий, которые, с одной стороны, стремятся разрушить основания, а с другой – построить их заново, а параллельно с ней мы наблюдаем опасный всплеск цивилизационного фанатизма и различных видов фундаментализма – христианского, иудейского и мусульманского, которые запускаются в оборот в гротескном процессе расшатывания политических и социально-экономических систем, подвергающихся «глобализации», особенно если это общества монотеистические.
Как мы увидим в следующей главе, именно это обращение к религиозности в политическом пространстве, которое, как мы поняли, не было свёрнуто и не осталось в прошлом как свойство колониальной эры или холодной войны, обостряет собственно религиозный кризис, с которым на пороге XXI века сталкиваются все три монотеизма. Без этой рефлексии мы не сможем восстановить порядок в нашем языке, в способах понимания и проектирования мира, в котором стремление к универсальному смогло бы уйти от этого театра теней прошлого, и где найти свободу, равенство и братство сегодня сложнее, чем когда бы то ни было раньше. Проигранное на сей день пари всемогущего Запада, несмотря на насилие, которое он выносил в своём лоне, заключается именно в этом всеобщем мираже мультикультурной глобализации, которая низводит великие философские идеи и мораль европейской культуры до уровня идеологических памфлетов такого же непотребного качества, каким отличается литература, опирающаяся на идеи «войны цивилизаций» или «возвращения религиозности».
Не составляют ли просвещенный «космополитизм» философии Просвещения или же эссе Иммануила Канта, в которых он размышляет о всеобщем мире и которые послужили источником вдохновения для Лиги Наций, а потом и для ООН, другого, более прочного и более приемлемого основания для попыток создания всеобщей международной морали[201]? Это мы увидим в последней главе и в заключении к этой книге, но перед этим нам следует изучить внутренние связи двух политических и религиозных кризисов, сотрясающих монотеистические общества.
5. Двойной, религиозный и политический, кризис в современных монотеистических обществах
На пороге XXI века религия и её авторитет оказались в центре споров, так же как проблема индивидуальной свободы, носителем которой себя считает Запад. Далеко не очевидно то, что может возникнуть новый порядок, который установит мир на всей планете в отсутствие какого-либо консенсуса по системе политических ценностей, способной организовать отношения между обществами и индивидуумами, между коллективным и индивидуальным, наконец, между различными формами власти и авторитета в мире, стремящемся к устойчивости, которой у него и ранее никогда не было.
Отметим, что эти вопросы, занимающие сегодня центральное место в европейском сознании, остаются чуждыми для всего остального мира. Хотя они, несомненно, могут затронуть общества арабского Ближнего Востока, турецкое или иранское общество, поскольку последние находятся в конфликтных отношениях с государством Израиль, этого нельзя сказать об Африке южнее Сахары, Индийском полуострове или о мире Дальнего Востока, где практикуются религии, совершенно чуждые и библейской культуре, и понятию Откровения, неотъемлемому от монотеистических религий.
Политическое использование религиозности как выражение кризиса, авторитета, в монотеистических религиях
Как мы уже видели, обращение к религиозности чаще всего выдаёт кризис легитимности политической власти. Но значительно реже выявляется кризис самой религиозности, который заставляет религиозную власть искать помощи у власти политической в надежде, что так она сможет справиться со своим собственным кризисом. Думается, этот двойной кризис поражает главным образом общества с монотеистической религиозной традицией, то есть исламский, христианский и иудейский мир, в котором религиозно-политическое напряжение постоянно усиливается, приводя к беспорядкам, разногласиям и зачастую насилию. Новая «философская мода», которая захватила наш культурный универсум и пытается в качестве доктринальной теории и новой идеологии закрепить легитимность этого беспорядка, – это, конечно, теория «войны цивилизаций», понимаемой в смысле войны религиозной и культурной. В этой теории главным конфликтом XXI века оказывается уже не столкновение больших национализмов, которое началось еще в XIX веке, а потом продолжилось и взорвалось в двух мировых войнах XX века; и не противостояние двух ведущих светских идеологий, либерального капитализма и социализма, которое получило выражение в холодной войне второй половины XX века. Главный конфликт, как утверждают, – тот, в котором противопоставляются друг другу иудео-христианский, либеральный, толерантный и открытый мир, носитель и светоч прогресса, и мир ислама – отсталый, авторитарный, воинственный и замкнутый в самом себе.
Действительно, внутри мира монотеистических обществ со всеми их вариациями и различиями, присутствующими в каждой из рассматриваемой групп (иудаистской, мусульманской или христианской), формируется особая, одновременно религиозная и политическая мораль, что приводит к упрощённой рационализации того сложного разлагающего воздействия, которое оказал модерн, и которое мы анализировали в предыдущих главах. Обращение к религиозности – будь то в иудаизме, исламе или новой цивилизационной идеологии иудео-христианства, – является, похоже, всего лишь следствием этого кризиса, новым, больше политическим, чем религиозным, этапом распада традиционной матрицы авторитета как внутри наций, так и в их внешних отношениях. Интенсивное политическое применение религии в рамках холодной войны, которое осуществлялось благодаря мобилизации польского католицизма, фундаменталистского саудовского и пакистанского ислама или же «израилизированного» иудаизма, привело, в конечном счёте, к обострению кризиса всех трёх монотеистических религий и, соответственно, к беспримерной политической путанице в восприятии новых беспорядков, возникающих в мире.
Возрождение террористических угроз, характерных для XIX века и приведших, особенно в России и на Балканах, к быстрому и кровопролитному распаду Югославии, войны в Афганистане и Ираке, рост власти США как единственного полюса морального, политического и военного авторитета в мире, при том, что США утверждают себя как нацию верующих: всё это весьма тревожные явления, выражающие двойной – религиозный и политический кризис – распространившийся среди монотеистических обществ. Общества, где господствуют религии, основанные на этике, аскезе и созерцании, например в Китае, на Индокитайском полуострове или в Японии, до сего момента оставались, похоже, невосприимчивы к этому злу. Индия, которая давно сумела приспособиться к религиозному плюрализму, в частности, сперва к плюрализму ведизма и буддизма, а затем ислама и индуизма, столкнулась с симптомами этого кризиса, но в весьма ограниченном масштабе – в них нашли выражение последствия откола Пакистана в 1947 году и пролонгация кризиса в Кашмире.
Впрочем, довольно трудно в анализе, которым мы здесь будем заниматься, отделить собственно религиозную составляющую кризиса от её многосторонних политических проявлений. И правда, всё дело именно в политическом использовании религиозности; последним из подтверждений этому является применение религиозности в период последних пятидесяти лет. Это применение, как мы увидим, обостряет кризис власти, вызванный крушением традиции и провоцирует беспорядочные, блуждающие изменения в способе выражения самой религиозной веры. И если эта линия развития особенно хорошо просматривается в мусульманской религии, не в меньшей мере присутствует она и в христианстве или иудаизме. Политическая составляющая отвечает за религиозный кризис и оставляет на нём свой глубокий отпечаток; в свою очередь религиозный кризис распространяется на политическую составляющую и влияет на политический кризис, определяя его в культурном, психологическом и социальном плане.
Как мы уже показывали в другой работе, библейский архетип (единственный бог, один пророк или мессия, Откровение всеобщего значения) оставил неизгладимый след на деятельности обществ, которые были подчинены той или иной версии монотеизма (иудаизму, христианству или исламу): разделение религиозного и политического, которое, как считали сторонники философии Просвещения и Французской революции, было полностью завершено к началу XX века (высшей точкой этого процесса можно считать французский закон 1905 года), оказалось иллюзией[202]. В действительности, так называемые «секуляризированные» общества по-прежнему приводились в движение архетипом единого идеала, миссии, которая требует всемирного провозвестия, откровения философского или политического порядка, страстного поиска и открытия «обетованной земли».
Вера в единый идеал не изменилась; просто теперь она была направлена не на концепцию единого Бога, которому следует поклоняться, а на концепцию социально-политического счастья и на средства его осуществления. Эта новая вера работала в том же режиме, что и религиозные «Откровения», встроенные в политический порядок, то есть режиме, который предполагал нетерпимость, закрытость, расизм по отношению к не обращённому и не тронутому благодатью Другому, легитимацию применяемого к нему насилия; бинарное деление мировой истории на «время тьмы и невежества» и следующее за ним «время Откровения и знания»; столь же бинарное деление географического пространства на пространство «Храма», мира и счастья – и пространство варварства и тьмы. Хотя божественный идеал был секуляризован европейским Возрождением и связанными с ним историческими процессами, его действие, перенесённое на гуманистический идеал, нисколько не изменилось. Более того, развитие теологической мысли, которая должна была как-то согласовать единый идеал с многообразием мира и создать несколько более гуманные и толерантные правила, чтобы ради гарантии мира ограничить войну и ущерб, приносимый ею, будет поставлено под вопрос, когда появятся секуляризованные идеалы, выражающиеся с той же страстью и горячностью, что и идеал божественный.
Светскость, ставшая важным достижением христианства, унаследовала от монотеизма единственность высшего идеала и, в каком-то, смысле закрепила монотеистическую традицию в секуляризованной форме[203]. Как мы уже отмечали в третьей главе, религиозные войны лишили нас закрытого эсхатологического и профетического времени, характерного для христианства Средневековья, и заставили нас вступить во время, открытое человеческому действию и надеждам человека на прогресс, то есть во время модерна. Но, возможно, сегодня именно этому открытому времени, времени свободы и свободной воли угрожает активное использование религиозности и постепенное разрушение светских ценностей.
Сложная историческая динамика, внешних и внутренних столкновений трех монотеизмов
Если бегло проследить историю трёх монотеизмов, мы заметим почти непрерывный кризис, с которым они имели дело и который сегодня разгорелся с невиданной силой, поскольку он снова тесно связывается с серьёзным политическим кризисом (как бы его ни называть – кризисом модерна или постмодерна). Действительно, монотеизм, как письменное Откровение, всегда вызывал споры относительно интерпретации текстов, а также политических и социальных выводов из Откровения. Разве христианство не представляет собой раскол и даже разрыв, новое, революционное прочтение Ветхого завета, если сравнивать его с иудаизмом? Разве ислам не будет представлять себя в качестве способа преодолеть бесплодные споры не только иудеев и христиан, но и различных теологических христианских концепций, касающихся, в частности, исключительно божественной или же двойной, то есть божественной и человеческой, природы Христа, чем может объясняться его оглушительный успех на Востоке, раздираемом христологическими распрями? Иудаизм считает Христа ложным мессией и даже не признает в нём пророка, и на протяжении всей своей истории после наступления христианской эры он будет сталкиваться с претензиями некоторых из своих адептов, объявляющих себя ожидавшимся мессией. Что касается ислама, Христос в нём – это особенно почитаемый пророк, не меньше почитается и его мать Мария, девственность которой недвусмысленно подтверждается Кораном; согласно тексту Корана, дух Божий управлял рождением и жизнью Христа[204]. В рамках мусульманской концепции Откровения иудеи, христиане и мусульмане в равной степени являются сыновьями Авраама, которым дано Откровение существования единого Бога, Откровение, подтвержденное чередой великих еврейских пророков, затем Христом и, наконец, Мухаммедом. Последний, как печать пророков, закрывает профетический цикл монотеизма, поскольку Откровение, данное в Коране, является прямым словом Бога, говорившим устами Пророка. Тогда как христианство, так же как и иудаизм, будет считать Мухаммеда ложным пророком и даже антихристом, пришедшим уничтожить христианскую религию.
Христианство, как только оно будет институциализировано, будет пытаться, хотя и безуспешно, всеми средствами уничтожить иудаизм, но потом согласится на «сохранение» его адептов как свидетелей своих собственных начал (в частности, римских евреев, которых напрямую охраняла папская власть); однако европейским евреям всегда будет грозить гнев народа, они всегда будут подчиняться различным ограничениям, касающимся повседневной жизни. Возможно, «шанс» иудаизма, несмотря на все его несчастья, пережитые после того, как христианство было встроено в мощные структуры римской империи, заключался именно в том, что он уже не был религией, институциализированной на определённой территории и управляемой государством, придерживающимся этой религии, причём такое положение дел сохранялось с момента разрушения Храма в Иерусалиме в 70 году. Если бы, напротив, он был институциализированной религией, вероятность его полного уничтожения существенно возросла бы. Ислам же, в свою очередь, согласится с тем, что на его территории постоянно проживают «люди Книги», то есть адепты двух других Откровений – иудейского и христианского, предшественников ислама. Во всяком случае знаменитый режим «ад-дхимма», пусть и вызвав множество споров, обеспечит полноту гражданских прав иудеям и христианам, живущим в мусульманском обществе, так же как и свободу богослужения[205].
Но спорами между тремя монотеизмами, обращающимися к одному и тому же Богу и, следовательно, к одному и тому же Откровению, дело не исчерпывается. К ним следует добавить и уклонения, ереси, особенно кровопролитные внутренние религиозные войны, которые наполнят собой внутреннюю жизнь обществ, придерживающихся того или иного из этих монотеизмов. Очевидно, гораздо более заметными они будут в христианстве и исламе, поскольку эти религии были институциализированы политически; но это не помешает иудаизму обзавестись множеством сталкивающихся друг с другом мнений и воззрений. Так называемые религии Откровения, даруемого Богом человеку через пророков или мессий, ведут, в действительности, к постоянному напряжению, рождающемуся между двух полюсов: с одной стороны, необходимости закрепить единый догмат, соответствующий самой идее единого Бога, и сделать из него обязательный к исполнению закон, гарантирующий спасение человека; с другой стороны, сложностью и изменчивостью человеческого мышления, которое в различных прочтениях будет по-разному интерпретировать одно и то же событие, предлагая расходящиеся догматические трактовки текстов Откровения.
Страсть, с которой будут утверждать эти различия, окажется ещё более сильной потому, что монотеизм жестко закрепляет мистическую потребность человека и ограничивает историческое видение единым процессом метафизического свойства (заданным ожиданием Конца света, который наступит с приходом или возвращением мессии[206]). Потребность в институционализации религиозного закона становится совершенно законной, раз требуется обеспечить ход истории и гарантировать осуществление её целей; автономия политической деятельности в таком случае оказывается невозможной. Отсюда размах религиозных споров, захватывающих политическую и социальную жизнь, а также использование религиозных позиций и их догм в борьбе политических амбиций. Отсюда же понятия «ереси», «отлучения», «исключения», которые ведут к расколу и явной или скрытой войне адептов одной и той же религии и одной и той же концепции единого Бога. Раскол и инакомыслие зачастую возникают из потребности сокрушить или хотя бы смягчить абсолютизм власти, легитимированной отсылкой к религии; также они могут сформироваться из-за желания утвердить коллективную идентичность, притесняемую иностранным завоевателем.
Как мы видели в третьей главе, история христианства изобилует подобными спорами, в которых противоречивые теологические страсти вырождались в открытые войны или расколы, происходящие внутри единой Церкви. Восточное христианство, едва сформировавшись в Антиохии, сразу же испытало на себя удар многочисленных расколов, связанных с яростными дискуссиями по поводу различных взглядов на природу Христа. Затем Византийская империя утвердила своё господство во всей Малой Азии и попыталась силой навязать единство религиозной догмы, что вызвало ожесточенную реакцию во всём регионе, где различные местные Церкви не собирались отказываться от своих частных учений и от своей свободы религиозной экзегезы. Это породит Церкви, которые приобретут автономию и будут враждовать друг с другом. Затем пришло время раскола Римской церкви и Византийской, раскола между римскими католиками и греческими православными, который Эдгар Кине описывал так: «Если понять суть этого раскола, у греков можно обнаружить упрямую убеждённость в том, что они больше всех остальных работали над формулировкой догматов и потому они не желают отдавать никому другому право распоряжаться тем, что в значительной степени является их собственным творением. Бунт гордыни, а не только совести! Несомненно, вся Греция воспротивилась идее, что её язык и гений сгинут перед словом и авторитетом Италии. Афины, сколько бы обращённых в них ни было, не могли пойти на это унижение: город Гомера, вскормивший столько мучеников, не был готов подвергнуть себя бичеванию в свете своей былой славы»[207].
Кине, размышляя над причинами этого первого великого раскола в христианстве[208], высказал блестящее замечание: «Признаюсь честно, что чем больше я изучаю этот знаменитый раскол IX века, тем меньше я вижу в нем взрыв страстной мысли, спонтанного убеждения, которое заставляет бросаться вперёд, не раздумывая. Мне кажется, что Греция сама ищет повод для раскола, пытается осуществить его несколько веков и стремится, проявляя немалое политическое чутье, отыскать вопросы, из-за которых она может поругаться с латинянами, не пороча себя перед Небом. В конце концов ей это удаётся; но эти добровольные расколы, в которых половину дела решает дипломатия, порождают ученых, а не мучеников, фотиев, а не лютеров».
Когда же Византийская империя начнет клониться к упадку, образуется глубочайшая пропасть, причины и значение которой мы уже не понимаем, если не считать вопроса о верховенстве престолов, претендующих на управление Церковью. Но ненависть вырастет настолько, что Константинопольский патриарх предпочтет «тюрбан турка», готового завоевать Константинополь, «тиаре Папы» Римской церкви. В этот момент, в 1453 году, разрыв достигает предела, а наследником исчезнувшей Византии становится Московская церковь. Но о себе заявляет уже и другой разрыв, который случится через несколько десятилетий внутри Западной Церкви: он приведёт к знаменитым «девяноста пяти тезисам» Мартина Лютера, обнародованным в 1517 году. Как мы уже видели в третьей и четвёртой главах,
Европа в это время вступила в век насилия, открывающий цикл непримиримых войн, кульминацией которых через много-много лет станут две мировые войны.
Протестантизм или религиозность в обществе, а не над ним
Протестантизм, подлинную религиозную революцию, одержавшую победу во многих странах Северной Европы, можно считать образцом фундаменталистской революции – в том смысле, что протестантизм намеревается вернуться к основаниям, к источникам божественного авторитета, открытого священными текстами. Эта фундаменталистская революция заново открывает для себя Ветхий завет, порой прочитывая его буквально, возрождает эсхатологические надежды на Обетованную землю и на возвращение Мессии и тут же утверждает веру в предопределённость, которая следует из божественного всемогущества; она облегчает и упрощает сложную конструкцию католической теологии, представляющей Римскую церковь единственным источником интерпретации христианского Откровения и вытекающего из него политического суверенитета. Поэтому мы не должны сегодня удивляться тому, что обращение к религиозности, практикуемое США, проявляется в своей фундаменталистской форме возврата к источникам как возрождения (revival) и буквального прочтения первого богооткровенного текста, Ветхого завета. Это фундаменталистское возрождение позволяет и иудаизму, который отныне располагает собственным центром распространения в виде государства Израиль, восстановить своё потерянное место в сердцевине Истории, как оно мыслится его религиозной концепцией.
Кроме того, протестантизм, разбивая религиозное единство Европы и, следовательно, культуры образованной элиты, всё ещё в значительной мере основанной на латыни, открывает дорогу взрывному развитию современных национализмов и их различных учений – английского, немецкого и французского. Язык становится ключевым элементом идентичности, общая научная культура Средних Веков уступает место тому, что назовут национальными культурами, окрашенными различными формами протестантизма Северной Европы или же привязанностью к римскому католицизму Юга, которому, однако, не забудут ни его старых «еретических» восстаний, ни более позднего успеха протестантизма на юге Франции.
Протестантизм устанавливает прямое отношение человека к Богу, устраняет всех посредников, пророков, святых отцов, пап, епископов; Кальвин определяет необходимость непосредственной суверенной власти Бога над христианским народом (эту проблему, что любопытно, мы находим и в работах современного мусульманского фундаменталиста Саида Кутба). Устраняя посредников и центральные власти, озвучивающие догму, протестантизм вынужден признать свободу образования различных Церквей, то есть то, что будет называться секуляризацией англосаксонского типа, представляющей собой действительную революцию в монолитной концепции христианского монотеизма, исповедуемой на протяжении многих веков.
Но в то же время протестантизм придаст сил религиозной практике и внедрит религиозность непосредственно в повседневную жизнь: пасторы, в отличие от священников, уже не изолированы от всех остальных, у них нет особого статуса священнослужителя, принявшего целибат, они становятся особыми членами светского общества, внутри которого они отныне и живут, могут жениться и иметь детей. Религиозность теперь существует в самом обществе, а не над ним. Это великая революция социальной жизни, если сравнить её с христианским образцом Средневековья, для которого характерно строгое разделение клириков и мирян, а также целибат внутри религиозных орденов, члены которых ведут уединённую жизнь в монастырях и аббатствах. Протестантские Церкви уничтожают также и весь аппарат религиозных церемоний, который они считают пережитком язычества и закреплением обособленности религиозного мира от пассивного мира мирян. Само общество становится единым религиозным пространством, тогда как католицизм создавал в нем глубокую цезуру, благодаря которой религиозный порядок, крайне иерархизированный и отделенный от порядка мирского, претендовал на господство над всем обществом в целом и над временной властью в частности.
Поэтому светскость, которая позже разовьется в католических странах, будет отличаться совсем иной радикальностью, направленной, в противоположность протестантизму, на отделение религиозного пространства от пространства публичного и на ограничение веры и религиозной практики частным пространством, которое не должно взаимодействовать с управлением делами города. Это серьёзное различие и сегодня дает о себе знать: грохочут споры и дебаты, посвященные сравнительным достоинствам светскости «по-французски» и англосаксонской «секуляризации», используемым для примирения многочисленных религиозных идентичностей и «возвращения религиозности». Внутри же самой светской Франции[209] в центре этих дебатов обнаруживается проблема возникновения и распространения мусульманских сообществ, которые превращают ислам во вторую религию страны. Этот спор не имел бы смысла, если бы эта религия сама не страдала в настоящее время от сложного, одновременно политического и религиозного, кризиса. «Разлагающее» влияние модерна наносит ей существенный ущерб, оживляя древние расколы, существовавшие внутри самого ислама.
Фундаменталистский кризис ислама – кризис его слабой институционализации
В отличие от католицизма, ислам – это слабо институциализированная в политическом отношении религии, о чём часто не знают или забывают, в том числе и молодежь из мусульманских стран, которой в наибольшей степени коснулся кризис авторитета, описанный нами в третьей главе. Конечно, теория халифата, представляющая царствующего монарха хранителем богооткровенного Закона, может в некоторых отношениях напоминать политическую католическую теологию, согласно которой глава Римской церкви является оплотом единства христиан и всемирным сувереном; точно так же каноническое мусульманское право, шариат, объединяет множество нормативных предписаний, построенных на экзегезе текста Корана, фактов из жизни и деяний Пророка и четырех калифов, называемых «Верными», которые последовали за ним (что выглядит равноценным каноническому христианскому праву, византийскому или римскому, которое некогда точно так же претендовало на регуляцию всех сторон повседневной жизни вплоть до самых мельчайших подробностей).
Однако ислам, так же как и христианство, быстро стал жертвой расколов, исключений и расходящихся интерпретаций сакрального текста[210]. В самом деле, Мухаммед, продолжающий традицию Моисея пророк-законодатель, получивший священный Закон, начал инструментализировать новую религию. В момент его смерти начинается борьба за то, кто станет его преемником и, соответственно, главой новой общины верующих, что привело к главному расколу – на суннитов и шиитов, который сохранился до наших дней (сегодня это противостояние ещё больше обостряется из-за геополитической дестабилизации, с которой сталкиваются мусульманские общества). Шиитская теология пошла по пути развития отсутствующих в суннизме эсхатологических построений, которые поддерживаются верой в святость потомков Али, двоюродного брата и зятя пророка, мученичество его сына Хусейна и в возвращение на землю «скрытого имама» (седьмой и двенадцатый в линии имамов, согласно двум главным шиитским школам).
Расцвет школ толкования и интерпретации Корана придется на либеральный режим багдадских Аббассидов и, в особенно, на халифат Гарун аль-Рашида (766–809 гг.) и Мамуна (814–833 гг.); в них формируется чрезвычайно широкая гамма философско-религиозных мнений. IX век – поистине золотой век исламской цивилизации, открытой греческим, сирийским, персидским и индийским влияниям. Научная и философская любознательность подстёгивается быстротой распространения новой религии: арабские моряки и купцы путешествуют в Индию и на Дальний Восток, Багдад становится культурной столицей всего Востока, Басра, расопложенная у устья Евфрата, становится крупнейшим портом восточной экономики.
Однако теологические состязания кончаются тем, что провоцируют реакцию. Одна из ведущих школ своего времени, мутазилиты, дойдет даже до умаления значимости коранического Откровения и усомнится в его абсолютной трансцендентности; она доказывает историчность текста, интерпретация которого должна, по её мнению, подчиняться не только разуму, но и изменчивым историческим обстоятельствам. Это вело к отрицанию традиции, пусть и такой молодой как ислам, и, соответственно, власти, которую она легитимирует. В Багдаде разгораются кровопролитные политические битвы, ослабляющие власть халифа, который склонялся к позиции мутазилитов. Последние под давлением противников постепенно теряют своё влияние, уступая место гораздо более строгим школам, которые устанавливают догму Корана как абсолютного и трансцендентного божественного Откровения, пытаясь ограничить свободу экзегезы.
Вторжения турков-сельджуков в XI веке упрощают это движение и приводят его к завершению. Завоеватели, люди порядка и авторитета, устанавливают суннизм, сведенный к четырем юридическим школам. Философия впадает в немилость. Доброкачественная линия развития исламской цивилизации, блиставшей и в Андалузии, закрепляется на какое-то время в Египте при Фатимидах, исмаилитской династии (исмаилизм родился из шиизма) магрибского происхождения: они основывают Каир, а также большой университет Аль-Аджар. Однако крестовые походы, за которыми последовали вторжения монголов, приведут к распылению арабского мира, который дал рождение исламу и этой блестящей, хотя и эфемерной цивилизации. В Испании начинается Реконкиста, а европейское Возрождение и открытие Америк вскоре остановит продвижение ислама в Средиземноморье и заставит его отступить.
Исламская цивилизация, вынужденная защищаться и едва сумевшая спастись после разорения, вызванного экспансией турков, поддерживающих всё более буквалистский суннизм, вступает в период преждевременного упадка в той части света, где европейское христианство резко идёт вверх, начав свой непростой путь к модерну. Иначе будет складываться ситуация в Центральной Азии и Индии, где широко распространится тюрко-иранский ислам, который приведет к созданию в этой части мира Империи Моголов.
В мире Средиземноморья упадок и отступление удаётся затормозить туркам-османам. Они захватывают Балканы и даже два раза доходят до врат Венеции, однако их экспансии в итоге кладёт конец значительно выросшая сила России, а также общая модернизация европейских армий и морских сил, начавшаяся в XVIII веке[211]. Также османов ослабят долгие войны, которые они ведут с персидской империей Савфидов (1501–1736 гг.), которая стремится поддержать реставрацию шиизма, чтобы противодействовать османам, защищавшим суннизм. Эти чрезвычайно длительные и унесшие много человеческих жизней войны ослабляют оба этих мусульманских государства, а в выигрыше оказываются европейские державы и Россия, которые захватывают всё больше их территорий на Кавказе и в Центральной Азии.
Военная экспедиция Наполеона Бонапарта в Египет (1798–1801 гг.) также доказывает, что османские территории на другой стороне Средиземноморья открыты для завоеваний. Начинается постепенное расчленение Османской империи, которое будет держать в напряжении западную дипломатию на протяжении всего XIX века, создав пресловутый «восточной вопрос», который окажется источником яростных стычек великих европейских держав, а также конфликтов с Россией, и приведёт к колониальной оккупации почти всех арабских провинций Османской империи (за исключением Йемена и центра Арабского полуострова).
Сегодня на авансцену выходит всё тот же восточной вопрос, особенно в связи с терактами 11 сентября 2001 года и вторжением США в Ирак в 2003 г. В центре живейших споров сегодня, как и вчера, – вопрос ислама, родившегося в семье трёх монотеизмов последним и презираемого западной цивилизацией.
В наши задачи не входит изучение причин молниеносного распространения исламской цивилизации, добившейся за нескольких веков блестящих успехов в самых разных отношениях, её последующего и не менее быстрого упадка, затронувшего по крайней мере средиземноморский бассейн. Однако изложенный нами краткий исторический очерк показывает главное отличие от христианской цивилизации Запада, которая, несмотря на различные злоключения и постоянные внутренние войны (среди которых особенно выделяются религиозные войны), после эпохи крестовых походов вступила в период непрерывного наращивания собственной силы.
Османская империя обеспечит мамелюкскому Египту и обществам Сирии и Месопотамии исключительную политическую стабильность, предохраняя их от новых вторжений вплоть до экспедиции Наполеона Бонапарта. Если школы и религиозные течения, отличные от догматического суннизма, принятого завоевателями, жестоко подавляются (особенно шииты, друзы и алауиты), различные христианские церкви официально признаются и даже пользуются уважением. Османы доведут до совершенства режим дхиммы, следующий религиозным предписаниям Корана и заставляющий мусульман соглашаться с присутствием христиан и иудеев внутри их собственного общества, если такое присутствие не приводит к борьбе с исламом и к его критике; от самих же христиан и иудеев требуется лишь выплата налога, который освобождает от всякой добровольной или принудительной службы в армии, что было довольно важным преимуществом.
Ислам приспособляется не только к присутствию христиан и иудеев, отношение к которым предписывается Кораном (исключающим, впрочем, мир и любые соглашения с язычеством): экзегеза придёт к выводу, что и зороастрийцы, чья религия господствует в Персии и распространяется вплоть до Индийского континента, – это «народ Книги», с которым позволительно вместе жить; точно также будет впоследствии решён вопрос о сосуществовании с различными религиями Индии, Малайзии и Индонезии. Такое согласие с религиозным плюрализмом, характеризующее ислам на протяжении всей его истории и в большинстве тех регионов, где он приобретает господствующее положение, может удивить нас, если сравнивать его с недавними фактами регресса в этой религии. Однако оно остаётся неоспоримым историческим фактом, контрастирующим с отказом от такого плюрализма в тех обществах, где христианство не только господствовало, но и стало единственной религией, исключив все остальные.
Но подобно институциализированному христианству, суннитский ислам, начиная с X века, отказывается от плюс рализма мнений, касающихся самой религиозной догмы, хотя некоторое время при Аббассидах такой плюрализм поддерживался. С XI века устанавливается мнение, что задача религиозной экзегезы решена, и в это время закрепляются четыре школы интерпретации шариата (шафиитская, ханбалитская, маликитская и ханафитская), названные по именам их основателей-правоведов, а философия безоговорочно осуждается Аль-Газали (1058–1111 гг.). Поэтому когда в XIX веке и в первой половине XX века многие религиозные реформаторы в Египте и, главным образом, в Сирии попытаются обновить шариат, а в Османской империи, пришедшей в упадок и испытывающей давление со стороны европейских держав, будет вводиться современное законодательство, никакая центральная религиозная власть не сможет санкционировать все эти реформы и легитимировать их. Возникнет сопротивление этим изменениям, так что традиционализм, фундаментализм и буквальное прочтение Корана и шариата закрепятся, а в наши дни даже расцветут под влиянием благоприятных геополитических обстоятельств, которые мы уже описывали.
Этот застарелый паралич религиозной исламской экзегезы в суннитском исламе станет, судя по всему, одной из причин его политического упадка, связываемого некоторыми арабскими мыслителями с различными тюркскими завоевателями. Другой причиной может быть весьма слабая институционализация этой религии, если сравнивать с тем, как развивалось христианство, где борьба между религиозной властью и гражданской оказалась, несомненно, главным фактором модерна. Вопреки устоявшимся представлениям, в исламе после смерти Пророка не было религиозной власти: халифы должны утвердить власть религиозного закона (шариата), который будет постепенно развиваться под влиянием византийских и персидских институтов, господствующих в тот период в этой религии. Однако правители (халифы или султаны) не имеют ничего общего с Папой или монархом, правящим в согласии с божественным правом, у которого есть потребность в легитимации со стороны духовной власти. Власть в мусульманских обществах всегда оставалась в руках мирян, тогда как знатоки закона (улемы) не имели никакой функции в политическом порядке, ограничиваясь вынесением суждения по поводу гражданских или торговых дел, в каковом они опирались на текст Корана и ту или иную правоведческую школу.
Зато шиизм, возродившийся в XVI веке благодаря вои царению династии Савфидов в Иране, которая использует это течение, чтобы успешнее сопротивляться османской экспансии, остался плюралистичным: сохранились разные доктринальные школы, возрождающиеся в Иране, Ираке, Ливане и Йемене. Вплоть до религиозной революции имама Хомейни в Иране в 1979 году все эти школы мало занимались политикой либо обращались к ней лишь тогда, когда светская власть чересчур ослабевала, например в XIX и XX веках, когда усилилось давление крупных европейских стран, стремившихся установить контроль над экономикой царства[212]. В отличие от суннизма, шиизм сумел сохранить свободу экзегезы, плюрализм мнений и школ, что наделило его динамикой, утраченной суннизмом. Что касается так называемой системы «вилайа факих», введённой имамом Хомейни в 1979 году в Иране, которая требует надзора религиозных вождей над политической властью, то она представляет собой неслыханное нововведение, вдохновляющееся современным конституционализмом и оспариваемое многими шиитскими улемами.
Итак, дело, скорее, именно в довольно низком уровне институционализации мусульманской религии, а не в самой её сущности, ригидности или интеллектуальной скудости, которые ей якобы свойственны. Сам халифат, теория которого из-за отсутствия каких-либо отсылок к системе власти в тексте Корана опирается одновременно на Византию и сасанидскую Персию, окажется эфемерным образованием. Мусульманская Андалузия первой отколется от багдадского халифата, который с конца IX века постепенно утрачивает реальную власть. Затем создавались различные политические режимы (султанаты), противоборствующие и почти всегда столь же недолговечные как формы правления. Гораздо позднее только османы, Савфиды и Империя Моголов станут устойчивыми политическими структурами, включающими в себя множество этнических групп, языков и разных религий, что сделает их особенно уязвимыми для экспансии европейских наций, становящихся все более сильными и гомогенными.
Фундаменталистское проявление ислама, зеркало геополитики и провалов в развитии
Волнения в некоторых мусульманских обществах, проявляющиеся сегодня насилием и терроризмом внутри самих этих обществ, где насилию подвергаются сограждане-мусульмане, представители других конфессий или же выходцы из западных стран, в определённом смысле напоминают волнения в России во второй половине XIX века, ставшей периодом беспрерывных терактов. В идейном плане напряжения и распри, разрывающие арабскую, турецкую или иранскую политическую мысль, которая поделена между модернистами и традиционалистами, напоминают оживленные споры «славянофилов» и «западников», сторонников сохранения русской души, её религиозных свойств и её мистицизма, и сторонников ускоренных социально-политических реформ, выстраиваемых по образцу институтов крупных европейских наций. Но также они напоминают и конвульсии западного христианства времен Средневековья: как и тогда, религиозный текст Откровения постоянно подвергается буквалистскому и фундаменталисткому прочтению, которое должно помочь в разных битвах.
Первая из этих битв – с западным империализмом, считающимся хищническим, материалистическим и притесняющим. Исламисты поддерживают, особенно в арабском мире, восстание разных слоев мусульманских обществ (и разных социальных классов) против западного господства, обусловленного, что мы ещё будем обсуждать, банальными экономическими и политическими соображениями. Они приводят разные религиозные доводы: Запад не признает коранического послания, которое утверждает и заново обосновывает монотеизм, извращённый политеизмом, который якобы закрался в христианский догмат о Троице. Христиан считают, таким образом, «ассоциаторами», поскольку они привязывают к единому и всемогущему Богу других богов, Христа и Святого духа. В них видят потомков крестоносцев, которые продолжают дело своих предков и снова пытаются захватить землю ислама, включая и самые святые для него места, Мекку и Медину (американские войска присутствуют в центре Арабского полуострова с 1990 годов), а также эн-Наджаф и Кербелу, шиитские святыни в Ираке, оккупированные в 2003 году. Наконец, с точки зрения арабских или мусульманских обществ, Иерусалим был захвачен и оккупирован евреями, вступившими в сговор с «новыми крестоносцами», что выразилось в многосторонней, экономической и политической, поддержке, которая оказывалась государству Израиль со стороны США и Европы. В таком случае еврейское сообщество, с которым, впрочем, мусульманские общества могли веками мирно сосуществовать (в Испании, в Северной Африке или на Ближнем Востоке), можно считать прямыми потомками евреев Медины времен Пророка, которые нарушили союз с ним, пытаясь подорвать его власть над городом, давшим Мухаммеду прибежище после его отъезда из Мекки.
Как и во всех других фундаментализмах, время здесь сжимается. Мифические представления о давно минувшем прошлом и реалии сегодняшнего дня смешиваются друг с другом и даже отождествляются: события, разделённые многими веками, случившиеся в разных, несоизмеримых друг с другом политических контекстах с людьми совершенно разной ментальности, воспринимаются так, словно бы они бы распложены на одной и той же однонаправленной линии религиозного времени, представляющегося вечно повторяющимся отречением человека от слова Бога и слова пророков, посылаемых Им различным народам. Возвращение евреев в Палестину и особенно в Иерусалим должно в таком случае свидетельствовать о том же самом предательстве, особом, присущем именно «избранному народу» пороке, который заключается в том, что этот народ всегда отказывался от своего Бога и Завета и не сумел признать слово Бога в слове Мухаммеда, печати пророков. Отсюда трагическая священная История, которая монотонно повторяет одно и то же, не слишком отличаясь, в конечном счёте, от истории, изобретенной протестантским фундаментализмом. Последний и в самом деле смотрит на современный мир через призму Библии: завоевание Америки представляется новой Обетованной землёй; безжалостная борьба с Папой и разложением Римской церкви изображается как борьба с новым вырождением в язычество; завоевание Палестины евреями в XX веке – как главное эсхатологическое событие. Тогда как для значительных частей различных еврейских сообществ священная История точно так же возобновляется после нескольких веков изгнания (древнебиблейским прецедентом которого оказывается изгнание в Вавилон) – на этот раз благодаря возвращению на Обетованную землю предков и учреждению иудейской власти, продолжающей царство Давида и Соломона.
Кроме того, современные исламистские фундаменталисты сосредотачиваются на многочисленных фактах «отступничества» правителей мусульманских стран. Во-первых, они разоблачают, причем зачастую небезосновательно, их подчинение немусульманским, то есть западно-христианским государствам, которые захватили богатства мусульманского мира (нефть), оккупируют их территории, повсюду истязают мусульман – в Палестине и Афганистане, в Чечне, Боснии, на Филиппинах, в Ираке и в зловещем концлагере в Гуантанамо. Организованные радикальные исламисты, представляющие собой весьма немногочисленные политические движения, пытаются таким образом эксплуатировать распространенное чувство угнетения, проявляющегося в самых разных формах, чувство тотальной несправедливости, жертвами которой мусульмане оказываются везде, где угодно (включая Запад), а его причины следует искать в отказе правителей этих стран от божественного закона и коранического Откровения – то есть это угнетение можно устранить только за счёт безоговорочного возвращения к Закону.
И здесь мы приближаемся к иудейскому фундаментализму, который всегда предполагал, что несчастья богоизбранного народа объясняются тем, что он Его предал, то есть забвением Закона. Следовательно, мы имеем дело с той же самой императивной логикой, которую использовали основатели различных протестантских культов, направленных против власти Папы, богатства и развращённости Церкви.
На этом этапе важно различить два феномена. С одной стороны, народная, объективно обоснованная реакция на угнетение, которая зачастую выражается спонтанным замыканием в собственной религиозной идентичности, ведь арабский светский национализм, пытающийся противостоять внешней агрессии и добиться арабского единства, провалился. Это замыкание выражается в желании жить в соответствии с религиозными предписаниями в их наиболее примитивной трактовке: соблюдать пищевые запреты, молиться по часам, соблюдать ежегодный пост (рамадан), носить хиджаб (если речь о женщинах), обязательно совершать паломничества в Мекку. С другой стороны, к нему склоняют фундаменталистские доктринёры, которые пытаются закрепить и усилить эти реакции, описывая их в своих догматических и даже сектантских теориях. Медийное и академическое распространение – как на Востоке, так и на Западе – произведений, пропагандистских речей и различных текстов этих доктринёров дает им возможность обращаться к предельно широкой аудитории.
В то же время этот фундаментализм изобличает отказ от мусульманских традиций, в частности шариата – корпуса юридических текстов, которые ранее организовывали жизнь мусульманских обществ, поддерживая их силу и культуру; отсюда страстная и подчас даже истеричная критика вестернизации мусульманских нравов и культур. С этой точки зрения, именно светскость неизбежно становится главным врагом, поскольку она представляется наиболее опасным оружием, которое Запад может экспортировать в мусульманские страны, где оно способно сработать, ослабляя ислам и похищая у него душу. С точки зрения лидеров радикального исламизма, борьба со светскостью и светскими мусульманами оказывается первостепенным долгом всякого подлинного мусульманина. Ни Закон Бога, ни суверенная власть над Его народом уже не могут гарантироваться, так что мусульманский мир снова превращается в языческую землю, которую надо завоевать, и эту задачу берут на себя стражи веры, а любой человек, сопротивляющийся этому завоеванию, этому возвращению народа к своему Богу, должен быть уничтожен физически.
В современной истории экзальтация сегодняшних мусульманских «воинов Бога», их воинственность, желание и постоянные попытки совершить цареубийство, очевидные по зрелищным покушениям на глав государств (например на Насера и Садата в Египте), их «раскаяние» после долгого заключения в тюрьмах их же стран – всё это ни в коей мере не кажется чем-то новым, чем-то свойственным исключительно исламу; напротив, здесь мы, как ни удивительно, обнаруживаем забытые механизмы религиозных войн, которые христианской Европе были известны давно, как и реакцию против пыток (причем те из них, что в массовом порядке практикуются различными арабскими режимами ничем не уступают применявшимся католической инквизицией); то есть войн, которые до какого-то момента обходили мусульманский мир стороной, несмотря на заметные различия между многочисленными практиками ислама.
Наконец, в-третьих, мусульманский фундаментализм сосредотачивается на коррупции правителей, обогащении их самих и их семей за счет народа, на их экономической политике, которая углубляет неравенство, закрепляет бедность и неграмотность, допускает разграбление национальных богатств. На эту вполне обоснованную критику большинство правителей мусульманских стран издавна отвечали, в основном, репрессиями и, как мы увидим, форсированной исламизацией различных экономических или социальных институтов.
Инструментализации ислама и манипуляции с ним
Итак, во многих мусульманских обществах сегодня обнаруживаются те же феномены, с которыми некогда столкнулась Европа – например, в насилии религиозных войн, а затем, намного позднее, в русском терроризме и нигилизме. Одно и то же движение концентрирует в себе все эти феномены, осложняемые различными факторами, среди которых не последнюю роль играет парадоксальное стимулирование религиозности западными государствами, которые утверждают себя в качестве носителей модерна. Так европейские державы поступали и в XIX веке, оправдывая свои колониальные вторжения религиозными аргументами, например защитой христианских общин Османской империи. В XX веке британские правители, в основном, прикрывались «христианским сионизмом», когда помогали в создании государства Израиль; в более поздний период выходцы из США составили основную часть колонистов, которые начинают обосновываться на оккупированных палестинских территориях, оправдывая свои действия буквальным прочтением библейского текста, чему способствует возрождение фундаментализма в некоторых американских протестантских Церквях[213].
Другая форма инструментализации Западом религиозности, понадобившаяся для борьбы с распространением коммунизма в мусульманском мире, состояла в широкомасштабной мобилизации ваххабитского и пакистанского ислама, чья практика отличается исключительным религиозным ригоризмом, чуждым классическим мусульманским традициям умеренного толка. Нефтяные богатства Саудовской Аравии, создание которой в 1925 году было обусловлено союзом семьи Саудов со сторонниками ваххабитской школы, в те времена практически незаметной на фоне других основных школ, обеспечили финансирование молниеносного распространения ваххабитского учения и системы его преподавания, в особенности направленной на молодых арабов, проходивших военное обучение для борьбы с советскими оккупантами в 1980 годах в Афганистане.
Ко всем этим факторам добавляется коррупция и неспособность многих правителей обеспечить рост уровня жизни для всех слоёв населения, что ставит под вопрос легитимность проводимой ими модернизации; чтобы как-то компенсировать этот пробел действующие правительства зачастую прибегают к помощи религиозности, подвергая новой исламизации институты и социально-культурную жизнь, чтобы заставить противников из исламистского движения замолчать. Особенно это относится к созданию многочисленных «исламских» банков, которые, как предполагается, не используют процентную ставку, запрещённую шариатом, и инвестируют только в предприятия, которые не ведут деятельности, аморальной с точки зрения мусульманства (примером может выступать производство алкогольных напитков)[214]; то же самое можно сказать о создании многочисленных исламских НПО, предназначенных для помощи мусульманам во всём мире[215]. Примеры того же рода – забота об очищении потребляемого мяса (так называемого мяса «халяль», то есть мяса, соответствующего исламским нормам забоя скота, согласно которым из убитого животного должна быть удалена кровь, – это правило было взято из еврейской традиции[216]), создание (уже в наши дни) специальных кукол для детей («Барби» по исламским нормам, которые могут одевать хиджаб[217]) или «исламских» мобильных телефонов[218]. Но можно также вспомнить о «социалистическом» алжирском режиме, который в тексте национальной Хартии от 1975 года закрепил необходимость ссылаться при определении основных принципов на религию, а затем в 1984 году утвердил семейный кодекс, обоснованный весьма ретроградной трактовкой шариата; или же о тонкой игре короля Хасана II, «повелителя верующих» и настоящего мастера инструментализации различных течений марокканского ислама[219].
Наконец, нельзя недооценивать ту роль, которую с 1979 года играет иранская религиозная революция, обострившая конкуренцию между шиитским революционным реформизмом и суннитским интегризмом ваххабитского толка, борьбу за сердца и умы тех, кто разочаровался в провалившемся панарабизме и отверг светские идеологии, будь они западно-либеральными или же марксистскими. Первая идеология стала символом колониальной агрессии и эксплуатации; вторая же теперь рассматривается исключительно в качестве антирелигиозной идеологии, которая из-за вторжения СССР в Афганистан стала казаться столь же агрессивной, как и первая. Использование религиозности в мусульманском мире посеяло семена всевозможных распрей и насилия, но, возможно, не в большей степени, чем в христианской Европе эпохи долгих религиозных войн.
Как и во всех остальных случаях, фундаментализм представляется здесь в разных обличьях и в разных степенях агрессивности, начиная с мягкого и квиетистского фундаментализма, который через набожность и индивидуальное сосредоточение желает положить конец религиозной распущенности общества, где он живёт, и заканчивая «такфиристами» и «джихадистами», проповедующими насилие. В среде этих радикальных течений первые объявляют анафему всем заблудшим и «сошедшим с пути Бога», к тому же они считают законными насильственные действия против политических деятелей или интеллектуалов, которые считаются ответственными за коллективное заблуждение; вторые, считая себя единственными носителями божественной воли, объявляют священную войну всем немусульманам, а также мусульманам, которые, по их мнению, впали в атеизм. Между квиетистским и радикальным полюсами обнаруживается определённое число движений в стиле египетских «Братьев-мусульман», которые соглашаются на конкуренцию в представительной демократии и зачастую допускают то, что правила шариата должны не определяться раз и навсегда, а сообразовываться с развитием современного мира[220]. С тих очки зрения, исламская правовая традиция располагает достаточным количеством интеллектуальных ресурсов, чтобы самостоятельно приспособиться к требованиям современного мира, сохранив верность духу ислама и не ощущая никакой потребности в импорте положительных светских законов западных стран.
Этот набросок интеллектуальной географии исламистских движений в конечном счёте показывает нам не что иное, как набор весьма классических протестных политических позиций, начиная с реформистских и заканчивая радикальными, а свой протест они оформляют в том виде, который подсказывает им традиция. Во всяком случае, мы не видим ничего, что оправдывало бы однообразные, накатывающие друг на друга волны западных работ по исламу и исламизму, которые идут с 1980 годов и чаще всего оказываются просто-напросто алармистскими, ведь почти все они написаны так, словно бы речь шла о некоем принципиально новом политически-историческом феномене. В работах, составляющих этот издательский водопад, который, конечно, не случаен, слишком редко обсуждается действительно новое явление – значение многочисленных манипуляций, объектом которых становятся эти движения как выражение глубочайшего социального и культурного упадка.
Речь о манипуляциях, которые потворствуют и даже поддерживают исламизм в его не самых радикальных проявлениях, манипуляциях, чья цель, как правило, – заставить забыть о власти, коррумпированной отношениями с местными или международными деловыми средами, замаскировать подчинение страны региональной или международной геополитике, управляемой США и Израилем: таково положение Египта при президенте Садате (1970–1982 гг.), Индонезии в период многолетнего коррумпированного правления Сухарто (1968–1998 гг.), Турции при авантюристском неолиберальном правлении премьер-министра Тургута Озала (1989–1993 гг.), так же как Пакистана под властью военных, ставшего главным мировым экспортером исламистов и джихадистского исламизма.
Также можно говорить о симметричных манипуляциях действующей власти, стремящейся чрезмерными мерами раздуть опасность противоправных действий в глазах местного и международного мнения, что позволяет закрепить авторитаризм и монополию на отправление власти: это случай Египта Мубарака (с 1982 года), Туниса Бен Али (с 1987 года) или Алжира теневых генералов (с 1992 года). Последние, несомненно, пошли дальше остальных в манипулировании исламистским насилием, подпольно создавая «вооруженные исламистские группы», контролируемые секретными службами[221]. Как прямые наследники французских теоретиков «современной войны», имеющей антиподрывной характер, и психологического воздействия 1950 годов[222], алжирские генералы внесли вклад в разработку, которая велась с 1990 годов, особой «модели» манипуляции экстремистскими движениями, считающими себя исламскими. Как и в случае радикально-экстремистских европейских левых (итальянских красных бригад, германской «Фракции Красной Армии»), оказалось, что в эти больше сектантские, чем политические движения легко внедряются агенты местного правительства или иностранных держав[223]: их цель состояла в том, чтобы подтолкнуть эти движения к совершению особенно гнусных актов, что позволяло легитимировать жестокие ответные репрессии и даже вмешательство иностранных государств. Другая цель – напугать местное население, которое, несмотря на свою враждебность к авторитаризму действующей власти, воздержится от перехода к мятежу и согласится на отсутствие публичных свобод.
На этом поле манипуляций, которым подвергается исламский фундаментализм, США, разумеется, не плетутся в хвосте, о чём говорят появляющиеся с начала 2000-х годов многочисленные вполне информированные работы американских авторов (бывших агентов ЦРУ, бывших политических представителей или известных репортёров), медийное воздействие которых обратно пропорционально качеству и значимости их оглушительных откровений[224].
Ничто, во всяком случае, не оправдывает смешения ислама – как монотеизма, чьи теологические, политические и философские традиции не менее уважаемы, чем у двух других монотеизмов[225], – и террористического насилия (в заключении мы увидим, что террористическое насилие, размахивающее знаменем религии, проявляется в существенно разных местных контекстах и по разным причинам, из-за чего любые «анализы», претендующие на их объединение рамками одного феномена, оказываются весьма ненадёжными).
Специфика, иудейского монотеизма
Что касается иудейского монотеизма, поскольку он достаточно рано утратил свой центр политической власти и жил на обочине других мусульманских или христианских обществ, ему удалось избежать потрясений двух других великих монотеизмов, прошедших через стадию институционализации. Сохранение ритуала и закона, а также удивительное совершенствование этики и закрепление уважения к человеческой жизни – вот то, что будет характеризовать жизнь сообществ, прочно укоренившихся в культурной и этнической почве, на которой они поселились. Иногда, впрочем, религиозная жизнь приходила в волнение из-за появления мистических личностей, которые объявляли себя мессиями, или же из-за формирования противоречащих друг другу школ толкования Талмуда.
Философия Просвещения и Французская революция бросили громкий вызов верующим и адептам иудаизма, которые в своей жизни стремились неукоснительно соблюдать все ритуалы строгой морали, ожидая мессию: с точки зрения некоторых, причина такого ригоризма была в боязни ассимиляции, секуляризации различных сообществ, которая привела бы к утрате особого качества святости, связанного с еврейской жизнью, состоящей в ожидании знака божественной воли. Не означает ли в таком случае растворение в мире «народов» отказа от первейшего призвания богоизбранного народа, принятия учения Христа, институциализированная Церковь которого зачастую поддерживала презрительное отношение к иудаизму и его адептам? Поэтому для иудаистского монотеизма вызовы модерна оказались не менее серьёзными, чем для христианства и ислама.
Два важных, тесно связанных события отмечают повороты иудаизма и его реакцию на модернизм: во-первых, подъем антисемитизма, который, в конечном счёте, приведет к чудовищному геноциду еврейских сообществ в Европе, а во вторых – сопутствующее ему развитие сионистского движения, которому после Второй мировой войны удастся, заручившись поддержкой европейских держав и США, создать и заставить признать государство Израиль как «государство евреев», призванное стать центром возрождения иудаизма.
Антисемитизм – не в смысле теологического антииудаизма, выработанного институциализированным христианством, а в смысле псевдонаучного расизма, вещающего о разделении мира на высшую «арийскую расу» и низшую «семитскую», – станет в Европе точкой кристаллизации для всех консерваторов, обеспокоенных ослаблением традиционных институтов власти (Церкви и абсолютной монархии), явившимся результатом философии Просвещения и Французской революции. С точки зрения этой логики, «ассимилированные» евреи – первые, кого надо взять на мушку, поскольку они являются символом «разложения» институтов, хотя в их рядах – авангардистские художники, знаменитые светские философы, талантливые юристы, немецкие, русские или австрийские революционеры, банкиры, социологи и т. д. Во Франции это распространившиеся среди представителей господствующего класса настроение обнаруживается благодаря делу Дрейфуса. Хуже, разумеется, ситуация будет в нацистской Германии, которая изображает евреев эдакими макиавеллевскими зачинателями большевизма как современной расистской версии Антихриста. «Протоколы сионских мудрецов», знаменитая подделка, порой провоцирующая шумиху и сегодня, появившись за несколько десятилетий до нацизма, надолго определила антисемитскую традицию, которая видит в еврейской элите всех стран сборище заговорщиков, строящих козни против стабильности, порядка, авторитета и процветания «цивилизованных наций».
В ответ на эту неумеренную агрессию модерна против иудаизма и вдохновляясь ею, Теодор Герцль и его сторонники, основывающие в 1897 году сионистское движение, будут считать, что только образование национального еврейского государства по европейскому образцу, в котором были бы собраны рассеянные по Европе евреи, сможет спасти иудаизм от новых форм преследования, которому он подвергается[226]. Согласно сионизму, это преследование демонстрирует невозможность мирной ассимиляции евреев в современных нациях. Сионистская идея вызовет, однако, сильнейший отпор внутри самого иудаизма, со стороны как мирян, так и раввинов. Первые считали, что эта мечта утопична и опасна для самих евреев, тогда как демократия и принципы прав человека смогут, вероятно, победить антисемитизм; вторые же видели в ней явную теологическую ересь, вызов, брошенной божественной воле, которая одна ведёт еврейский народ через все испытания, которым она его подвергает. С точки зрения некоторых течений современной иудейской ортодоксии, сионизм вообще вызвал гнев божий и наказание, проявлением которого можно якобы считать нацизм; более того, судьба, на которую обрекают палестинцев, рассматривается ими как окончательный разрыв с иудейской этикой и уважением к человеческой жизни[227]. Впрочем, не бывает пропалестинских манифестаций в Европе,
США или даже иногда в арабских столицах, на которых в толпе не встречалось бы антисионистских раввинов: для них государство Израиль – это безбожное государство, а его роспуск означал бы для народа Израиля избавление. Конечно, эта позиция сегодня стала малозаметной, а в СМИ она вообще практически не освещается. В общем и целом, все хотят видеть в еврейском антисионизме некий экзотический иррациональный феномен, возможно последствие антисемитизма, провоцирующего формирование «несчастного сознания» у некоторых евреев, которые стали бессознательными антисемитами, приняв тезисы антисионизма.
Впрочем, господствующий западный дискурс выносит тот же «диагноз» и мусульманам, хорошо разбирающимся в своей религии и считающим ислам во многом светской, умеренной религией, допускающей плюрализм: такие мусульмане считаются маргиналами, которые, следовательно, не особенно интересны, в отличие от тех, кто проповедует тотальный ислам, который не мог бы приспособиться к светскому модерну. В то же время в США множится число телевизионных проповедников, призывающих к фундаменталистскому возрождению, к буквалистскому прочтению Ветхого завета и, соответственно, требующих безоговорочно поддержать колонизацию занятых Израилем территорий, необходимую для приближения эсхатологического возвращения Христа, которому должно предшествовать возвращение евреев на Обетованную землю.
Сводка, монотеистических конвульсий
Главный вывод, который, с нашей точки зрения, можно извлечь из этих сравнительных исторических сопоставлений, состоит в том, что монотеизм построен на сильном идеале единства. Идея единого Бога, который должен иметь всеобщее значение, отсылает к концепции единого общества, опирающегося в своей единообразной практике на одну и ту же социальную норму. Конечно, монотеизм наделяет ценностью индивида и отнимает её у племени, хотя мифологизация древней истории Израиля способна привести к смешению племенного и этнического с религиозным, что порождает элитистское понятие святого, избранного народа, «Расы» или «нации», ведущей человечество к «свету». Во всяком случае, ислам и христианство утверждают ответственность перед Богом и Законом, а не перед семьёй, кланом или племенем. Этнические различия в них не признаются, для верующих какого угодно происхождения, народности или языка значение имеют лишь набожность и соблюдение божественных заповедей. Однако главная проблема состоит в том, что богооткровенные тексты сложны и содержат порой противоречивые элементы. Поэтому они становятся предметом всевозможных философских, религиозных и даже ритуальных интерпретаций, что требует вмешательства религиозной и политической власти, которая должна одновременно высказать догму и обеспечить её уважение. Чтобы добиться этого, власть должна рисковать, подавлять инакомыслие и восстания, которые признаются ересями и отступничеством, сотрясающими священные основания всякого общества – традицию, корни, авторитет. Защищаясь, инакомыслящие, в свою очередь, заявляют, что именно они сохраняют истинную традицию и наиболее буквальное прочтение текстов.
В этом смысле, обращение к религиозности ни в коем случае не может считаться более надежным методом обеспечения авторитета и гарантии общественного порядка. Монотеистические религии породили не меньше расколов и беспорядков, чем современные светские идеологии, в том числе, геноцид и вынужденные переселения. Они, несомненно, построили высокоразвитые цивилизации, а западное христианство добилось важного успеха благодаря тому, что сохранилось в качестве фундаментального политического элемента вплоть до религиозных войн католиков и протестантов; ислам также многого добился, но его успех оказался менее стойким и, в итоге привёл, к застою, отставанию в развитии и болезненным судорогам, ставшим ответом на власть «западной цивилизации».
Итак, политический кризис модерна проявляется общим обращением к монотеизму в трёх его вариантах, порождая в них судороги и изменения настолько тревожные, что они могут даже убедить в обоснованности тезисов о войне цивилизаций. Можно ли выбраться из этого адского порочного круга, в котором политические и религиозные кризисы сегодня столь тесно связаны друг с другом, что выхода вообще не видно?
6. О войне и мире в XXI веке
Со времён экспансии Европы за пределы её континента, начавшейся в XVI веке, и экспорта всего богатства философских и политических идей, зачастую противоречивых и спорных, нас преследует идея обеспечения коллективной безопасности, в котором участвовали бы все нации мира. Предвестниками этой великой идеи можно считать аббата Сен-Пьера, а затем и Канта.
К сожалению, великие идеи часто склоняют к дурным делам. Хотя интеллектуальную генеалогию Лиги Наций и Организации Объединенных Наций можно возвести к двум указанным источникам, практическое воплощение их идеала мира и коллективной безопасности привело к его значительному искажению. Наполеоновские идеи объединения Европы под флагом великих политических принципов остепенившейся Французской революции, а после идеи пролетарского интернационализма и их вырождение в гегемонию сталинского СССР – вот как выглядят благородные интернационалистские идеи, которые были поставлены на службу политике силы и экспансионизма.
Как почти всегда случается в Истории, народы, нации или могущественные империи завладевают благородными идеями, чтобы превратить их в безжалостные орудия наращивания их влияния и силы в региональном или международном порядке. После всех волн экспансии сильных и динамичных государств призыв обеспечить безопасность становится императивом. Такая потребность рождается, естественно, из того локального сопротивления, с которым подобная экспансия может столкнуться, будь она территориальной или всего лишь экономической, научной или культурной.
Сопротивление может приобретать разные формы в зависимости от типа давления или агрессии, которым подвергается та или иная страна или религия, например к такому сопротивлению можно отнести интеллектуальное отторжение новых идей – подобную позицию назовут ретроградным фанатизмом, враждебным цивилизации и процветанию народов; отказ от торговли и запрет на деятельность иностранных коммерческих банков и предприятий, что будет рассматриваться в качестве серьёзного препятствия процветанию человечества и его прогрессу; наконец, насильственные акты, направленные против гражданских лиц и военных представителей страны-оккупанта или государства, пользующегося значительным влиянием на местные власти, – подобные действия будут расцениваться в качестве террористических.
То же самое можно будет сказать и о «контроле над вооружениями», представляющем собой тонкую игру, которой занимались сначала европейские страны, а потом СССР и США, прежде чем она сфокусировалась на ограничении воображаемого или реального оружия массового поражения, принадлежащего некоторым странам, которые в американской терминологии описываются как «государства-хулиганы», или же некоторым террористическим организациям, стремящимся во что бы то ни стало уничтожить основания демократии и либерализма, если верить многочисленным западным деятелям.
Цивилизация и культура, в международном порядке
Мы уже отмечали двусмысленности в использовании понятий нации и народа. В использовании понятий культуры и цивилизации двусмысленностей появляется никак не меньше, как только они теряют отсылку к народу или нации, которые их формируют. Культура может быть французской, английской, итальянской, арабской, японской и т. д. Она требует определенного языка, который поддерживал бы её, если только это не научная культура, использующая мертвый язык, например латынь в европейской культуре Средневековья. То есть живые культуры национальны. То же самое можно сказать и о цивилизациях: хотя понятие цивилизации шире понятия культуры, оно всегда включает определённую культуру, лежащую в основании, – литературу, поэзию, музыку, философию, а также крупные политические, юридические и социальные институты, в которых эта культура развивается. Так, можно говорить о французской, итальянской, японской, английской или китайской цивилизации.
Сложность в использовании двух этих тесно связанных понятий обусловлена распространением цивилизации и базовой для неё культуры. Так, революционная Франция времен Наполеона экспортировала свои институты по всей Европе; её культура закрепилась в европейской элите уже во времена Просвещения, а в период колониальных завоеваний французский язык и французская культура распространились и за пределы Европы. Английская культура, которую часто называют англосаксонской, значительно распространилась во время завоеваний Америк, а затем и Индийского континента; то же самое можно сказать об испанской культуре или португальской. Сегодня из-за силы, которой обладают США, английский язык и англосаксонская культура стали общими для элит всего мира, что наносит ущерб другим культурам.
Однако не стоит смешивать эту культуру, господствующую в мировом масштабе и поддерживаемую американской сверхдержавой, с более универсальным понятием цивилизации, используемым в большей или меньшей степени во всех культурах для обозначения общего на данный исторический период состояния знаний, техник, материального прогресса, распространения искусств, развития нравственности, этики и философии. Даже если великие национальные государства Европы
XIX века обычно видели в своей собственной культуре высшую стадию цивилизации, нельзя смешивать два значения термина: то, которое применяется к национальной культуре с её социальными, политическими и научными институтами, и то более широкое значение, которое мы только что выделили. Но сегодня подобное смешение как раз и кормит собой нарциссизм Запада, который отождествляет чувство западной идентичности и принадлежность к цивилизации как таковой. Пока будет сохраняться эта путаница, которая поддерживается беспорядочным использованием весьма разных понятий (народа, нации, расы, культуры, религии, цивилизации), почему-то считающихся синонимами, извращенная идеология «войны цивилизаций», которой открывается XXI век, будет по-прежнему представляться убедительным элементом декораций новой мировой геополитики, в которой господствует американская сверхдержава.
Эта упрощенческая идеология является извращенной, поскольку она навязывает в равной мере ложное и ограниченное представление о реальности. Конечно, культуры-завоевательницы развиваются в международном порядке благодаря важным политическим событиям, выражающим силовые взаимоотношения и процессы. Но как только они покидают свою территориальную и национальную базу, они подвергаются преобразованиям, которые зависят от уровня рецепции этих культур цивилизациями других наций: зачастую то, как одна культура пользуется другой, приводит к появлению странных гибридов, в том числе и на чисто лингвистическом уровне. Французский язык, на котором говорят или пишут в Ливане, потребление продукции французской культуры в этой стране будут отличаться от соответствующего языка и потребления в Алжире, Канаде или Бельгии. Вот почему говорить о войне цивилизации и, соответственно, войне культур нет никакого смысла, поскольку, как мы видим сегодня, это понятие ведёт к эссенциализации долгосрочных межкультурных отношений. Строго говоря, оно может служить для обозначения проявлений политической власти, ограниченных определённым временем и пространством, как например в случае вооруженных вторжений.
Расширительное употребление этого понятия в современном западном дискурсе является, соответственно, попросту политическим: оно служит для легитимации развёртывания военных сил и сопровождающих его политических мер; оно оправдывает превентивные войны, запрещённые международным правом. Кроме того, идеология войны цивилизаций выгодна тем, что она содержит сильную эмоциональную коннотацию. После опустошения, вызванного двумя мировыми войнами, войны, развязываемые в национальных интересах, потеряли собственную легитимность, поэтому защита «цивилизации» и западных «ценностей» стала удобным подспорьем: она может выглядеть как обязанность самозащиты, оправдывающая превентивную войну. Медийная и политическая раскрутка туманных понятий «цивилизации» и западных «ценностей» позволила внедрить в общественное мнение Европы и США, ранее достаточно устойчивое, значительный эмоциональный заряд. Он должен заполнить ту пустоту, которая образовалась из-за провала, с одной стороны, национальных и патриотических идеологий в стиле XIX века, и, с другой, марксистских идеологий, лежащих в основании классовой борьбы в «центральных» странах и мифической транснациональной солидарности революций в различных частях света (в России, Китае, на Балканах, в арабском мире, латинской Америке, на Индийском субконтиненте и т. д.).
В сердце воинственной цивилизационной идеологии мы обнаруживаем религию: иудео-христианские ценности на Западе, на Востоке – в основном ислам. Однако современная культура от Гегеля до Ницше и Хайдеггера, которая разрабатывала понятие цивилизации в смысле, определенном нами, строилась, скорее, на руинах религии
или, по крайней мере, той глубоко религиозной цивилизации, которой могла считаться Европа до Возрождения. Сегодняшнее обращение к религиозности служит, следовательно, легитимации банальных политических или экономических планов, мобилизации мнений за счёт нагнетания эмоционального заряда «цивилизации». Современное формирование и запуск в оборот понятия «иудео-христианских ценностей» свидетельствует, таким образом, о своеобразном культурном перевороте: это новое модное понятие бесцеремонно вытеснило веру в греко-римские корни Запада, которая господствовала со времен Возрождения.
Конечно, никто не может игнорировать ту роль, которую религии играют в образовании культур и, соответственно, цивилизаций. Однако религия сегодня – всего лишь один из множества элементов цивилизации: прошло время цивилизаций, центрированных на религии и её ритуалах, например христианской Европы Средневековья или средиземноморского ислама времен его триумфа в IX–XI веках. Технический прогресс, массовое потребление, озабоченность экономическим ростом или сохранением окружающей среды стали сегодня главными вопросами человечества, и ни одна цивилизация больше не основывается исключительно на системе религиозных ценностей. Тот факт, что в иудаизме или исламе сохраняются сообщества, строго придерживающиеся старинных религиозных ритуалов, никоим образом не позволяет сделать вывод о подобных феноменах, которые охватывали бы значительные культурные регионы или, тем более, все человечество. На Индийском континенте и на Дальнем Востоке мы встречаемся с похожей ситуацией, как на индивидуальном уровне, так и на коллективном (буддистские бонзы, йоги, мудрецы и т. п.); некоторые народы, например тибетцы, остаются особенно привязаны к определенной религиозной практике. Но эти феномены не говорят о том, что человек XXI века «впадёт» обратно в религиозность или что наши общества захвачены возвратом к религиозности, который якобы создаст новую мораль и станет новым этапом истории[228].
Цивилизационная модель XXI века
Зато невозможно сомневаться в том, что образ глобальной цивилизации, распространяемой мировой системой масс-медиа, всё больше и всё чаще выделяет и отмечает религиозные манифестации и праздники: еженедельные выступления и путешествия Папы Иоанна-Павла II (с пол следовавшим совершенно неуместным вниманием СМИ к его предсмертному состоянию и смерти), еврейские праздники – Йом Киппур и другие, мусульманский пост (рамадан) и праздник при завершении поста, паломничество в Мекку, перемещения Далай-Ламы, впечатляющие театрализации страстей Христовых в таких крайне католических странах, как Филиппины и Польша, или же «ашуру» шиитских мусульман – поминовение гибели имама Хусейна, сына халифа Али, во время которого практикуется нанесение физических увечий, бичевания, распятия и т. д.
Тон последние годы задается США, главным двигателем экономической и цивилизационной глобализации, утвердившимся в качестве «нации верующих» – эта тема особенно дорога Джорджу Бушу-младшему, «вновь рожденному христианину» (born again Christian). Американская цивилизация, завоевав господство, проецирует на мир этот двойной – и весьма притягательный – образ бурлящего технического и экономического модерна, гармонично сочетающегося с той традиционной и вечной ценностью, которой признается религия, понимаемая в буквальном и консервативном смысле. То есть можно быть вполне «современным», находиться в русле беспрерывного технического прогресса и растущего массового потребления, не отказываясь при этом от своей веры и религиозной практики; последние снова начинают истолковываться в качестве первичной матрицы если не базовой идентичности индивида и общества, к которому он принадлежит, то по крайней мере социальной и политической морали и, соответственно, системы ценностей, которая должна структурировать институты цивилизации. Впрочем, в США ведётся много баталий за то, чтобы институты, в частности государственные школы и юридическая система, уважали религиозное образование в его наиболее буквалистской и наиболее консервативной форме[229].
Итак, цивилизационная модель XXI века, формируемая США как мировой державой, сила которой несопоставима с любыми её предшественниками, известными по мировой истории, отличается от модели XX века, когда всё ещё господствовала европейская модель принципа национальностей, философии Просвещения, освобождения человека от любой формы рабства или подавления, самоопределения народов или социальной борьбы за справедливое распределение богатств. Культурное и политическое наследие американской революции 1776 года тогда ещё являлось составляющей европейской цивилизационной модели, которую мир пытался осуществить на всех четырёх континентах[230]. В этой модели, каковы бы ни были её вариации и культурные оттенки (английский, французский, немецкий, американский), религия никогда не рассматривалась в качестве фундаментальной матрицы идентичности и культуры. Европа, веками включавшая в себя глубоко религиозные общества, слишком жестоко пострадала от религиозных войн; ради завоевания индивидуальной свободы, освобождения народов от всевозможных форм авторитаризма, в частности от власти монархов, правивших по божественному праву, и от жесткого надзора за интеллектуальной жизнью, осуществляемого Римской церковью, пришлось пройти длинный и сложный путь.
Американские законодатели хорошо помнили это, ведь Конституцией 1776 года они утвердили отделение Церкви от государства, тем более что некоторые протестантские Церкви преследовали других и требовали помощи от государства в своих спорах. Отцы-основатели, как деисты и гуманисты, желали вообще не придавать религии никакого политического статуса, чтобы избежать тех эксцессов, которые случались в Европе[231]. Именно это, по всей видимости, позволило сохранить в США динамику протестантизма и религиозной практики, поддерживаемую идеологией завоевания новой Обетованной земли, тогда как в Европе распространение зоны действия государства на социальную и образовательную сферу позволит гражданам всё чаще обходиться без услуг Церкви. Отсюда поступательная «дехристианизация» Европы, выражающаяся в ослаблении религиозной практики, которое достигнет пика вместе с социальными и политическими изменениями в Испании, Португалии, Италии, а затем и Греции, то есть в странах, остававшихся бастионами интенсивной религиозной практики вплоть до середины 1960 годов.
Должна ли закрепиться цивилизационная модель, господствующая в начале XXI века, модель больше американская, чем европейская, и обращающаяся к религиозности как к твёрдому ядру, оставляющему свой отпечаток на всех остальных обществах? Ответ на этот вопрос зависит от множества факторов, оценить которые довольно сложно. Если принять во внимание ту скорость, с которой, как мы видели, интеллектуальные и политические декорации изменились за последние тридцать лет, можно подумать, что маятник, перемещаясь от одной крайности к другой, от «конца» религии к «возврату» к религиозности, вернётся в конце концов в более равновесное положение. Весь вопрос в том, сколько войн понадобится провести во имя «цивилизации», чтобы стать немного мудрее и основать международную политическую мораль, которая была бы лучше той, что утвердилась сегодня.
Функции американского дискурса, о терроризме
Американский политический дискурс после 11 сентября пытается воспроизводить ту модель, что царствовала во времена холодной войны. Коммунистическую угрозу и «империю зла», обличаемую Рональдом Рейганом, заменил «транснациональный терроризм», возникающий предположительно из мусульманских стран и «оси зла» трёх так называемых «государств-хулиганов» (Иран, Северная Коря, Ирак до американского вторжения). Если исключить некоторые изменения в словаре и терминологии, структура дискурса остается точно такой же, что и по отношению к Советскому Союзу, словно бы террористическая угроза сегодня была той же природы, что и ядерная угроза вчерашнего дня, а террористические ячейки располагали арсеналом оружия массового уничтожения. Речь идет о постоянной теме риторики Джорджа Буша-младшего, с новой силой закрепленной на Общей Ассамблее ООН в сентябре 2005 года и в октябре 2005 г. в речи, прочитанной в Вашингтоне в «Национальном фонде демократии»[232].
В этой удивительной и весьма длинной речи американский президент предложил ещё более пугающее, чем раньше, видение угрозы, которую представляет воинствующий исламский интегризм, который якобы стремится построить «тоталитарную империю», «поработить целые нации и запугать весь мир». Идеологию исламского вооруженного милитантизма он сравнил с коммунистической идеологией, а жестокости исламистов – с жестокостями Гулага и китайской культурной революции. Он снова разоблачил Сирию и Иран как государства, давно сотрудничающие с террористами, заверив, что США не проводят различия между террористами и теми, кто их поддерживает, оказываясь, тем самым, «врагами цивилизации». «Воинствующие [исламисты], – добавил он, – считают, что, если они будут контролировать одну страну [Ирак], массы объединятся с ними, что позволит им ниспровергнуть умеренные правительства данного региона и создать радикальную исламскую империю, простирающуюся от Испании до Индонезии. […] Для таких врагов у нас есть только один ответ: мы никогда не отступим, никогда не сдадимся и не согласимся ни на что, кроме полной победы».
Наделение террористических групп «бинладенского» направления столь безмерным значением, несомненно, увеличивает их шансы на успех в деле привлечения большего числа сторонников. Если президент США считает, что эта форма насилия, прикрывающаяся знаком ислама, столь страшна, тогда, разумеется, все те, кто хотят покончить с многочисленными формами влияния Америки на Ближнем Востоке, ещё больше захотят вступить в эти террористические сети.
Эта американская доктрина значительно повлияла и на позицию ООН. Важный доклад генерального секретаря ООН, опубликованный в марте 2005 года под заглавием «При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех»[233], представляет «катастрофический» (то есть способный располагать оружием массового уничтожения) терроризм, называемый «транснациональным», в качестве главной угрозы коллективной безопасности. О многом говорит и то, что этот терроризм называется «исламским», и только он в данном докладе и рассматривается, тогда как его различные формы, в том числе и те, что встречаются в самих мусульманских странах (в Саудовской Аравии, Египте, Пакистане, Индонезии, Марокко, Йемене), никак не анализируются. Главное же, эта угроза представляется в качестве какого-то совершенно нового исторического явления, при этом даже не упоминаются все те террористические акты, которые, не будучи ни в коем смысле исламистскими, потрясали другие регионы мира на протяжении всех предшествующих десятилетий[234]: европейский националистический терроризм (баскский, корсиканский, ирландский, армянский), акции европейских вооруженных ультралевых групп (французское «Прямое действие», немецкая «Фракция красной армии», итальянские «Красные бригады», не говоря уже о японской «Красной армии») и ультраправых движений (особенно в Италии, в Бразилии, в Сальвадоре или в Никарагуа, где эти движения зачастую поддерживались или финансировались ЦРУ), террористические движения Латинской Америки марксистского толка («Светлый путь»[235], Вооруженные революционные силы Колумбии[236] и т. д.), как и более современная маоистская герилья в Непале или «Тамильские тигры» Шри-Ланки (которые задолго до палестинцев стали применять террористов-смертников, использующих свои тела в качестве бомб).
Если же говорить конкретно о Ближнем Востоке, как можно забывать о том, что терроризм никак не может считаться там чем-то новым – после акций против английских сил в Палестине и палестинского населения, проведенных в 1940 годах Иргуном, вооруженным право-сионистским движением, в котором состояли два будущих премьер-министра Израиля (Менахем Бегин и Ицхак Шамир), или же после убийства графа Бернадотта, посредника ООН, тем же самым движением в 1949 году. Кроме того, сегодня мы позабыли о волне палестинских терактов, осуществленных светским Народным фронтом освобождения Палестины (НФОП), которым руководил христианин Джордж Хабаш, как и другими вооруженными светскими палестинскими движениями в различных странах. Среди них: покушение на израильских атлетов на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году, угоны самолетов, захват итальянского судна «Акилле Лауро» и т. д. Можно также вспомнить о контртеррористических акциях государства Израиль, направленных против палестинских руководителей, или о получивших широкую огласку терактах знаменитого Ильича Рамиреса Санчеса Карлоса, сегодня отбывающего заключение во Франции, который прославился тем, что взял в заложники министров ОПЕК, собравшихся в Вене в декабре 1975 года. Или о многочисленных похищениях европейцев в Ливане в 1980-х годах, а также о двух масштабных терактах против французского и американского контингента Многонациональных сил в Ливане, созданных в 1982 после второго израильского вторжения в Ливан для защиты гражданского населения[237].
Доклад ООН 2005 года, оставаясь в русле американской политики, создаёт впечатление, будто открыл совершенно нового врага, который вообще никак не проявлял себя в истории человечества – транснациональный терроризм, которому приписывается – без малейших доказательств – возможность обладать оружием массового поражения. В докладе не устанавливается никакой связи между этим терроризмом и сорока странами, которые, как указывается, были затронуты вооруженными конфликтами в течение последних десятилетий, не предлагается даже какой-либо классификации этих стран или анализа, который позволил бы извлечь выводы касательно коллективной безопасности[238]. Что особенно бросается в глаза, вообще не упомянуты палестинский конфликт, вероятно в настоящий момент самый старый на планете, продолжающаяся и в нашем XXI веке колонизация Западного берега реки Иордан, как и вторжение США в Ирак, проведённое вопреки любым правовым соглашениям.
Итак, единственной угрозой мировой безопасности представляется «транснациональный терроризм», который прикрывается знаменами ислама. Таким образом, тезис о войне цивилизаций торжественно закрепляется самой ООН. Однако ранее генеральный секретарь ООН созывал экспертный совет высокого уровня, который в 2004 году был собран для изучения рисков, с которыми предстоит столкнуться на уровне международного мира и безопасности. Совет составил великолепный доклад под названием «Более надежный мир: наша общая ответственность»[239], в котором упоминались многие конфликты, в том числе и палестинский, которые требуется урегулировать, а также говорилось о необходимости работать с причинами терроризма, который, как отмечается, возникает в «контексте безнадёжности, унижения, бедности, политического подавления, экстремизма и нарушения прав человека, а также региональных конфликтов и иностранной оккупации»[240]. В то же время доклад предостерегал против «попыток решить проблему терроризма исключительно за счёт военной или полицейской силы, а также секретных служб, поскольку всё это ставит под вопрос усилия, направленные на укрепление качественного правления и прав человека, и может привести к отчуждению значительной части мирового населения»[241].
К несчастью, в докладе генерального секретаря «При большей свободе» ни одна из этих взвешенных и мудрых оценок не приводится вовсе. Более того, этот доклад, подаваемый как защита прав человека и дорожная карта, позволяющая обеспечить повсюду в мире экономический рост и утвердить человеческое достоинство, не колеблясь отводит экономическим санкциям, применяемым ООН, роль главного инструмента коллективной безопасности[242]. Но такую позицию невозможно отстаивать даже с точки зрения принципов самой Хартии ООН и декларируемого стремления защитить человеческое достоинство, поскольку, как мы знаем, единственным результатом экономических санкций против Ирака в период правления Саддама Хуссейна стало то, что погибли десятки тысяч детей и стариков, а диктатура перешла к ещё более жестким средствам контроля населения.
Американский политический дискурс, поддерживаемый ООН, создаёт гнетущую и удушливую атмосферу в общественном мнении арабских стран, которые, стремясь, несомненно, к демократическом изменениям, с тревогой взирают на то, как Запад проводит в жизнь международную «коллективную безопасность»: тезисы Бернарда Льюиса и Сэмюэля Хантингтона о конфликте цивилизаций стали, похоже, самоисполняющимся пророчеством – вместе с двумя параллельными дискурсами новых американских евангелистов, безоговорочно поддерживающих оккупацию Израилем той территории, что еще остались от Палестины, и джихадистских движений, проповедующих тотальную войну с тем, что они называют иудео-христианским крестовым походом.
Союз или война, цивилизаций
Как мы неоднократно убеждались по мере продвижения наших рассуждений, понятие Запада определить непросто. Если сплоченность Европы не вызывает сомнений, когда речь идёт об образе жизни и социально-экономической модели, США, находящиеся в сердцевине Запада, обладают несколько иной моделью, а их внешняя политика не может встретить единодушного одобрения. Если же добавить такие страны, как Япония и другие члены ОЭСР, у нас получится группа ещё более разношерстных наций. Другое серьёзное затруднение связано со статусом Израиля в группе западных стран: каким должно считаться это государство – «восточным» или «западным»? Ответ далеко не очевиден. Как, с другой стороны, объяснить ту безусловную поддержку, которую оказывают ему западные правительства, несмотря на постоянные нарушения международного права, совершаемые им безо всяких санкций?
Однако Запад может обозначать и НАТО, являющуюся военным воплощением солидарности в области международных отношений. Неотступное стремление американцев добиться участия этой организации в иракской операции нацелено на то, чтобы увязать военную солидарность других членов альянса с интересами США, что вызвало немалое недовольство со стороны отдельных европейских стран, которые не согласились с логикой «превентивной войны». Это понятие и в самом деле не может похвастать всеобщей признанностью на Западе, особенно внутри Европейского Союза, которому, впрочем, пока не удалось определить действительно общую внешнюю политику.
Следует напомнить, что НАТО была рождена потребностями холодной войны, которую можно считать Третьей мировой войной. Потом её главный враг – Советский Союз – исчез. Какова же её функция в современном мире? Если речь идет о борьбе с терроризмом, считающимся главной угрозой мировой безопасности, то намного лучше для этой задачи подходит ООН, да и НАТО, по сути, не располагает механизмами её решения. Если Советского Союза больше нет, значит ли это, что единственной целью продвижения понятия Запада является борьба с терроризмом? Направлено ли оно на поддержание боевой готовности, необходимой для противодействия другим будущим угрозам, в частности растущей мощи Китая? Не достаточно ли для обеспечения мира и безопасности огромного влияния на действия ООН крупных западных держав, тем более что в течение более десяти лет ни Китай, ни Россия не пользовались правом вето в Совете безопасности, а их влияние в развивающихся странах заметно упало?
Всё это вопросы, которые важно поставить, если мы обращаемся к проблеме конфликтов или союзов цивилизаций. В действительности, тот ансамбль, который обычно называют Западом, сам представляется скорее союзом цивилизаций, а не однородным цивилизационным блоком, поскольку помимо господствующей англосаксонской культуры в нём обнаруживаются такие различные культуры, как культуры Японии, Кореи, Турции, романских стран, стран германской, фламандской, скандинавской и славянской Европы. Европа, восстановившая себя после Второй мировой войны, с её различными национальными культурами и соответствующими сферами влияния (пространства французского, испанского, португальского, немецкого языков…), оказывается, таким образом, ещё одной моделью союза цивилизаций, который был выстроен не как НАТО на основе идеи общей военной защиты, а на основе идей непринятии войны, свободного обмена, принципов демократии и прав человека.
Что касается арабских и мусульманских стран, которые также всё чаще воспринимаются в качестве однородного цивилизационного блока, враждебного блоку, образованному Западом, эту группу привести к единому знаменателю также непросто. Понятие «арабо-мусульманской» цивилизации столь же сложно, как понятие Запада, и в той же мере оно опирается на мифологемы, лишенные всякого влияния на действительную солидарность государств в этом цивилизационном пространстве. В самом деле, арабо-мусульманская цивилизация времён величия омейядских и аббасидских халифов давным-давно исчезла. Начиная с IX века эта цивилизация была одновременно ирано– или тюрко-мусульманской и арабо-мусульманской, не говоря уже о роли североафриканских берберов в создании классической исламской цивилизации. Империя Моголов была последней великой цивилизацией, которая могла считаться такой цивилизацией-прародительницей, поскольку осуществила интересный синтез ислама и индуизма.
В течение последних десятилетий между мусульманскими странами произошло множество смертоносных конфликтов. Достаточно упомянуть войну за отделение бенгальских мусульман с Пакистаном, войну Ирака и Ирана, восстания курдских общин; если вспомнить историю, на ум сразу же приходят войны между Османской империй и персидской монархией, которые в итоге привели к упадку этих мусульманских обществ, создав возможности для русской экспансии на Кавказе и в Центральной Азии. Точно также с жесточайшими гражданскими войнами столкнулись многие мусульманские страны Африки. К этим конфликтам можно добавить и те, в которых арабские страны сталкивались друг с другом: вторжение Ирака в Кувейт, гегемонию Сирии в Ливане, конфликт между Алжиром и Марокко из-за сахарских территорий, конфликт в Йемене, гражданскую войну в Судане… Наконец, можно заметить, что Турция, обладающая несомненной военной мощью, давно является членом НАТО, а Пакистан, Египет, Марокко, Тунис, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и Бахрейн – безусловные военные и политические союзники США, центрального элемента Запада.
Впрочем, сегодня существуют две параллельные, если не конкурирующие друг с другом организации межгосударственной солидарности: Организация исламского сотрудничества (ОИС), основанная в 1969 году, и Лига арабских государств, основанная в 1945 г. Последняя сегодня пребывает в упадке: несмотря на многочисленные договоры между её членами, относящимися к областям обороны и безопасности, свободного обмена, культуры или коммуникаций, она никогда не могла добиться действительной солидарности этих стран. Что касается ОИС, она была создана в период холодной войны, чтобы составить конкуренцию Лиге арабских государств, которая тогда находилась под патронажем арабских националистических и радикальных государств, более близких к Москве, чем в Вашингтону, а также к Движению неприсоединения. Основная опора ОИС – Саудовская Аравия: нефтяные богатства этого королевства, а также финансовые средства, поступающие в Исламский Банк развития и состоящие из щедрых вкладов этой страны и богатых нефтью соседей по Арабской полуострову, сделали ОИС главным инструментом распространения различных форм «реисламизации» обществ третьего мира, запущенной для борьбы с националистическим и социалистическим радикализмом, которым была отмечена эра деколонизации. С другой стороны, ОСИ никогда не удавалось избежать конфликта между мусульманскими странами и гражданских войн внутри них.
Конечно, Запад также перенёс много внутренних конфликтов. Но после двух яростных мировых войн эти конфликты затихли. Впрочем, как мы отмечали, Запад в плане международных отношений остаётся странным союзом – одновременно оборонительным и наступательным, а государства, его составляющие, не всегда согласны друг с другом. Оживленный спор между унилатерализмом и мультилатерализмом выражает глубокий раскол в общественном мнении, даже если в конечном счёте он не влияет негативно на устойчивую психологическую солидарность, которая сформировалась в союзе европейский либеральных демократий с США во время двух мировых войн. Кроме того, бывшие социалистические демократии Центральной Европы, освобожденные от советского влияния, сегодня ощущают себя весьма близкими США, а Великобритания по-прежнему остается их надежным союзником.
Напротив, в этом контексте затруднительно представлять мусульманские страны неким цивилизационным блоком или союзом цивилизаций, в отличие от НАТО или Евросоюза. Лишь исламский терроризм, числящийся транснациональным, и провоцируемые им поверхностные комментарии, навязчиво повторяющие одно и то же, придают некий флёр убедительности тезису о войне цивилизаций. Но нельзя говорить о войне, раз существует один-единственный протагонист, Запад (получающий военное воплощение в НАТО), противостоящий весьма разнородной группе стран, называемых мусульманскими, которые, не находясь в состоянии войны с Западом, следуют ему во всём и часто выступают в качестве военных союзников, предоставляя свою территорию для баз американской армии.
Так или иначе, в общественном мнении многих незападных, особенно арабских и мусульманских стран, Запад сегодня воспринимается как агрессивный блок, развернувший свои войска во многих странах и не обращающий внимания на непрекращающееся распространение колоний израильских поселенцев на оккупированных территориях. Избирательное применение международного права на Ближнем Востоке, двойные стандарты, поддержка прав человека, осуществляемая с большим или меньшим упорством в зависимости от состояния политических отношений между крупными западными странами и странами третьего мира, – все это приводит к обесцениванию в этом общественном мнении демократических ценностей, которые Запад хотел бы утвердить.
Между тем на Западе, похоже, нет тех творческих сил, которые могли бы продумать переход к новой форме союза цивилизаций или форме космополитизма, которая позволила бы нам выйти из современной нездоровой и опасной ситуации, обеспечив стабильность во всем мире. Пока одним из немногих ответов со стороны государства на тезис о войне цивилизаций стало предложение бывшего иранского президента Мохаммеда Хатами на 53-й Генеральной Ассамблее ООН, прошедшей 21 сентября 1998 года, – предложение начать «диалог цивилизаций»[243](ставший потом темой, постоянно повторяющейся на бесчисленных международных коллоквиумах), который выступил бы в качестве противоядия от хантингтоновского взгляда на мир как жертву войны цивилизаций. Но соглашаясь с этой темой, мы неявно приняли и то, что мир и правда может пасть жертвой этой войны цивилизаций, что лишь подтверждает весьма спорный диагноз Сэмюэля Хантингтона.
Сравнительно недавно испанский премьер-министр Хосе Луис Сапатеро предложил на 59-й Генеральной Ассамблее ООН, прошедшей 24 сентября 2004 года, основать «союз цивилизаций»: «У терроризма нет оправданий, – заявил тогда испанский руководитель. […] – Но его корни можно и нужно понять, мы можем и должны рационально продумать то, как он производится, развивается, чтобы и бороться с ним тоже рационально. [.] Безопасность и мир установятся только благодаря силе ООН, силе международного закона, силе прав человека, демократии, силе людей, подчиняющихся закону, силе равенства, равенства мужчин и женщин, равенства шансов независимо от места рождения. Благодаря силе, противостоящей тем, кто манипулирует религией или верой, желая её навязать, силе образования и культуры, а поскольку культура – это всегда мир, сделаем так, чтобы другой всегда воспринимался с уважением. Наконец, благодаря силе диалога между народами.
Для этого, как представитель страны, созданной и обогащенной различными культурами, я хотел бы предложить нашей Ассамблее создать союз цивилизаций между западным миром и миром арабским и мусульманским. Стена пала. Теперь мы должны сделать так, чтобы ненависть и непонимание не смогли построить новых стен. Испания предоставляет на рассмотрение Генеральному секретарю, чью работу в качестве главы Организации она всецело поддерживает, предложение образовать группу на высшем уровне для проведения этой инициативы»[244].
Это действительно звучит крик гуманистического протеста, озвученный высокопоставленным политиком страны, которая ощутила на себе кровопролитные последствия мнимого «конфликта цивилизаций», когда в Мадриде в марте 2004 года произошли ужасные теракты. Если следовать этому примеру, мудрым решением было бы выйти сегодня из этой парадигмы и поддержать логику, которая могла бы снизить накал конфликтов на международном уровне, грозящий взрывом.
Заключение
К международному светскому пакту?
Напряжение в международной атмосфере не сможет уйти легко и быстро. Победоносный неоконсерватизм – не только дело Джорджа Буша и его команды; это идеология, распространяющаяся в мире в течение уже нескольких десятилетий, и её постоянно подкармливают масс-медиа и успешные интеллектуалы. Тем не менее, общественное мнение, как в западном мире, так и в других регионах, нередко сопротивляется этому натиску. Помимо антиглобалистского движения можно вспомнить грандиозные манифестации в Европе или в США против войны в Ираке[245], позицию папы Иоанна-Павла II, который также решительно выступил против этой войны, или англиканских епископов, которые в сентябре 2005 года призвали принести извинения за вторжение в Ирак[246], рост числа европейских или американских граждан, которые активно защищают права палестинцев, в том числе ценой собственной жизни[247], или же распространение на активистских сайтах в интернете многочисленных статей, исследований и документов, оспаривающих упрощенческое мировоззрение, поддерживаемое большинством крупных СМИ, и зачастую предоставляющих точную информацию, которую в последних найти невозможно (даже если на этих сайтах встречаются и совершенно бредовые построения, действительно питаемые различными теориями заговора[248]).
Итак, нельзя сказать, что горизонт изменений совершенно заблокирован, но также нет сомнений в том, что слом тягостной идеологической тенденции, присутствующей в нашей жизни, возвращение к светским декорациям, задающим контекст мировых дел, потребует немало времени и усилий. В данном заключении мы набросаем направления рефлексии, которые могут привести к изменению интеллектуальной позиции, позволив в какой-то степени лишить чрезмерного накала представления о мировых геополитических проблемах, которые мы описывали в их приземленной реальности, а не в их цивилизационной, культурной или непосредственно религиозной мифологизации.
Сопротивляться инструментализации религии и фабрикации цивилизационных национализмов
Возможность этого изменения обязательно предполагает изменение политической и геополитической парадигмы, то есть отказ от инструментализации религии и интенсивной фабрикации цивилизационных национализмов, сопровождающих её как в исламе, так и в иудаизме и христианстве. Для этого понадобится изменить лексику, задействованную в различных политических дискурсах, особенно в дискурсах США и ООН.
Выражение «транснациональный терроризм» само по себе приводит к губительным последствиям: никоим образом не учитывая сложности различных форм терроризма, оно постоянно ссылается на сборное понятие «исламистского терроризма», являющееся более или менее осознанной реминисценцией «коммунистической угрозы», которая ранее служила для суммарного описания всех сил, противостоящих господствующей системе. Можно отметить, что после 11 сентября 2001 года, крупные исламистские теракты, за исключением серьезнейших терактов в Мадриде в марте 2004 года и в Лондоне в июле 2005 г., были проведены именно в исламских странах (в Марокко, Саудовской Аравии, Йемене, Иордании, Индонезии, Ираке, Пакистане, Египте), соответственно, разве нет у них собственно национальных качеств, который перевешивают их транснациональные черты?
Разумеется, мы живем в период международной нестабильности и несправедливости, подталкивающей к рождению подобных форм насилия, но в истории мира они были всегда. Разве религиозные войны в Европе не отличались жесточайшими и бессмысленными актами насилия? Не пришло ли время начать чуть более последовательно размышлять над американской риторикой и риторикой в рамках ООН, которая, похоже, стремится вытеснить реальные проблемы и любой ценой втянуть Запад в странный «крестовый поход» против совершенно неуловимых групп, включая и «легендарного» ныне бин Ладена? Не пора ли смело взглянуть на геополитические обстоятельства, которые создают почву, благоприятную для террористического насилия? Сколько ещё времени правительства стран, называющих себя демократическими, и их раскрученные в СМИ интеллектуалы будут за счёт различных форм интеллектуального террора подавлять действительно серьёзное обсуждение этих явлений?
То же самое относится к использованию слова «ислам», которым сегодня повсеместно злоупотребляют[249], в том числе и в мусульманских странах. Ислам – не место и не национальность; но о нём всё чаще говорят так, словно бы он был национальной или этнической религией, расположенной в определенном месте, что просто нелепо. Ислам, так же как христианство или буддизм, – это религия всемирного характера. К сожалению, сегодня нельзя сказать и того, что она является цивилизацией (впрочем, как и христианство), если учитывать исторический упадок, который ещё несколько столетий назад затронул великие центры исламской цивилизации. Также это и не культура, поскольку в странах, где господствует мусульманская религия, говорят на разных языках. Следовательно, ислам – это только религия, которая, естественно, часто мобилизовалась в международных конфликтах времён холодной войны; а сегодня она зачастую используется для общественного протеста против устоявшегося порядка в самих мусульманских странах (в гораздо большей степени, чем в странах западных, где ислам для мусульманских сообществ может играть одновременно социальную роль и роль идентичности, не столько в протестном смысле, сколько в плане восполнения пустоты их тяжелого и маргинального существования).
Но искать в Коране или в шариате причины современного «транснационального» терроризма – задача совершенно сюрреалистическая. Это просто болтовня, мешающая осознать подлинные проблемы, которые носят вполне мирской характер: военную оккупацию и колонизацию в Палестине, сильнейшую социальную маргинализацию, крайне неравномерное распределение доходов в экономиках, существующих на нефтяную ренту, авторитарные режимы, практикующие смешение политического и религиозного (что вызывает столь же политико-религиозную реакцию), наконец груз западного дискурса, который уже несколько десятилетий вскармливается немалыми дозами религиозной терминологии.
И пусть даже это может показаться всего лишь благим пожеланием, пытающимся противостоять мощи современных западных СМИ, напоминающих огромный дорожный каток, и выстроенному ими конформизму масс, сегодня следует выступить за введение моратория на пустые дискуссии об исламе. Пусть люди, которые его практикуют, сами возьмут на себя труд обсуждать свою теологию, своё законодательство и использование их религии в профанном мире. Христианам или евреям не нужно вмешиваться в такие дискуссии; напротив, тот факт, что сегодня столько людей на Западе числят себя экспертами по исламу и исламским сетям, может привести лишь к раздраженности мусульман, которая парализует любую внутреннюю дискуссию по поводу того смешения политического, религиозного и национального, которое царствует в этой сфере.
С другой стороны, необходимо, чтобы христианство и иудаизм признали наконец, что ислам – это тоже полноправный монотеизм, к которому и относиться надо соответственно, то есть с тем же уважением, как и к ним самим. Кроме того, не пришло ли время прекратить безответственно смешивать диалог религий с политическими и антропологическими дискуссиями и открыть действительно теологический спор между тремя этими авраамическими религиями, которые, оспаривая право друг друга на божественную истину, всегда с трудом достигали взаимного признания и принятия[250]?
Что касается арабских СМИ, находящихся под сильным влиянием различных форм исламского фундаментализма[251], в них также следовало бы активно бороться с безмерными упрощениями и неправдоподобными домыслами. То же самое относится к их критике светскости, грубо отождествляемой с воинствующим атеизмом специфически европейского толка и даже попросту с антиисламской военной машиной[252]. С другой стороны, многое нужно сделать в СМИ арабских и мусульманских стран, как и в мире академических исследований ислама, и на Востоке, и на Западе, чтобы восстановить полную память о том, чем была мусульманская цивилизация. Цивилизация, в которой практиковался религиозный и этнический плюрализм, которая приспосабливалась к другим цивилизациям и культурам, например культурам Персии или Индии, а в Испании, Египте, Сирии, Ираке и Ливане контактировала с другими великими религиями – зороастризмом, иудаизмом и христианством; цивилизацию, которая внутри самой себя изначально допускала исключительное разнообразие школ религиозной экзегезы, а после Французской революции и экспедиции Наполеона Бонапарта создала значительное движение религиозно-реформаторского толка[253], которое было прервано «исламским пробуждением», запущенным в контексте холодной войны.
Ислам должен перестать представлять себя в качестве закрытой и нетерпимой религии, образ которой сводится исключительно к неудобоваримой литературе современных фундаменталистских движений, ведь еще несколько десятилетий назад реформистские школы ислама господствовали на интеллектуальной и политической сцене мусульманских обществ. Это реформистское движение, инициированное более ста семидесяти пяти лет назад путешествием египетского азхарского шейха Рифаа ат-Тахтави в 1824 году в Париж[254], ставшим одним из кульминационных моментов арабского возрождения, в котором принимали участие и христиане, и мусульмане, было вытеснено в 1970 годах фундаменталистской волной, главными двигателями которой выступили пакистанские и саудовские разновидности ислама. Все произведения этих великих реформаторов, проникнутые гуманистическими ценностями, – этих великих читателей (и зачастую переводчиков) главных произведений философии Просвещения – исчезли с полок библиотек, уступив место работам фундаменталистских авторов. В результате молодые поколения арабов были отрезаны от исторических и культурных корней, которые позволили бы им увидеть мир не в свете конфликта цивилизаций.
Именно в этом контексте может объясняться усиление антисемитских настроений или озлобленные выпады некоторых арабских СМИ против «иудео-христианской» цивилизации или «новых крестоносцев»; но реальное противодействие им потребовало бы также, чтобы в Европе или США были предприняты усилия и для борьбы с разлитой в воздухе исламофобией, всё более открыто пропагандируемой некоторыми авторами и политическими деятелями, для раскрытия и обновления академических исследований арабского мира и ислама, которые могли бы приблизиться к сложности современного геополитического контекста и попытаться понять многосторонние причины драматического разрыва со столь близким нам периодом мусульманского реформизма XIX и XX веков.
Так и в иудаизме сильнейшее влияние неоконсервативных кругов, которые слепо защищают любые действия государства Израиль, смешивая их с защитой самого иудаизма, до сего момента мешало выражению плюрализма мнений, характеризующего, в общем-то, собственно иудейскую рефлексию[255]. Однако этот плюрализм трудно разглядеть, поскольку инакомыслие обходится молчанием или же высмеивается, приписываясь евреям с несчастным сознаниям (self-hating Jews), особенно когда оно обнаруживается у сильных личностей, таких как знаменитый американский лингвист Ноам Хомский, неустанный разоблачитель государственного терроризма, практикуемого правительством США[256], или же умерший в 2001 году Израэль Шахак, профессор химии Еврейского университета в Иерусалиме, бывший беженец из варшавского гетто и лагерей смерти, председатель Израильской лиги прав человека и гражданских прав, ставший непримиримым критиком действий государства Израиль, направленных против палестинцев[257].
В действительности, в исламе, как и в иудаизме, консервативный и неофундаменталистский конформизм, завоевавший господство, поддерживается потворствующей им позицией СМИ и некоторых академических исследователей, которые представляют эти религии в антиисторическом и эссенциалистском свете, в виде двух одновременно религиозных, культурных и цивилизационно замкнутых систем, что способствует возникновению и еврейского, и мусульманского закрытого национализма нового типа, который в интеллектуальном плане способен на немалую агрессивность.
Самые бесстыдные формы цивилизационного национализма проявляются в некоторых выступлениях европейских глав правительств: так, Сильвио Берлускони во время визита в Берлин 26 сентября 2001 года, сразу после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, позволил себе высказать крайне негативную оценку мусульманского мира (по его словам, «одна из его частей отстала на 1400 лет») и заявить о бесспорном превосходстве западной цивилизации. И наоборот, риторика бывшего малайзийского премьер-министра Махатхир бин Мохамада, выступившего на саммите Организации исламского сотрудничества в октябре 2003 года в Куала-Лумпур, не менее порочна. В своей длинной речи, отражающей чувства довольно значительной части мусульманского населения, он обличал разобщенность мусульман перед агрессией западных стран, которые считают мусульман своим врагом; он напомнил о том, как велика была исламская цивилизация, когда она была основана на науке и знании, и пожаловался на упадок исламского мира. Хотя он и претендовал на некоторую избирательность в собственных разоблачениях Запада, когда, например, утверждал, что не все жители Запада одинаково враждебны к мусульманам и не все евреи одобряют то, что делают израильтяне, в качестве образца он предложил мусульманам еврейский народ, «который думает», который защищался, с успехом продвигая социализм, коммунизм, права человека и демократию, «так что продолжать их преследовать – значит становиться на сторону зла, и потому они получили права наравне с другими»; следовательно, мусульмане «не должны ограничиваться тем, чтобы сражаться с ними физически, им надо применить и свой ум»[258]. Все эти риторические ходы, религиозная и националистическая игра отражений и перевертываний крайне опасны, будь они западного или мусульманского происхождения, и только защита светского, профанного мировоззрения позволит им противодействовать.
Кроме того, также было бы весьма мудро не использовать больше вкривь и вкось понятие Запада, которое служит основанием для современного цивилизационного национализма мега-идентичности «Запада», защитником которой провозглашают себя США, противостоящие внешней опасности (представляемой, очевидно, терроризмом и исламом). И если вполне нормально говорить о Европе и её гуманистической цивилизации, которая пытается сформировать политическое единство, проведя экономическое объединение, сам по себе термин «Запад», на самом деле, устарел, что можно понять, если вспомнить о его религиозных корнях (различии Западной Церкви и Восточной), о его легитимации расистскими теориями (разделением арийцев и семитов) или теориями колониальными (превосходством европейской цивилизации над всеми остальными, оправдывающим завоевание и порабощение других народов), наконец, о его исторически более близком, но всё равно ушедшем в прошлое понимании в качестве демократической системы, противопоставленной советскому тоталитаризму.
Если мы действительно желаем прийти к многополярному миру, не стоит стремиться к закреплению мега-идентичности Запада на интеллектуальном уровне, а также в таких военных институтах, как НАТО. Положение нового Европейского конституционного договора, согласно которому внешняя политика ЕС в плане совместных действий и обязательств «остаётся в согласии с обязательствами, подписанными в рамках НАТО» (статья I-41.7), имеет, очевидно, совсем иной смысл, представляясь, скорее, дурным предзнаменованием.
Международное право, космополитизм и мультикультурализм
Международное право снова должно стать республиканским правом в полном смысле этого слова. Международный закон должен быть единым для всех – когда он защищает и когда он карает. Нельзя принимать разнящиеся юридические режимы или допускать, чтобы некоторые государства (как это бывает с Израилем) не считали нужным оценивать свои действия с точки зрения международного права. Ничто не дискредитирует демократию больше, чем манипуляция правилами современного международного права, являющимися плодами многовекового опыта: нечеткое применение прав человека подкрепляет позицию авторитарных режимов и антидемократических сил, которые в подобном случае могут с легким сердцем изобличать избирательное применение этих прав демократическими державами.
Разве лучший путь к закреплению демократических ценностей и к уважению прав человека в общемировом масштабе – не уважение, прежде всего, этих принципов в контексте ведения международных дел? Уроки демократической морали, которые некоторые западные страны намереваются преподать странам, страдающим от отставания и политического авторитаризма, лишь упрочивают местные силы, противостоящие демократии и либерализму: действительно, чаще всего тот или иной экономический договор или предоставление территории для военной базы сразу же аннулируют значимость этих моральных поучений, встречаемых в общественно-политическом мнении таких стран все с меньшим одобрением.
С другой стороны, так же, как мы ставили вопрос о ненужности сохранения такого института, как НАТО, надо поставить вопрос и о смысле единственного существующего в международном порядке объединения государств на религиозной основе, то есть Организации исламского сотрудничества (ОИС), из которой вышли многочисленные так называемые «исламские» межправительственные организации, действующие в самых разных сферах[259]. Мы видели, что эта организация была рождена в контексте холодной войны и служила распространению через различные каналы саудовской и пакистанской форм фундаменталистского и ригористского ислама. Не должна ли такая организация постепенно реформироваться и переосмыслить свое предназначение и функции? Сколько ещё можно заниматься «исламизацией», нацеленной на гомогенизацию всех внешних признаков жизни в мусульманской обществе и на стирание всех национально-этнических особенностей различных мусульманских народов?
Другой метод, который стоит испытать, чтобы покончить с инструментализацией религии и открыть дорогу миру без насилия, потребовал бы вернуться к кантовской концепции космополитизма, которую новые философы, разочаровавшиеся в Просвещении, выбросили на помойку. Как известно, мультикультурализм – это система, свойственная в силу истории и мировоззрения некоторым странам, в которых этническое происхождение и религиозная принадлежность играют центральную роль, как это видно в современных США и как это было раньше в таких многонациональных империях, как Османская или Австро-Венгерская. В Европе ситуация иная, у неё другая традиция, отмеченная Французской революцией и волюнтаристской концепцией нации, так что этнические или религиозные корни граждан не могут оцениваться в публичном пространстве или использоваться в качестве аргументов в политическом споре.
Таким образом, в уточненной культуре Европы развился космополитизм, то есть знание и понимание разнообразия мира вместе с уважением этого разнообразия, выходящего за национальные границы. Как писал историк французского искусства Луи Рео, тонкий знаток французской культуры и её общеевропейского наследия, «это позаимствованное из греческого языка слово, означающее “гражданина мира”[260], в действительности выражает идею или, скорее, идеал, которым особенно дорожили энциклопедисты. Род человеческий они считают единым, обладающим одними и теми же правами и способным на один и тот же прогресс: расовые и национальные различия не имеют никакого значения. Нет избранного народа или высшей расы. Быть человеком любой нации – вот идеал подлинного философа. Эта идеология будет вдохновлять крестовые походы Французской революции, вскормленной иллюзией, будто все народы – братья, объединяющиеся против тиранов»[261]. Конечно, эта культура ничуть не помешала колониализму и империализму; однако она же создала антиколониальную традицию, начатую ещё испанским доминиканцем Бартоломе де Лас Касас в XVI веке[262], которая позже приведёт к ускорению деколонизации.
Итак, космополитизм лучше подходит на роль ценности, которую нужно поддерживать в Европе, чем мультикультурализм, поскольку иммигранты, прибывающие в континентальную Европу, должны свыкнуться с нормами и ценностями принимающих их обществ (те, кто предпочитают мультикультурные общества, едут скорее в Канаду или США). Европа, со своей стороны, должна воздерживаться от желания выступать в качестве высшей моральной инстанции в её отношениях со средиземноморскими и ближневосточными соседями, увлекаясь манипулятивной игрой с правами человека, в которой она разоблачает их нарушения в некоторых политических режимах, которые считаются недостаточно прозападными, но закрывает глаза на те же самые нарушения, когда не слишком демократичный режим в своей внешней политике полностью следует интересам Запада. Опыт показывает, что внешнее давление, применяемое избирательно, может привести к противоположным результатам и затормозить развитие по направлению к демократии, вызвав ожесточение местных властей. Лучшей моральной инстанцией были бы европейские институты, строго применяющие свои базовые принципы как к своей собственной деятельности, так и в их отношении с другими.
С другой стороны, от Европы сегодня ожидают альтернативы глобализации в американском стиле, представляющейся единственным проектом цивилизации. Эту мысль хорошо сформулировал Джордж Стайнер: «В сегодняшнем мире, преследуемом убийственным фундаментализмом, откуда бы он ни происходил – с американского Юга,
Среднего Запада или из ислама, у Западной Европы может быть императивная привилегия разработки и распространения светского гуманизма. Если она сможет очиститься от своего собственного сумрачного наследия, без устали оспаривая его, Европа Монтеня и Эразма, Вольтера и Канта могла бы снова послужить нам вожатым»[263]. После язвительного обличения «деспотизма массового рынка» и «последствий коммерческой фабрики звезд», а также «экспоненциального, сметающего всё на своем пути роста всего англо-американского, единообразия ценностей и образа мира, приносимого этим всепожирающим эсперанто вместе с собой» Стайнер заявляет: «Возможно, что Европа, пойдя по пути, который пока ещё сложно увидеть, однажды породит промышленную контрреволюцию, так же как она родила революцию промышленную»[264].
К пространству республиканского настроя
Пытаться оживить гуманистический и универсалистский дух, который раньше главенствовал при создании Лиги наций и ООН, или же рассуждать как испанский премьер-министр, проповедуя «союз цивилизаций» или диалог культур и религий, – значит всё же предполагать, что действительно существует опасность войны цивилизаций. Но не нужно ли выступить непосредственно против теоретиков этой войны и против правительств, которые дают увлечь себя порождаемой этими теориями риторикой?
Разумеется, надо бороться с террористическим насилием, подрывным и нигилистичным. Но речь не идет о какой-то «войне», как бы ни хотели убедить в противном главы армий Америки и государств-союзников, входящих в НАТО (они всё ещё находятся под влиянием схем «современной антиподрывной войны», разработанных в 1950-х годах французскими военными теоретиками, изучавшими националистские восстания в Индокитае и Алжире, которые уподоблялись коммунистическим революциям[265]). Ведь сегодня у «врага», которого мы видим перед собой, по сути, нет ничего, кроме молодых нигилистов, готовых принести в жертву свои жизни – точно так же, как делали террористы во все времена и в самых разных странах[266]. Их жестокие акты выражают, как и все похожие феномены, возникающие в определённые исторические периоды, глубокое недовольство, причины которого многочисленны и сложны. В целом, к ним относятся внешние и внутренние факторы, развитие международной геополитики, которая надстраивается над местными ситуациями социального распада и гниения или блокады политических систем.
Если отвлечься от правительства талибана в Афганистане, которое предоставило убежище бин Ладену, хотя само вначале поддерживалось и стимулировалось США и двумя его главными мусульманскими союзниками – Саудовской Аравией и Пакистаном, ни одно государство, будь оно мусульманским или каким-то иным, не поддерживает сегодня террористические ячейки, сеющие слепое насилие как в западных странах, так и в мусульманских, причем в последних даже в большей степени. В этом контексте понятие войны цивилизаций просто ни о чём не говорит. Вот почему важно работать над тем, чтобы международная геополитическая сцена стала наконец республиканским пространством в строгом смысле этого слова, с которой были бы удалены любые инсценировки идентичности и любое обращение к религиозности.
Обращали ли когда-нибудь во времена борьбы с ультралевым терроризмом внимание на значение производимых этими движениями текстов, пытающихся легитимироваться марксизмом? Тогда почему же сегодня нужно столь серьёзно относиться к текстам, украшенным сурами из Корана, которыми бахвалятся террористы, становящиеся под знамена ислама? В борьбе с террористическим насилием важен анализ не идеологической религиозной лексики, а социального и политического недовольства, выражаемого им. Кроме того, слишком часто забывают, что у этих феноменов есть своя специфика, определяющаяся местом и социально-политическим контекстом: теракт в Эр-Рияде – не тот, что в Тель-Авиве или против израильских колонистов, последний отличается от нападения на полицейский комиссариат в Ираке, а он, в свою очередь, отличен от слепого теракта в Лондоне или Мадриде. Отвергать все эти очевидные различия – значит участвовать в игре теоретиков войны НАТО с самой туманной из организаций – Аль-Каедой, то есть поддерживать сегодняшнее status quo, которое грозит непоправимыми последствиями всему человечеству.
Только возрождение в мире республиканского духа позволит положить конец этому бесконечному кризису модерна. Как мы уже несколько раз убеждались, западная постмодернистская философия умаляет то, что один из комментаторов Лео Штрауса называет «прогрессистским провиденциализмом»[267], и замыкается в извращённом выборе между расслабленным мультикультурализмом и ожесточенным активизмом, продвигаемым, например, США – якобы во имя защиты демократии и цивилизации.
Но модерн ещё далеко не исчерпал свои возможности производить универсалистские и гуманистические ценности, в том числе и в неевропейских обществах, в том числе в обществах с мусульманской культурой.
Отсюда значимость критического переосмысления, а не принижения Просвещения, которое следует связать с великими традициями космополитизма и открытости, чтобы положить конец шатаниям мировой геополитики и скандальной инструментализации трёх монотеизмов, которая повсеместно грозит свободам, доставшимся столь дорогой ценой. Наконец, следовало бы, чтобы Европы, и особенно Франция, которая за свою богатую историю, полную страданий, сумела выработать понятие республиканизма, являющееся ключевым в том смешанном мире, в котором мы живем уже несколько веков, перестали вечно сомневаться в обоснованности этого духа[268].
Клод Николе, историк, изучающий республиканскую идею, напоминает нам об исключительном универсальном потенциале республиканской традиции, действенном как в плане политической философии, так и на уровне наиболее удачных форм управления городом: «Слишком уж лелея различия, мы забываем о грузе долгой истории, о необходимом единстве человеческого рода, существующем не только в пространстве, но и во времени. По крайней мере в этом меня убедили французские республиканцы, их мудрость, к которой мне удалось приобщиться»[269]. Клод Николе напоминает также о том, что он называет «интериоризированной светскостью», которая должна «вначале отказаться от догм», являясь «истинным путем Республики, которая, чтобы утвердиться в городе, должна сначала укорениться в сердце и разуме граждан»[270].
Сегодня мы должны прийти именно к «светскому пакту»[271], который действовал бы на международном уровне, если мы хотим положить конец взрывоопасной смести лихорадящих общество проблем идентичности и ниспровергнутой международной морали. Эта смесь выражается в геополитике силы, которая больше не управляется, не регулируется и не сдерживается ни философским дискурсом, который выступал бы регулятором всеми принимаемого политического порядка, ни равновесным согласием держав, мешающим установиться господству одной из них над всем миром или, в частности, над самыми слабыми и бедными странами. То правило, что действует во внутреннем порядке, в котором страны, сумевшие мудро отделить институционализацию государства от институционализации религии, оказались в авангарде развития человечества, должно точно так же действовать и в порядке международном. Однако уже несколько десятилетий этот порядок производит неприятное впечатление назревающей всемирной гражданской войны и разнузданного буйства страстей, которые могут выродиться в ещё большее насилие.
Реабилитировать государство как источник гражданственности
Нужно со всей ясностью сказать: в этой книге мы не раз приводили примеры того, что государственные и частные силы, которые претендуют сегодня на управление «международным сообществом», постоянно, несмотря на свои лицемерные речи, действуют против таких шагов. На практике (и в теории) они поддерживают всё то, что движется в сторону «империи хаоса» как модуса правления миром[272]: развал государств и гражданские войны, неуважение политического суверенитета отдельных стран, расколы, подъём коммунитаризма и этнических движений, обращение к религиозности и манипуляции ею. Всё это отвращает местные власти от либеральных реформ, а население – от попыток ниспровергнуть их, поскольку люди боятся хаоса и внешней интервенции. В этом контексте совершенно нет оснований верить в то, что США смогли бы выиграть войну против терроризма и достичь имперской власти, которая позволила бы править человечеством почти единолично, поскольку эта власть сама питает терроризм как крайностями своего философского, политического и религиозного дискурса, так и развертыванием своих армий на всех континентах.
Вопреки этой тенденции, угрожающей самому будущему человечества, разум требует вернуться в международном порядке к духу американских отцов-основателей, к их твердой уверенности в необходимости разделения институтов религии и государства, как и к плодотворному духу республиканцев, сделавших Францию действительно великой страной. А это заставляет оставить метафизические и философские самокопания, из-за которых мы забываем о том, что этот республиканский дух распространился по всему миру, что две самые густонаселенные страны нашей планеты, Китай и Индия, приняли его, впитав своим собственным гением и пропустив через собственный опыт, также как и многие другие страны за пределами так называемого «западного» мира.
Республиканский дух, пока он не теряет из виду необходимость тщательно следить за всеми авторитарными отклонениями, которые угрожают ему (как и всей политической системе), более всего способен воодушевить гражданские чувства, само гражданство как условие свободы, преодолев религиозный коммунитаризм, фантазии и чувство исключительности. Поэтому также требуется, чтобы жизненно важная функция государства как источника гражданственности и основы самого гражданского общества была реабилитирована, тогда как сегодня она повсеместно принижается, а всевозможные группы влияния пытаются присвоить себе эту роль. Теории экономической глобализации постоянно работают в качестве идеологической легитимации такого демонтажа государства и его функций, которое было бы на руку экономическим группам влияния, связанным с миром политики и масс-медиа.
Разные красивые речи, с которыми выступают сегодня представители крупнейших международных бюрократических институтов, таких как ОЭСР, ООН, Евросоюз или Всемирный банк, рассуждающие о значимости гражданского общества, необходимости «правления» и «прозрачности», никогда не сравнятся по силе с несколькими статьями из Декларации прав человека и гражданина, которую породила революционная Франция и которая обошла весь свет, создав современное понятие гражданственности. Последнее, что бы о нём ни говорили такие традиционалисты, как Лео Штраус или Франсуа Фюре (вместе со своими современными эпигонами), всё равно остаётся намного более богатым, новаторским и универсальным, нежели античное понятие гражданственности, которой могли пользоваться только люди, по своему происхождению связанные с оседлым племенем, основавшим данный город, так что гражданских прав лишались все новоприбывшие (которых называли метеками и периеками), не говоря уже о рабах. Вот почему неотрадиционалистская мысль, которая в такой чести в начале нашего века, постоянно стремится изобретать новые термины, не заботясь об их связности, чтобы вытеснить эти важные понятия, выработанные республиканским духом. Это предприятие казалось бы просто смешным, если бы оно не вело к постоянной войне цивилизаций, культур и религий. В действительности оно стремится к тому, чтобы мы забыли о неслыханном насилии, которое веками порождали религии, конфликтуя друг с другом или внутри самих себя, чтобы мы поверили в то, что сегодня из-за избытка так называемого «прогрессистского» духа хорошо было бы вернуться к божественному закону и к греческой гражданственности.
Всё это было бы всего лишь плохим водевилем, если бы ситуация не была столь серьёзной. Вот почему сегодня как никогда можно быть уверенным в том, что приверженцы республиканских ценностей во всём мире должны наконец перестать чувствовать себя так, словно они в осаде. Кем бы они ни были – европейцами, американцами, китайцами, индийцами или египтянами, христианами, евреями, мусульманами, буддистами, конфуцианцами, индуистами, шиитами или суннитами, католиками или протестантами, даосистами или синтоистами, – все они, раз они верят в необходимость построения публичного республиканского пространства, как национального, так и международного, должны мобилизоваться, чтобы приступить к его обустройству.
Многие мусульманские страны, исключающие исламистские партии из политической игры, должны были бы, если они соглашаются с духом республиканизма, допустить их, если их программа и практика размежевываются с любым насилием и соглашаются с демократическим плюрализмом.
В конце концов, религиозный экстремизм Европы XVI и XVIII веков привел, пусть и косвенно, к некоторым положительным следствиям, каковыми стали развитие свободы и принятие плюрализма. Более того, именно устойчивость основ светского республиканизма в Турции, пусть даже он постоянно критикуется и не пользуется особой любовью, позволила сегодня политической партии, заявляющей о своей исламских ценностях, получить абсолютное большинство на выборах и, соответственно, возможность мирно управлять страной. Поэтому, видимо, пришло время установить внутри самих мусульманских обществ связь между развитием светского республиканского духа и возможностью встроить партии, отстаивающие исламские ценности, в политических порядок; в исламских обществах, чьи режимы жестоко борются со светскостью и светскими мыслителями, следовало бы также, как мы уже говорили, создать пространство для светскости и перестать преследовать светских интеллектуалов.
Во всех странах, очевидно, роль масс-медиа весьма важна для запуска этого демократического обновления, что требует изобретения действительных механизмов регуляции и этического контроля. Ведь сегодня, что уже всем давно понятно, почти все господствующие медиа – всего лишь приложения к экономическим, политическим или религиозным группам влияния. Демократия, достойная этого наименования, – та, которая справедливо распределяет эфирное время и полосы газет между различными мнениями и которая не смешивает этнические и религиозные особенности со всевозможными новыми псевдо-философиями. Демократия не может быть этим плохим медиа-политическим театром, связанным с финансовыми группами, которые богатеют благодаря новому режиму глобализации, не имея никакого другого горизонта, кроме эмоций, вызванных катастрофой, или же результатов последнего социологического опроса по поводу популярности того или иного руководителя.
Демократия не может быть закрытым пространством предельного эгоизма, как и постоянной боевой мобилизацией. Она может быть лишь страстным и разумным поиском общественного блага (res publica), чего как раз и хотел добиться республиканский дух модерна, а до него – гуманизм и век Просвещения. Только на основе общей республиканской платформы мы сможем действительно вести диалог по реальным проблемам мира, имеющим совершенно конкретный, приземлённый характер, и вернуть экзистенциальные проблемы человека в частную сферу, идёт ли речь о его религии, вере, его этнических корнях или личных «памятных местах». Однако поиск общественного блага в современном глобализированном и взаимозависимом мире больше не может быть тем, чем он был в философии модерна или в критических по отношению к ней сочинениях таких авторов, как Ницше или Лео Штраус, то есть он не может существовать в закрытом мире европейской культуры и её различных версий – французской, итальянской, немецкой или англосаксонской.
«Переобоснование» мира?
Итак, пришло время проветрить пространство, выйти из библейского архетипа, будь он религиозным или секуляризированным, отказаться от восхваляемой греческой модели и от искаженных парадигм Ницше, Хайдеггера и Лео Штрауса. Эти бесплодные парадигмы модерна и контр-модерна привели к формированию безумных властных проектов, но не смогли разрешить ни одного из малейших противоречий между традиционалистами и прогрессистами, которые со времен религиозных войн приводили к насилию, длившемуся почти непрерывно.
Сегодня экономическая глобализация заканчивает разрушение социально-экономической среды миллиардов крестьян мира, особенно в Азии и Африке, ставя под вопрос и социально-экономическую стабильность наиболее развитых европейских стран. Фундаменталистские, традиционалистские и нигилистические басни находят в этом контексте плодородную почву для распространения страха перед концом света, который лежал в основе чудовищного насилия прошлых веков, способного, таким образом, вернуться и в наше время. Возрождение всевозможных форм терроризма вместе с геополитическими и идеологическими манипуляциями, объектом которых они становятся, представляют собой всего лишь одно из проявлений этого контекста всеобщего распада, который благоприятствует также и безудержному распространению американской власти, подогревая усердие, с которым его идеологи продвигают этот порядок голой силы.
Чтобы распрощаться с этими баснями, нужно «провести работу над ошибками», вступить в то, что Хабермас называет «коммуникационным разумом», иными словами «парадигма познания предметов должна смениться парадигмой взаимопонимания между субъектами, способными рассуждать и действовать»[273]. Хабермас поясняет: «Разумеется, трансцендентально историческая “сила” – единственная константа в перипетиях побеждающих и побежденных дискурсов – в конце концов оказывается всего лишь эквивалентом понятия «жизнь» в ее традиционной экзистенциалистской интерпретации. Более приемлемый вариант можно найти, отказавшись от несколько сентиментальной предпосылки метафизической бездомности, и поняв, что метания между трансцендентальной и эмпирической концепциями, между радикальной саморефлексией и отсутствием возможности вернуться к истокам и архаичным временам, между продуктивностью человеческого рода, производящего себя, и предшествующей всему производящему изначальностью являются именно тем, что представляет собой и вся эта игра удвоений, то есть симптомом исчерпанности. И тогда окажется, что, раз парадигма философии сознания полностью исчерпала себя, в такой ситуации переход к парадигме взаимопонимания приведет к исчезновению самого этого симптома»[274].
Итак, неотложная задача, требующая всего наша внимания, – покончить с лицемерным самокопанием, царящим как в национальных политических системах, так и в системе международных отношений, чтобы благодаря консенсусу найти действительные нормы междугосу-дарственного поведения, а также восстановить престиж и функцию суверенного государства. Разнузданная свобода торговли и враждебность по отношению к любому вмешательству, нацеленному на регуляцию социальных, экономических или финансовых, национальных или международных дисбалансов, – это и есть рецепты для сотворения грядущей катастрофы. Интеллектуальная и экономическая повестка мира не может больше определяться исключительно несколькими американскими или европейскими медийными интеллектуалами, политиками и высокопоставленными чиновниками «Большой восьмерки», Всемирного банка или Международного валютного фонда, из года в год провоцирующими одни и те же антиглобалистские манифестации, на которые натравливаются всё те же силы правопорядка, но ничего существенного не меняется.
Нельзя продолжать игнорировать Бразилию, Индию, Китай, Мексику и многие другие страны; судьба Палестины не должна оставаться вечной драмой; американские и британские войска должны выйти из Ирака; а если требуется пополнить список памятных мест, нужно срочно основать то место, что было бы связано со страданиями, принесёнными колониализмом, рабством и войнами деколонизации[275].
Всё это, очевидно, поставило бы под вопрос современную линию развития мира, но изменить её быстро не получится, пока мы имеем дело с гнетущей тенденцией, развитию которой, похоже, ничто не в состоянии воспрепятствовать. По крайней мере, необходимо правильно определить болезни, которыми страдает мир, и распознать изнанку тех декораций, которые нас окружают, что мы и попытались здесь сделать. Работа над изменением современного состояния мира предполагает расставание с интеллектуальной повесткой и большими философскими парадигмами оголтелого неоконсерватизма, который покрывает и легитимирует социальный и культурный распад, вызываемый многосторонним кризисом, особенно сильно ударившим по монотеистическим обществам. «Переобоснование» мира в том смысле, который этому термину придавала Ханна Арендт, – это, несомненно, дело многих лет, в течении которых может произойти множество социальных, политических и военных потрясений и волнений.
Подобное переобоснование требует примирения традиционалистской мысли и прогрессистской – как на Западе, так и на Востоке – благодаря диалогу, который заставил бы традиционалистов, анти– или постмодернистов отказаться от своей одержимости старыми дореволюционными моделями, искаженными парадигмами и авторитарным желанием власти. Нужен диалог, который не сводился бы к непрестанным, использующим различные техники интеллектуального устрашения обвинениям в адрес республиканцев, которые по-прежнему вдохновляются идеей прогресса, гуманизмом и поиском универсальных норм и ценностей, способных обеспечить мир на всей планете. Чтобы принести плоды, этот диалог должен выйти из замкнутого круга политиков и западных мыслителей, искренне раскрывшись навстречу великим незападным системам мысли, которые сами чаще всего пребывают в кризисе, испытав на себе коснувшийся их ураган европейской культуры и промышленности. Только в таком диалоге неразрешимые до сего момента проблемы западного антисемитизма, статуса государства Израиль и палестинцев, не имеющих своей государственности, американского и исламского религиозного фундаментализма могли бы найти разумные решения, обеспеченные общим консенсусом.
В мире, прошедшем глобализацию, в котором встреча «Запада» с «Востоком» вот уже четыре столетия остаётся проблемой, кризис легитимности глобален, и столь же глобальной оказывается потребность в переобосновании. Ведь кризис разъедает не только внутренний порядок обществ, но и международный, который по этой причине всё больше опирается на развертывание американских имперских сил. И всё это еще больше осложняется тем, что, парадоксальным образом, открытое или закамуфлированное сопротивление этому присутствию вызывает ещё большую глобализацию, ещё больше американских интервенций, приводя к почти полному интеллектуальному и политическому подчинению ООН интересам США.
Нескоро мир сможет выйти из этого порочного круга. Но мы, по крайней мере, можем работать над осознанием этой ситуации. Только благодаря такому осознанию можно противостоять одновременно разрушительной экономической глобализации, которая стремится оправдать тезис о войне цивилизаций, и вторящему ей эху терроризма.
Библиография
Abdel Malek Anouar, La Pensée politique arabe contemporaine, Seuil, Paris, 1976.
Anderson Benedict, L’Imaginaire national. Réflexions sur lorigine et lessor du nationalisme, La Découverte, Paris, 1996 [Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001].
Anderson Perry, La Pensée tiède. Un regard critique sur la culture française, Seuil, Paris, 2005.
Arendt Hanna, Eichman in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil, The Viking Press, New York, 1963; фр. перевод: Eichman à Jerusalem. Rapport sur la banalité du mal, Gallimard, Paris, 1966 [Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М., 2008].
–, Sur l’antisémitisme, Calmann-Lévi, Paris, 1951.
–, La Crise de la culture, Gallimard, Paris, 1972 (оригинальное английское издание – 1954 г.).
–, On Revolution, The Viking Press, New York, 1963; фр. перевод: Essai sur la Révolution, Gallimard, Paris, 1967 [Арендт Х. О революции. М., 2011].
Antonius George, The Arab Awakening, Capricorn Books, New York, 1965.
Augustin (saint), La Cité de Dieu, trois volumes, Seuil. Paris, 1994.
Baer Robert, See no Evil. The True Story of a Ground Soldier in the CIAs War on Terrorism, Crown Publishers, New York, 2002.
–, Sleeping with the Devil. How Washington Sold our Soul for Saudi Crude, Crown Publishers, New York, 2003.
Jean Bauberot, Vers un nouveau pacte laïque, Seuil, Paris, 1990.
Baubérot Jean, Mathieu Séverine, Religion, modernité et culture au Royaume-Uni et en France, 1800–1914, Seuil, coll. «Points Histoire», Paris, 2002
Baylin Bernard, The Ideological Origins of the American Revolution, The Belknap Press of the Harvard University Press, 1992.
Besançon Alain, Les Origines intellectuelles du léninisme, Calmann-Lévy, Paris, 1977.
Blau Ruth, Les Gardiens de la Cité. Histoire d’une guerre sainte, Flammarion, Paris, 1978.
Blondin Denis, Les Deux Espèces humaines. Autopsie du racisme ordinaire, L’Harmattan, Paris, 1975.
Blumenberg Hans, La Légitimité des Temps modernes, Gallimard, Paris, 1999.
Boff Leonardo, Qu’est-ce que la théologie de la libération? Cerf, Paris, 1987.
Bonald Lois de, Théorie du pouvoir politique et religieux démontrée par le raisonnement et par l’Histoire, 10/18, Paris, 1965.
Boniface Pascal, Est-il permis de critiquer Israël? Robert Laffont, Paris, 2003.
Brague Rémi, La Loi de Dieu. Histoire philosophique d’une alliance, Gallimard, Paris, 2005.
Breilich Angelo, Histoire des religions, Gallimard, coll. «La Pléiade», 3 vol., Paris, 1970.
Cahuet André, La Question d’Orient dans l’histoire contemporaine, 1821–1905, Dujarric et Cie, Paris, 1905.
Carter Jimmy, The Blood of Abraham. Insights to the Middle East, Houghton Mifflin, Boston, 1985.
Chaunu Pierre, Le Temps des réformes, Fayard, Paris, 1975
Chelini Jean, Histoire de l’Occident médiéval, Hachette, Paris, 1991.
Cherfils Christian, Bonaparte et l’islam d’après les documents français et arabes, A.Pedone, Paris, 1914.
Chomsky Noam, Deterring Democracy, Hill and Wang, New York, 1992.
Citron Suzanne, Le Mythe national. L’histoire de France en question, Éditions ouvrières, Paris, 1987.
Clarke Richard A., Against All Enemies. Inside America’s War on Terror, Free Press, New York, 2004.
Cooley John K., Unholy Wars. Afghanistan, American and International Terrorism, Pluto Press, London, 2000.
Corm Georges, Histoire du pluralisme religieux dans le Bassin méditerraéen, Paul Geuthner, Paris, 1998.
–, Proche-Orient éclaté. 1956–2003, Gallimard, Paris, 2003 (первое издание: La Découverte, Paris, 1983).
–, Youakim Moubarac. Un homme d’exception, La Librarie irientale, Beyrouth, 2004.
Courtois Stéphane, et alii, Le Livre noir du communisme. Crimes, terreur et répression, Robert Laffont, Paris, 1997.
Crapanzano Vincent, Literalism in America. From the Pulpit to the Bench, The New Press, New York, 2000.
Crouzet Denis, Les Guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion. Vers 1525–1610, 2. vol., Champ Vallon, Seyssel. 1990.
Delumeau Jean, Naissance et affirmation de la Réforme, PUF, Paris, 1965.
Diekhoff Alain, L’Invention d’une nation. Israël et la modernité politique, Gallimard, Paris, 1993.
Dosse François, L’Histoire en miettes. Des “Annales” à la “nouvelle histoire”, La Découverte, Paris, 1987.
–, La Marche de idées. Histoire des intellectuels, histoire intellectuelle, La Découverte, Paris, 2003.
Durand Gilbert, Introduction à la mythodologie, Mythes et societés, Albin Michel, Paris, 1996.
Eliade Mircea, La Nostalgie des origines, Gallimard, Paris, 1971.
Evola Julius, Orient et Occident, Arche, Milano, 1982.
Fattal Antoine, Le statut légal des non-musulmans en pays d’islam, Impimerie catholique, Beyrouth, 1958.
Filali-Ansari Abdou, Réformer l’islam? Une introduction aux débats contemporains, La Découverte, Paris, 2002.
Finkelstein Norman, L’Industrie de l’Holocauste. Réflexions sur l’exploitation des souffrances des Juifs, La Fabrique, Paris, 2001.
Flash Kurt, Introduction à la philosophie médiévale, Flammarion, Paris, 1992.
Flori Jean, La Première Croisade. L’Occident chrétien contre l’islam (aux origines des idéologies occidentales), Complexe, Bruxelles, 1992.
Foucault Michel, Philosophie. Anthropologie, Gallimard, Paris, 2004.
Fukuyama Francis, La Fin de l’Histoire et le dernier homme, Flammarion, Paris, 1995 [Фукуяма Ф. Конец истории и roa следний человек. М., 2010].
Françoit Furet et Ernst Nolte, Fascisme et communisme, Plon, Paris, 1998.
François Furet, Penser la Révolution française, Gallimard, Paris, 1978.
–, Le Passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au XXe siècle, Laffont, Paris, 1995.
Fustel de Coulanges Numa-Denis, La Cité antique, Librarie L. Hachette et Cie, Paris, 1866.
Galloux Michel, Finance islamique et pouvoir politique. Le cas de l’Égypte, PUF, Paris, 1997.
Garrisson Janine, L’Édit de Nantes et sa révocation, Seuil, Paris, 1985.
Gayraud Jean-François, Sénat David, Le Terrorisme, PUF, Paris, 2002.
Geifman Anna, Thou Shall Kill. Revolutionary Terrorism in Russia, 1894–1917, Princeton University Press, Princeton, 1993.
Gellner Ernest, Nations et nationalisme, Payot, Paris, 1989 [Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991].
Ghandour Abdel-Rahman, Jihâd humanitaire. Enquête sur les ONG islamiques, Flammarion, Paris, 2002.
Girardet Raoul, L’Idée coloniale en France, La Table ronde, Paris, 1972.
Gueniffey Patrick, La Politique de la Terre. Essai sur la violence révolutionnaire 1789–1794, Fayard, Paris, 2000.
Guénon René, La Crise du minde moderne, Gallimard, Paris, 1946.
–, Introduction générale à l’étude des doctrines hindoues, Gui Trédaniel, Paris, 1997.
Habermas Jürgen, Le Discours philosophique de la modernité, Gallimard, Paris, 1988 [Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М., 2003].
Hardy Deborah, Land and Freedom. The Origins of Russian Terrorism, 1876–1879, Greenwood Press, New York, 1987.
Hartog François, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Seuil, Paris, 2004.
Hegel Friedrich, La Raison dans l’Histoire, 10/18, Paris, 1955 [Гегель Г.В.Ф. Философия истории // Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т.8, М., 1935].
–, Leçons sur l’histoire de la philosophie, 2. vol., Gallimard, Paris, 1954 [Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Книга 2 // Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т.10, М., 1932].
Henry Clement M., Wilson Rodney (dir.), The Politics of Islamic Finance, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2004.
Hernandez Miguel Cruz, Histoire de la pensée en terre d’islam, Desjonquères, Paris, 2005.
Herzl Theodor, L’État des Juifs, traduction de Claude Klein, La Découverte, Paris, (1896) 2003.
Hilberg Raul, La Destruction des Juifs d’Europe, Fayard, Paris, 1988 (карманное издание: Gallimard, coll. «Folio/ Histoire», Paris, 1991, 2 vol.).
–, La Politique de la mémoire, Gallimard, Paris, 1996.
Hill Christopher, The World Turned Upside Down. Radical
Ideas during the English Revolution, Penguin Books, London, 1974.
Hobsbawn Eric, Nation and Nationalism, since 1870. Program, Myth, Reality, Cambridge University Press, Cambridge, 1990 [Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб., 1998].
–, LÂge des extrêmes. Histoire du courtXXe siècle, Complexe, Bruxelles, 1999. [Хобсбаум Э. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век 1914–1991. М., 2004].
Howard Michel, La Guerre dans l’histoire de l’Occident, Fayard, Paris, 1998.
Hourani Albert, Arabic Thought in the Liberal Age, 17981939, Oxford University Press, London, 1967.
Huntington Samuel, Le Choc des civilizations, Odile Jacob, Paris, 1997 [Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003].
Ismaïl Adel, Histoire du Liban du XVIIe siècle à nos jours, tome IV, Redressement et déclin du féodalisme libanais (18401861), Beyrouth, 1958.
Johannet René, Le Principe des nationalités, Nouvelle Libra-rie nationale, Paris, 1923;
Jouanna Arlette, Boucher Jacqueline, Biloghi Dominique, Lethiec Guy, Histoire et Dictionnaire des guerres, Robert Laffont, Paris, 1998.
Joxe Alain, L’Empire du chaos. Les Républiques face à la domination américain dans laprès-guerre froide, La Découverte, Paris, 2002.
Robert Kagan, La Puissance et la Faiblesse. Les États-Unis et l’Europe dans le nouvel ordre mondial, Plon, Paris, 2003.
Kant Emmanuel, Opuscules sur l’histoire, Flammarion, Paris, 1990 [Кант И. Идея всеобщей истории во всемирногражданском плане // Собрание сочинений в 6 томах. Т. 6, М., 1966].
Kaplan Robert D., La Stratégie du guerrier. De l’éthique païenne à l’art de gouverner, Bayard, Paris, 2003.
Kepel Gilles, Les Banlieus de l’islam. Naissance d’une religion en France, Seuil, Paris, 1987.
–, La Revanche de Dieu. Chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du monde, Seuil, Paris, 1992.
Kolarz Walker, La Russie et ses colonies, Fasquelle, Paris, 1954.
Koselleck Reinhart, Le Futur Passé. Contibution à la sémantique des temps historiques, Éditions de l’École des hautes etudes en sciences socials, Paris, 1990.
Lacan Jacques, Le Triomphe de la religion, Seuil, Paris, 2005.
Laoust Henri, Les Schismes dans l’Islam, Payot, Paris, 1965.
–, Pluralisme dans l’islam, Revue d’études islamiques, Hors série № 15, Geuthner, Paris, 1983.
Las Casas Bartolomé de, Très brève relation de la destruction des Indes (1552). La Découverte/Poches, Paris, 1996.
Laurens Henry, Le Royaume impossible. La France et la genèse du monde arabe, Armand Colin, Paris, 1999.
Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, PUF, Paris, 1968.
–, L’Europe est-elle née au Moyen Âge? Seuil, Paris, 2003.
Lea Henry Charles, Histoire de l’Inquisition au Moyen Âge, Robert Laffont, Paris, 2004.
Lecler Joseph, Histoire de la tolérence au siècle de la Réforme, Albin Michel, Paris, 1994.
Lecourt Dominique, LAmérique entre la Bible et Darwin, PUF, Paris, 1988.
Legendre Pierre, Ce que l’Occident ne voit pas de l’Occident, Mille et une nuits, Paris, 2004.
Léger François, Les Influences occidentales dans la révolution de l’Orient, Inde-Malasie-Chine, 1850–1950, 2 vol., Plon, Paris, 1955.
Lieven Anatol, Le Nouveau Nationalisme amérique, J.-C. Lattès, Paris, 2004.
Luther Martin, Les Grand Écrits réformateurs, Flammarion, Paris, 1992.
Martin Vanessa, Islam and Modernism. The Iranian Revolution of 1906, I.B. Tauris, London, 1989.
Mayer Arno, La “Solution finale” dans l’histoire, La Découverte, Paris, 1990.
Merle Marcel (dir.), LAnticolonialisme européen de Las Casas à Marx, Armand Colin, Paris, 1969.
Michelet Jules, Histoire de la Révolution française, 2 vol., Robert Laffont, Paris, 1979.
Miquel Pierre, Les Guerres de religion, Fayard, Paris, 1980.
Molnar Thomas, La Contre-Révolution, 10/18, Paris, 1972.
Moreau Jean-Paul, Disputes et conflits du christianisme. Dans l’Empire romain et l’Occident médiéval, L’Harmattan, Paris, 2005.
Nemo Philippe, Qu’est-ce que l’Occident? PUF, Paris, 2004.
Nicolet Claude, L’idée republicain en France (1789–1924), Gallimard, Paris, 1994.
Nipperdey Thomas, Réflexions sur l’histoire allemande, Gallimard, Paris, 1992.
Ernst Nolte, Les Mouvements fascists. L’Europe de 1919 à 1945, Calmann-Lévy, Paris, 1991.
–, La Guerre civile européenne, 1917–1945. National-Socialisme et bolchevisme, Syrtes, Paris, 2000.
–, Les Fondements historiques du national-socialisme, Le Rocher, Monaco, 2004.
Norris Pippa, Ingelhart Ronald, Sacred and Secular, Religion and Politics Worldwide, Cambridge University Press, 2004.
Olender Maurice, Les Langues du paradis. Aryens et Sémites, un couple providentiel, Seuil, Paris, 1989.
Pannikar Kavalam Madhava, LAsie et la domination occidentale, Seuil, Paris, 1956.
Parigi Stéphanie, Des banques islamiques. Argent et religion, Ramsay, Paris, 1989.
Parker Geoffrey, La Guerre de Trente Ans, Aubier, Paris, 1987.
Pirenne Jacques, Les Grands Courants de l’histoire universelle, tome 2, De L'Expansion musulmane aux traités de West-phalie, La Baconnière, Neuchâtel, 1959.
Popper Karl, La Société ouverte et ses ennemis, Seuil, Paris, 1979 [Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992].
Poussou Jean-Pierre, Cromwell, la révolution d’Angleterre et la guerre civile, PUF, Paris, 1993.
Quinet Edgar, Le Christianisme et la Révolution française, Fayard, Paris, 1984.
Rabkin Yakov M., Au nom de la Torah. Une Histoire de l’opposition juive au sionisme, Presses de l’Université Laval, Québec, 2004.
Réau Louis, L’Europe française au siècle des Lumières, Albin Michel, Paris, 1951.
Renan Ernest, Qu’est-ce qu’une nation, Presses Pocket, Paris, 1992.
Ricœur Paul, La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, Seuil, Paris, 2000 [Рикер П. Память, история, забвение. М., 2004].
Robin Marie-Monique, Escadrons de la mort, l’école française, La Découverte, Paris, 2004.
Rostow Walter, Les Étapes de la croissance économique, Seuil, Paris, 1961.
Roucaute Yves, Le néoconservatisme est un humanisme, PUF, Paris, 2005.
Rouvillois Frédéric, L’invention du progrès. Aux origines de la pensée totalitaire (1680–1730). Kimé, Paris, 1996.
Roy Olivier, L’Islam mondialisé, Seuil, Paris, 2004.
Rubenstein Richard E., Le jour où Jésus devient Dieu. L’ «affaire Arius» ou la grande querelle sur la divinité du Christ au dernier siècle de l’Empire romain, La Découverte, Paris, 2001.
Ruthven Malise, Fundamentalism. The Search for Meaning, Oxford University Press, 2004.
Sallman Jean-Michel, Géopolitique du XVI siècle. 1490–1618, Seuil, Paris, 2003.
Santamaria Yves, Vache Brigitte, Du printemps des peoples à la Sociétés des Nations. Nations, nationalités et nationalismes en Europe, 1850–1920, La Découverte, Paris, 1996.
Schama Simon, Citizens. A Chronicle of the French Revolution, Knopf, New York, 1989.
Shahak Israël, Mezvinsky Norton, Jewish Fundamentalism in Israel, Pluto Press, London, 1999.
Sieffert Denis, Israël-Palestine, une Passion française, La Découverte, Paris, 2004.
Sigaud Pierre-Marie, René Guénon, Les Dossiers H, LÂge d'homme, Lausanne, 1984.
Skocpol Tedda, État et révolutions socials, La révolution en France, en Russie et en Orient, Fayard, Paris, 1985.
Slavin Morris, The Left and the French Revolution, Humanities Press, New Jersey, 1995.
Solé Robert, Le Défi terroriste. Leçons italiennes à l’usage de l’Europe, Seuil, Paris, 1979.
Sorman Gui, Les Enfant de Rifaa: musulmans et modernes, Fayard, Paris, 2003.
Steiner George, Une certaine idée de l’Europe, Actes Sud, Arles, 2005.
Stone Lawrence, The Causes of the English Revolution, 15291643, Routledge and Kegan Paul, London, 1972.
Stonor Saunders Frances, Qui mène la danse? La CIA et la guerre froide intellctuelle, Denoël, Paris, 2003.
Straka Gerald M. (dir.), The Revolution of 1688 and the Birth of the English Political Nation, D.C. Heath and Company, Lexington, 1973.
Leo Strauss, Droit naturel et Histoire, Flammarion, Paris, 1986.
–, Nihilisme et politique, Rivages, Paris, 2001.
–, The City and Man, The University of Chicago Press, Chicago, 1964 (фр. перевод: La Cité et l’Homme, Le Livre de poche, Paris, 2005).
Tanguay Daniel, Leo Strauss, une biographie intellectuelle. Le Livre de poche, Paris, 2003.
Testas Guy, Testas Jean, L’Inquisition, PUF, Paris, 1966.
Thiesse Anne-Marie, La Création des identitées nationales. Europe XVIIIe-XXe sciècle, Seuil, Paris, 1999.
Vankley Dale K., Les Origines religieuses de la la Révolution française. 1560–1791, Seul, Paris, 2002.
Walter Gérard, La Révolution anglaise. Lexécution de Charles Ier et l’ascension de Cromwell, Marabout, Paris, 1982.
Warde Ibrahim, Islamic Finance in the Global Economy, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2000.
Weil Georges, L’Europe du XIXe siècle et l’idée de nationalité, Albin Michel, Paris, 1938.
Weizman Chaïm, Naissance d’Israël, Gallimard, Paris, 1957.
Wentz Richard E., American Religious Traditions. The Shaping of Religion in the United States, Fortress Press, Minneapolis, 2003.
Winock Michel (dir.), Histoire de l’extrême droite en France, Seuil, Paris, 1994.
Yared Nazik Saba, Secularisation and the Arab World, Saqi Books, London, 2002.
Ye’Or Bat, Chrétientés d’Orient entre jihâd et dhimmitude, VIIe-XXe siècle, Cerf, Paris, 1991.
Zeghal Malica, Les Islamistes marocains, Le défi à la monarchie, La Découverte, Paris, 2005.
Zertal Idith, La Nation et la Mort. La Shoah dans le discours et la politique d’Israël, La Découverte, Paris, 2004.
Примечания
1
В начале 2005 году в Киеве начались массовые манифестации, направленные против переизбрания президента республики, срок которого заканчивался: его обвинили в пророссийской позиции и стремлении к диктатуре; через несколько месяцев столь же масштабные манифестации начались в Бейруте после убийства премьер-министра, который ускорил вывод сирийских войск из Ливана.
(обратно)2
Leonardo Boff, Qu’est-ce que la théologie de la libération? Cerf, Paris, 1987.
(обратно)3
Eric Hobsbawn, LÂge des extrêmes. Histoire du courtXXe siècle, Complexe, Bruxelles, 1999. [Хобсбаум Э. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век 1914–1991. М., 2004. – Здесь и далее в квадратный скобках указываются соответствующие русские издания. – Прим. перевод.]
(обратно)4
Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, Penguin, London, 1992 (фр. перевод: La Fin de l’Histoire et le dernier homme, Flammarion, Paris, 1995) [Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2010].
(обратно)5
Samuel Huntington, “The Clash of Civilisations?”, in Foreign Affairs, summer 1993 (французский перевод: Le Choc des civilizations, Odile Jacob, Paris, 1997) [Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003]. Значительная часть мировой интеллектуальной повестки дня в области геополитики начала XXI века организована тезисами этой книги, ставшей важной вехой, а Хантингтон стал одним из архитекторов представлений о новом мире, в котором нам приходится жить.
(обратно)6
Gilles Kepel, La Revanche de Dieu. Chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du monde, Seuil, Paris, 1992; а также его же работу: Les Banlieus de l’islam. Naissance d’une religion en France, Seuil, Paris, 1987. Контрапунктом к этой работе может выступать важная книга Пиппа Норрис и Рональда Ингельхарта: Norris P., Ingelhart R., Sacred and Secular, Religion and Politics Worldwide, Cambridge University Press, Cambridge, 1994 (см. особенно главу 1, посвященную спору о секуляризации: pp. 3-33). Два этих автора оспаривают тезис «возвращения религиозности», опираясь на многочисленные опросы и количественные данные. Они снова подтверждают корреляцию между ростом уровня индустриализации и благосостояния и ослаблением религиозного чувства и религиозной практики; по их мнению, американское исключение объясняется пуританскими корнями американского национализма (к этому вопросу мы еще вернемся), а также все большим числом семей иммигрантов, приехавших из бедных стран Центральной и Южной Америки, а также с Кариб. В большинстве случаев авторы констатируют сильную корреляцию между усилением чувства незащищенности и обращением к религии, особенно в развивающихся регионах мира. Этот анализ вполне применим и к арабскому миру, разрываемому внутренними или межгосударственными войнами на протяжении уже полувека.
(обратно)7
Antoine Sfeir, Les Réseaux d’Allah, Plon, 1997.
(обратно)8
Olivier Roy, L’Islam mondialisé, Seuil, Paris, 2004.
(обратно)9
Michel Foucault, “À quoi rêvent les Iraniens”, Le Nouvel Observateur, 16 octobre 1978 (цитируется в: François Dosse, La Marche de idées. Histoire des intellectuels, histoire intellectuelle, La Découverte, Paris, 2003).
(обратно)10
Raul Hilberg, La Destruction des Juifs d’Europe, Fayard, Paris, 1988 (карманное издание: Gallimard, coll. «Folio/Histoire», Paris, 1991, 2 vol.).
(обратно)11
Напротив, можно вспомнить о той буре, которую подняли критические размышления Ханны Арендт по поводу процесса Эйхмана в Иерусалиме (Hanna Arendt, Eichman in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil, The Viking Press, New York, 1963; фр. перевод: Eichman à Jerusalem. Rapport sur la banalité du mal, Gallimard, coll. «Folio/Histoire», Paris, 1991 [Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М., 2008]); а также нападки на работу американского историка Арно Майера: Arno Mayer, La “Solution finale” dans l’histoire, La Découverte, Paris, 1990. Мы этому вопросу еще будем возвращаться.
(обратно)12
Эту основополагающую трансформацию в мировосприятии мы подробно проследили в работе «Взорванный Ближний Восток»: Georges Cormes, Proche-Orient éclaté. 1956–2003, Gallimard, coll. «Folio/ Histoire», Paris, 2003 (первое издание: La Découverte, Paris, 1983), глава 21 «Сложность израильской динамики и возрождение иудаизма», pp. 830–890.
(обратно)13
Marek Halter, La Mémoire dAbraham, Laffont, Paris, 1983.
(обратно)14
Именно это делает в своей работе бывший президент США Джимми Картер, которому удалось заключить мир между Египтом и Израилем в 1978–1979 гг. (Jimmy Carter, The Blood of Abraham. Insights to the Middle East, Houghton Mifflin, Boston, 1985).
(обратно)15
См.: Daniel Tanguay, Leo Strauss, une biographie intellectuelle. Le Livre de poche, Paris, 2003.
(обратно)16
Leo Strauss, “Jerusalem and Athens. Some preliminary reflections”, The First Frank Cohen Public Lecture in Judaic Affairs, The City College Papers, № 6, 1967 (во французском переводе вошло в издание: Leo Strauss, Études de philosophie platonicienne, Berlin, Paris, 1992). Влияние работ Штрауса было огромным. Их отзвуки мы можем обнаружить даже в блестящей лекции о будущем Европы, прочитанной знаменитым эссеистом Джорджем Стейнером, в которой он утверждает: «Двусмысленный груз прошлого в идее и самом существе Европы проистекает из первичной двойственности. […] Речь идет о двойном наследстве Афин и Иерусалима. […] Быть европейцем – значит пытаться примирить (морально, интеллектуально и экзистенциально) соперничающие идеалы, требования, праксис полиса Сократа и града Исайи»; развивая еще больше метафору Штрауса, Стейнер заявляет: «В текстуре западного бытия, в сознании мира мы не найдем ни одного жизненного узла […] который не был бы затронут древнееврейским наследием. […] Иудаизм и два его главных постскриптума – христианство и утопический социализм – это потомки Синая, даже там, где сами евреи были презираемой и преследуемой горсткой людей» (George Steiner, Une certaine idée de l’Europe, Actes Sud, Arles, 2005, pp. 36–37 и 41–42).
(обратно)17
Jacques Lacan, Le Triomphe de la religion, Seuil, Paris, 2005, pp. 79–80; По Лакану, «Истинная религия существует. Это религия христианская», и именно она одержит победу благодаря своей способности «находить во всем смысл» (p. 81). Прямо противоположное утверждает Стейнер: «Жестокая истина заключается в том, что до сего момента Европа отказывалась признавать и анализировать, не говоря уже о том, чтобы осуждать, ту полновесную роль, которую христианство сыграло в темной ночи истории. […] Сегодня христианство – это сила, находящаяся на пути к исчезновению» (George Steiner, Une certaine idée de l’Europe, op. cit., p. 55).
(обратно)18
Jacques Lacan, Le Triomphe de la religion, op. cit.,p. 82.
(обратно)19
См., например: Yves Roucaute, Le néoconservatisme est un humanisme, PUF, Paris, 2005.
(обратно)20
Michel Foucault, Philosophie. Anthropologie, Gallimard, Paris, 2004.
(обратно)21
Pierre Legendre, Ce que l’Occident ne voit pas de l’Occident, Mille et une nuits, Paris, 2004, p. 47. Весьма конформистское и наивное представление этой памяти можно найти у Филиппа Немо: Philippe Nemo, Qu’est-ce que l’Occident? PUF, Paris, 2004.
(обратно)22
В своем замечательном предисловии к изданию текстов Лютера (Martin Luther, Les Grand Écrits réformateurs, Flammarion, Paris, 1992) он пишет: «Беспамятное общество – это возмездие за рост, ведь мы припоминаем все что угодно. Мы праздновали 450-ю годовщину Аугсбургского исповедания (1980), рождение Лютера (1983), трехсотлетие отмены Нантского эдикта (1985), 450-летие публикации в Женеве “Наставления в христианской вере” и “О реформе” (1986); 1989 год стал предлогом для галлопоклоннических жестикуляций (двухсотлетие пропустить никак нельзя), а этим доказывается, что чувство юмора по отношению к самим себе встречается среди людей столь же редко, как и здравый смысл, столь щедро пообещанный нам Декартом» (p. 4).
(обратно)23
Georges Corm, Histoire du pluralisme religieux dans le Bassin méditerraéen, Paul Geuthner, Paris, 1998 (первоначально опубликовано под заглавием: Contribution à l’étude des sociétés multiconfessionnelles. Effets socio-juridiques et politiques du pluralisme religieux, Bibliothèque constitutionnelle et de sciences politiques, tome XLII, Librarie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1971).
(обратно)24
Georges Corm, L’Europe et l’Orient. De la balcanisation à la libanisation, histoire d’une modernité inaccomplie, La Découverte, Paris, 1989 (карманное издание: 2002 и 2005).
(обратно)25
Georges Corm, Le Proche-Orient éclaté 1956–2003, op.cit.
(обратно)26
Yves Roucaute, Le néoconservatisme est un humanisme, op.cit., pp. 11–12.
(обратно)27
Leo Strauss, Nihilisme et politique, Rivages, Paris, 2001, p. 36.
(обратно)28
Понятие «ангажированного» художника или писателя не ограничивается сторонниками коммунизма. Об ангажировании интеллектуальных и художественных антикоммунистических элит см. прекрасно документированную работу Фрэнсиса Стонора Сондерса: Frances Stonor Saunders, Qui mène la danse? La CIA et la guerre froide intellctuelle, Denoël, Paris, 2003.
(обратно)29
Leo Strauss, The City and Man, The University of Chicago Press, Chicago, 1964 (фр. перевод: La Cité et l’Homme, Le Livre de poche, Paris, 2005, p. 72).
(обратно)30
Ibid., pp. 69–72.
(обратно)31
Christian Bouchindhomme, Rainer Rochlitz, “Avant-propos”, in Jürgen Habermas, Le Discours philosophique de la modernité, Gallimard, Paris, 1988, pp. VI–VII. В этом предисловии хорошо объясняется французский догматизм в области неоконсерватизма: «Остается понять, почему откровения русских диссидентов взволновали молодых французских интеллектуалов больше, чем откровения из других западных стран, если сами факты были известны уже достаточно давно; почему критическая мысль оказалась поставленной перед выбором между, с одной стороны, весьма радикальным активизмом, оставившим печать на целом поколении, и, с другой, либерализмом Рэймона Арона или постмодернизмом. Несомненно, именно предельно догматичный характер французского марксизма, особенно того, что находился под влиянием Луи Альтюссера, и маоистского движения привел к этому удивительному повороту, в результате которого любую критическую мысль стали подозревать в сталинизме или в соответствующих сталинистских тенденциях, причем больше всего подозрений высказывали именно вчерашние яростные сталинисты. В других странах критической мысли удалось избежать подобного радикального обращения, приведшего к не менее догматичному либерализму, в той мере, в какой она сумела утвердиться на основании универсалистских принципов и радикально-демократических идей»
(обратно)32
Jürgen Habermas, Le Discours philosophique de la modernité, op.cit. p. 5 [Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М., 2003. С. 10].
(обратно)33
François Furet, Penser la Révolution française, Gallimard, Paris, 1978, pp. 90–91.
(обратно)34
Как напомнил один из историков английской революции, часто забывают о том, что эта Great Revolution и ее интеллектуальное наследство, оставленное ею, стали «событием основополагающего значения для всего развития западной цивилизации» (см.: Lawrence Stone, The Causes of the English Revolution, 1529–1643, Routledge and Kegan Paul, London, 1972, p. 147).
(обратно)35
Edgar Quinet, Le Christianisme et la Révolution française, Fayard, Paris, 1984; Фюре также игнорирует проведенный Мишле анализ этой проблемы отношений христианства и революции, которым он открывает собственную историю Революции: «Революция продолжает христианство и оспаривает его. Она – одновременно его наследница и его противница» (Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, Robert Laffont, Paris, 1979, tome 1, p. 54). См. также: Dale K. Vankley, Les Origines religieuses de la la Révolution française. 1560–1791, Seul, Paris, 2002.
(обратно)36
Hanna Arendt, On Revolution, The Viking Press, New York, 1963 (французский перевод: Essai sur la Révolution, Gallimard, Paris, 1967, далее в цитатах я использую данный перевод [Арендт Х. О революции. М., 2011]).
(обратно)37
Ibid., p. 319 [Там же. С. 300].
(обратно)38
Ibid., p. 384 [Там же. С. 361–362].
(обратно)39
François Furet, Penser la Révolution française, op. cit., p. 91.
(обратно)40
Ibid., p. 92.
(обратно)41
Ibid., p. 118.
(обратно)42
Ibid, p. 272.
(обратно)43
Ibid., p. 282.
(обратно)44
Patrick Gueniffey, La Politique de la Terre. Essai sur la violence révolutionnaire 1789–1794, Fayard, Paris, 2000.
(обратно)45
Stéphane Courtois, Nicolas Verth et alii, Le Livre noir du communisme. Crimes, terreur et répression, Robert Laffont, Paris, 1997.
(обратно)46
Frédéric Rouvillois, L’invention du progrès. Aux origines de la pensée totalitaire (1680–1730). Kimé, Paris, 1996.
(обратно)47
Alain Besançon, Les Origines intellectuelles du léninisme, Calmann-Lévy, Paris, 1977.
(обратно)48
Цитируется по: Leo Strauss, Droit naturel et Histoire, Flammarion, Paris, 1986, p. 220. Эдмунд Бёрк – английский эссеист и политический деятель ирландского происхождения, чьи сочинения против Французской революции и спекулятивного настроя членов французского Учредительного собрания стали служить образцом для большинства более поздних контрреволюционных текстов.
(обратно)49
Lois de Bonald, Théorie du pouvoir politique et religieux démontrée par le raisonnement et par l’Histoire, 10/18, Paris, 1965, p. 105. Этот опубликованный в 1796 году труд остается классикой антиреспубликанизма. Можно также вспомнить о работе Томаса Мольнара (Thomas Molnar, La Contre-Révolution, 10/18, Paris, 1972), в которой дается довольно полная сводка антиреволюционных тезисов, которые автор одобряет и подробно излагает, чтобы побудить читателя решительно отвергнуть «искушение тоталитаризма», которое следует выявить в философии Просвещения и в работах энциклопедистов. Критику подобного хода мысли см. в: Michel Winock, “L’Heritage contre-révolutionnaire”, in Michel Winock (dir.), Histoire de l’extrême droite en France, Seuil, Paris, 1994, pp. 17–49.
(обратно)50
См.: René Guénon, Introduction générale à l’étude des doctrines hindoues, Gui Trédaniel, Paris, 1997, а также La Crise du minde moderne, Gallimard, Paris, 1946. О Рене Геноне, продолжающем в определенном смысле традицию Луи де Бональда, Жозефа де Местра и Шарля Морра, крупнейших теоретиков контрреволюции, см.: Pierre-Marie Sigaud (dir.), René Guénon, LÂge d’homme, Lausanne, 1984 (и особенно статью Виктора Нгуйена: Victor Nguyen, “Maistre, Maurras, Guénon: contre-révolution et contre-culture”, pp. 175–192); а также Julius Evola, Orient et Occident, Arche, Milano, 1982 (сборник текстов, написанных для журнала East and West).
(обратно)51
Françoit Furet, Le Passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au XXe siècle, Robert Laffont/Calmann-Lévy, Paris, 1995.
(обратно)52
Françoit Furet et Ernst Nolte, Fascisme et communisme, Plon, Paris, 1998.
(обратно)53
Убедительную критику тезисов Фюре см. в: Françoit Dosse, L’Histoire en miettes. Des “Annales” à la “nouvelle histoire”, La Découverte, Paris, 1987, особенно в главе «Метаистория Гулага» (pp. 212–230), в которой объясняется, как история пересматривалась через призму советского Гулага. См. также статью Эрика Винь: Eric Vigne, “Françoit Furet. Penser la Révolution”, in Les Essais, ADPF-publications, Paris, 1995. Весьма едкая критика развивается в работе Перри Андерсона: Perry Anderson, La Pensée tiède. Un regard critique sur la culture française, Seuil, Paris, 1995. Этот британский автор, преподающий в США, пишет: «Работа “Прошлое одной иллюзии”, заигрывающая с идеями Эрнста Нольте, который устанавливает связь между большевизмом и нацизмом (ранее такие идеи не были знакомы нашему автору), – это просто поделка, если сравнивать с другими работами Фюре. В этой книге, вышедшей в 1995 году, пережевывается так много тем, восходящих ко временам холодной войны и давно преодоленных, что, как заметили проницательные читатели, она предстала в чем-то равнозначной требованию расплатиться по русским займам, только в интеллектуальном смысле. Но это нисколько не помешало ее успеху во Франции. СМИ разрекламировали ее в качестве настоящего шедевра, и она тотчас стала бестселлером, отметившим апогей славы Фюре. Казалось, что, когда в основание заложен столь сенсационный камень, триумфальная арка антитоталитаризма может считаться завершенной» (p. 57).
В его эссе содержится также не менее острая критика работы Пьера Нора «Памятные места» (Pierre Nora, Les Lieux de mémoire), «работы, воплотившей в себе одну из наиболее откровенных идеологических программ всемирной историографии послевоенного периода» (p. 51). Впрочем, издательство «Seuil», несомненно напуганное столь смелой атакой, сочло важным включить в перевод эссе Андерсона ответ Пьера Нора, озаглавленный «Разогретая мысль» («La pensée réchauffée») – как намек на марксистские взгляды Андерсона.
Наконец, следует отметить известный труд американского историка Саймона Шамы: Simon Schama, Citizens. A Chronicle of the French Revolution, Knopf, New York, 1989 (в ней автор отстаивает те же тезисы, что Фюре и его ученики). Эта книга критикуется Моррисом Слэвином: Morris Slavin, The Left and the French Revolution, Humanities Press, New Jersey, 1995, pp. 169–173: этот автор, американский университетский профессор, характеризует Шаму как «продукт нашего реакционного века».
(обратно)54
Jürgen Habermas, Le Discours philosophique de la modernité, op. cit., p. 17 [Там же. С. 25–26].
(обратно)55
Weltanschauung (нем.) – мировоззрение. – Прим. перев.
(обратно)56
Malise Ruthven, Fundamentalism. The Search for Meaning, Oxford University Press, Oxford, 2004; см. также хорошо документированную работу Ричарда Вейнца: Richard E. Wentz, American Religious Traditions. The Shaping of Religion in the United States, Fortress Press, Minneapolis, 2003, а также Vincent Crapanzano, Literalism in America. From the Pulpit to the Bench, The New Press, New York, 2000.
(обратно)57
Malise Ruthven, Fundamentalism. op.cit., pp. 10–11.
(обратно)58
На котором преподаватель естественных наук был осужден за то, что рассказывал о законах эволюции, нарушая закон штата, запрещающий преподавание в государственных школах любой теории, оспаривающей сотворение человека Богом.
(обратно)59
Все эти вопросы освещаются в: Dominique Lecourt, L'Amérique entre la Bible et Darwin, PUF, Paris, 1988; также я могу отослать читателя к специальному номеру журнала «Vingtième Siècle», содержащему досье, посвященное «Религии и политике в США» (номер за июль-сентябрь 1988 г.).
(обратно)60
По этому вопросу (к которому мы еще вернемся) см.: Anatol Lieven, Le Nouveau Nationalisme amérique, J.-C. Lattès, Paris, 2004; а также: Stephen Zunes, “The Influence of the Christian right on US Middle East policy”, Middle East Policy, vol. 12, № 2, été 2005, pp. 73–78; Duane Oldfield, “The evangelical roots of American unilaterlaism: the Christian right’s influence and how to counter it”, in Foreign Policy in Focus (FPIP) Special Report, mars 2004 (. htm).
(обратно)61
Robert Kagan, La Puissance et la Faiblesse. Les États-Unis et l’Europe dans le nouvel ordre mondial, Plon, Paris, 2003.
(обратно)62
Robert D. Kaplan, La Stratégie du guerrier. De l’éthique païenne à l’art de gouverner, Bayard, Paris, 2003.
(обратно)63
См.: Georges Corm, Orient-Occident, la fracture imaginaire, La Découverte, Paris, 2005; а также: Mircea Eliade, La Nostalgie des origines, Gallimard, coll. «Folio/Essais», Paris, 1971, pp. 156–157.
(обратно)64
Именно против такого типа расизма выступил в 1952 году антрополог и этнолог Клод Леви-Стросс, отец структурализма, в своем знаменитом тексте, написанном по просьбе ЮНЕСКО в форме рассуждения против расизма (Claude Lévi-Strauss, Race et Histoire, Gallimard, coll. «Folio/Essais», Paris, 1987).
(обратно)65
Беспощадный анализ «западного» расизма см. в: Denis Blondin, Les Deux Espèces humaines. Autopsie du racisme ordinaire, L’Harmattan, Paris, 1975.
(обратно)66
Walter Rostow, Les Étapes de la croissance économique, Seuil, Paris, 1961.
(обратно)67
Raoul Girardet. Lldée coloniale en France, La Table ronde, Paris, 1972, p. 264.
(обратно)68
Ibid.
(обратно)69
Hanna Arendt, Sur l’antisémitisme, Calmann-Lévi, Paris, 1951.
(обратно)70
См. сборник текстов под редакцией Марселя Мерля: Marcel Merle, L'Anticolonialisme européen de Las Casas à Marx, Armand Colin, Paris, 1969.
(обратно)71
См. в частности работы, цитированные в сноске 3 к этой главе.
(обратно)72
См.: Joseph Lecler, Histoire de la tolérence au siècle de la Réforme, Albin Michel, Paris, 1994.
(обратно)73
Louis de Bonald, Théorie du pouvoir politique et religieuex, op. cit., p. 105.
(обратно)74
См., в частности: Anne-Marie Thiesse, La Création des identities nationales. Europe XVIIIe-XXe sciècle, Seuil, Paris, 1999; Suzanne Citron, Le Mythe national. L’histoire de France en question, Éditions ouvrières, Paris, 1987; Eric Hobsbawn, Nation and Nationalism, since 1870. Program, Myth, Reality, Cambridge University Press, Cambridge, 1990 [Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб., 1998]; Ernest Gellner, Nations et nationalisme, Payot, Paris, 1989 [Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991]; Benedict Anderson, L’Imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, La Découverte, Paris, 1996 [Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001].
(обратно)75
По этой теме см. прекрасную работу Жоржа Вайля: Georges Weil, L’Europe du XIXe siècle et l’idée de nationalité, Albin Michel, Paris, 1938. А также: René Johannet, Le Principe des nationalités, Nouvelle Librarie nationale, Paris, 1923; Yves Santamaria, Brigitte Vache, Du printemps des peoples à la Sociétés des Nations. Nations, nationalités et nationalismes en Europe, 18501920, La Découverte, Paris, 1996.
(обратно)76
Этот процесс мы описали в двух наших работах – «Истории религиозного плюрализма» (Histoire du pluralisme religieux) и «Европе и Востоке» (L’Europe et l’Orient).
(обратно)77
По этому вопросу можно отослать к нескольким прекрасным страницам знаменитого историка Нума-Дени Фюстель де Куланж: Numa-Denis Fustel de Coulanges, La Cité antique, Librarie Hachette et Cie, Paris, 1866. Также стоит напомнить о важности культа предков не только в Месопотамии, Греции или Риме, но и на Дальнем Востоке, особенно в Китае и Японии.
(обратно)78
Friedrich Hegel, La Raison dans l’Histoire, 10/18, Paris, 1955, p. 80.
(обратно)79
Hanna Arendt, Sur l’antisémitisme, op.cit.
(обратно)80
Можно вспомнить о том, что еще несколько десятилетий тому назад Запад определялся своими греко-римскими корнями, а не «иудео-христианством» (этот термин использовался лишь для обозначения первых сект христиан, существовавших в два первых века нашей эры, когда еще было сложно отделить христианские общины от различных еврейских сект). Двигаясь вслед за мыслью Лео Штрауса, Джордж Стайнер в тексте лекции, которую мы уже цитировали во введении, полагает, что европейские корни следует считать эллинскими и еврейскими, тогда как римские основы при такой трактовке из наследия выпадают.
(обратно)81
«Поэтому нет более сильного довода, способного убедить противников и привести их к нам, если они обладают определенной последовательностью в мысли, чем представить им божественные предсказания о Христе, написанные в книгах евреев. Ведь последние, будучи оторванными от своей родины и рассеянными по всей земле для того, чтобы нести это свидетельство, способствуют всемирному распространению Церкви» (Augustin, La Cité de Dieu, Livre XLVII, Seuil, Paris, 1994, tome 3, p. 77).
(обратно)82
Sui generis (лат.) – здесь «особый», «единичный». – Прим. перев.
(обратно)83
Thomas Nipperdey, Réflexions sur l’histoire allemande, Gallimard, Paris, 1992, pp. 266–295 («1933 год и преемственность в немецкой истории»).
(обратно)84
Tedda Skocpol, État et révolutions socials, La révolution en France, en Russie et en Orient, Fayard, Paris, 1985.
(обратно)85
Richard E. Weintz, American Religious Traditions, The Shaping of Religion in the United States, op.cit., p, 48.
(обратно)86
Michel Howard, La Guerre dans l’histoire de l’Occident, Fayard, Paris, 1998, pp. 51–52.
(обратно)87
Jean-Michel Sallman, Géopolitique du XVI siècle. 1490–1618, Seuil, Paris, 2003, p. 334.
(обратно)88
Jacques Le Goff, L’Europe est-elle née au Moyen Âge? Seuil, Paris, 2003, p. 15.
(обратно)89
Jean Flori, La Première Croisade. L’Occident chrétien contre l’islam (aux origines des idéologies occidentales), Complexe, Bruxelles, 1992, pp. 231241.
(обратно)90
Kurt Flash, Introduction à la philosophie médiévale, Flammarion, Paris, 1992, p. 14.
(обратно)91
См.: Louis Réau, L’Europe française au siècle des Lumières, Albin Michel, Paris, 1951.
(обратно)92
Понятие «Лиги наций» напрямую отсылает к работам Канта: в тексте, вышедшем в 1784 году под заглавием «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане», он выдвинул идею общества наций: по его словам, природа побуждает «в конце концов после многих опустошений, разрушений и даже полного внутреннего истощения сил к тому, что разум мог бы подсказать им и без столь печального опыта, а именно выйти из незнающего законов состояния диких и вступить в союз народов» (Emmanuel Kant, Opuscules sur l’histoire, Flammarion, Paris, 1990, p. 79 [Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Собрание сочинений в 6 томах. Т 6, М., 1966. С. 15]).
(обратно)93
Здесь можно напомнить о великолепном описании появления подобного деления мира, данного Морисом Олендером: Maurice Olender, Les Langues du paradis. Aryens et Sémites, un couple providentiel, Seuil, Paris, 1989.
(обратно)94
Maxime Rodinson, «Sociologie du Monde musulman», LAnnée sociologique, PUF, Paris, vol. 23, 1972 (эта статья частично посвящена критическому изложению моей работы «История религиозного плюрализма»: великий ориенталист, ушедший из жизни в 2004 году, упрекал меня в том, что я не понял, что маронитская церковь, с которой я был связан с самого рождения, является «квази-нацией», а не просто религиозным сообществом, церковью, как меня учила семейная традиция; я, разумеется, всё так же решительно не согласен с этим мнением).
(обратно)95
Отметим, что представитель Франции говорит теперь не о «французской нации», а лишь о «народе», тогда как маронисткая церковь продолжает считаться «нацией», в качестве которой она фигурирует во французских дипломатических документах со времен Людовика XIV. Слово «нация», вышедшее из употребления в том языке, на котором европеец описывает собственно европейские общества, сохраняется для обозначения составных частей ливанского общества. Также в своем заявлении французский дипломат упоминает о том факте, что «отношения между президентом Франции и главой маронитской церкви Антиохии не ограничиваются единственно духовными вопросами» (см. текст заявления в ливанском ежедневнике «L’Orient-Le Jour», 6 ноября, 2003 г.).
(обратно)96
André Cahuet, La Question d’Orient dans l’histoire contemporaine, 18211905, Dujarric et Cie, Paris, 1905.
(обратно)97
Adel Ismaïl, Histoire du Liban du XVIIe siècle à nos jours, tome IV, Redressement et déclin du féodalisme libanais (1840–1861), s.e. Beyrouth, 1958.
(обратно)98
«Устав от всевозможных препятствий, с которыми их агенты и миссионеры сталкивались у христиан, разочаровавшись в возможном сближении с ними и презирая его, поскольку все подвижки в этом направлении оставались бесплодными, англичане обратились к новым частям, которые нуждались в защите. Свой выбор они остановили на евреях, чтобы основать королевство Израиль. Этот проект стал началом цепочки действий: комиссия под председательством доктора Кейта отправилась в Сирию с приказом собрать сведения о положении евреев в Палестине и о возможности вернуть в эту страну израелитов, рассеянных по всей Европе. Ж. де Берто, сообщивший эту новость Тьеру, бывшему тогда председателем Совета, закончил свой рапорт следующими словами: «Гора, освобожденная Англией. […] Палестина, которая открыта Англией для восьми миллионов израелитов, находящихся в Европе. [.] Таковы средства, благодаря которым Великобритания стремится заменить то влияние, которым мы здесь пользуемся, своим собственным» (Adel Ismaïl, Histoire du Liban du XVIIe siècle à nos jours, op.cit., pp. 160–161).
(обратно)99
Исток всех этих драм мы подробно описали в нашей работе «Европа и Запад». Сегодня, возможно, пора перестать перекладывать всю ответственность на местные правительства тех времен и признать ответственность европейских держав, для которых все эти меньшинства были всего лишь инструментом, которым легко манипулировать в запутанной конкурентной борьбе колониального характера, проявившей себя в разделе Османской империи (особенно верно это в отношении геноцида армян в Турции в 1905 и 1920 гг.).
(обратно)100
См. классическую работу Кавалама М. Паниккара: Kavalam M. Pannikar, L'Asie et la domination occidentale, Seuil, Paris, 1956; также детальное исследование влияния европейских идей на Азию можно найти в работе Франсуа Лежера: François Léger, Les Influences occidentales dans la révolution de l’Orient, Inde-Malasie-Chine, 1850–1950, 2 vol., Plon, Paris, 1955. По вопросу националистического пробуждения арабов под влиянием европейских идей классической остается работа Джорджа Антониуса: George Antonius, The Arab Awakening, Capricorn Books, New York, 1965 (впервые опубликована в 1946 г.).
(обратно)101
См.: Deborah Hardy, Land and Freedom. The Origins of Russian Terrorism, 1876–1879, Greenwood Press, New York, 1987; Anna Geifman, Thou Shall Kill. Revolutionary Terrorism in Russia, 1894–1917, Princeton University Press, Princeton, 1993.
(обратно)102
См.: Alain Diekhoff, L’Invention d’une nation. Israël et la modernité politique, Gallimard, Paris, 1993.
(обратно)103
Многие идеологи панисламизма жили в Европе или в Египте и были тонкими знатоками европейской культуры, например Джамаль-эль-Дине Эль-Афгани или друзский ливанский принц эмир Шекиб Арслан, или же ливанский маронит, обращенный в ислам, большой ценитель арабской словесности Ахмад Фарес Эль-Шидиак.
(обратно)104
Прекрасное и весьма выдержанное описание панисламизма и его функций в период Османской империи можно найти у Адеба Халида: Adeeb Khalid, «Pan-Islamism in practice. The rhetoric of muslim unity and its uses», in Elisabeth Ozdalga (dir.), Late Ottoman Society. The Intellectual Legacy, Routledge/Curzon, New-York, 2005, pp. 201–224.
(обратно)105
Ibid.
(обратно)106
См.: George Corm, «Grandes puissances recherchent calife», Annales de l’autre islam, № 2, INALCO, Paris, 1994 (номер посвящен «Вопросу халифата»).
(обратно)107
См.: Henry Laurens, Le Royaume impossible. La France et la genèse du monde arabe, Armand Colin, Paris, 1999.
(обратно)108
См. замечательную работу Кристиана Шерфиса: Christian Cherfils, Bonaparte et l’islam d’après les documents français et arabes, A.Pedone, Paris, 1914.
(обратно)109
См., например: David B. Ottoway, «US eyes money trails of Saudi-backed charities», The Washington Post, 19 августа, 2004 г. В этой хорошо документированной статье описывается, как ваххабизм, «пуританская форма ислама, ранее довольно маргинальная и имеющая крайне незначительное число последователей за пределами Арабского полуострова», превратился в «господствующую в исламском мире доктрину». В своём расследовании журналист выяснил, как саудовское королевство создало с начала 1980 гг. 200 исламских колледжей, 210 исламских центров, 1500 мечетей и 2000 коранических школ, а также распространило 138 миллионов копий Корана; согласно этой статье, представитель американского казначейства заявил конгрессу, что королевство потратило за двадцать лет более 75 миллиардов долларов, чтобы распространить по всему миру ваххабитское учение.
Другая, не менее хорошо подтвержденная документами статья из той же газеты (перепечатана затем в Guardian Weekly, 28 марта-3 апреля 2002) описывает значение субсидий ЦРУ для разработки религиозных учебников, в которым проповедуется вооруженный «джихад» против советских неверных в Афганистане.
(обратно)110
С момента вторжения в Ирак желание США и европейских стран ускорить демократические реформы в арабских обществах, перестроив их политические режимы, выглядит своеобразным повторением так называемой эпохи «танзимата» (1830–1856 гг.), когда Османская империя была вынуждена модернизировать свой политический режим и государственные институты под сильнейшим давлением колониальных европейских держав, тогда как последние склоняли к разделу империи или попросту захватывали отдельные ее территории.
(обратно)111
Речь идет о знаменитой поправке двух американских парламентариев, так называемой поправке Джексона-Вэника к «East-West Trade Reform Act» («Акту по реформе торговли между Востоком и Западом»), позволяющей ратифицировать торговый договор, который уже был заключен с Советским Союзом 18 октября 1972 года. Подробности см. в: Peter Hagel, Pauline Peretz, «Israël et le mouvement international d’aide aux Juifs sovétiques. Pour une relecture des rélations entre États et acteurs transnationaux», Journées d’études Science politique/ Histoire, конференция организована «Французской ассоциацией политических наук» (l’Association française de sciences politiques), «Центром политических исследований Сорбонны (Париж-I) (le Centre de recherches politiques de la Sorbonne (Paris-I)) и «Институтом истории современности» (l’Institut d’histoire du temps present (CNRS)), 4–6 марта, текст доступен на сайте -paris.fr.
(обратно)112
См. мемуары Шаима Вейзмана: Chaïm Weizman, Naissance d’Israël, Gallimard, Paris, 1957.
(обратно)113
Название происходит от двух притоков Амура – Биро и Биджан. См.: Walker Kolarz, La Russie et ses colonies, Fasquelle, Paris, 1954, где есть глава «Евреи, народ Советского Союза» (pp. 223–224).
(обратно)114
См.: Paul Ricœur, La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, Seuil, Paris, 2000 [Рикер П. Память, история, забвение. М., 2004]; а также: Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, Gallimard, Paris, 1977.
(обратно)115
François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Seuil, Paris, 2004.
(обратно)116
Idith Zertal, La Nation et la Mort. La Shoah dans le discours et la politique d’Israël, La Découverte, Paris, 2004, p. 129. Напомним, что 1 января 2005 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по памяти о Холокосте, которая объявляет 27 января «Международным днем памяти жертв Холокоста».
(обратно)117
В особенности см.: Norman Finkelstein, L’Industrie de l’Holocauste. Réflexions sur l’exploitation des souffrances des Juifs, La Fabrique, Paris, 2001.
(обратно)118
В особенности см.: Ernst Nolte, Les Fondements historiques du national-socialisme, Le Rocher, Monaco, 2004.
(обратно)119
Raul Hilberg, La Destruction des Juifs d’Europe, op. cit., vol. 2, pp. 117118; можно также извлечь немалую пользу из чтения рассказа этого автора о его собственном пути в книге: Raul Hilberg, La Politique de la mémoire, Gallimard, Paris, 1996.
(обратно)120
Denis Sieffert, Israël-Palestine, une Passion française, La Découverte, Paris, 2004.
(обратно)121
Высказывание преподобного Джерри Фалвелла, цитируется по: Anatol Lieven, Le Nouveau Nationalisme américain, op. cit., гл 6 «Американский национализм, Израиль и Ближний Восток», р. 392.
(обратно)122
Приведём лишь некоторые из них: провал расколотых французских левых на выборах марта 1978 года; сандинистская революция июля 1979 года в Никарагуа; крен социалистического режима Алжира в сторону авантюрного либерализма после смерти полковника Хуари Бумедьена в декабре 1978 г…
(обратно)123
Angelo Breilich, Histoire des religions, Gallimard, coll. «La Pléiade», Paris, 1970, 3 volumes, vol. 1, p. 33 («Пролегомены»).
(обратно)124
См.: Richard E. Rubenstein, Le jour où Jésus devient Dieu. L «affaire Arius» ou la grande querelle sur la divinité du Christ au dernier siècle de l’Empire romain, La Découverte, Paris, 2001.
(обратно)125
См.: Jean-Paul Moreau, Disputes et conflits du christianisme. Dans l’Empire romain et l’Occident médiéval, L’Harmattan, Paris, 2005.
(обратно)126
Mircea Eliade, La Nostalgie des origines, op. cit.
(обратно)127
Jean Chelini, Histoire de l’Occident médiéval, Hachette, Paris, 1991, p. 466.
(обратно)128
Pierre Chaunu, Le Temps des réformes, Fayard, Paris, 1975, p. 10.
(обратно)129
Joseph Lecler, Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme, op.cit., p. 685.
(обратно)130
Ibid., pp. 689–719.
(обратно)131
Ibid., p. 746.
(обратно)132
Ibid, p. 820–821.
(обратно)133
Ibid., p. 821.
(обратно)134
Здесь будет интересно процитировать одну из многочисленных речей Кромвеля, легитимирующую его действия по отношению к религии, из выступления на открытии малого Парламента 4 июля 1653 года: «Но […] эти величайшие проявления Бога, пресекающие планы люди или противодействующие им, чтобы привести в действие малое, ничтожное собрание людей, ничего не знающих о военных делах и не имеющих к ним какой-то природной склонности! […] И это лишь благодаря принципу набожности и религии, который они признают, и как только он признан, а дела их устанавливаются на этом основании, Бог благословляет их, благоволя всем их начинаниям и используя при этом самые невероятные, самые скудные и ничтожные из средств. […] И в самом деле, Бог не желал ограничиваться этим, поскольку, пусть будет сказано мимоходом, если и пристало нам приписывать самим себе собственные ошибки и провалы, слава дела может, с другой стороны, приписываться самому Богу и её можно считать Его чудесным деянием» (цитируется в: Gérard Walter, La Révolution anglaise. L’exécution de Charles Ier et l’ascension de Cromwell, Marabout, Paris, 1963, pp. 238–239). Можно напомнить, что обращение к авторитету Библии, постоянно встречающееся в политико-религиозных спорах XVI и XVII веков, было великолепно описано Виктором Гюго в его диалогах в знаменитой пьесе «Кромвель» (1827 г.): также можно обратиться к книге Жана-Пьера Пуссу: Jean-Pierre Poussou, Cromwell, la révolution d’Angleterre et la guerre civile, PUF, Paris, 1993, в которой прекрасно описаны религиозные мотивы Кромвеля.
(обратно)135
См.: Gerald M. Straka (dir.), The Revolution of 1688 and the Birth of the English Political Nation, D.C. Heath and Company, Lexington, 1973.
(обратно)136
Jean Delumeau, Naissance et affirmation de la Réforme, PUF, Paris, 1965, pp. 237–238.
(обратно)137
«Конечно, к этим цифрам следует относится с некоторой осторожностью», – добавляет в примечании Жан Делюмо.
(обратно)138
Jean Delumeau, Naissance et affirmation de la Réforme, op.cit., pp. 238239.
(обратно)139
Ibid., p. 162.
(обратно)140
Речь шла о секте, основанной учеником Лютера Томасом Мюнцером, который поднял знаменитое восстание крестьян в германской Тюрингии 1524–1525 гг. и который утверждал, что готовит своих последователей к концу света, обобществляя все их имущество и проводя крещение взрослых. Вторая волна анабаптистских восстания прокатилась в 1533–1536 гг. в Мюнстере, в Вестфалии. Лютер выступил против этих восстаний и тем самым заявил себя как сторонника государственной религии, отрицая, следовательно, возможность религиозного плюрализма, что послужило одним из источников для знаменитого принципа cujus regio, ejus religio, обязывающего всех подданных того или иного принца следовать догмам официальной церкви, временным главой которой он становится.
(обратно)141
См. по этой теме прекрасную работу Кристофера Хилла: Christopher Hill, The World Turned Upside Down. Radical Ideas during the English Revolution, Penguin Books, London, 1974. Автор предлагает исчерпывающее описание эгалитаристских учений различных сект и групп сторонников радикальных социальных изменений, которые по примеру анабаптистов проповедуют обобществление имущества. Хилл не колеблясь говорит о коммунистических теориях, замаскированных под утопическое христианство, стремящееся к изначальному равенству всех людей (p. 115). Термины «levelers» и «diggers» указывают на отказ соответствующих групп от огораживания земель, проводимого дворянством (так называемые «enclosures», которые стали началом аграрной и промышленной реформы в Англии).
(обратно)142
Jacques Pirenne, Les Grands Courants de l’histoire universelle, tome 2, De L'Expansion musulmane aux traités de Westphalie, Éditions de Baconnière, Neuchâtel, 1959, p. 470.
(обратно)143
См., в частности: Denis Crouzet, Les Guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion. Vers 1525–1610, 2. vol., Champ Vallon, Seyssel. 1990; Arlette Jouanna, Jacqueline Boucher, Dominique Biloghi, Guy Lethiec, Histoire et Dictionnaire des guerres, Robert Laffont, Paris, 1998; Pierre Miquel, Les Guerres de religion, Fayard, Paris, 1980.
(обратно)144
См.: Geoffrey Parker, La Guerre de Trente Ans, Aubier, Paris, 1987.
(обратно)145
См.: Thomas Nipperdey, Réflexions sur l’histoire allemande, op. cit. Этот автор полагает, что Лютер, который повел «премодерное восстание против Средневековья, […] задавил тенденцию Модерна, которая наличествовала уже около 1500 года: в центр жизненных забот он снова поставил, придав ей всю её исходную силу, религиозную проблему благодати и спасения, которая является не чем иным, как проблемой средневекового монаха, противопоставив её всем рационалистским, гуманистическим и секулярным тенденциям; взрыв последних он в каком-то смысле задержал примерно на два с половиной века» (p. 43).
(обратно)146
Pierre Miquel, Les Guerres de religion, op.cit., p. 22.
(обратно)147
Denis Crouzet, Les Guerriers de Dieu, op. cit., tome 1, p. 51.
(обратно)148
Ibid., pp. 51–52.
(обратно)149
Ibid., p. 145.
(обратно)150
Ibid., p. 756
(обратно)151
Ibid., p. 772.
(обратно)152
Ibid., tome 2, p. 40.
(обратно)153
Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, op. cit., tome 1, pp. 54–55.
(обратно)154
Ibid., p. 58.
(обратно)155
Ibid., pp. 61–62. Далее Мишле добавляет: «История скажет, что в момент своей крайней жестокости и безжалостности Революция побоялась усугубить смерть, смягчила пытки, отстранила свою руку от человека, изобрела машину, чтобы сократить страдание. […] И также она скажет, что Церковь Средневековья истощила себя на изобретения, увеличивающие страдание, делающие его как можно более невыносимым и острым, что она изобрела изысканное искусство пытки, хитрые средства, позволяющие сделать так, чтобы человек, не умирая, долго вкушал смерть, а когда же на этом пути её останавливала непреклонная природа, которая при определенном уровне страдания готова помиловать, даруя смерть, она оплакивала то, что не может продлить это страдание дольше. Я не могу и не хочу волновать здесь это море крови. И если Бог однажды даст мне силы прикоснуться к нему, эта кровь снова оживет, закипит, она потечёт бурным потоком, чтобы утопить в себе ложную историю, наемных льстецов убийства, залив собой их лживый рот.».
(обратно)156
Jean Delumeau, Naissance et affirmation de la Réforme, op. cit., pp. 161162.
(обратно)157
Arlette Joanna, «Le temps des guerres de religion en France (155591598)», in Arlette Jouanna et alii, Histoire et Dictionnaire des guerres de religion, op. cit., p. 117.
(обратно)158
Ibid., p. 204. Можно отметить, что цифры, приводимые этим историком для характеристики убийств гугенотов, гораздо ниже тех, что указывал Жан Делюмо (30000 жертв), что показывает границы точности исторических исследований.
(обратно)159
Janine Garrisson, L’Édit de Nantes et sa révocation, Seuil, Paris, 1985, p. 82.
(обратно)160
См. следующую великолепно документированную работу: Guy Testas, Jean Testas, L’Inquisition, PUF, Paris, 1966, pp. 9-17.
(обратно)161
Ibid., pp. 117–124.
(обратно)162
Arlette Joanna, «Le temps des guerres de religion en France (155591598)», loc. cit., p. 482.
(обратно)163
Letrados (исп.) – средневековые испанские юристы, образованный слой. – Прим. перев.
(обратно)164
Ibid., p. 483.
(обратно)165
Henry Charles Lea, Histoire de l’Inquisition au Moyen Âge, Robert Laffont, Paris, 2004, pp. 167–168.
(обратно)166
Ibid, pp. 175–176.
(обратно)167
Ibid., pp. 176–177.
(обратно)168
Patrice Gueniffey, La Politique de la Terreur, op. cit., p. 191.
(обратно)169
Edgar Quinet, Le Christianisme et la Révolution française, op. cit. Следует также сослаться на введение Жана-Мишеля Корню к одной из лекций, включенных в эту книгу («О восточном возрождении»), которая была опубликована издательством «l’Archange Minotaure» в 2003 году, а также на введение, составленное Корню к двух другим лекциям, вошедшим в этот том («Две лекции об исламе») и опубликованным тем же издательством.
(обратно)170
Reinhart Koselleck, Le Futur Passé. Contibution à la sémantique des temps historiques, Éditions de l’École des hautes etudes en sciences socials, Paris, 1990, p. 27.
(обратно)171
Ibid., p. 76.
(обратно)172
Hanna Arendt, La Crise de la culture, Gallimard, Paris, 1972 (оригинальное английское издание – 1954 г.), p. 183.
(обратно)173
Ibid, p. 184–185.
(обратно)174
См.: Philippe Nemo, Qu’est-ce que l’Occident? op. cit., p. 142. Филипп Немо всего лишь продолжает в этой книге традицию, начатую Эрнестом Ренаном в знаменитой первой лекции к курсу еврейского, халдейского и сирийского языка в Коллеж де Франс 1862 года: «Ислам – это наиболее полное отрицание Европы. […] Ислам – это презрение к науке, подавление гражданского общества; это ужасная простота семитского духа, сжимающая человеческий мозг […], закрывающая его для любого рационального изыскания» (см. текст этого выступления в книге: Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation, Presses Pocket/Agora, Paris, 1992, p. 198, а также проведенный нами детальный анализ всего этого основополагающего для исламофобии текста в: Georges Corm, Le Proche-Orient éclaté, op.cit., pp. 106–111.
(обратно)175
René Guénon, La Crise du monde moderne, op.cit..
(обратно)176
См., в частности: Friedrich Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, 2. vol., Gallimard, Paris, 1954 [Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Книга 2 // Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т.10, М., 1932]; La Raison dans l’Histoire, op. cit [Гегель Г.В.Ф. Философия истории // Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т.8, М., 1935].
(обратно)177
Этот процесс описывали многие философы и антропологи, в частности Луи Дюмон и Марсель Гоше во Франции, Ханс Блуменберг в Германии, особенно в своей работе «Легитимность Нового времени»: Hans Blumenberg, La Légitimité des Temps modernes, Gallimard, Paris, 1999. Однако, вопреки утверждениям этих авторов (к которым можно было бы добавить еще Норберта Элиаса), в гегелевском мышлении спасение не столько индивидуально, сколько коллективно, поскольку оно осуществляется благодаря рациональности, воплощенной в государстве. Отсюда авторитарные черты мышления Гегеля, которые будет критиковать Карл Поппер (Karl Popper, La Société ouverte et ses ennemis, Seuil, Paris, 1979 [Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992]).
(обратно)178
Georges Corm, Orient-Occident, la fracture imaginaire, op.cit.
(обратно)179
См.: Georges Corm, L’Europe et l’Orient, op.cit.
(обратно)180
Ernst Nolte, La Guerre civile européenne, 1917–1945, National-Socialisme et bolchevisme, Syrtes, Paris, 2000.
(обратно)181
Ernst Nolte, Les Fondements historiques du national-socialisme, op. cit.
(обратно)182
Ernst Nolte, Les Mouvements fascists. L’Europe de 1919 à 1945, Calmann-Lévy, Paris, 1991, p. 15.
(обратно)183
Ibid., p. 16.
(обратно)184
Здесь интересно еще раз процитировать историка Жака Пиренна, который устанавливает связь между протестантизмом и германским «трайбализмом»: «Вполне естественно, лютеранство благодаря уже тому, что оно отмечает возвращение к концепциям германских корней, разрывает со всем, что есть в христианстве от эллинистической философии. Оно отвергает догму, чтобы положиться на Библию. Постоянное использование Ветхого завета, введённое им, произвело глубокое впечатление на немецкий ум. На католицизм, сформированный в Римской империи, в плане догматики гораздо больше повлияли школы Александрии и Антиохии, проникнутые античной мыслью, чем Ветхий завет. В Ветхом завете вплоть до эпохи изгнания иудейская религия сохраняет национальный, по существу, характер, который в точности соответствует понятию национальной религии, которое лютеранство приспособило к социальной структуре Германии, племенной по своему происхождению. Влияние Ветхого завета могло лишь закрепить порождаемую национальным характером религии концепцию “избранного” народа как идею, господствовавшую в иудейской истории и заложившую впоследствии основания для гегельянства и тезиса Herrenvolk [расы господ]» (Jacques Pirenne, Les Grands Courants de l’histoire universelle, op. cit., p. 470). Впрочем, то же самое можно сказать о национализме англосаксонского типа – британском национализме XIX века или современном американском национализме.
(обратно)185
Arno Mayer, La «Solution finale» dans l’histoire, op.cit. Эта книга вызвала множество споров, поскольку в ней доказывается, что гитлеровское решение приступить к уничтожению евреев в Европе было принято после провала нацистского Blitzkrieg’а в СССР, который закрыл возможность вывозить их за пределы Европы, как нацисты какое-то время собирались делать. Автор подвергся грубой критике, некоторые стали называть его «ревизионистом». В действительности, именно в тот момент, когда Холокост становился, как мы уже объясняли, центральным и уникальным элементом «догматической памяти» Запада, он заместил собой геноцид в контексте европейской истории, показывая, как в прошлом похожие обстоятельства (сложившиеся, в частности, во время первых крестовых походов) привели к похожим преследованиям евреев, хотя, разумеется, они были не в пример менее массовыми.
(обратно)186
Gilbert Durand, Introduction à la mythodologie, Mythes et sociétés, Albin Michel, Paris, 1996, p. 17.
(обратно)187
Ibid. pp. 24–25.
(обратно)188
Ibid. p. 25.
(обратно)189
Ibid. p. 26
(обратно)190
Ibid. p. 36.
(обратно)191
Ibid.
(обратно)192
Ibid. p. 39.
(обратно)193
См.: Stéphane Courtois et alii, Le Livre noir du communisme, op. cit.
(обратно)194
Здесь можно поразмыслить над тем, как во Франции используется закон о свободе прессы от 13 июля 1990 года, так называемой закон Гайсо, который закрепляет более старый закон от 1 июля 1972 года, закон Плевена, запрещающий оспаривать «существование одного или нескольких преступлений против человечности». На практике применение этого закона ограничивается сомнениями в Холокосте или критикой того, как Холокост используется государством Израиль, и практически никогда не применяется в случае других преступлений против человечества (см. далее примечание 26 по поводу процесса 2005 года против социолога Эдгара Морена).
(обратно)195
Именно отказ от первого подхода заставил Ханну Арендт столь критично отнестись к процессу Эйхмана в Иерусалиме в 1961 году; она сама предпочла бы, чтобы его судили международным судом, чтобы страданиям еврейских сообществ Европы можно было придать универсальное значение преступления против человечности, а не делать из них исключительно внутриизраильское событие (Hanna Arendt, Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, op.cit.).
(обратно)196
Эта позиция закрепляется отказом большинства западных стран в той или иной форме раскаиваться в колониализме или рабстве, практикуемом в массовом порядке несколько веков с целью обеспечения дармовой рабочей силой новых американских колоний, или открыто осуждать их (заметным исключением является Франция: даже если она ещё далеко не расплатилась по счетам своей непростой колониальной истории, французский парламент признал работорговлю и рабство преступлениями против человечества, когда 10 мая 2001 года был принят «закон Тобира»). К этому моменту мы вернемся в заключении.
(обратно)197
Это замечательно объясняет Яков М. Рабкин: Yakov M. Rabkin, Au nom de la Torah. Une Histoire de l’opposition juive au sionisme, Presses de l’Université Laval, Québec, 2004. Такова же позиция Эдгара Морена, который отталкивается от гуманистической светской точки зрения. Его статья, опубликованная в рубрике дискуссий в Le Monde в июне 2002 года (под заглавием «Израиль-Палестина: раковая опухоль» [ «Israël-
Palestine: le cancer]) в соавторстве с Даниэль Салланав и Сами Наиром была осуждена за «расовую клевету» 27 мая 2005 года апелляционным судом Версаля. Большой интерес представляет его разговор по этому поводу с итальянским журналистом Сильвией Каттори, состоявшийся 17 июня 2005 года (копилефт <silviacattori@yahoo.it>).
(обратно)198
Hanna Arendt, Essai sur la Révolution, op. cit., p. 324 [Арендт Х. О Революции. М., 2011. С. 305].
(обратно)199
Ibid. [Там же, с. 304–305].
(обратно)200
По этому вопросу можно сослаться на весьма тонкий анализ Реми Брага: Rémi Brague, La Loi de Dieu. Histoire philosophique d’une alliance, Gallimard, Paris, 2005.
(обратно)201
Стимулом может оказаться новое прочтение кантовской логики построения универсальной морали. Как мы уже упоминали во второй главе, в основном именно в седьмом тезисе работы под названием «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» обнаруживается предложение создать «общество наций» (Emmanuel Kant, Opuscules sur l’histoire, op.cit [Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Собрание сочинений в 6 томах. Т. 6, М., 1966]; также можно отослать к его «Основоположениям метафизики нравов», опубликованным в 1785 году, в которых задаются логические основания морали, которая может претендовать на статус универсальной).
(обратно)202
См.: Georges Corm, Orient-Occident, la fracture imaginaire, op.cit.
(обратно)203
Напротив, как мы уже упоминали во введении, заставляя человека жить во вселенной, в которой вместе развиваются множество богов, а боги побеждённых народов включаются в пантеон победителей, язычество Античности устраняло всякое «столкновение цивилизаций», смягчая любую конфронтацию мнений, к которой непременно приводит любой контакт, будь он мирным или воинственным, народов и племён, отличающихся различными мировоззрениями. Выстроенная древними греками дихотомия «цивилизации» (принадлежащей им) и «варварства» (неэллинских народов), по всей видимости, не имела того эмоционального и военного значения, которое появилось у неё после зарождения и развития монотеизма, превратившегося в государственную религию.
(обратно)204
Мусульманская догма о Христе и Деве Марии обнаруживается в 19 суре Корана, так называемой Суре Марьян, аятах 16–41: «И вспомни в писании от Марйам. Вот она удалилась от своей семьи в место восточное и устроила себе пред ними завесу. Мы отправили к ней Нашего духа, и принял он пред ней обличие совершенного человека. Она сказала: “Я ищу защиты от тебя у Милосердного, если ты богобоязнен”. Он сказал: “Я только посланник Господа твоего, чтобы даровать тебе мальчика чистого”. Она сказала: “Как может быть у меня мальчик? Меня не касался человек, и не была я распутницей”. Он сказал: “Так сказал твой Господь: “Это для Меня – легко. И сделаем Мы его знамением для людей и Нашим милосердием”. Дело это решено”…» [цитируется русский перевод И.Ю.Крачковского].
(обратно)205
См.: Georges Corm, Histoire du pluralisme religieux…, op. cit. Разумеется, множество респектабельных исламофобских работ стремятся скрыть этот факт, в частности: Bat Ye’Or, Chrétientés d’Orient entre jihâd et dhimmitude, VIIe-XXe siècle, Cerf, Paris, 1991; или же более ранняя работа – Antoine Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’islam, Impimerie catholique, Beyrouth, 1958. Наш критический обзор этой литературы см. в: Georges Corm, Proche-Orient éclaté, op.cit., гл. 3.
(обратно)206
В иудаизме ожидают возвращения на Обетованную землю, тогда как в шиитском исламе речь идет о возвращении скрытого имама или, если брать некоторые формы суннитского ислама, о приходе «махди» (нового посланника Бога).
(обратно)207
Edgar Quinet, Christianisme et révolution, op.cit., p. 157.
(обратно)208
Здесь можно заметить, что выражение «первый раскол» неверно, поскольку он возникает из взгляда на историю Церкви со стороны Европы, тогда как египетская коптская Церковь или сирийская антиохийская Церковь откололись от греческой византийской Церкви задолго до разрыва Рима с Византией.
(обратно)209
Полезно будет сослаться на работу Жана Боберо и Северин Матьё: Jean Baubérot, Séverine Mathieu, Religion, modernité et culture au Royaume-Uni et en France, 1800–1914, Seuil, Paris, 2002, в которой подробно рассматривается как роль протестантского секуляризма и католической светскости в политическом развитии Европы, так и современные споры по поводу светскости.
(обратно)210
См. классическую работу крупного исламолога Анри Лауста: Henri Laoust, Les Schismes dans l’Islam, Payot, Paris, 1965; а также его же сборник статей Pluralisme dans l’islam, Revue d’études islamiques, Hors série № 15, Geuthner, Paris, 1983.
(обратно)211
Обычно начало упадка Османской империи возводят к морской битве при Лепанто (1571 г.), когда турецкий флот был уничтожен коалицией европейских флотов.
(обратно)212
См. прекрасную книгу Ванессы Мартин: Vanessa Martin, Islam and Modernism. The Iranian Revolution of 1906, I.B. Tauris, London, 1989.
(обратно)213
См. ссылки, приведенные в главе 1, сноска 32, по поводу влияния этих Церквей на американскую внешнюю политику.
(обратно)214
Исламские банки осуществляют все финансовые операции, а посредством различных юридических ухищрений маскируют процентную ставку под комиссии, под разницу между закупочной ценой и отпускной или же под ежемесячную платы за аренду оборудования (в случае лизинга). Эти банки появились в середине 1970 гг. вслед за тем, как Саудовская Аравия разбогатела из-за четырехкратного повышения цен на нефть; их деятельность будет сопровождаться многочисленными скандалами и банкротствами, особенно в Египте, так что в результате своих сбережений лишатся тысячи вкладчиков. Сегодня большинство этих банков встроены в национальные системы банковского контроля, и даже в больших западных банках открылись так называемые «исламские» кассы для богатых арабских и мусульманских клиентов (см.: Ibrahim Warde, Islamic Finance in the Global Economy, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2000; Clement M. Henry, Rodney Wilson (dir.), The Politics of Islamic Finance, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2004; Michel Galloux, Finance islamique et pouvoir politique. Le cas de l’Égypte, PUF, Paris, 1997; а также более раннюю работу: Stéphanie Parigi, Des banques islamiques. Argent et religion, Ramsay, Paris, 1989).
(обратно)215
Abdel-Rahman Ghandour, Jihâd humanitaire. Enquête sur les ONG islamiques, Flammarion, Paris, 2002. После терактов 11 сентября 2001 года значительные финансовые потоки этих НПО стали предметом международного контроля, обеспеченного резолюцией Совета безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 года, которая была нацелена на уничтожение источников финансирования так называемого исламского терроризма; к этому контролю подключатся и правительства мусульманских стран, когда станет ясно, что воинственные фундаменталистские движения приобретают всё большее влияние в самих мусульманских странах (в Марокко, Индонезии, Саудовской Аравии, Йемене).
(обратно)216
См.: Craig Smith, «Here’s burger no Muslim could beef out», International Herald Tribune, 16 сентября 2005. Отметим также создание в Иране марки исламской кока-колы «Zamzam-Cola», по названию одного источника вблизи Мекки, или конкурирующей с ней «Mecca-Cola», созданной в ОАЭ, – 10 % от прибыли с продажи последней идут на гуманитарную помощь палестинским благотворительным организациям. Можно также упомянуть о существовании марок безалкогольного пива, производимого специально для мусульманских стран.
(обратно)217
Katherine Zoepf, «Barbie pushed aside in Middle East cultural shift. Little girls obsessed with Fulla in scarf», International Herald Tribune, 22 сентября 2005 г.
(обратно)218
Настроенные так, чтобы издавать специальный звонок в часы молитвы («Samcom Mobile offers hi-tech call to prayer», International Herald Tribune, 26 сентября 2005 г.).
(обратно)219
См.: Malica Zeghal, Les Islamistes marocains, Le défi à la monarchie, La Découverte, Paris, 2005.
(обратно)220
В Египте движению «Братьев-мусульман» до революционных событий 2011 года не было разрешено предлагать своих кандидатов на выборах, поэтому последние иногда выходили под прикрытием других партий, в том числе и светских. Однако во многих других мусульманских странах у исламских политических партий, принимающих демократические правила игры, есть свои депутаты в парламенте. Такова ситуация в Иордании, Марокко, Йемене, Турции (где исламская партия «Справедливость и развитие» на выборах 2002 года сумела занять большинство мест в парламенте и сформировать правительство), в Индонезии, Малайзии, в Пакистане и Алжире (однако в последнем победа Исламского фронта спасения в первом туре выборов в законодательное собрание в декабре 1991 года привела к прерыванию электорального процесса армейскими силами, введению фактической военной диктатуры и к насилию, длившемуся более десяти лет).
(обратно)221
См.: François Gèze, «Armée et nation en Algérie: l’irrémédiable divorce», Hérodote, № 116, 1er trimester 2005, Paris.
(обратно)222
См.: Marie-Monique Robin, Escadrons de la mort, l’école française, La Découverte, Paris, 2004.
(обратно)223
В 2005 году в австралийской прессе распространились сведения о возможном участии сил индонезийских служб безопасности в принесших много жертв терактах на Бали в 2002 году, а также о том, что некоторые деятели исламского движения в Индонезии могут оказаться внедренными агентами секретных служб этой страны («Police “had role” in Bali blasts», The Australian, 12 октября 2005 года).
(обратно)224
См., в частности, две книги Роберта Баера: Robert Baer, See no Evil. The True Story of a Ground Soldier in the CIA's War on Terrorism, Crown Publishers, New York, 2002; Sleeping with the Devil. How Washington Sold our Soul for Saudi Crude, Crown Publishers, New York, 2003. А также другие работы: John K. Cooley, Unholy Wars. Afghanistan, American and International Terrorism, Pluto Press, London, 2000; Richard A. Clarke, Against All Enemies. Inside America’s War on Terror, Free Press, New York, 2004 (этот высокопоставленный сотрудник службы безопасности Белого дома объясняет, в частности, что теракты 11 сентября 2001 года стали детонатором вторжения в Ирак, несмотря на отсутствие малейших доказательств того, что иракский режим имел какое-то отношение к этим событиям).
(обратно)225
См. замечательную работу Мигеля Круза Хернандеса, в которой воссоздается богатство исламской мысли: Miguel Cruz Hernandez, Histoire de la pensée en terre d’islam, Desjonquères, Paris, 2005.
(обратно)226
Theodor Herzl, L’État des Juifs, traduction de Claude Klein, La Découverte, Paris, (1896) 2003.
(обратно)227
См.: Yakov M. Rabin, Au nom de la Torah. Une histoire de l’opposition juive au sionisme, op. cit.
(обратно)228
Напомним весьма проработанные выводы двух американских исследователей относительно состояния секуляризации в мире, про которые мы говорили во введении (Pippa Norris, Ronald Inglehart, Sacred and Secular, op.cit.)
(обратно)229
См., например: «LAmérique de Bush à l’assaut de l’évolution: Dieu contre Darwin», Le Monde 2, 8 октября 2005 г.
(обратно)230
См.: Brooke Allen, «Our Godless Constitution», The Nation, 21 февраля 2005 года, pp. 14–20. В этой статье американского либерального издания разоблачается современная эксплуатация религиозности в США и напоминается о том, что составители американской Конституции никоим образом не стремились основать новую Республику на христианстве.
(обратно)231
См.: Bernard Baylin, The Ideological Origins of the American Revolution, The Belknap Press, Cambridge, 1992.
(обратно)232
Текст доступен по адресу: -whitehouse.archives. gov/news/releases/2005/10/20051006-3.html. Эта речь стала предметом многочисленных критических и саркастических комментариев в американской прессе (см., в частности, передовицу «Doing the 9/11 time warp again», International Herald Tribune, 8–9 октября 2005, в которой разоблачается порочная эксплуатация Джорджем Бушем терактов 11 сентября 2001 года).
(обратно)233
In Larger Freedom. Towards Development, Security and Human Rights for All, Документ A/59/2005 Генеральной Ассамблеи ООН, 21 марта 2005 г. Речь идет о докладе, предлагающем структурные реформы ООН, в частности расширение числа членов Совета безопасности с целью повышения его репрезентативности. Этот доклад был представлен и обсуждался во всех мировых столицах, что привлекло к нему огромное внимание. Он был предложен на Всемирном саммите глав государств в Нью-Йорке в сентябре 2005 года до обычной ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН, повлияв на резолюцию, принятую на этом саммите, которая «решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, какими бы ни были инициаторы, места и цели терактов, поскольку он представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и международной безопасности» (См. Документ А/60/L.! Генеральной Ассамблеи ООН).
(обратно)234
О терроризме как феномене см.: Gérard Challiand, Histoire du terrorisme de l’Antiquité à Al-Quaida, Bayard, Paris, 2004; Jean-François Gayraud, David Sénat, Le Terrorisme, PUF, Paris, 2002. Можно также вспомнить о работе Робера Соле: Robert Solé, Le Défi terroriste. Leçons italiennes à l’usage de l’Europe, Seuil, Paris, 1979, где автор в самых первых строках заявляет: «Терроризм стар как мир», добавляя далее: «Современное общество, столь тщательно маскирующее насилие, каковым остается и смерть, невольно создает предлоги для его возникновения, роста и даже заставляет его казаться большим, чем оно есть в действительности» (pp. 7, 8).
(обратно)235
В Перу, по данным Комиссии по установлению истины и примирению, терроризм и антитеррористическая деятельность унесли более 70 тысяч жизней в период между 1980 и 2000 гг.
(обратно)236
По «Ежегодному докладу 2004 года» «Amnesty International», жертвами терроризма и антитеррористического насилия в этой стране с 1986 года стали 60 тысяч погибших.
(обратно)237
Обо всех этих операциях см.: Georges Corm, Le Proche-Orient éclaté, op.cit.
(обратно)238
In Larger Freedom…., op. cit., параграф 8.
(обратно)239
A More Secure World: our Shared Responsibility, Документ A/59/565 Генеральной Ассамблеи ООН, 2 декабря 2004.
(обратно)240
Ibid., p. 45, параграф 145.
(обратно)241
Ibid., p. 45, параграф 147.
(обратно)242
«Санкции являются жизненно важным инструментом, которым располагает Совет Безопасности и который позволяет предупреждать угрозы международному миру и безопасности…» (In Larger Freedom…, op.cit., параграф 109).
(обратно)243
«Я хотел бы предложить, – заявил президент Хатами в этой речи, – выступая от имени Исламской республики Иран, ООН сделать первый шаг – объявить 2001 год “годом диалога цивилизаций”, с искренней надеждой, что благодаря такому диалогу можно начать путь к осуществлению всемирной справедливости и свободы. […] Установление и закрепление гражданственности, как на национальном уровне, так и международном, зависят от диалога между обществами и цивилизациями, представляющими различные точки зрения, предпочтения и подходы. Если человечество на заре нового века и нового тысячелетия приложит все усилия, чтобы организовать такой диалог, заменив вражду и конфронтацию словом и пониманием, оно сможет оставить будущим поколениям бесценное наследство» (полный текст доступен по адресу: speech_un.html).
(обратно)244
Отрывок из речи Хосу Луиса Сапатеро, приведен по документу, распространявшемуся Мадридским университетом Комплутенсе во время состоявшегося 6–7 июня 2005 г. семинара «Союз цивилизаций: международная безопасность и космополитическая демократия».
(обратно)245
Можно вспомнить растерянность добропорядочных элит и протесты многочисленных консервативных деятелей и институтов, как и израильского правительства, которые стали ответом на результаты опросов общественного мнения, проведенные Европейской комиссией в пятнадцати странах-членах ЕС вскоре после вторжения в Ирак, в октябре 2003 года. Согласно этим опросам, 53 % респондентов считают США угрозой миру на планете, что больше числа тех, кто такой же угрозой считают Ирак (52 %) или Иран и Северную Корею; также 59 % респондентов угрозой миру назвали Израиль (см. передовицу в ежедневном издании «Le Monde», 6 ноября 2003 года). Доклад по этим опросам доступен на веб-сайте ЕС: Iraq and Peace in the World, http:// ec.europa.eu/public_opimon/flash/fl151_iraq_full_report.pdf.
(обратно)246
Church of England’s House of Bishops, Countering Terrorism. Power, Violence and Democracy Post 9/11, 19 septembre 2005.
(обратно)247
Это случилось, в частности, с двадцатичетырехлетней Рэйчел Корри, членом «International Solidarity Movement» («Международного движения солидарности»), которая была убита в Рафахе, в секторе Газа, израильским танком, который её раздавил (вероятно, намеренно), когда она участвовала в манифестации, подавленной израильской армией 16 марта 2003 года; то же самое относится к молодому английскому активисту Томасу Херндаллу (23 года), фотографу и члену того же движения, который был ранен израильской армией 11 апреля 2003 года и умер из-за ранения 13 января 2004 г.
(обратно)248
В основном такие построения питаются антисемитскими теориями, которые повсюду видят «еврейские» заговоры, беря пример с печально знаменитых «Протоколов сионских мудрецов», антисемитской фальшивки, сфабрикованной в начале XX века русской охранкой. Это, разумеется, обязывает с особенной бдительностью относиться к любой «диссидентской» информации, доступной в сети. Тем не менее, нелепо было бы из-за таких очевидно предосудительных отклонений отрицать наличие серьезной информации (серьезность которой определить несложно), ставящей под вопрос господствующий медийный дискурс. Обвинение в том, что это всего лишь «теория заговора», стало легким способом дискредитации подобной информации. Невозможно переоценить ту роль, которую дезинформация играет сегодня в международной политике, а зачастую и в местных политических играх. Разве различные геополитические интересы и геополитические соперничества не покоятся в силу самой своей природы на планировании акций, которые должны привести к определенному политическую результату, каковой возможен, если не допустить проникновения в общественное мнение информации о том, что данные государства прибегли к манипуляциям, остававшимся тайными?
(обратно)249
Напомним, к примеру, о выражении «исламская атомная бомба», которым злоупотребляют медиа, описывающие попытки Пакистана заполучить ядерное оружие. Приходило ли кому-нибудь в голову говорить о «христианской» атомной бомбе, когда речь шла о западном или русском ядерном арсенале, «еврейской» бомбе Израиля или же об «индуистской» или «брахманистской» атомной бомбе Индии?
(обратно)250
По этому вопросу можно отослать в ярким страницам Йоакима Мубарака, маронитского священника и первопроходца исламохристианского диалога, работавшего в русле Луи Масильона. Он же одним из первых сформулировал необходимость трехстороннего диалога с участием иудаизма, укорененного отныне на Святой земле в форме конкретного государства, но постоянно конфликтующего с палестинцами и соседними арабскими государствами: Youakim Moubarac, Un homme d’exception, texts réunis et présentés par Georges Corm, La Librarie orientale, Beyrouth, 2004; Youakim Moubarac, Les Cahiers de l’Âge d’Homme, Genève, 2005.
(обратно)251
Особенно это выражается в многочисленных религиозных передачах, в которых улемов интервьюируют по самым разным вопросам, начиная с сексуальности, вопросов семьи, медицинских или психиатрических проблем и заканчивая серьёзными вопросами международной политики; типичным примером может послужить передача «Шариат и жизнь» шейха Юсефа Аль-Карадави на спутниковом канале «Аль-Джазира». Многочисленные передачи посвящаются также мусульманским сообществам Европы – в них беспрерывно пережевываются тяготы мусульманской жизни в различных европейских странах, обусловленные тем, что их окружение не является достаточно «исламским», а европейские страны враждебны к «исламским нравам» (хиджабу, рамадану и т. п.).
(обратно)252
Трактовка запрета на хиджаб в государственных французских школах, которую предлагает большинство арабских медиа, является поразительным примером намеренной дезинформации: этот закон, принятый в феврале 2004 года, лукаво изображался в качестве общего запрета на ношение хиджаба на территории Франции, то есть никак не уточнялась зона действия принятой меры, как и разносторонние споры, которые велись по этому поводу во Франции даже в рамках Комиссии Стази.
(обратно)253
После работ Ануара Абделя Малека (Anouar Abdel Malek, La Pensée politique arabe contemporaine, Seuil, Paris, 1965), издавшего сборник наиболее значительных текстов крупнейших авторов обновления религиозной и политической мысли, и Альберта Хурани (Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798–1939, Oxford University Press, London, 1967) было очень мало исследований (из доступных на европейских языках), в которых углубленно изучалось и прояснялось бы это реформистское движение, несмотря на многочисленные качественные работы по этому вопросу, появившиеся в последние годы в арабском мире. Впрочем, можно отметить следующие книги: Abdou Filali-Ansari, Réformer l’islam? Une introduction aux débats contemporains, La Découverte, Paris, 2002; Nazik Saba Yared, Secularisation and the Arab World, Saqi Books, London, 2002.
(обратно)254
Крайне немногие из многочисленных современных специалистов по исламу, которые производят множество работ по исламистским движениям, интересовались реформистским исламом, в противоположность традиции ушедших великих ориенталистов, таких как Жак Берк или Максим Родинсон. Парадокс: лишь один певец неоконсерватизма написал недавно работу, посвященную Рифаа ат-Тахтави: Gui Sorman, Les Enfants de Rifaa: musulmans et modernes, Fayard, Paris, 2003.
(обратно)255
См.: Pascal Boniface, Est-il permis de critiquer Israël? Robert Laffont, Paris, 2003.
(обратно)256
См., в частности: Noam Chomsky, The Fateful Triangle. The United States, Israel and the Palestinians, South End Press, Boston, 1984; Deterring Democracy, Hill and Wang, New York, 1992.
(обратно)257
См., в частности: Israël Shahak, Norton Mezvinsky, Jewish Fundamentalism in Israel, Pluto Press, London, 1999. Также можно упомянуть о позициях важного сообщества антисионистских раввинов «Нетурей Карта» («Стражи города»), которое борется за восстановление палестинских прав, ссылаясь на ортодоксальную иудейскую этику и отказ от возвращения евреев в Палестину через государство и насилие; изложение их учения можно найти на их веб-сайте (www. nkusa.org); также по этой теме можно отослать в прекрасной работе Рут Блау: Ruth Blau, Les Gardiens de la Cité. Histoire d’une guerre sainte, Flammarion, Paris, 1978.
(обратно)258
См. полный текст этого выступления на веб-сайте, созданном малайзийским правительством по случая десятого саммита ОИС (www. bernama.com/oicsummit [в настоящее время речь Мохамада доступна по адресу: ]). Глава малайзийского правительства сделал также несколько резких заявлений антисемитского толка, выступая против американского миллиардера Джорджа Сороса, которого он обвинил в том, что тот спекулировал против малайзийской валюты во время финансового кризиса, сокрушившего азиатские страны в 1997 году.
(обратно)259
«Международный исламский суд», «Исламский университет технологий», «Исламский фонд солидарности», «Международное исламское пресс-агентство», «Исламский банк развития», «Исламская организация по образованию, науке и культуре», «Исламская палата торговли и промышленности», «Исламская зона свободной торговли». Существует также много похожих «христианских» образований, например «Международная христианская палата торговли», действующая в двухстах странах, или же «Международное сообщество христиан-бизнесменов» («Full Gospel Businessmen Fellowship International»); они всё же не являются проектами правительств, а практикуют прозелитизм и взаимопомощь между членами (см. www. icccreg.net). Существуют также аналогичные организации иудаистского направления.
(обратно)260
В английской оно вошло в форме «cosmopolitan», от французского слова XVI века «cosmopolitain». Немцы перевели его буквально: Weltburg.
(обратно)261
Louis Réau, L’Europe française au siècle des Lumières, op.cit., p. 288.
(обратно)262
Bartolomé de Las Casas, Très brève relation de la destruction des Indes (1552). La Découverte/Poches, Paris, 1996; см. также весьма полезный сборник текстов, представленный Марселем Мерлем: Marcel Merle, L'Anticolonialisme européen de Las Casas à Marx, op.cit.
(обратно)263
Georges Steiner, Une certaine idée de l’Europe, op.cit., p. 56.
(обратно)264
Ibid, p. 57–58.
(обратно)265
См.: Marie-Monique-Robin, Escadrons de la mort, l’école française, op.cit.
(обратно)266
См., в особенности: May Evans, «For jihadist, read anarchist», The Economist, 18 августа 2005 г. В этой весьма важной статье из английского консервативного еженедельника автор проводит хорошо подтверждаемую документами параллель между сегодняшними «джихадистами» и старыми русскими анархистами, а также напоминает об актах насилия, совершенных в XIX веке в Европе или США.
(обратно)267
Olivier Seyden, «Post-scriptum de 2004. Strauss et le conservatisme politique», complément de la «Présentation» du livre de Leo Strauss, La Cité et l’Homme, op.cit., p. 57.
(обратно)268
По этому вопросу см. прекрасную работа Клода Николе: Claude Nicolet, Lidée républicain en France, Gallimard, Paris, 2004.
(обратно)269
Ibid, p.7.
(обратно)270
Ibid. p. 518; далее автор с горечью добавляет: «Когда я писал все это, иррациональность уже стучала в двери. “Религиозность” приступила к своему форсированному возвращению, которое, как мы сегодня знаем, распространилось на всю планету, многократно увеличив силу религиозности у нас, где она затрагивает не только традиционные церкви, которые, в действительности, так и не покорились поступательной секуляризации государства и общества, но и ислам, иудаизм, а также другие религии, и все они теперь уверены в себе, став мстительными, многоречивыми и упивающимися своей идентичностью и нарциссизмом» (pp. 518–519).
(обратно)271
Это прекрасное выражение я позаимствовал у Жана Боберо: Jean Bauberot, Vers un nouveau pacte laïque, Seuil, Paris, 1990.
(обратно)272
См.: Alain Joxe, L’Empire du chaos. Les Républiques face à la domination américain dans l’après-guerre froide, La Découverte, Paris, 2002.
(обратно)273
Jürgen Habermas, Le Discours philosophique de la modernité, op. cit., p. 350 [Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М., 2003. С. 306.]
(обратно)274
Ibid., pp. 350–351. [Там же. С. 307, перевод изменен]
(обратно)275
Именно от этого снова отказались в 2001 году на Всемирной конференции по расизму в южноафриканском Дурбане (когда американская и израильская делегация удалились с заседания в знак протеста против этих, а также палестинских требований). Еще более примечателен французский закон от 23 февраля 2005 года «выражающий признательность Нации, в том числе за общенациональный вклад репатриированных французов», четвертая статья которого требует, чтобы «в школьных программах указывалась, в частности, положительная роль присутствия Франции в заморских колониях, в частности в Северной Африке».
(обратно)



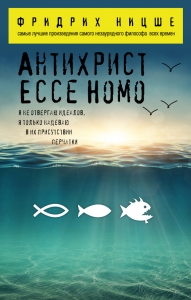



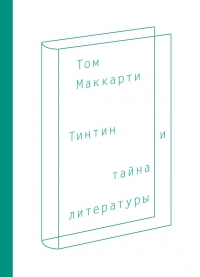


Комментарии к книге «Религиозный вопрос в XXI веке», Жорж Корм
Всего 0 комментариев