Валерий Ярхо Из варяг в Индию
Издательство «Ломоносовъ» Москва • 2013
– М. : Ломоносовъ, – 2013. – 208 с. -
(История. География. Этнография).
ISBN 978-5-91678-088-8
Составитель серии Владислав Петров
Иллюстрации И.Тибиловой
Установить торговые связи с Индией было давней, со времен Ивана Грозного, мечтой русских государей. Но на пути в легендарную страну лежали безводные степи, населенные кочевниками, и беспокойное Хивинское ханство, правители которого делали все, чтобы затормозить движение России на юг. Ни договориться с хивинскими ханами, ни одолеть их силой не удавалось. Эта книга посвящена растянувшейся на несколько веков, полной драматизма эпопее, включающей бесславные походы, дипломатические демарши, шпионские миссии, приключения авантюристов-одиночек, побеги пленников, обернувшиеся путешествиями через полмира… Только во второй половине XIX века русские войска взяли Хиву, но в то время это уже стало лишь эпизодом в «Большой игре», как назвал Редьярд Киплинг соперничество Британской и Российской империй в Центральной Азии. А это уже совсем иная история…
Пролог. Тайные вести
В 1713 году в Астрахань с компанией русских и татарских купцов, ходивших на малых судах к мысу Тюк-Караган, расположенному в северо-восточной части Каспийского моря, где обычно происходила торговля с туркменами, прибыл богатый туркмен по имени Ходжа Нефес. Основным занятием Нефеса была проводка торговых караванов от каспийского побережья вглубь материка, до самой Хивы и Бухары, а потому называли его «вождь», то есть проводник караванов; происходил он из туркменского племени, подчинявшегося султану Сайдами.
Ходжа Нефес отправился в дом к жившему в Астрахани князю Самонову, был принят им и в приватной беседе сказал ему, что прибыл в город вовсе не по коммерческим делам, а с целью открыть российскому императору некую важную тайну, касающуюся дел, могущих принести Российскому государству немалую пользу.
Князь Самонов по крови был перс, родом из Гиланги, и у себя на родине считался знатным беком, но из-за сложившихся неблагоприятных для него обстоятельств вынужден был бежать из Персии в Россию, где принял христианство и поступил на службу, достигнув немалого чина. При русском дворе у Самонова имелись некоторые связи, и, оценив рассказанное Ходжой, он вызвался проводить его до столицы, чтобы там посодействовать в его деле. Князь и Нефес спешно выехали в Санкт-Петербург, где Самонов обратился к своему знакомому, князю Черкасскому, бывшему в то время при дворе в большой милости и силе. Это был представитель новой, молодой элиты русского государства, из компании придворных и близких к царю Петру людей, которых принято называть «птенцами гнезда Петрова».
Первоначальные известия о князе Александре Бековиче-Черкасском крайне смутны. Этот кабардинский княжич (отсюда и прозвище его «Бекович», от слова «бек»), по одной из версий, был похищен еще мальчиком и взят в качестве заложника верноподданности кабардинских князей – звали его тогда Давлет-Кази-Мурзой. В Москве, куда княжича привезли, его крестили и отдали на воспитание в дом князя Бориса Алексеевича Голицына, «ближнего боярина» еще царя Алексея Михайловича, в свое время исполнявшего роль «дядьки» при особе юного царевича Петра.
Рос и воспитывался он вместе с сыновьями князя, отличаясь от своих русских сверстников разве что «необычайной бойкостью». Когда пришло время, вместе с княжичами постигал азы наук у польского учителя и потому для своего времени считался весьма образованным юношей. Около 1698 года он начал служить при дворе государя вместе со своими назваными братьями, а через год одна из Голицыных – вдова Петра Ильмурзича, княгиня Анна Васильевна, урожденная княгиня Нагая, подарила Бековичу свои вотчины в Романовском уезде. Еще более укрепила положение кабардинского княжича при русском дворе женитьба на Марье Борисовне Голицыной, дочери его воспитателя. Так кабардинский княжич окончательно породнился со старинным русским боярским родом.
Вместе с другими молодыми людьми из знатных фамилий князь Александр в 1707 году был послан учиться в Европу, где получил блестящее образование, став специалистом по кораблестроению и дипломированным мореплавателем. Но едва он в 1711 году вернулся из-за границы, как по поручению Петра был отправлен с важной дипломатической миссией к себе на родину, в Кабарду. Незадолго перед тем казанский губернатор граф Петр Матвеевич Апраксин предпринял против Кубанской орды военный поход, и несмотря на то, что поход был очень удачным, кардинально он ничего не решил – горцы уклонялись от решительных сражений и вместо этого привычно рассеивались по горам, нападая из засад и после коротких стычек снова скрываясь. Эти племена донимали южные рубежи России опустошительными набегами, а так как отношения России с Турцией постоянно балансировали на грани военного конфликта, то парировать набеги поддерживаемых турками племен решили при помощи кабардинских князей. С царской грамотой князь Александр Бекович прибыл в родные места и, опираясь на родственников, уговорил князей Кабарды принять присягу верности и служения русскому царю. Среди присягнувших русской короне были мать Черкасского и два его родных брата.
По возвращении с Кавказа за столь успешное исполнение возложенного на него поручения князь Черкасский был произведен в офицеры гвардии. К тому времени, когда к нему в Петербурге явились князь Самонов и Ходжа Нефес, Александр Бекович состоял в чине капитан-поручика лейб-гвардии Преображенского полка и считался одним из «царских любимцев». Князь Самонов ввел в дом Черкасского туркмена Ходжу Нефеса, и тот рассказал Бековичу, как где-то во владениях хивинских князей моют песочное золото…
Сведения о золоте, имевшемся в тех краях, приходили и ранее. Об этом, в частности, сообщал могущественный правитель Сибири князь Гагарин, который даже прислал в новую столицу Петра около пуда золотого песка, выкупленного во время путешествия по Бухарин дворянином Трутниковым; тот, в свою очередь, тайно приобрел его у одного яркендского купца, уверявшего, что это золото было намыто хивинскими узбеками где-то в районе Яркенда. Песок, привезенный по повелению Гагарина самим Трутниковым в Петербург, тщательно исследовали и нашли его «чистым металлом несколько белого цвета». В то время Россия не имела своих природных источников благородных металлов, и для чеканки монеты приходилось использовать серебро и золото, скупаемое ломом или изделиями. Весьма ходовой денежной единицей были «ефимки» – серебряные талеры, попадавшие в Россию из европейских стран: их выкупала казна и талеры перечеканивали в русскую монету на Монетном дворе в Москве. Обретение собственных золотых россыпей и серебряных рудников было давней мечтой русских царей, и на поиски драгоценных руд не один раз отправлялись экспедиции во главе с приглашенными из-за границы «рудознатцами». Но не золото, а вернее, не одно только золото давно влекло умы русских правителей на Востоке. Драгоценный металл был, можно сказать «тактическим интересом» русской короны в Средней Азии; главное же, о чем мечталось при русском дворе, состояло в отыскании надежных путей, ведущих в Индию и Китай.
Как это ни парадоксально звучит, но «бросок Петра на Запад» был вызван необходимостью обеспечения интересов «восточной политики» русских царей. Вовсе не из прихоти, не для игры «в кораблики», напрягая все силы государства, подчас ставя на кон само его существование и собственное правление, строил свой флот и пробивался к Балтийскому морю практичный и прижимистый Петр Великий. Что он собирался возить на тех кораблях? Чем, собственно, царь Петр собирался торговать с Европой, завоевав балтийские порты? Мехами? Пенькой? Льном? Медом? Другими традиционно «русскими» товарами? Но такой торг вполне успешно велся и прежде, так стоило ли из-за его простого расширения воевать так тяжело и долго?! Для того ли заведены были отношения с Ост-Индской торговой компанией прежними русскими царями? Большие, государственные интересы были в этих взаимоотношениях основой.
Чтобы понять главную подоплеку этих государственных интересов, достаточно провести пальцем по карте линию, произвольно начав ее от любой из тогдашних европейских столиц или какого-нибудь крупного морского порта, ведя ее далее через русскую землю до Китая и Индии, и попробовать проделать то же самое, огибая Африку, вычерчивая замысловатую загогулину морского пути. Так сразу становится понятнее, какой путь в эти страны короче и надежнее. По русским рекам, озерам и волокам, от портов хоть Белого, хоть Балтийского морей можно было дойти с товарами до Волги, по великой реке спуститься до Каспия, а там и до старинных караванных путей рукой подать. Но, бодро пробежав по чертежу европейской части России, тот же палец начинал весьма неуверенно елозить, оказавшись в центре огромного белого пятна, растекшегося на европейских картах того времени от Среднего Заволжья до самых границ заветных стран. Это были дикие степи, населенные племенами, основным занятием которых, помимо скотоводства, был «промысел» на караванных путях. За этим Диким полем лежали государства, в которых христиан-европейцев не жаловали.
Водить по карте пальцами умели и в Москве, и в Лондоне, и в Амстердаме, и в городах Ганзы тоже. И везде понимали, что тот, кто проложит надежный караванный путь через Степь и сможет договориться с правителями Хивы и Бухары, получит в свои руки заветный ключ, отпиравший (а при нужде и запиравший) двери, ведшие к богатствам Востока.
Визиты прежних лет
Попытки одновременно выйти к берегу Балтийского моря и отыскать надежные караванные пути на Восток предпринимались московскими царями и до Петра. Задолго до его восшествия на престол на Русь прибывали послы от восточных владык, и, в свою очередь, из России на Восток уходили гонцы и посланники. Но этот обмен велся более «наугад»: ни в далеких странах о России толком ничего не слыхали, ни в нашем отечестве про жизнь в тех странах не ведали. Считается, что первым из известных нам русских путешественников, которому удалось самому побывать в Индии и вернуться оттуда, был тверской купец, знаменитейший Афанасий Никитин. Но хотя имя его, как говорится, «у всех на слуху», все же нелишне будет вкратце напомнить о том, что послан он был в 1468 году тверским великим князем Михаилом Борисовичем по Волге с товарами через владения великого князя Московского Иоанна Васильевича (тогда Тверь и Москва были еще разными государствами, конкурировавшими между собой). Никитина пропустили до Нижнего Новгорода, где он присоединился к свите ордынского посла Ширвана Асамбека, возвращавшегося из Москвы. Однако даже заступничество посла и принадлежность к его свите не защитили тверичанина и его людей: под Астраханью товары были пограблены тамошними кочевниками. Но Афанасий, имевший целью не столько торговлю, сколько разведку маршрута, продолжил свой путь, добравшись до Дербента, а оттуда в Баку. Из Баку он проник в Персию, и прошел до Ормузда, откуда морем добрался до Индостана, где побывал в Бедере, столице шаха Хорасанского. В обратный путь он отправился другим маршрутом, побывал на африканском берегу в Сомали, оттуда на корабле дошел до Персии, из которой проник в Турцию, и уже там, в Трапезунде сел на судно, шедшее в крымскую Кафу (ныне Феодосия). Домой, в Тверь, Никитин так и не попал, в 1474 году он умер в одном из монастырей Смоленска, в котором попросил пристанища, когда почувствовал, что силы его оставляют. В его вещах были найдены тетради с записками – знаменитое «Хождение за три моря», – которые были переправлены в Москву, к дьяку Василию Мамыреву, ведавшему посольскими и секретными делами у тогдашнего великого князя Московского.
При великом князе Василии Ивановиче, в сентябре 1533 года, в Москву прибыл караван индийского купца Гусейна Хози. Хозяин каравана привез для русского царя грамоту от своего владыки Бабур-Паши, в которой русскому государю предлагалось «быть в дружбе и братстве». По расспросу послов выяснилось, что Бабур-Паша происходил из известного рода – он был шестым поколением от потомка Тамерлана, Миран-Шаха. Грамота Бабура была принята, и Гусейну Хози было разрешено расторговаться в русской столице. При отпуске домой купцу вручили ответное послание о полном согласии поддерживать отношения и впредь, «чтобы наши люди друг к другу хождение с товарами свободное имели». Про братство царь велел не писать, «поскольку не уверен был в том, что государь ли тот Бабур-Паша, или просто чей-то управитель». О случайности и несовершенстве тогдашних связей между Россией и восточными странами ярче всего говорит тот факт, что эту переписку русский царь вел уже с покойником. Когда караван Гусейна Хози достиг русских пределов, Бабур-Паша уж три года, как был мертв, но караванщики об этом, конечно, не знали.
Из России в сторону Индии несколько раз отсылали своих гонцов, чаще используя для этого иноземцев, высказывавших желание «послужить русскому престолу, а заодно и управить свои дела». Дела эти были смесью торга, разведки новых земель и прямого шпионажа, который, впрочем, учитывая гигантские расстояния между странами и медлительность в решении дел, можно назвать «стратегической разведкой на далекое будущее».
В 1557 году хивинский и бухарский ханы прислали ко двору царя Ивана Васильевича Грозного посольство, состоявшее из знатных придворных ханов, привезших богатые дары. Послы просили права торговать узбекским купцам в русских городах. («Узбеками» часть жителей хивинского ханства назвалась в 1312 году, в знак особенной преданности ордынскому хану Узбеку; называвшие себя так составляли «высший класс общества» в ханствах.) Отношение к посланцам было весьма настороженное, ибо на Руси отлично помнили, что в самые жестокие времена владычества Орды именно хивинские купцы брали «на откуп» сбор дани с русских. Тогда завоеванной монголами Хивой правил брат Батыя Шабан, и хивинцы, внеся в ордынскую казну сумму дани и получив доступ в русские земли, драли по три шкуры – как говорит летопись: «брали неумеренные росты», то есть проценты на внесенную ими сумму откупа. Тех, кто платить за себя не мог, угоняли в неволю. Все это вызвало серию восстаний в Ростове Великом, Владимире и Суздале, где хивинских сборщиков перебили, а потом последовали жестокие репрессии со стороны монголов. Лишь в 1273 году хан Мангутимур освободил русских от насилия хивинских купцов. Известно было также, что узбеки и иные хивинцы не раз входили в состав орд, совершавших набеги на русские земли, и что немало их было в войсках Мамая на Куликовом поле. Не было секретом для русских и то, что в Хиве процветает работорговля, в том числе и русскими пленниками. Все это отталкивало от союза с ханствами и в то же время притягивало к нему – ведь пленных надо было выкупать, то есть входить в регулярные сношения с хивинцами, а как это удобнее всего было сделать, если не при посредстве купцов, прибывавших оттуда для торга?!
Торговля мало-помалу шла: русские ходили с товаром в Хиву, а оттуда привозили товары в русские земли. Товары эти, доставляемые на рынки Хивы из Индии и Китая, через Россию шли дальше в Европу по утроенной цене, принося и купцам их возившим, и казне, бравшей пошлины на ввоз и вывоз, немалую прибыль.
Чтобы понять, что из себя представляют ханства, «для разведывания тамошних бытностей» в 1558 году был послан англичанин Энтони Дженкинс, которому были вручены представительские грамоты посла царя Ивана Грозного. Иван Васильевич благоволил англичанам, а мистер Дженкинс не раз исполнял дипломатические поручения своей королевы при русском дворе, и потому Грозный видел в нем опытного и ловкого дипломата. Да и сам Дженкинс был не прочь предпринять этот дальний и опасный вояж, служа русскому царю и соблюдая интерес британской короны в деле поиска надежных путей в Китай и Индию.
Из Москвы англичанин выехал 23 апреля 1558 года. По Москве-реке он вошел в Оку, доплыл до Нижнего Новгорода и там присоединился к каравану назначенного к месту службы астраханского воеводы, который отправлялся в провинцию, образовавшуюся за год до того на месте прежнего Астраханского ханства, завоеванного и присоединенного к землям русского царя. Всего с военными, купеческими и везшими припасы судами собралась огромная флотилия в 500 кораблей; в Астрахань этот конвой прибыл 14 июля. Там его очень ждали. К стенам города пришла орда ногайцев, чьи князья высказали пожелание войти в русское подданство. Такой ценой они платили за помощь – иначе они бы просто вымерли в своих кочевьях, поскольку в степи свирепствовал голод. Дженкинс не стал задерживаться в Астрахани и почти сразу же отправился дальше вместе со своими спутниками – двумя англичанами, несколькими татарами и персами. Корабли экспедиции вышли в Каспий и к 17 июля прибыли к устью Яика. Далее путь лежал к полуострову Мангышлак, где на караван судов налетела буря, разбив их и выбросив на берег. Несмотря на эту неудачу, англичанин решил идти далее. Наняв у туркменских племен тысячу верблюдов, он погрузил на них свои товары и вышел в направлении города Селизюр, где пополнил припасы и получил от хана Азмингена охранную грамоту.
16 октября караван Дженкинса вошел в Ургенч. Здесь произошла длительная остановка, покуда султан Али, правивший городом, не выдал разрешения следовать далее. Лишь 26 ноября поход посольского каравана продолжился, и вскоре Дженкинс достиг города Кет. Местный султан благосклонно принял дары и выслушал русского посланника, после чего распорядился выделить для сопровождения каравана небольшой отряд воинов, который и охранял его до самого вступления в Бухару, куда путники прибыли 23 декабря 1558 года.
Город этот произвел на Дженкинса большое впечатление: очень красивые каменные здания, дворцы, мечети. Но особенно поразили его общественные бани, которые он назвал «лучшими в мире». Город пересекали арыки, но, как заметил он, вода в них очень скверная – тот, кто рискнет ее выпить, обязательно заболеет, от этой воды в теле человека поселятся черви-паразиты. Судя по запискам Дженкинса, русские купцы здесь бывали регулярно, хотя никаких официальных взаимоотношений между государствами установлено не было. Русские привозили в Бухару выделанные кожи, овчины, уздечки, седла, деревянную посуду. В Россию вывозили ткани, краски и здесь же закупали китайские товары.
Бухарский хан принял Дженкинса милостиво. Он много расспрашивал его о европейских государствах, о том, как там живут люди. Отдельно расспрашивал о Московии. Рассматривая подарки, хан увидел несколько мушкетов и попросил англичанина показать, как ими пользуются. По его просьбе Дженкинс несколько раз выстрелил в воздух во дворе ханской резиденции. Реакция на этот салют у самого хана и его свиты была чисто детской: сначала все перепугались, а потом восторгу их не было предела, из чего Дженкинс сделал вывод, что они никогда не видели огнестрельного оружия.
Прогостив в Бухаре всю зиму, 8 марта 1559 года Дженкинс выступил в обратный путь с небольшим караваном в шестьдесят верблюдов. Шли налегке, особенно нигде не задерживались и к концу месяца достигли Ургенча. Здесь к каравану примкнули двое русских, посланных в страны Востока с дипломатическими поручениями, и двадцать пять русских рабов, выкупленных из неволи. Прибыв на берег Каспия, Дженкинс встретил русских купцов, пришедших на стругах из Астрахани для торга с туркменами. Он купил у них один струг, на котором 13 мая отправился в Астрахань. Плавание это едва не закончилось трагедией для всех его участников – возле устья Яика судно попало в шторм и затонуло, а сам Дженкинс еле спасся. Остатки экспедиции достигли Астрахани 24 мая. Немного передохнув, Дженкинс, которого как особо важного царского слугу сопровождала сотня воинов, отправился в Москву.
Прибыв ко двору Ивана Грозного, он был допущен до государя и во всех подробностях рассказал ему обо всем виденном и узнанном. По его рассказам выходило, что большинство народов ему повстречавшихся, жизнь вели полудикую, кочевую. «Не употребляют они хлеба и денег совсем не знают, – докладывал Дженкинс, – торговлю ведут меновую, а более того, все, что им нужно, добывают грабежом и разбоем – это у них почитается за удальство». Совсем по-иному он отзывался о Бухаре, тамошнем правлении и жителях. Рассказал о существующих ремеслах, производимых плодах, о наличии в ходу денег: золотых, серебряных и медных – и высказывался в том смысле, что установление регулярных отношений с этим ханством было бы весьма выгодно.
После похода Дженкинса еще несколько раз прибывали послы от восточных владык – они даже значатся в числе гостей на пиру, данном московским государем по случаю завоевания русскими Сибири. Но царь Иван, видимо сделавший какие-то свои выводы из донесений купцов и послов, завязывать отношения с ними не спешил, предпочитая разговаривать «с позиции силы». Так, в 1569 году бухарский и хивинские ханы в своих грамотах, присланных турецкому султану, жаловались: «Русский государь истребляет мусульманскую веру и пресек сношения с Меккой». При этом они доносили султану, что Астрахань – это главная морская пристань народов, живущих вокруг Каспия, и арабских купцов, ведущих торг с Европой. Этот порт доставлял в казну русского царя ежегодно около тысячи золотых монет, собранных в виде таможенных пошлин.
При царе Борисе Федоровиче Годунове торговым сношениям с купцами, приходившими в Астрахань из Индии, стали покровительствовать особо, видя в приобретении восточных товаров, а в особенности «товаров для врачебных потребностей», большую важность. Эти «коренья и полезные зелья» привозили небольшими партиями армянские купцы, взявшие в свои руки торговлю с восточными странами, их же чаще всего использовали и в качестве дипломатов, для передачи грамот восточным владыкам.
В последующие царствования ситуация менялась мало: ходили купеческие караваны, прибывали нечастые послы. На караванных путях свирепствовали степняки, взимавшие дань. Ходили в набеги туркмены, каракалпаки и киргиз-кайсаки (нынешние казахи), охотившиеся за русскими рабами. Яицкие казаки не оставались в долгу и отвечали им тем же, совершая налеты на стойбища степняков, угоняя скот и уводя пленников – для обмена на своих и продажи перекупщикам. В самом начале XVII века, точнее, около 1600 года, узнав от хивинских купцов, что летом в бывшем тогда главном городе Хивинского ханства Ургенче не бывает войск, казаки решили совершить набег, рассчитывая на богатую добычу и большой полон. Казачье войско, насчитывавшее около тысячи человек, прошло степью, через плато Усть-Урт, и напало на Ургенч. Сопротивления в городе им почти не оказали, и казаки, захватив богатую добычу, гоня большой полон молодых женщин, скоро двинулись в обратный путь.
Прознав об атаке на свою столицу, хан Аран Магомет, кочевавший вдоль реки Амударьи, собрал значительное войско и еще в своих владениях настиг казаков, отягощенных добычей. Окружив их в степи, хан отрезал им путь к источникам воды; он несколько раз атаковал занявших оборону казаков, понимавших, что от того, как они будут биться, зависит, сколько они проживут. Казаки дошли до крайности: пили собственную мочу и кровь, а потом решили пробиваться силой, нежели сдохнуть от жажды. Выбрав момент, они атаковали узбеков с отчаянием обреченных и после жестокой рубки прорвали кольцо, но уйти удалось едва ли сотне. Беглецы укрылись возле одного из устьев Аму, рассчитывая отсидеться, питаясь рыбой. Но через тринадцать дней их убежище было обнаружено рыскавшими по степи разведчиками хана, к месту бивуака пришли основные силы хивинцев, и казаков истребили всех до одного.
Спустя двадцать лет после этого набега, в 1622 году, в Москву, к царю Михаилу Федоровичу, прибыли послы от хивинского правителя Авгала с известием, что «в Хиве творится великая смута»: двоюродные братья хана, царевичи Абиш и Ильбор, вместе с изменниками при дворе составили заговор, желая свергнуть хана Авгала. Хан просил русского владыку о присылке с его послами войска, дабы дать укорот своим братьям, а за это согласен был войти в русское подданство. Но расстояние было слишком велико, и, пока суть, да дело, в Хиве все уже решилось, и вслед за посольством, посланным Авгалом, прибыло другое, отменившее все прежние заявления представителей низложенного правителя. Потом связи с Хивой прервались на несколько десятилетий, и что там творилось в эти годы, одному Богу известно.
Ближе всего к осуществлению планов по прокладке торгового пути «из варяг в Индию и Китай» русские приблизились в царствование отца Петра Великого, государя царя и великого князя Алексея Михайловича. Приняв под свою власть Украину, русский царь, прозванный «Тишайшим», удачно воевал в Прибалтике, и русские войска под его водительством вплотную подошли к торговым путям Европы.
В то же самое время, еще в 1646 году, при отправлении в Персию русского посла князя Козловского по распоряжению царя с посольством пошли и гонцы к «шаху индийскому» Великому Моголу Джигалу – казанский купец Никита Сыроежкин и астраханец Василий Тушканов. При них были грамоты с титулами русского государя, писанные на александрийском листе, края которого были покрыты искусными узорами, и к этой «парадной грамоте» был приложен перевод на нескольких восточных языках. Гонцам был также дан «тайный наказ»: «Надлежит вам, через русских полонянников разузнать и описать со всякой подробностью все, до Индии касающееся. Какова там вера? Много ль больших городов? Каково строение домов и дворца Могола? Есть ли подвластные Джигалу владельцы, платят ли они ему дань, и если платят, то сколько? Имеется ли у Могола собственное войско? Каково оружие у этого войска? Есть ли свой флот, и если есть, сколь велик? Есть ли крепости? Состоит ли под его владением вся Западная Индия, или часть принадлежит испанцам? К каким портам Индостана прибывают со своими товарами европейцы? С какими государствами Могол в ссоре, а с какими воюет? Разведать также надлежит о золоте, тканях, драгоценных камнях, пряных зельях и овощах, что бывают в тех краях. Каковы на них там цены? Что привозят в Индию европейцы? На какие товары европейцев самые высокие цены? Как берут пошлины с привозимых товаров? Если берут деньгами, то сколько? Каким путем проехать в Индию удобнее: из Астрахани через Персию, или на Ургенч и далее через Бухару? Или, может быть, через владения иных князей азиятских имеется путь? Сколько числится верст по ближайшей дороге, или сколько дней идти: морским и сухопутным путем? Посуху лучше как идти каравану с верблюдами или лошадьми?»
Было велено «содержать себя в достоинстве», при исполнении дипломатических ритуалов. Царевых грамот, помимо самого Могола никому не подавать. Ни в самом дворце, ни перед ним никому не кланяться, и даже перед порогом тронной залы поклона не совершать и ног у Могола не целовать, разрешено было только во время аудиенции поклониться «рядовым поклоном».
Из казны Сыроежкину и Тушканову были отпущены товары на сумму в 5 тысяч рублей, а будучи в Индии, они сами должны были выбрать из своих товаров то, что там почиталось за лучшее и редкость, особенно ценилось, и эти товары надлежало поднести Моголу в качестве подарка.
Послы вместе с товарами благополучно добрались с русским посольским караваном, шедшим к персидскому шаху, до персидской провинции Исфагань, где дальнейшее их продвижение приостановилось, поскольку между персидским шахом и Великим Моголом началась война из-за Хорасанской области. Русский посол, князь Козловский, был у шаха Аббаса Второго в загородном дворце, где вручил ему свои верительные грамоты и представился лично. Там же был и посол Могола Исархан. Между двумя послами возникло соперничество – кого посадят более почетно. Козловского шах посадил по правую от себя руку, индийца по левую, что было менее престижно. Но этим дипломатический успех и ограничился – пропустить русских посланников с товарами к своему сопернику шах Аббас отказался, и они были принуждены вернуться с посольством Козловского в Москву. Для нас рассказ об этих давних событиях ценен тем, что в документах, составленных для посланцев, особенно в «тайном наказе», наиболее полно, ярко и откровенно высказано, что, собственно, русских правителей интересовало в Азии, к чему стремились, чего они добивались.
Несмотря на неудачу посольства, посланного через Персию, при дворе Алексея Михайловича не оставляли мысли об установлении контактов с правителями государств Индостана, а потому царь оказывал особенное покровительство прибывавшим из тех стран купцам. Воеводам в Астрахани было настрого приказано: оберегать индийских купчин от всевозможных неприятностей; предоставлять им наиболее выгодные, в сравнение с купцами других стран, условия для торга и проживания. Пользуясь разрешением и покровительством русского государя, индийские купцы вполне успешно вели свои дела в русских землях, торгуя не только в Астрахани, но и в Москве, и в других крупных городах. Например, в январе 1650 года два индийских купца, Солокна и Лягуит, прибыли в Ярославль, где с большой прибылью вели торг коврами, кушаками, арабскими и индийскими тканями, кумачом красным и белым, бязью, мехами, шелком, шубами, юфтью, тафтой, кисеею, платками и прочим товаром. Такая бойкая торговля породила конкуренцию, и в мае 1651 года московские торговые люди подали царю челобитную, прося дозволения ездить со своими товарами в Индию. Собственно, этого им никто не запрещал, и как мы помним, русские купцы самостоятельно хаживали на Восток довольно далеко, но в этот раз они просили выдавать им «пропускные грамоты для шаха персидского», через владения которого они намеривались идти. Алексей Михайлович, рассмотрев просьбу торговых людей, распорядился купца Василия Шорина, снаряжавшего караван в Индию, и двух его помощников, Родиона и Ивана Никитиных, именовать «государевыми гонцами» и послать с ними грамоты к шаху Аббасу Второму и к Великому Моголу Джигалу. В грамоте, адресованной Великому Моголу, говорилось о происхождении «обладателей российских» от римского кесаря Августа, а также предлагалось быть двум государствам в дружбе, самим государям обмениваться регулярными посольствами и присылать караваны купцов. Кроме того, Шорину и Никитиным был дан и «тайный наказ», ничем не отличавшийся оттого, что получили пятью годами ранее купцы Сыроежкин и Тушканов.
Но и в этот раз посольство было малоуспешным, сразу по нескольким причинам. Во-первых: Великий Могол Джигал к тому времени уже умер и четыре сына его, борясь за престол, затеяли между собой войну, так что, в общем, неясно было – к кому именно посылать русских гонцов; во-вторых, во взаимоотношениях между Персией и Россией наметилось охлаждение, вызванное тем, что подданный шаха, хан Шемахи, возмутил против русских ногайские роды и те совершили набег на пограничные территории, атаковав порубежные городки и остроги. В ответ на такие действия русское правительство распорядилось взять под арест всех персидских купцов, бывших в то время по своим делам в Астрахани, пока персидская сторона не возместит убытки, понесенные русскими от действий ногайцев. На какое-то время тактические нужды политики возобладали над стратегическими интересами, и прокладку маршрута в Индию через персидскую территорию пришлось на некоторое время отложить.
Отложить, но не отказаться вовсе! О серьезности намерений в этой области говорят события, случившиеся, когда в 1663 году в Москву прибыл караван армянских купцов с «индийскими товарами». По обычаю тех лет владельцы каравана Никита Перов, Савва Григорьев и Григорий Савельев, будучи представлены царю Алексею Михайловичу, преподнесли ему драгоценные подарки, состоявшие из золотых изделий с каменьями, тонких материй, сосудов с благовониями и ароматными притираниями и прочих «восточных штучек». Дары эти было велено оценить сначала русским золотых дел мастерам, которые посчитали, что они стоят 15 623 рубля 28 копеек. Затем позвали иностранных ювелиров, которые оценили те же подарки в 14 958 рублей 42 копейки. Купцы, приглашенные из московского Серебряного ряда, давали за дареные товары 11 228 рублей 62 копейки. Такая скрупулезность в оценке была не случайной: Государь объявил, что ему неугодны «индийские вещи, поднесенные армянскими купцами». Большую часть подарков вернули дарителям, а за остальные было велено отдать из Казенного приказа соболями, сукнами и иными товарами, какие армянам покажутся удобнее.
Для армянских караванщиков это было совершенно неожиданно! Обычно, получив дары от купцов, русский царь жаловал дарителей своею милостью и, велев оценить товары, в ответ одаривал «с прибавкою», порою вдвое покрывавшей сумму поднесенного гостями. Этим неприятности армянских купцов в Москве не закончились. С ними было заключено соглашение на поставку в Аптекарский приказ корений и иных припасов для приготовления лекарств, доставляемых из Персии и Индии. Купцы пытались договориться о том, чтобы им «для покрытия понесенных при обмене дарами убытков» разрешено было бы ввозить эти товары в Россию беспошлинно, но в этом им было отказано. Объяснение этим демаршам русского царя и его слуг очень просто: русское правительство усмотрело в действиях армянских купцов попытку «полного присвоения себе всей торговли с Индией» и таким образом давало понять о своем недовольстве этой монополией.
Примерно в то же время к русскому двору прибыли послы тогдашнего хивинского хана: хан просил русского царя принять его в почетное подданство при условии сохранения его ханской власти. Восточный правитель опасался, что не сможет удержать власть самостоятельно, поскольку в Хиве творились неурядицы и часты были бунты черни, попытки многочисленных претендентов самим усесться на престол, да и соседи хана алчно поглядывали на его государство. Считая, что момент весьма удобен для воплощения давних планов, русские совместно с голландскими купцами из Ост-Индской компании и их мастерами-кораблестроителями стали даже строить конвойный флот, заложив в 1667 году на верфи возле села Дединово, что на Оке, корабль «Орел», предназначавшийся для сопровождения купеческих караванов по рекам до Каспия. Русское правительство настолько приблизилось к воплощению давней мечты об устроении торгового пути через свою территорию, что правитель герцогства Курляндского, вполне процветавшего тогда независимого государства, владевшего заокеанскими колониями (в Вест-Индии ему принадлежал остров Тобаго, а в Африке страна Гамбия), счел выгодным просить принять его герцогство в подданство русскому царю. Специально для этого из Курляндии в Москву прибыло посольство с богатыми дарами и прошением принять прибалтийский народ в подданство. Курляндский герцог Якоб соглашался пойти под власть русской короны на том условии, чтобы именно через принадлежавшие ему порты на Балтике шли товары, доставляемые через русскую территорию из Индии и Китая. В распоряжении герцога имелся собственный торговый и военный флот, который по числу кораблей тогда был больше флота Франции, а также собственные верфи, на которых эти корабли строились. Самостоятельный правитель герцог Якоб Кеттлер шел в подданные к московскому царю не с пустыми руками, не как нахлебник – он давал выход к морю и средства доставки товаров на рынки Европы, это было очень выгодно – исчезала проблема выхода к Балтийскому морю, и флота строить не надо было. План был фантастически хорош! Слишком даже, и как часто бывает в подобных случаях, в жизнь его воплотить не удалось: помешал бунт Разина. В 1669 году его разбойники сожгли корабль «Орел» и несколько стругов, зимовавших в Астрахани. А потом в Хиве свергли-таки хана, присылавшего послов в Москву.
В том же 1669 году, когда разинцы спалили «Орел», в Хиву, Бухару и Балх был направлен посланник Борис Пазухин, которому велено было «точно разведать от знающих людей» дорогу от Астрахани до Индии и про то, «какие люди по той дороге живут? Не бывает ли при проезде по тем местностям грабительства и иной какой мешкоты? И сколько, от какого города до следующего, на том пути ходу?».
Из своего похода Пазухин вернулся в 1673 году, обстоятельно описав все, что ему удалось разузнать, утверждая, что от Астрахани проще всего дойти до владений индийского правителя Уранзепа, столица которого – город Джалибат. Пазухин предлагал такой маршрут: от Астрахани морем до Карагинского пристанища. Оттуда три недели караванного ходу до Хивы, от которой столько же до Балха. От этого города до Индийских гор еще неделя ходу. Здесь у подножья гор последний балахинский город Хелшок. От него до первого индийского города Парвана месяц ходу в объезд гор, а прямо через горы – шесть дней пути. Далее он подробно описал, как и было велено, от какого до какого города сколько дней идти, помечая особо переправы и места водопоев. По этому докладу выходило, что от пограничного Парвана до столицы Уранзепа Джелибата было более месяца караванного ходу.
Правитель этих земель был потомком Тимура Аксака и Чегатая. В этой стране официально исповедовали ислам, хотя многие простолюдины и купечество были индуистами. Заключал свое описание Пазухин следующим пассажем: «Всего от Астрахани до индийского города Джалабата 4 месяца и 2 недели пути верблюжьим ходом. Есть путь и через персидскую шахову землю, только он будет того далее, тяжелее и убыточнее».
Ознакомившись с этим отчетом, Алексей Михайлович распорядился призвать в Посольский приказ живших в Москве индийских купцов Ченая Макарандава и Багарея Лелеева, дать им прочесть отчет Пазухина и спросить: правду ли он написал?
Индийцы, ознакомившись с содержанием отчета русского землепроходца, сказали, что описанный им маршрут очень труден, а в степях на этих дорогах промышляет много разбойников. Дорогу до Хивы они нашли верной, а далее рекомендовали идти на Ургенч, от которого в Балх, поскольку это проще и надежнее – ханы Ургенча и Балха были родными братьями, и оба подчинялись бухарскому хану. Далее, по мнению индийцев, следовало идти на Кабул, от которого через горы до владений Уранзепа был месяц ходу.
Спустя год после возвращения Пазухина, в 1675 году, в Индию был отправлен царский посланник астраханец Исуп Касимов, выступивший из Астрахани 28 февраля, имея при себе грамоты от русского царя к индийскому шаху Эврендбу. Он вез с собою подарки, которые специально отбирали по рекомендации Матама Ваколы, старшины индийцев, живших постоянно в Москве. Он посоветовал отвезти в дар соболей, сукна – зеленые и красные, «рыбью кость» – клыки моржей, зеркала разных размеров, бархат турецкий. Еще Вакола настоятельно рекомендовал отправить охотничьих соколов, кречетов и непременно меделянских собак, коими славилась псарня русского царя: «Индийский государь любит тешиться с охотничьими собаками, борзыми и меделянскими. Меделян за великую диковинку покупают для него в Персии, куда их привозят из Москвы и продают там по дорогой цене. Меделянскими собаками в Индии травят львов». Однако животных в дальнюю и трудную дорогу не взяли, боясь не довезти.
До индийских владений Исуп Касимов добрался в 1676 году. Он прибыл в Кабул; тамошний правитель известил шаха о прибытии русского посланника, а самому посланнику сказал, что сотни лет между Россией и Индией не было обмена посольствами, поскольку никакой надобности в этом нету. В присылке же нынешнего посольства он видит лишь желание разведать о богатстве шаха. «К тому же, – сообщалось послу в заключение, – вера у русских христианская, а ему, шаху, как правителю мусульманскому в дружбе с христианским государем быть не надлежит».
Принимавший Касимова кабульский правитель рассказал, что к ним уже приходил в 1658 году русский посланник, некто Семен, который обратился с просьбой к шаху, прося принять его в службу. Ему дали под начало пятьсот воинов и положили хорошее жалованье. Управитель Кабула предложил Касимову те же условия, уверяя, что тот не пожалеет о своем поступке: подарки, которые он вез шаху, стоили немалых денег и, отдав их в казну шаха лично от себя, Исуп Касимов получил бы взамен целое состояние и зажил бы во владениях шаха в свое полное удовольствие. Но русский посланник отверг это предложение и пояснил правителю провинции, что «русский посланник» Семен был ловкий жидовин, беглый холоп шемахинца Садыка. «Так не считаете ли вы и меня подобным обманщиком, приглашая на службу?» – осведомился Исуп. Этим вопросом он очень обидел кабульского султана, который приказал забрать все привезенные им товары и запереть в каменных кладовых кабульской таможни. Там они пролежали долгое время в сырости, отчего меха испортились, и, когда кладовые распечатали, таможенный голова оценил все товары необычайно дешево; впрочем, он тут же сам скупил их. При этом посланнику еще и попеняли: зачем-де такую дрянь привез? После этого Касимову выдали на дорогу 2 тысячи рублей серебром и выслали из Кабула.
В Москву он прибыл в январе 1678 года, приведя с собою сорок русских пленников, выкупленных им в Кабуле и в иных городах по дороге домой.
После смерти царя Алексея Михайловича планы о движении русских на Восток были отложены на неопределенное время. Тем не менее индийские купцы продолжали прибывать довольно регулярно. Некоторые из них поселились в Москве постоянно и даже приняли христианство, у них были свои «старшие» которые входили с прошениями к русским правителям. Известен такой факт: во времена правления царевны Софьи Алексеевны, 15 августа 1684 года, когда она шла в окружении свиты на богомолье в Новодевичий монастырь, старшина индийских купцов Луда Гарав подал ей челобитную на астраханского воеводу, «наносившего напрасные обиды» его землякам. Эту челобитную для рассмотрения отправили в Сибирский приказ, боярину Репнину.
Спустя четыре года, в 1688 году, уже московское купечество подало челобитную, в которой жаловалось государям Ивану и Петру Алексеевичам на индийских купцов, живших и ведших торг в Москве. По этой челобитной были приняты решительные меры, и индийцев выслали из столицы, запретив торг везде, кроме Астрахани.
Получив в 1689 году всю полноту власти в России, Петр Первый, вопреки распространенному мнению, фактически лишь продолжил те реформы, что на протяжении своего царствования проводил его отец, царь Алексей Михайлович.
Проекты «великого торгового пути на Восток» в правление Петра Первого наряду с планами «прорыва на Запад» рассматривались как важнейшие. К тому времени решительных удач здесь достигнуто не было: в отличие от продвижения на Запад, успешно начатого при Алексее Михайловиче, на восточном направлении все оставалось по-прежнему. Но трудные задачи только раззадоривали молодого царя. В седьмой день мая 1695 года из Москвы, от Приказа Большой казны, через Астрахань в Персию и далее до Индостана были отправлены купцы Гостиной сотни Семен Мартынов Маленький, Сергей Аникеев и астраханский посадский человек Иван Севрин. С ними шел соглядатай-«целовальник» – присягнувший на верность целованием креста «человек добрый и правдивый». Купцам дали переводчика и для охраны пятерых стрельцов. Семен Маленький со товарищи вез с собою грамоты к правителям Хивы, Бухары, Балха, персидскому шаху, в которых русское правительство ходатайствовало о разрешении прохода купцам, найма ими людей, тягла и подвод, а также и судов.
Купчина Маленький и его спутники беспрепятственно дошли до Индии, безубыточно торговали там, закупили необходимые товары и спустя шесть лет после начала своего странствия, 22 января 1701 года, из города Сурата выступили в обратный путь. В порту Бенден-Арас они наняли два судна, индийское и суратское, на которые погрузили товары. Когда они вышли в море, караван судов был атакован пиратами; индийскому кораблю удалось уйти, а суратское судно, на котором шли двое стрельцов, приставленных к охране товаров, было захвачено. Пропавшие товары оценены были в 18 591 рубль: на пропавшем корабле купцы везли краски, имбирь на патоке, чай, бобы какао, закупленные Семеном. Добравшись до Шемахи, оба, и Маленький, и Аникеев, умерли и сами о путешествии рассказать уже ничего не могли. В Москву, в Приказ Большой казны, были доставлены записи о количестве товаров и расходах, но ни о маршруте, каким шли купцы, ни об их жизни в Индии не осталось ни строки. Скорее всего, тетради с этими записями русским просто не отдали. О том, что Семен Маленький и его спутники вообще побывали в Индии, свидетельствовали лишь присланные с их вещами грамоты от индийского шаха: в первой он объявлял о приеме привезенных ему подарков, во второй дозволял русским купцам торговлю на его территории, закупку и беспошлинный вывоз любых товаров.
Пока длилось путешествие посланных из Москвы купцов, в 1696 году была предпринята попытка проникнуть в Хивинское и Бухарское ханства из Сибири. По указу царя из Тобольска выступил небольшой отряд, возглавленный боярскими детьми Федором Скибиным и Василием Кобяковым. С ними шли казаки Александр Алемасов, Матюшка Трошин, Потапко Михайлов, Фомка Моисеев, Ларька Серебряков, толмач (переводчик) Богдашка Неустроев, пристав («государево око») Федька Ленев, а также Алешка Щепоткин, Якушка Уфимец. В отряд, кроме того, вошли новокрещенные калмыки Кишка Алексеев, Ивашка Григорьев, Бухаретдин Тюлюк-бай. Да еще тобольские татары Юлюк Шаменаев, Таушко Мерчен, Аник Чичерев.
Бухара в казацких записках представлена так: «На стенах 12 башен. Владеет Бухарой Самангуль-хан. Под ним состоят многие города и уезды. Людей у него тысяч с четыреста, и слывут они “кокутаны”. Люди все рукоделистые, торговые, не воинственны. У них много ручного огневого оружия. Зелье и свинец к нему делают сами. Имеются и пушки, числом с пятьдесят. Воздух и воды у них нездоровые – часто бывают болезни. От Бухарии путь лежит к Хиве. До хивинских селений дней 15 ходу будет. Между городов степь песчаная. Много колодцев с водой на этом пути, но вода в них нездоровая.
Хива – меньше Бухары. Строения такого же. В подданстве ее много городов. Люди не воинственны, рукодельны. Оружие и зелье делают сами. Бояр своих называют “алтыками”, служилых людей “узбеками”, крестьян “раятами”».
Все подробности своих странствий по прибытии в Тобольск участники похода записали «набело», а на большом куске китайской бязи нарисовали карту. Карта и записки были сданы в Сибирский приказ возглавлявшему его боярину князю Ивану Борисовичу Репнину.
В 1700 году от хивинского хана Шаниаза, находившегося тогда зависимости от хана бухарского, к Петру пришло посольство, которое в очередной раз в истории взаимоотношений между Хивой и Москвой попросило о принятии хивинцев в почетное подданство, и 30 июня 1700 года государь письменно изъявил на это согласие. Следующее посольство прибыло в 1703 году от хана Аран-Магомета, оно подтвердило просьбу прежнего правителя и получило в мае того же года царскую грамоту, данную «юргенскому хану Аран- Магомету, о милостивом содержании его в подданстве».
По указу государя
Столь долгое вступление, по сути, мера вынужденная, иначе трудно понять и уловить нюансы, детали и тонкости событий тех далеких лет.
Визит Ходжи Нефеса и князя Самонова в столицу Российской империи совпал с целым рядом событий, определивших восточную политику на несколько лет вперед. Князь Черкасский, в дом которого привел Самонов туркменского караван-баши, в это время занимался разработкой проекта подчинения народов Кавказа русскому владычеству. Удачный дипломатический опыт в Кабарде подтолкнул его к дальнейшим действиям, в мае 1714 года он подал царю описание кавказских обычаев, в котором отмечал, что попытки турок соединить горские племена в союз против России потерпели неудачу – безоговорочно соглашались воевать с Россией только кумыкские князья. Князь Черкасский осмеливался советовать, пользуясь случаем, подчинить власти русской короны племена Кавказа, но отмечал, что все прежние попытки такого рода проваливались «по незнанию или неискусству воевод московских». Предлагал же он, подобрав «к сему делу годную персону, послать оную с войском», а «подходящей персоной» для того, чтобы возглавить поход, князь полагал себя. По его мнению, военная экспедиция не могла встретить серьезного сопротивления, поскольку постоянно враждующие между собой народы Кавказа, не состоявшие ни в чьем подданстве, не могли бы оказать серьезного сопротивления, не имея помощи извне. В завершение он сулил царю в случае успеха похода не только политические, но и экономические выгоды.
Донесение князя осталось без практических последствий, но в то самое время, когда оно рассматривалось, к нему как раз и попал протеже Самонова Ходжа Нефес. Выслушав его, князь Черкасский ухватился двумя руками за этот, как ему казалось, удобный для делания карьеры случай. Золото, добываемое во владениях хивинского хана, было заманчивой целью, а кроме того, Нефес сообщил, что где-то там, в степях, имеется старое русло Аму, некогда впадавшей в Каспий. Вода из этого русла якобы была отведена в Аральское море еще в прошлом веке предками нынешних хивинцев, опасавшихся, что по судоходной Аму разбойничьи флотилии придут в самое сердце степи. Как утверждал Нефес, перекопав плотину, можно вернуть реку в прежнее русло и тем самым восстановить по ней судоходство. Туркмен клялся, что он и его сородичи проведут русских к тому месту, где Аму перекрыта плотиной, покажут колодцы и дороги, а в случае нужды поддержат военной силой.
Последнее обещание было не пустым звуком! Туркменские племена были воинственны, многочисленны и почти никем не управляемы. Они налетали как ураган на своих врагов и так же стремительно исчезали в степи. Союз с ними позволял войти в степь не купеческим караваном, а большой военной экспедицией, не обозначить тропу от одного селения к другому, а твердой стопой встать на караванных путях, взяв их под прицел своих орудий. Да к тому же правитель Хивы, этого стратегического перевалочного пункта на пути в Индию, сам просит русских о помощи! Все шло одно к одному! Черкасский получил сведения, дававшие возможность преподнести государю проект, который в случае успеха должен был увенчать его царствование грандиозной победой – именем Петра завершалось бы великое дело предыдущих царствований. Упускать такой шанс князь не желал и потому приложил все старания к тому, чтобы Ходжа Нефес и князь Самонов получили у Петра личную аудиенцию, во время которой Нефес пересказал русскому императору все то, что ранее открыл Черкасскому. При этом он повторял, что туркмены будут всячески помогать русским в этом предприятии и он сам готов вести русских по степным путям, хорошо ему известным. К рассказу туркменского караван-баши Бекович приложил собственный проект похода в Хиву.
Тогда же, в мае 1714 года, в только что отстроенный Петербург прибыл очередной хивинский посол Ашур-бек. Вот как описывает его приезд в новую русскую столицу в своих записках бранденбургский резидент при русском дворе Вебер:
«17 мая 1714 года из Москвы прибыл в Петербург посол узбекского хана со свитой из 16 человек. В Москве он оставил свою жену и сына, и еще 30 человек свиты. На следующий день, 18 мая, царь дал ему аудиенцию, по действующему ритуалу посол должен был держать речь, стоя на коленях, но на этот раз Его Величество не пожелал в точности придерживаться обычая и пригласил посла явиться к себе в дом князя Долгорукова. Когда посол вошел в покой, где была назначена аудиенция, то, положив себе руки на колени, он трижды поклонился царю, лишь потом начал свою речь, по переводе которой Его Царское Величество приказал вкратце отвечать секретарю (персидскому послу обычно отвечал великий канцлер). Секретарь уверял посла в милости царя, причем сам царь возложил руку на голову посла».
Просьба посла состояла в трех пунктах:
«1) Его князь и повелитель Гаджи-Магомед-Богадир-хан, радуясь счастливой войне и прирастанию могущества Его Царского Величества, поручает себя его милости и защите. 2) Хан просил Его Царское Величество внушить подданному своему, калмыцкому хану Аюке, жить с ним, Богадиром, в добром соседстве и в мире, ибо тот Аюка намерен соединиться с подвластными Китаю татарами, против него, Богадира, и возбудить к тому других соседей. Со своей стороны хан Узбекский предлагал Его Величеству, в благодарность за такое содействие, 50 тысяч всадников, готовых явиться по первому зову Его Величества. 3) Для большего доказательства своей дружбы хан предлагал Его Величеству ежегодные караваны из Китая проводить степью через его, хана, землю. Причем он желал бы учинить с Россией торговый договор. Все это может доставить Его Величеству огромную выгоду, ибо до сих пор караваны те совершали путь через всю Сибирь, разными изворотами, вдоль и поперек, через реки, да по дорогам неустроенным, шли в Пекин и оттуда с трудностями и в течение целого года. Если же путь этот протянется через хивинские степи, то займет он всего четыре месяца».
В заключение посол положил у ног Его Величества множество китайских и персидских тканей, шелковых, и других товаров, принесенных им в подарок от имени своего повелителя. Кроме того, посол сообщил, что в Москве остались несколько прекрасных лошадей и других азиатских зверей, также подносимых в дар, посетовав, что прекрасный леопард в дороге околел.
«Послу на вид лет около пятидесяти, вид у него бодрый и достойный. У него была длинная борода, и одет он был по-восточному, а к чалме его было прикреплено перо страуса – знак вольности и чести, у него на родине дозволенный носить только владетельным князьям и высшим вельможам».
Далее Вебер описывает, как Петр, решив прокатить посла по морю, пригласил его вместе с другими послами в Кронштадт и 21 мая они отплыли из Петербурга. Фарватер был ли плохо разведан, или капитан судна оказался неопытным, но шнява, на которой плыли послы, крепко села на мель, и до ночи снять ее не удалось. А ночью налетел шторм, перепугавший Ашур-бека, который прежде никогда не видал такого огромного моря. Послу сделалось дурно, он лег на палубу, завернулся в накидку и приказал сопровождавшему его мулле читать над ним Коран. К утру буря утихла, но снять судно с мели смогли лишь через день, 23 мая.
По прибытии в Кронштадт Ашур-бек устроил угощение на борту шнявы, и во время этого пира Петр много расспрашивал Ашур-бека о его стране. Вот что ему удалось узнать: посол был из знатнейшего хивинского рода, его хан был молод, ему недавно исполнилось двадцать лет и в прошедшем году он взял в жены старшую княжну персидского шаха, получив за ней богатое приданое. Его столица город Хива, и страна их граничит с одной стороны с Китаем, индийскими княжествами и Персией. С другой стороны ее соседи кочевые племена в Степи. С большими странами они дружат, а воюют больше с кочевниками. Хан может выставить войско в 200 тысяч всадников. Из восточных диковин, о которых его просил рассказать царь, Ашур-бек упомянул об удивительных порядках в стране Великого Могола. Там если у государя родится несколько сыновей, то, войдя в возраст, они получают в управление каждый по провинции государства их отца. Но править своими уделами они могут не иначе как из своих замков-крепостей, в которых их содержат под неусыпным наблюдением соглядатаев и за крепким караулом, словно птиц в золоченых клетках. Покидать место этого роскошного заключения им строжайше запрещено. После смерти родителя принцы получают свободу, набирают в своих провинциях войска и бьются между собою за право наследования трона до тех пор, пока не побеждает сильнейший из них.
Хивинский посланник Ашур-бек подтвердил рассказ Нефеса, когда его стали расспрашивать о золоте. Посол рассказал, что Амударья действительно в своих верховьях вымывает золотой песок. Он также предложил построить у старого устья Аму, близ Красноводской косы, укрепление для русских войск на тысячу человек, уверяя, что его хан не будет противиться этому. Хороший знакомый сибирского воеводы князя Гагарина, Ашур-бек вообще вел себя как верный союзник русских, и этим приглянулся Петру. Посол был обласкан и награжден. Отпуская Ашур-бека на родину, в качестве подарка и символа будущего союзничества император распорядился отправить с ним хивинскому Хану артиллерийскую батарею и «огневой запас».
Случилось так, что в то же самое время в Петербург прибыл сибирский воевода князь Гагарин с подробным сообщением о песочном золоте, моющемся возле Бухары. Эти два сообщения, как нельзя более кстати дополняя друг друга, подтолкнули императора к принятию решения. Дабы в очередной раз попробовать проложить путь «из Варяг в Китай и Индию», Петр велел отправить в глубь Азии две экспедиции: одну от верховьев Иртыша в Малую Бухарию, вторую от Каспийского моря в Хиву.
Командиром первой экспедиции был назначен подполковник Бухгольц, получивший приказ спуститься по Иртышу и построить крепость в районе Ямышева озера (озеро Балхаш). Оттуда он должен был двинуться к Яркенду, овладеть им и разведать в округе все о песочном золоте. Исполняя этот приказ, в 1715 году Бухгольц с отрядом из 3 тысяч человек выступил в поход и спустился по Иртышу на лодках и дощаниках. Он дошел до Балхаша и даже начал строительство укрепления, но тут возле лагеря появились калмыки князя Черни-Дундука, с которыми не без участия самого Бухгольца и его драгун сложились очень непростые отношения.
Калмыки ежегодно приезжали в Астрахань и на ярмарку в Тобольск, привозя чай, китайские материи и много соли, которой изобиловали реки в их степных владениях. На дне степных рек соль нарастала шапками, вроде сахарных голов, выпиравших на поверхность. Эта соль была очень хорошего качества и всегда пользовалась повышенным спросом. В свою очередь, калмыки вывозили из Сибири деньги, юфть, железо и меха. Калмыки считались народом «неспокойным», и Петр посчитал, что такой стратегический продукт, как соль, оставлять в руках «неспокойных» калмыков не следует. Это был единственно консервант, позволявший делать долговременные запасы продовольствия для армии и флота. Кроме того, хотелось получать китайские товары без посредства калмыков, и поэтому Бухгольц в 1713 году получил приказ захватить соляные промыслы. С тремя полками драгун выйдя из Тобольска, он прошел тысячу километров скорым маршем и овладел указанной местностью. На выгодном месте была заложена крепость, и соль русские стали добывать сами. Это не понравилось калмыкам, и они перестали приезжать на ярмарки.
Теперь же, столкнувшись со своим недругом в степи, калмыцкий князь преградил отряду Бухгольца путь в Бухарию. Атаковать укрепленный лагерь Черни-Дундук не решился, но этого и не потребовалось – от плохой воды в отряде Бухгольца начались болезни и мор. Видя, как мрут его люди, командир приказал отходить, и это отступление продолжалось до устья реки Оми, куда дошли только 700 человек, оставшиеся от первоначальных трех тысяч. Здесь, на этом месте, Бухгольц заложил селение, которое впоследствии стало городом Омском.
Судьбоносным для князя Черкасского стало 29 мая 1714 года: в этот день его проект кавказской экспедиции был рассмотрен и отложен. Но вместо него царь Петр одобрил составленный князем Александром проект экспедиции в Хиву и Бухару с Черкасским во главе.
Тем летом политическая ситуация изменилась: из Астрахани, где остановился возвращавшийся домой посол Ашурбек, пришло сообщение о том, что молодой хан, пославший его в Россию, умер. Посла задержали в Астрахани, пушки, которые ему были прежде обещаны, он не получил. Русские не знали, как им теперь быть, ведь договаривались о дружбе с правителем, который был уже мертв, да к тому ж умер, как говорили, не своей смертью. Вступивший на престол хан также правил не долго, и в короткий срок на престол в Хиве взошел уже третий хан! Было от чего призадуматься – все эти неизвестные правители могли не признать договоренностей, достигнутых с Ашур-беком. Для вящего бережения от опасных неожиданностей решено было не объявлять об истинных целях готовившейся экспедиции: назначая Черкасского командиром отряда, Петр официально отправлял его в качестве посла, шедшего поздравить нового хана Хивы с восшествием на престол. Велено ему было: «Оттоль ехать в Бухару, к хану, сыскав какое дело торговое, а дело настоящее, чтоб проведать про город Яркенд, сколь далек оный от Каспийского моря. И нет ли каких рек оттоль или хотя бы не от самого того места, однако же поблизости в Каспийское море».
Получив инструкции лично от Петра, Черкасский направился в Казань, к воеводе Петру Самойловичу Салтыкову, тогдашнему управителю всего юго-востока России и Прикаспийского края. В Казань он прибыл 13 августа, передал Салтыкову высочайший указ о подготовке похода, 16 августа выехал в Астрахань и там, на месте, занялся подготовкой экспедиции, продолжавшейся до середины октября. Он собрал отряд из полутора тысяч штыков регулярной пехоты, укрепленный морскими командами, при девятнадцати орудиях с артиллеристами. Этот отряд численностью около 1900 человек погрузился на две шхуны и двадцать семь морских стругов и выступил из Астрахани 7 ноября 1714 года, направляясь в Гурьев, лежащий при впадении Яика. Но суда стало затирать льдами, и, так и не пробившись к намеченной цели, князь приказал вернуться в Астрахань. В начале декабря Бекович написал из Астрахани в Казань к Салтыкову, прося прислать ему пятьсот яицких казаков, и приказал пополнить свою флотилию двадцатью новыми бригантинами, а сам тем временем отправился к себе на родину, в Кабарду, где набрал надежных и верных ему людей.
Подготовившись к походу, весной 1715 года он вышел на шестнадцати стругах, взятых у астраханских посадских людей, из Астрахани и направился к восточному берегу Каспийского моря. На стругах разместились полторы тысячи человек воинских людей, набранных из астраханского гарнизона и других мест, в их числе было сто яицких казаков. Люди были должным образом экипированы и имели все нужные припасы.
Дойдя до мыса Тюк-Караган, Черкасский высадился на берег возле стойбища султана Сайдами, правителя племени, от которого был послан Нефес к русским. Султан этот не был полновластным владыкой, он состоял в подданстве калмыцкого хана Аюки, который признавал власть русского царя над собой и формально обязан был помогать экспедиции.
Когда князь стал расспрашивать туркмен о старом русле Аму и возможности вернуть в него реку, туркмены рассказали, что если прорыть канал длиною около двадцати верст и разрушить плотину, перегораживающую путь воде, то река вернется к месту своего впадения в Каспий, возле Красных вод. От Тюк-Карагана князь решил отправить на разведку старого русла Аму и отыскание перегораживающей ее плотины группу разведчиков. В нее вошли Ходжа Нефес и астраханский дворянин Николай Федоров, который хорошо знал степь – он более тридцати лет провел в плену в Хиве и, возвращаясь в Россию, прошел пешком через те места, где, как предполагалось, лежало старое русло Аму. С ними шли дворянин Званский, толмач Тоймасу и двое туркмен. Сам же Черкасский решил плыть к заливу Красных вод и там ждать разведчиков.
Его посланцы, отправившись на верблюдах по старинному туркменскому торговому пути на Хиву, через семнадцать дней пути достигли хивинского урочища Карагач, куда выходила большая караванная дорога из Астрахани на Хиву. Здесь, верстах в двух от реки Амударьи, они увидели земляной вал, высотой в аршин с четвертью, шириной в три сажени, тянувшийся на пять верст. Аму, бывшая тогда в разливе, доходила до самого этого вала. Оставив хивинскую дорогу, Ходжа Нефес повел русских спутников к тому долу, который туркмены считали старым руслом Аму. Его они достигли, пройдя от вала двадцать верст. Вдоль этого дола они шли три дня до урочища Ата-Ибрагим и не раз находили на краях этого дола (или старого русла) следы брошенных селений и даже городов. От большого «русла» отходили малые, вроде каналов, и это укрепило в разведчиках уверенность в том, что они отыскали то, за чем их посылали. Идти до самого моря «по старому руслу» Нефес отказался, уверяя, что оно до моря, конечно же, доходит, но в тех местах легко попасть в руки разбойников. Свернув от «русла» разведчики пришли другой дорогой к берегу залива, где стояла на якорях флотилия князя Черкасского.
Для того чтобы окончательно убедиться в том, что они действительно отыскали русло Аму, Черкасский выслал новую разведку с берега залива. На этот раз с несколькими туркменами отправлен был астраханский дворянин Алексей Тараковский, который должен был пройти найденным «руслом» от моря до Ата-Ибрагима. Но туркмены не довели Тараковского до урочища, ссылаясь на великий риск оказаться захваченными и проданными в рабство. Князя Черкасского рассказы разведчиков удовлетворили, и он совершенно уверился в том, что нашел старое русло Аму, которая прежде изливалась в Балханскую бухту, самую вдававшуюся часть Красноводского залива. Весь маршрут, пройденный отрядом, был занесен на карты, были также произведены съемки неизвестных дотоле местностей побережья Каспийского моря.
С этими трофеями, проведя в походе более пяти месяцев, отряд Черкасского вернулся в Астрахань 9 октября 1715 года. Тем временем хивинский посол Ашур-бек, который никак не мог вернуться домой, вел оживленную переписку с должностными лицами, добиваясь разрешения на отъезд и получения пожалованных ему царем подарков. Посол писал астраханскому обер-коменданту Чирикову: «От Ашур-бека, посланника, честному и почтенному Михаилу Ильичу, почтение и поклон. На многие лета, да здравствует Белый царь, равно и вы. Извещаю вас: в знак милости мне пожертвовано Белым царем 6 пушек с порохом, ядрами и пенькой, также 8 пар соболей и 5 драгоценных занавесей. Пожалованное царем назад не берется, так же как вода из моря не возвращается. Но вы отобрали у меня пушки. Скажите, по указу ли вы их Государеву их взяли или сами собой?»
В ноябре того же 1715 года Ашур-бек снова писал обер-коменданту Чирикову: «Я приехал сюда, чтобы ехать тою дорогой, которая мне надобна, но несколько медлил, потому что в Хиве убили хана, на его место вступил было хан из каракалпаков, но и тот умер. Теперь ханом Ширгози из Бухары. Он знает меня и ценит в тысячу раз более, нежели посылавший меня хан. Возвратите мне пушки, дайте путевых денег и отправьте в дорогу вместе с караваном, а за этим караваном пойдут и другие». Ашур-бек обещал установить торговые сношения и уверял, что все осталось по-прежнему во взаимоотношениях между его ханством и Россией. Но его надеждам не суждено было сбыться. Пребывание Ашур-бека в Астрахани затянулось на долгие два с лишним года, а пока почтенный Ашур-бек, пребывая в полной неясности своих дел, жил в Астрахани, новый хан отправил в Россию нового посла. Его приезд не миновал внимания бранденбургского резидента Вебера, отметившего в своих записках: «Этот посол, прибыв в Петербург, 20 декабря имел у императора в его канцелярии аудиенцию, на которую собрались многие знатные русские вельможи. Несмотря на то, что все русские стояли, посол потребовал себе стул и сел. Но когда великий канцлер дал знак идти к царю, посол вскочил, бросил свою саблю в руки богато одетых людей своей свиты и, низко нагнувшись, вошел в кабинет царя. По окончании аудиенции царь вышел вместе с послом в канцелярию, и здесь старый слуга посла, выйдя вперед всей свиты, произнес длинную речь, говоря хорошо поставленным голосом. В приблизительном переводе смысл его слов был таков: “Подобно тому, как яркое солнце освещает всю землю, так будет он, царь, ее обладателем”».
В это время в Поволжье полыхала настоящая степная война, начатая султаном кубанских ногайцев Бехти-Гиреем, который во главе 60-тысячного войска совершил набег на русские земли. Дойдя до самой Казани, ногайцы захватили богатую добычу и увели 7 тысяч пленных. В погоню за войском Бехти-Гирея выступил полковник Шварц, немец, уже восемнадцать лет состоявший на русской службе. Он настиг султана в сорока верстах от Казани и, хотя имел под своей командой всего шестьсот драгун, набранных из шведских пленных, удачно атаковал ногайцев и ловким маневром загнал их под огонь русских пушек. Шварц уже хотел дать команду окатить нестройные толпы всадников картечью, когда по приказу Бехти-Гирея вперед его воинов выгнали пленных. По укрывшимся за «живым щитом» ногайцам Шварц стрелять из пушек не осмелился и дал команду «взять татар на шпагу». Его драгуны атаковали конницу ногайцев лишь со шпагами в руках, и имевшие многократное численное превосходство ногайцы смешались под натиском «русских шведов», побежали, бросив полон и 1500 лошадей. В том бою ногайцы понесли большие потери убитыми, а среди пленных оказался сын Бехти-Гирея. Его полковник Шварц тут же приказал повесить в назидание папаше, а добычу, брошенную ногайцами при отступлении, милостиво подарил своим воинам.
После этой «славной виктории» минуло менее месяца, когда под Рождество 1715 года Бехти-Гирей попытался взять реванш, явившись с 30-тысячным войском под стены Астрахани. Он внезапно навалился на калмыцкие улусы, перехватил караваны, наконец, напал на ставку самого хана Аюки. Хан Аюка был старым врагом ногайцев; еще во времена царя Алексея Михайловича, в 1672 году, стремясь заслужить поддержку русской короны, он пошел войной на Кубань, где ногайские ханы заявили о выходе из русского подданства. За два месяца он покорил ногайцев и принудил уйти в те места на Волге, которые были отведены им для кочевий. В 1710 году, когда генерал Апраксин в очередной раз был послан «усмирять» «возмутившихся» ногайцев, с ним на Кубань пошел и 20-тысячный отряд калмыков, посланный ханом Аюкой, под командой его военачальника Чандор-Чжаба. Калмыки тогда славно повоевали, захватив много скота, уведя в полон многие тысячи женщин и детей. Теперь пришел черед Аюки «платить по старым счетам». Нападение разгромленных было кубанцев было столь неожиданно, что калмыки не сумели организовать сопротивление. Имея тройное превосходство в людях, султан Бехти-Гирей легко одолел калмыков, перебив около трех тысяч воинов Аюки, но, предусмотрительно не причиняя русским никакого вреда. Аюка-хан принужден был, бросив кибитки, бежать под защиту русского оружия.
Комендант Астрахани, вместе с князем Черкасским, выступил в степь, имея 3 тысячи регулярного войска. Русские без труда перехватили Бехти-Гирея и собирались уже учинить ему разгром, когда со стороны ногайцев к ним были посланы парламентеры, которые стали уверять, что ногайцы действуют против калмыков по разрешению царя Петра! В доказательство этих слов они предъявили письменный приказ, действительно подписанный царем, в коем ногайцам дозволялось преследовать калмыков и «наказывать их везде, где только встретятся». Как отмечает в своих записках Вебер: «Русские военачальники хоть и подивились, но принуждены были пойти назад, в город. Кубанцы же после этого навалились на калмыков с новою силою и перебили их великое множество». Аюка умолял русских офицеров, командовавших войсками, ударить по ногайцам, прекратить резню и разорение его племени, но те лишь пожимали плечами. Зная, что Бековичу позволено более, чем остальным, Аюка просил о помощи его – у князя под рукой был сильный отряд, подчинявшийся ему непосредственно, но Черкасский отвечал, что по приказу государя он охраняет особу Аюки, но не имеет указания вступать в бой против кубанского султана, действующего по цареву же приказанию.
До сих пор не известно: был ли тот приказ царя подлинным, являлся ли он следствием попытки устрашения калмыков, которые не явились на Сибирскую ярмарку, препятствовали продвижению русских по Иртышу и «беспокоили» владения хивинских правителей? Как мы помним, хан через своего посла Ашур-бека просил воспрепятствовать самовольным захватам Аюки в степях. Вполне возможно, что, пытаясь угодить будущему союзнику, Петр действительно разрешил одному своему подданному – кубанскому султану – наказать другого своего подданного – хана Аюку – для пользы сношения с третьим подданным – ханом Хивы, который был для Петра, возможно, важнее обоих первых степных владык. Не исключено также, что эта грамота была дана ногайцам когда-то давно, а пригодилась лишь теперь. Ведь Аюка многократно нарушал клятвы верности, принимал участие в набегах на русские окраины, играл в политические игры с китайским богдыханом, ханами Бухары и Хивы, со степными князьями и турецкими султанами. Как бы ты ни было, но Аюке в помощи было отказано, разгром калмыков под Астраханью был чудовищным, и после этого грозный степной хан затаил в душе лютую ненависть к Черкасскому. Это была первая ошибка, сделанная Бековичем при подготовке похода, – ведь идти ему предстояло через земли, принадлежавшие Аюке и его данникам. Аюка-хан был одной из ключевых фигур политического расклада в Степи: через него и его родственников русские пытались установить связи при китайском дворе и даже проникнуть в Тибет, куда на поклон к далай-ламе регулярно отправлялись калмыцкие посланцы. Предательство интересов Аюки князем Черкасским аукнулось ответным ходом грозного и хитрого хана.
Степные конфликты казались Бековичу досадными пустяками, «местными делишками», с которыми некогда связываться, имея пред собой столь гигантские задачи. О своих изысканиях на побережье Каспия он доложил в Петербург письменно, с приложением составленных карт побережья. Получив это донесение, Петр 27 января 1716 года распорядился отправить на Каспийское море флотского поручика Кожина, окончившего в свое время знаменитую Навигацкую школу: «Ехать ему, тому поручику Кожину, в Астрахань, и там взять две скампавеи (тип галеры. – В. Я.) или иные суда, как потребно ему будет, и на оных все берега того моря описать, так же реки, гавани и острова, близ берегов лежащие и сделать карту. Где станет приставать, и будет спрашивать от тамошних людей, и казать ему указ данный, а к тому и словесно говорить, что послан он для описания того моря, дабы лучше торговым людям ход известен был, а не для чего иного, дабы сумления у них не было. Посмотреть описи и карты Бековича, – ежели прямо сделано, то туды не ездить, ежели не прямо – то самому начертить. Когда берега опишет, тогда взять судно поболее, морского ходу, и на нем все море крейсировать и наложить на карту. Хотя где и чего не положено, а увидети, к пользе государственной, то чинить как доброму и честному человеку надлежит».
Выехавший вслед своему донесению, князь, находясь в Москве, узнал, что Петр выехал из Петербурга в Ригу. Бекович изменил свой маршрут, отправившись вслед за царем, и застал его в Либаве, где, при личной встрече, высказал полную уверенность в успехе будущей экспедиции. Петр был весьма доволен действиями князя Александра и там же, в Либаве, издал 14 февраля 1716 года указ, в первой части которого повелевал Сенату всячески содействовать подготовке похода и исполнять незамедлительно все требования князя Черкасского, возникающие при организационных хлопотах.
В России велась тщательная работа по обобщению сведений, имевшихся в приказах, а также сбор известий о торговых путях в степи, о Хиве, Бухаре, о ведших в Индию дорогах. Главный вопрос, над которым бились тогдашние чиновники, отвечавшие за подготовку купеческого каравана, направляемого в Индостан: какие товары могут заинтересовать тамошних покупателей? Слух о том, что царя интересуют люди, бывавшие в Индии, распространился довольно широко, и тут кстати отыскался человек, могший дать по этому вопросу самые подробные сведения. Буквально через неделю после выхода указа Петра о начале подготовки большой экспедиции в Хиву, 22 февраля 1716 года, в канцелярию Правительствующего Сената явился Андрей Семенов, «человек рижского обер-инспектора Исаева». Этот Семенов заявил, что он в 1695 году, когда ему было пятнадцать лет от роду, попал в услужение к московскому купцу Семену Мартыновичу Маленькому, который был послан самим царем Петром в Индию. Семенов утверждал, что он вместе с Маленьким «ездил из Москвы в Перейду, а из Персиды в Индию». По словам Андрея Семенова, везли они юфть красную, голландские и английские тонкие сукна, «рыбью кость» – моржовые клыки. В Шемахе их встретили персидские чиновники, которые, прочитав грамоты, данные купцам в Москве из Приказа Большой казны, отвели им двор для постоя, где караван и зазимовал. Лишь по прошествии пяти месяцев они снова тронулись в дорогу, направляясь в Исфагань, до которой добирались полтора месяца. В Исфагани была одна из резиденций персидского шаха, здесь русские путешественники прожили почти полгода. За это время Семен Маленький не раз удостаивался приглашения во дворец и имел несколько личных аудиенций у шаха. Семенов отметил, что в Исфагани живут христиане, – есть целая слобода, населенная армянами, которые занимаются торговлей сукнами, кружевами, соболями и драгоценностями с Индией и разными другими странами. Дома армянских купцов все каменные, богато убранные, и никто их там не обижает.
Выступив из Исфагани, караван отправился в порт Бендер-Абас на берегу Персидского залива. Здесь они прожили две недели, дожидаясь, пока будут улажены формальности, наняты корабли для перевозки товаров, а сами товары будут оценены и за них внесены пошлины. Платить следовало персидскими серебряными монетами «аббасами». Пошлина составила с каждого рубля стоимости провозимого товара пять алтын. Погрузив на большой индийский корабль товары, русские купцы в декабре 1696 года направились к индийскому порту Бендер-Сурату, до которого плыли морем двадцать дней. Город Сурат находился на одноименной реке, стоя выше того места, где она впадала в океан. Легкие суда шли до самого города, а тяжело груженные «товарные корабли» по реке не ходили, разгружаясь на взморье, в тридцати верстах от города. В отличие от Персии, где русские купцы выступали в качестве царских гонцов, в Сурате они себя таковыми не объявляли, а жили как частные лица в течение пяти месяцев. Потом, собрав сведения о том, где можно застать правителя той страны, и узнав, что «индийский царь» находится в военном лагере при городе Буранпур, они выехали туда и добирались до Буранпура целых три месяца.
Прибыв в лагерь шаха, купец Семен Маленький и его люди снова объявили себя царскими гонцами и были встречены казначеем правителя, которому вручили верительные грамоты, выданные им для такого случая в Москве. По прочтении грамот Маленького пригласили в шатер к шаху, куда он прибыл для личного представления индийскому владыке вместе со своим собственным толмачом. Представление прошло весьма удачно, русские купцы были милостиво приняты и после этой аудиенции провели еще три месяца в Буранпуре, живя лагерем, в собственных шатрах, так как постоялого двора в городе не было.
Андрей Семенов рассказывал, что лично он сам неоднократно видел «индийского царя» во время его торжественных шествий по городу. Судя по его рассказам, это были весьма пышные церемонии, которые обычно проходили в среду и пятницу, когда индийский шах направлялся в мечеть для молитвы. В таких случаях впереди процессии важно выступали боевые слоны, на спинах которых возвышались восьмиугольные башенки – в них сидели музыканты и знаменщики. Музыканты трубили в трубы и били в бубны, а знаменщики размахивали пестрыми флагами. Следом вели под уздцы нарядно убранных породистых коней, за которыми восемь крепких носильщиков, часто меняясь, несли застекленный паланкин, в котором восседал седобородый старец, одетый во все белое, с белою же чалмой на голове. За ним следовали носилки четверых его сыновей, придворных и знатных людей. Замыкали шествие отряды пешей гвардии и конницы.
Получив от шаха разрешение торговать повсеместно в его стране, русские купцы направились в Агру. «Город Агра при большой реке, а названия я ее не упомню, – рассказывал далее Андрей Семенов. – Город заделан в три стены, а в тех стенах жилья нет – только дворец, да приказы, да мечеть еще. Вокруг тех стен вырыт большой ров, в коий пущена вода, и в той воде живут большие рыбы и черепахи. Жилое строение вокруг того замка». До Агры путники добирались два месяца, прожили там две недели на постоялом дворе, осмотрели дворец, мечеть и многие другие помещения замка Агры. Все здания были каменные, а внутри помещений стены были искусно расписаны яркими красками.
Из Агры они поехали в Шахунабат и там прожили четыре месяца, ведя торговлю. Город им понравился, и индусы тоже. «Люди они тихие и ласковые, – говорил Семенов, – в торге обходительные и приветливые». Из привезенных русскими товаров более всего индусов интересовали красная юфть и английские сукна. Товары купцы отдавали за серебряные индийские монеты рупии, на них же закупали и товары «на вывоз».
Для закупок выехали в селение Хурши, знаменитое тем, что там из коры деревьев вырабатывали отличные сухие краски. В Хурши прожили еще два месяца, закупая краски, а потом в Агре накупили «товары из белой парчи» – кисею и миткаль. За этим занятием еще месяц пролетел. Но настала наконец пора возвращаться домой, и караван выступил из Агры к порту Сурат, где на постоялом дворе прожили три месяца; пока дожидались попутных кораблей, улаживали дела с выплатой пошлины. Заплатив «по алтыну с рубля» за вывозимые товары, погрузили их на два корабля и отбыли к Бендер-Абасу. После полутора месяцев плавания на них напали мешкецкие пираты и захватили один из кораблей с товарами и людьми. Погоревав о потерях, купцы, прибыли в Бендер-Абас, прожили там с месяц, а потом отправились сухим путем в Исфагань. Там остановились на пять месяцев и направились в Шемаху, но не все. Андрей Семенов остался в Исфагани (он не указал, почему именно), а когда отправился вслед хозяину каравана и достиг Шемахи, то оказалось, что купец Семен Маленький и его спутники умерли. Помыкавшись некоторое время в Шемахе, он дождался попутного корабля, шедшего в Астрахань, и с ним прибыл в Россию, откуда уехал с Маленьким за пять лет до того.
В своих рассказах он отмечал запавшие в память подробности: цены на товары, размеры пошлин, где и на какие деньги шел торг. Упомянул, что в тех странах, где им довелось побывать, их всегда сопровождали небольшие отряды воинов, приставленные от местных правителей, и делалось это «в бережении от разбойных людей, которые в тех местах в основном конные, налетают на караваны шайками, человек по сто и более». Про сухопутный путь от Астрахани на Индию сказывал, что-де слыхал про такой, но сам им не ходил, а потому каков он, не знает. По слухам, пролегает будто бы через бухарскую землю, но через какие именно города, сказать не смог.
Эти показания слуги покойного купца Маленького были затребованы немедленно всеми, кто готовил караван, и, судя по ним, прикидывали суммы, составляли перечень товаров предназначенных «в подарки» и на продажу. Караван этот должен был отправить в Индию князь Черкасский уже из Хивы, но прежде ему еще многое предстояло сделать.
Помимо распоряжения Сенату о содействии князю Черкасскому при подготовке экспедиции в том же указе Петра от 14 февраля 1716 года имелся второй раздел, содержавший конкретные задачи для отряда и его командира. Собственно, это был развернутый план действий для Бековича, соответствовавший широкой натуре Петра, а авантюрность плана была вполне в духе того времени, когда решительному предводителю с горстью отчаянных головорезов случалось покорять целые страны или решать в пользу пославшего его монарха тот или иной территориальный спор по принципу «кто смел, тот и съел». В этом разделе указа Черкасскому предписывалось в том месте, где, по его словам, располагалось русло Амударьи, построить крепость на тысячу человек гарнизона. После того надлежало ехать к хивинскому хану послом вдоль русла реки, внимательно наблюдая за течением ее, всячески разведывая, где находится плотина, и ища варианты вернуть воду в старое русло. Те же устья, что впадали в Аральское море, разведать и наметить места, где бы их можно было закрыть плотинами. Нужно было так же присмотреть место у «настоящей Амударьи» и тайно построить крепость, а будет возможность, так и несколько. Относительно хивинского хана Бекович получил указание склонить его к подданству и верности России. До русских уже давно доходили слухи о частых бунтах и неурядицах в Хиве, и в своем плане приведения хана в подданство Бекович должен был пообещать наследственное владение ханством и гвардию из русских наемников. Было известно, что хивинские ханы не доверяли своим подданным и гвардию набирали из туркмен и иных иноземцев, изъявивших к тому желание. Если же хан выскажет опасение, что переход в русское подданство может вызвать возмущение хивинцев, то обещать ему ту гвардию в 500 человек немедленно, из числа отряда, с офицерами и «огневым припасом», но с тем, чтобы он их и содержал. Это обещание гвардии было одновременно и крючком, и приманкой: фактически выделение отряда русского регулярного войска хану означало существование русского гарнизона в самом центре Азии, гарнизона, содержавшегося на деньги хана, но подчинявшегося указам русского императора. Это было надежнейшее основание для утверждения русских на караванных путях, шедших через Хиву. Для хана же обладание таким невиданным по силе и выучке войском было выгодно тем, что его присутствие пресекало в корне любые попытки свергнуть его с трона, а это частенько случалось в Хиве и было мощным орудием борьбы со злокозненными соседями. В своем плане Петр предусмотрел и тот вариант, при котором могло оказаться, что содержать такую гвардию хану просто не на что. Тогда Бековичу следовало оставить войско на русском жалованье в течение года, для чего ему специально выделялись деньги, «но чтобы потом платил сам хан», – писал в своем указе Петр. Если хан соглашался на все условия, следовало просить его отправить своих людей и с ними двух русских вверх по Сырдарье до Яркенда для поисков золота.
Кроме того, памятуя о стратегической цели, следовало просить у хана суда и на них послать купца; по Амударье столько, сколько можно будет, идти ему на судах, а потом ехать посуху в Индию. В пути посланцу примечать реки, озера, описывать тайно водный и сухой путь. Особенно же интересовал русского императора водный путь, по Амударье или иными реками. Из Индии тому, кто будет послан, следовало возвращаться тем же путем или, прознав о другом, более удобном и коротком пути к Каспийскому морю, пройти им и описать его.
Про бухарского хана князю Александру следовало разузнать, «нельзя ли и его, если не в подданство, то хотя бы в дружбу привести тем же манером, что и хивинского правителя, благо, что и бухарский хан бедствует от подданных».
Для выполнения этих задач Бековичу велено было дать 4 тысячи солдат регулярного войска, судов, сколько потребно, грамоты от императора к обоим ханам, хивинскому и бухарскому, и грамоту к Великому Моголу, правителю Индии. Проникнуть в Индию под видом купца должен был морской офицер, поручик Кожин. Его задание было прописано в виде особой инструкции в том же указе. Кожину надлежало: «1) Ехать, как его отпустит капитан от гвардии, князь Черкасский, водою, Амударью рекой (или иными, кои в нее впадают), сколь можно будет до Индии, под образом купчины, а настоящее дело, дабы до Индии путь водяной сыскать. 2) Когда уже нельзя будет ехать водою, разведывать о путях тайным образом. 3) Возвратиться назад тем же путем, разве ежели уведает еще иной способнейший путь водяной, то им возвратиться, и везде, как водяным, так и сухим путем, все описывая, делать карту. 4) Осмотрев какие товары, а особливо пряные зелья и прочее, что идет из Индии. 5) Прочее, что здесь и не написано, а в чем может быть интерес государства, смотреть и описывать».
В том, что отдельной строкой задания было предписано «проведывать о пряных зельях», ничего удивительного нет – на торговле перцем и другими «пахучими и жгучими травами» зарабатывались огромные деньги. Других способов консервирования мяса и рыбы, кроме засолки, вяления и копчения, не было известно: солонина из бочек, бывшая основным мясным продуктом большинства европейцев, часто «попахивала» и вкус ее так приедался, что, не сдобренная перцем или иными приправами, она просто не лезла в глотку. Потому, хоть и дороги были пряности, покупать их все равно приходилось. Охота за перцем была если не основной, то одной из главных причин для разведывания морских путей на Восток.
Для того чтобы Кожин, занятый разведкой и другими своими хлопотными делами, связанными с выполнением задания, не дал маху в торговых делах, ему было велено взять с собой двух купцов «не стары годами». Еще в экспедицию включили двоих навигаторов для съемок местности, были также приданы два инженер. Кроме того, прикомандировывались 100 драгун – им следовало, придя к плотине, встать там лагерем и ждать трудников, коих должны были прислать следом. Драгунам указывалось охранять их, покуда те копали бы канал или прорывали плотину. Всем офицерам было накрепко велено не обижать местное население.
4 марта Черкасский прибыл в Петербург, явил Высочайший указ Сенату и изложил свои требования из тринадцати пунктов. Сенат их заслушал 14 марта, определил, откуда брать войска, сколько требуется отпустить жалованья и припасов отряду, как переправить все это на восточный берег Каспия, сколько дать товаров для Кожина, откуда брать артиллеристов, лекарей, инженеров и прочих специалистов, потребных Черкасскому. Посольскому приказу было поручено изготовить «кредитные грамоты» для хивинского и бухарского ханов, а также для индийского Великого Могола. Самому Черкасскому решено было выдать «на полковые и другие расходы тысячу рублей», дать подводы и суда с гребцами, чтобы из Нижнего Новгорода он мог добраться до Астрахани. Судя по всему, князь был наделен исключительными полномочиями, поскольку все его требования, вплоть до мелочей, всеми исполнялись в полном объеме и без малейшего промедления. Все выходило «не по-русски» стремительно.
Из Петербурга князь выехал в Москву, а оттуда почти сразу же в Казань и далее в Астрахань, где посланный ранее поручик Кожин уже готовил суда для перевозки войск морем. Вскоре после приезда Черкасского в Астрахань стали подтягиваться войска, назначенные к сформированию экспедиционного отряда: полки регулярного войска, драгуны Астраханского полка, яицкие и гребенские казаки, драгунский эскадрон, сформированный из пленных шведов, изъявивших желание участвовать в походе, под командой майора Франкенберга, уроженца Силезии; шведы славились дисциплиной и боевой выучкой, они отлично проявили себя в схватках с ногайцами и другими степными народами. Кроме того, Черкасский пригласил к участию в походе астраханских дворян, среди которых главным был, конечно же, князь Михаил Самонов; к отряду также были прикомандированы чиновники, провиант-мейстер Акинфов и прочие служители, которых набралось до пятидесяти человек. Всего в отряд вошло 6655 человек. Он был в изобилии снабжен всем необходимым, отменно вооружен и экипирован для похода. Офицеры экспедиции были люди все сплошь ученые и, что называется, «видавшие виды»: повоевавшие и побродившие по свету на своем веку.
Поручику Кожину выданы были товары на 5000 рублей, а также на провоз товара 1000 рублей. Провиант отряду дали из расчета на год. Припасы и имущество решено было свозить в Астрахань, ставшую сборным пунктом экспедиции, а оттуда уже отправить, куда укажет командующий походом Бекович. Он сам выехал в Казань, где принял Пензенский полк, из Воронежа пришел Крутоярский полк, от Астрахани в поход шел Риддеров полк.
Лето 1716 года ушло на сборы и подготовку, так что управились со всеми делами только к сентябрю. Перед походом Черкасский приказал всем выдать жалованье за год вперед: офицеры получили полное армейское содержание, а нижним чинам выплатили из расчета по пятнадцати алтын в месяц. Казакам, шедшим в поход, причиталось: атаманам по сорок рублей, полковникам по двадцать пять рублей, есаулам, хорунжим и писарям по пятнадцать, а простым конникам по десять рублей.
Морской поход
Начали с морского похода: 15 сентября 1716 года экспедиция князя Черкасского вышла в море на шестидесяти девяти различных судах. Из приведенных ранее служилых людей в Астрахани на зимовку остались драгуны и казаки. При полках и командах состоял полный комплект штаб и обер-офицеров, также шли в поход поручик Кожин, унтерлейтенант Давыдов и штурман Бранд. Судьба этого штурмана весьма любопытна: несмотря на свою «иностранную фамилию», штурман был природный калмык, а Брандом его прозвали потому, что он долгое время служил у голландского купца Бранда, российского резидента в Амстердаме, где и выучился на штурмана. Вернувшись в Россию, был принят на флот и служил весьма усердно. Именно его судьба послужила поводом для бесконечного тиражирования байки о том, как денщик-калмычонок, поехавший с боярским сыном в Голландию, выучился там вместо своего барина и по возвращении в Россию на экзамене так поразил царя Петра, что тот немедленно произвел его в офицеры, а боярского сына-неуча разжаловал в солдаты и отдал в денщики к бывшему его рабу-калмыку.
К 9 октября флотилия достигла мыса Тюк-Караган, где к экспедиции присоединился Ходжа Нефес. Здесь была заложена первая крепость, названная Петровской в честь Святого Петра, – впредь отсюда должны были посылаться гонцы в Астрахань с известиями о ходе экспедиции. Для возведения укреплений и несения гарнизонной службы оставили Пензенский полк под командой полковника Хрущева. Место для постройки крепости выбрали неудачно: рядом не было пресной воды, а в вырытых колодцах вода становилась соленой уже через сутки. Отсюда в Астрабад, к тамошнему хану, были направлены поручики Кожин и Давыдов, назначенный послом в Бухару. Планировалось, что Давыдов и члены посольства получат пропуск от астрабадского хана через его владения в Бухару.
Пока Кожин и Давыдов ходили к Астрабаду, Бекович приказал отряду двигаться дальше на юг; пройдя 120 верст, караван судов встал на якоря у залива Бехтир-лиман. Здесь тоже заложили укрепление, названное Александровским, в месте очень удобном для обороны и оставили три роты из Риддерова полка под командой майора.
К 5 ноября флотилия добралась до Красноводской косы, где, как считал Бекович, располагалось старое русло Амударьи. Сюда же прибыл Кожин с сообщением, что астрабадский хан отказал в пропуске поручика Давыдова через персидские владения. Тогда Черкасский отправил в Астрабад князя Самонова. Тем временем полным ходом шло сооружение еще одной – Красноводской – крепости, место для которой тоже выбрали неудачное – от стоячей соленой воды шло испарение, делавшее местность нездоровой, к тому же ощущалась нехватка пресной воды, и не было поблизости ни травы, ни леса. Окончание строительства и защита этого укрепления были поручены фон дер Вейдену, а сам Бекович с Астраханским и Азовским полками, частью артиллеристов и морской командой, снятой с судов, решил возвращаться в Астрахань сухим путем – плыть по морю было слишком опасно из-за льда.
С побережья Каспия в Хиву были направлены несколько верных людей, которые получили наказ «расположить в свою пользу хивинских сановников», для чего им были даны товары, предназначенные «в подарки». Они должны были уведомить хана, что князь Черкасский собирается ехать в Хиву послом; в то же время им вменялось в обязанность присылать с купеческими караванами донесения о том, что происходит в Хиве и окрестностях – что слышно, что видно, о чем можно догадываться. Сколько таких посланцев было отправлено, точно не известно, до нас дошли сведения лишь о двоих астраханских дворянах – Иване Воронине и Алексее, по прозвищу «Святой», которых отправили к Кулун-баю, визирю и военному министру хана.
В Астрахань шли двумя отрядами. Передовым командовал поручик Кожин, за ним двигался Черкасский с остальными людьми. Они соединились возле Александровского укрепления и пошли на крепость Петровскую, где обнаружилась картина ужасающего мора: многие солдаты и офицеры были больны, а 120 человек уже умерло. Но при исполнении царевых указов в России с такими «мелочами», как потери среди личного состава, никогда особенно не считались, и князь Александр даже не задумался отдать приказ оставить это погибельное места.
Прибыв в Астрахань 20 февраля 1717 года, Бекович начал последние приготовления к сухопутному походу на Хиву. Среди приходивших в Астрахань с караванами хивинских и иных купцов распускались выгодные Бековичу слухи, но толку от этого вышло мало – хивинцы от своих разведчиков и тех же купцов знали много больше, чем того бы хотелось Черкасскому. Весной от Алексея «Святого» и Воронина пришло письмо, в котором сообщалось, как гонцы Черкасского с огромным трудом пробивались через сугробы в зимней степи и верблюд «Святого» пал, так что он половину пути шел пешком – остальные животные были загружены вьюками. До Хивы добрались едва живые 14 февраля, отыскали дом Кулун-бая и передали предназначенные ему подарки. Визирь благосклонно принял дары, а вместе с ними и письмо от князя. Это послание хану передали 10 марта, но ответа на него гонцы не дождались, и домой их не отпускали.
Обстановка в городе «Святому» и Воронину казалась тревожной: «Слышно нам, которые из Астрахани приехали торговые люди, русские, бухарцы, татары юртовские, – сказывали нам, что-де посылал хан в Бухару и к каракалпакам, и во все свои города, с известием, чтобы были все в готовности и лошадей кормили. В Хиве так же посол калмыцкого Аюкихана, Ачиксаен-Кашка. Хан с ним посылает к Аюке своих послов». Сообщалось также, что к ним приставили караул, а мехмандр (чиновник хана, приставленный к гонцам для оказания услуг и охраны) открыто вымогает подарки, грозит перестать кормить русских, говоря, что не боится ни хана, ни Кулун-бея. Пришлось дать ему «подарков» на десять рублей, но и после этого гонцов содержали очень скудно, а «об обратном пути и помина нет».
Все это были очень тревожные симптомы. По словам авторов письма, в Хиве ходили слухи, что князь Бекович идет не посольством, а войною. Гонцов уже не раз приглашали к себе различные хивинские сановники и все расспрашивали их о планах Бековича: «Звал нас к себе Досун-бай, и говорил: “Для чего русские городы строят на чужой земле?”». Обижались хивинцы и на туркмен: зачем те дают русским проводников и вообще помогают? На поход русских в Хиве смотрели недоброжелательно, и «кайсакам, узбекам и каракалпакам сделано было от старшин воззвание, дабы встретить русское войско в безводных местах большими силами».
Это письмо было написано в Хиве 30 марта. Еще раньше, 5 марта 1717 года, хан Аюка писал поручику Кожину: «Послали письма: ваши служилые люди едут в Хиву; нам здесь слышно, что хивинцы, бухарцы и каракалпаки сбираются вместе и хотят на служилых людей идти боем». Про места, через которые должен был идти отряд, хан писал так: «Там воды нет и сена нет, государевым служилым людям как бы худо не было; для того чтобы я знал, а вам не сказал, и после на меня станут пенять. Извольте послать до Царского Величества нарочного посыльщика, а я с ним пошлю калмычанина…» Из этого послания, докладов лазутчиков и по письмам гонцов становилось ясно – ни о каком переходе в русское подданство хивинского хана и речи быть не может, хотя бы потому, что никто не воспринимает отряд Черкасского как посольство, а в нем видят только войско, идущее в набег. Но Бекович то ли не решился обратиться к царю с предложением изменить план, то ли имел какие-то свои на этот счет мнения и виды, но отменять поход он не стал.
Дело усугубилось конфликтом, возникшим между поручиком Кожиным и князем Черкасским. Начало ему было положено еще в Москве, где отправлявшийся в Астрахань Кожин потребовал у князя царский указ, выписанный на его, Кожина, имя, в котором были прописаны его задания и полномочия, но князь этого указа ему не отдал, и с самого начала совместной службы поручик и капитан почти открыто враждовали. Они никак не могли поделить власть: Кожин полагал, что он выполняет отдельное, самое главное, задание, порученное ему лично императором, что именно для обеспечения успеха этого, порученного ему, поручику Кожину, предприятия, собственно, и затеян поход Бековича. Черкасский же был уверен, что все дело поручено ему и он волен командовать поручиком и давать ему задания. Все это вылилось в письменные обвинения и жалобы друг на друга, в поиск недочетов и списывание всех неудач одним на другого. Масла ь огонь подлил доклад вернувшегося той зимой из Астрабада в Астрахань князя Самонова, рассказавшего князю Черкасскому, что Кожин отчудил в Астрабаде странную штуку. По словам Самонова, астрабадский хан по прибытии в его гавань судов экспедиции выслал навстречу русским своих людей, чтобы те проводили их в город. Но Кожин ни сам с ними не поехал, ни Давыдова не отпустил. Затем, внезапно напав на пасшееся близ берега стадо буйволов, часть из которых перестрелял, поднял несколько туш на борт и с этой «добычей» ушел обратно в море. Князь, ухватившись за эти сведения, писал о его поступках, называл «взбесившимся».
Кожин также бомбардировал инстанции своими донесениями, извещая, что Черкасский словно обезумел, никаких доводов слушать не хочет и собирается ввязаться в авантюру, которая может погубить и людей, и все дело, в которое вложено столько сил и средств. Как мы помним, Петр поручил Кожину проверить карты, составленные Александром Черкасским во время его первой рекогносцировки, но тот, упирая на то, что он командир, а Кожин лишь подчиненный, в этих проверках ему всячески препятствовал. Однако и без его помощи Кожин сумел определить, что никакого «старого русла Амударьи» не существует, что это просто складки местности, которые принимаются туркменами за старое русло. Показания по этому поводу были не точны, маршрут «по руслу» так до конца никто и не прошел, плотины, «запирающей» Аму, никто из членов экспедиции не видел. Все планы были основаны на россказнях туркмен – людей неграмотных и склонных к лукавству. Кожин писал своему фактическому командующему, адмиралу Апраксину, что поход готовится без надлежащей секретности: «Хивинцы и бухарцы узнали наши пути и собрались против нас войной… Чего хотим искать, не тайна ни для кого, и тайного нет ничего».
Судя по воспоминаниям современников, Кожин и князь Черкасский, что называется, «стоили друг друга». Про упрямство и гордость, помноженные на вспыльчивый характер князя, писали многие авторы, а посланный в Персию князь Артемий Волынский, знававший в те поры Кожина, писал о нем следующее: «Кожин этот такие безделицы и шалости делал, что описать нельзя, и почитает сам, что он у государя первая персона, и сам себя так показывает». Словом, случилась старая русская беда, начались между двумя офицерами разбирательства в увлекательной области: «А ты вообще кто такой?» и «Кому поручено?». Кожин неоднократно письменно и устно порицал выбор мест для построенных князем приморских укреплений, а Черкасский ему в отместку писал и говорил, что места выбрал, доверившись его, Кожина, совету.
Надо отдать должное Кожину, который, ясно оценив ситуацию, заявил, что о проникновении в Индию через Хиву при таких обстоятельствах и речи идти не может, а войско под командой Бековича просто обречено на погибель. Так он и написал в своем донесении в Сенат, заявив: «Идти под командой Черкасского плутать и воровать не желаю». Выступить в поход Кожин отказался и остался в Астрахани ждать ответа на свое донесение. Черкасский успел отправить свое донесение, в котором извещал, что поручик Кожин «взбесился не яко человек, но яко бестия и скрылся из Астрахани не весть куда». На самом же деле Кожин и не думал никуда скрываться, а остался ждать ответа из Петербурга. В столице его доводов услышать не захотели – поручика вызвали в Санкт-Петербург, допросили в Сенате и предали военному суду как не исполнившего приказ.
Степной марш
На Святой неделе 1717 года отряд князя Александра Черкасского выступил из Астрахани, несмотря на то что донесения, приходившие из степи и из Хивы, становились все тревожнее и тревожнее. Князь словно оглох, не желая воспринимать никаких разумных доводов, и объяснения этому упрямству было довольно простое – он и сам, видно, понял, что никакого русла Аму нет, а возможно, знал это с самого начала. Теперь ему необходимо было во что бы то ни стало дойти до Хивы и утвердить там русское присутствие – это покрывало все его просчеты, оправдывало его перед царем. Уже когда отряд шел к Гурьеву, пришло письмо от Аюки, писанное им 16 марта, в котором хан предупреждал: «Из Хивы приехали посланцы мои и сказывали, что бухарцы, хивинцы, каракалпаки, кайсаки, балки соединились и заставами стоят по местам. Колодцы в степи засыпаны ими. Все это от того, что от туркменцев им была ведомость о походе войск, и хотят они идти к Красным водам. Ваши посланцы в Хиве не в чести, об оном уведомил меня посланец мой».
Но ничто уже не могло остановить князя! В самый день выступления отряда из Астрахани, буквально на глазах князя, было захлестнуто набежавшей волной, перевернулось и затонуло судно, на котором находились его жена, княгиня Марья Борисовна, и две их малолетние дочери, провожавшие отца и мужа в опасный поход. Спастись им не удалось. Гибель любимых людей потрясла Бековича, повлияла на его рассудок и состояние духа. Временами он впадал в состояние, близкое к умопомрачению. Но кто мог остановить его, любимца императора, имевшего разрешение всех, кого он сочтет нужным, подчинить себе и употребить к делу? И он повел людей в степь, на Хиву.
В поход отправились: эскадрон шведских драгун, насчитывавший до 600 человек; две роты пехотных солдат, посаженных на коней; артиллеристы – офицеры и нижние чины, при орудиях и припасах к ним; разные военные и флотские служители; отряд добровольцев, состоявший из русских дворян, мурз и ногайских татар, численностью до 500 человек; казаки – 1500 яицких и 500 гребенских. С отрядом шли богатые караваны купцов, рассчитывавших на охрану военных в опасной степи, где испокон веку пошаливали степняки. Купцов – русских, татарских и бухарских – набралось около двух сотен. Весь отряд насчитывал до 3000 человек. Из лиц известных при отряде находились князь Самонов, астраханский дворянин Киритов, майоры Франкенберг и Пальчиков, братья Бековича – Сиюч и Ак-Мурза, а также Ходжа Нефес.
Конница и караваны верблюдов шли до Гурьева сухим путем двенадцать дней, а неделей позже на кораблях, груженных тяжелыми кладями, их догнал князь Александр с отрядом пехоты. Под Гурьевом войско простояло около месяца, отсюда к хану Аюке Черкасский отправил дворянина Мартьянова с просьбой прислать калмыцкую конницу на подмогу. Мстительный хан ответил ему его же словами, произнесенными годом раньше под Астраханью, при разгроме ногайцами его ставки: «Я не имею на то царского приказа», и людей не послал. Впрочем, он отправил в распоряжение князя своего человека Бакшу, а с ним десять калмыков и туркмен-проводников, которые должны были следовать в отряде Бековича в качестве особого посольства к хивинскому хану.
Здесь же, под Гурьевом, произошла первая стычка с каракалпаками, которые напали на казачьих табунщиков и захватили шестьдесят пленных, среди которых оказался и Ходжа Нефес. Вслед каракалпакам была пущена погоня, которую возглавил сам Бекович. После долгого преследования налетчиков настигли, отбили у них табуны и полон, при этом сами взяли нескольких каракалпаков в плен.
Наконец на седьмой неделе после Пасхи, в начале июля, в самый разгар жары, когда, казалось, никакое движение по степи невозможно, отряд выступил от Гурьева и, минуя большую караванную дорогу, направился к реке Эмбе. Дневок не делали, лишь останавливались на ночлег у степных речек и до Эмбы добрались за восемь дней, совершая усиленные марши по тридцать семь верст в сутки, таким образом проделав около трехсот верст. Эмбу форсировали частью на плотах, частью вброд, затратив на переправу отряда и грузов два дня, а потом снова пошли быстрым маршем и через два дня достигли урочища Богачать, к которому выходила большая хивинская дорога. Отсюда пошли от колодца к колодцу: на Дучкан, Мансулмас и Чилдан. В степных колодцах воды на большое количество людей и животных не хватало, и, придя на место, в первую очередь сами рыли сотню и более колодцев в рост человека.
Возле колодца Чилдан туркменский проводник, караван-баши Мангалай-Кашка, вместе со своими товарищами ночью ушел из лагеря. В степи беглецы разделились – Мангалай-Кашка и шестеро туркмен пошли в улусы калмыцкого князя Даржи, подданными которого они были, а ханские калмыки Аюки – Бакша и с ним еще четверо – отправились в Хиву, далеко обойдя степью заставы и русский лагерь.
От этого места караван-баши стал Ходжа Нефес, который повел отряд на колодцы Сан, Косешгозе, Белявили, Дурали и Ялгысу. Так отряд Черкасского достиг Устюркской возвышенности, тогда называвшейся Иркендскими горами. По гористой местности караван и войска прошли восемьсот верст и, когда до границ владений хивинского хана оставалось восемь дней пути, стали лагерем. Здесь Черкасский собрал совет из офицеров, командовавших подразделениями, и на этом совете решено было пойти на хитрость.
В Хиву был налегке послан астраханский дворянин Киритов с сотней казаков, везший подарки и письмо к хану Ширгози. После его отъезда оставили у Ялгысу тысячу казаков для поправления коней, обессилевших после продолжительного степного марша и бескормицы, а также дали роздых тем из людей, кто выбился из сил и отстал в пути, – они должны были подтянуться к этой стоянке. Главные же силы отряда, свернув лагерь, не мешкая, двинулись ускоренным маршем вперед. На реке Аккуль отряд встретил двух узбеков, с которыми был казак, посланный ранее с Киритовым, – это было ответное посольство хана. Из соображений осторожности узбекам сказали, что князь Черкасский с основными силами идет следом, и заставили узбеков два дня дожидаться, пока от колодца Ялгысу не подошли остававшиеся там казаки. Со своими посланцами хан Ширгози прислал князю подарки: кафтан, коня, разных овощей и сладостей. Князь заверил послов хана, что идет в Хиву не войной, а как посол своего государя, а о цели посольства объявит при личной встрече с ханом. После коротких переговоров узбеки и казак убыли обратно в Хиву, а им вслед пошел весь отряд, совершая ускоренный марш. Сделано это было для того, чтобы хивинцы думали, что русские находятся все еще в нескольких днях пути от их границ. На самом же деле, пройдя в два дня более ста верст, отряд вышел к урочищу Карагач, вблизи которого по плану, составленному для экспедиции Петром, князю Черкасскому надлежало построить крепость; до Хивы отсюда было 150 верст. За сорок пять дней люди под командой Черкасского прошли от Гурьева 1350 верст, в самое жаркое время года пройдя по бесплодным и безводным степям.
В день Успения Пресвятой Богородицы, 15 августа 1717 года, отряд остановился возле одного из озер и за ночь окопался с трех сторон, огородив лагерь рвом и валом, на котором выставили пушки. В этом укреплении стали ждать известий от Киритова. Никто из бывших в лагере не предполагал, какая над ними всеми нависла опасность, ибо уже случилось предательство.
Калмык Бакша прибыл в Хиву позже отряда Киритова, когда посланцы Бековича уже стояли лагерем возле стен города. Их подарки были приняты, и им были отпущены кормовые деньги; на языке восточной дипломатии это означало, что встречают их если не как друзей, то уж точно не как врагов. Это давало надежду на возможность мирных переговоров, для чего, собственно, Бекович и был послан, согласно изначальному плану, составленному самим императором. Не известно, что именно открыл Бакша хану и его сановникам, чем их пугал, однако после его прибытия отношение к русским послам резко переменилось: их разоружили и бросили в зинданы. Возможно, что стремительный бросок отряда к границам ханства стал последней каплей, перевесившей чашу войны на весах размышлений хана. Как бы то ни было, хан Ширгози сам возглавил 24-тысячное объединенное войско степняков и хивинцев и повел его на отряд Черкасского. Предательство Бакши было тонкой местью калмыцкого Аюки-хана лично Бековичу, отказавшемуся поддержать его мощью своего отряда в борьбе со степным соперником Аюки, кубанским ханом.
Стоя лагерем у озер, князь Черкасский распорядился отправить команду казаков ловить рыбу, чтобы усталые люди могли полакомиться ушицей. Казаки, отправленные на ловлю, были застигнуты врасплох передовыми отрядами узбеков. В плен попали шестьдесят рыболовов, но одному гребенскому казаку удалось сбежать и предупредить лагерь о том, что хивинцы идут на русских огромным войском, так что хану Ширгози взять лагерь с ходу не удалось – поднятый по боевой тревоге отряд встретил врага плотным огнем. Напоровшись на решительное сопротивление, узбекская конница откатилась, но потом взяла лагерь в осаду. На следующее утро атаки на лагерь возобновились, но все наскоки хивинцев были отбиты с огромными для них потерями. Сказались подавляющее превосходство в огневой мощи отряда Бековича и организованность русских регулярных войск, засевших в земляных укреплениях. Они буквально смели атакующую лавину узбеков залпами ружей и огнем пушек, стрелявших картечью. Атаки продолжались три дня, и за это время потери отряда составили десять драгун и казаков, а атаковавшие понесли тяжкий урон.
Припасов у русских было достаточно для того, чтобы сидеть в своих укреплениях хоть год, воды у них под боком имелось целое озеро, а о долгой осаде при слабой организации хивинского войска не могло идти речи. Хан Ширгози, поняв, что прямыми атаками лагеря Черкасского ему не взять, по совету своего казначея Досим-бея пустился на хитрость. В русский лагерь явился хивинец Ходжа Ишим, который передал князю Черкасскому «глубочайшее сожаление Хана Ширгози о случившемся недоразумении» – якобы нападение произошло без его, ханского, ведома и повеления. Ишим просил послать с ним в лагерь к хивинцам кого-нибудь от князя, чтобы можно было начать предварительные переговоры.
Черкасский велел идти к хивинцам татарину Алтыку Уссеинову, поручил ему передать хану, что князь имеет от своего государя посольскую верительную грамоту и словесные поручения к хану. Из лагеря хивинцев Уссеинов вернулся вместе с Ишимом, который объявил, что хан будет держать совет, а пока все враждебные действия прекращаются.
Осажденные также собрались на военный совет, мнения на котором разделились. Майор Франкенберг и другие военные были против мира. Их понять можно: военные рассуждали как профессионалы – после того, как ни один из гонцов не вернулся, когда от лазутчиков приходят самые тревожные донесения, а от отряда Киритова ни слуху ни духу, наконец, после внезапной атаки хивинцев верить хану было невозможно. Но Черкасский ммел свои резоны: они шли в эту степь не воевать с туземцами, а вести переговоры, склонять хивинского хана к подданству, искать путей в Индию и россыпи золота. К тому же подмоги ждать было неоткуда, а сидя в лагере, никакого толку не высидишь. При поставленных перед экспедицией целях худой мир был лучше хорошей войны! И мирные предложения хана были приняты.
Но утром 20 августа отряд был снова атакован. Штурм отразили, и тут же в лагерь приехал Ходжа Ишим. От имени хана он униженно просил прощения, уверяя, что нападение произвели пришедшие вместе с хивинцами туркмены и жители побережья Аральского моря, которые никому не подчиняются и часто действуют так, «как подсказывает им дикость натуры». Инцидент замяли, и мирные переговоры возобновились. Князь Черкасский отправил в хивинский лагерь татарских мурз Смайла и Худайгули, поручив им передать хану, чтобы тот, в доказательство своих мирных намерений, прислал к нему в лагерь для переговоров своих приближенных – визиря Кулун-бея и Ходжу Назара. Хан обещал это исполнить и, дабы загладить перед русскими вину за нападение утром 20 августа, приказал примерно наказать нескольких своевольников, увлекших туркмен и аральцев в атаку. В присутствии посланцев Бековича двоим хивинцам, уличенным в самочинном действии, прокололи одному ноздрю, а другому ухо, через эти отверстия продели тонкую веревочку и на ней водили их перед всем войском. После этой показательной экзекуции в русский лагерь прибыли Кулун-бей и Ходжа Назар, с которыми был заключен предварительный мир. При заключении этого договора хивинские вельможи клялись, целуя Коран, а князь Черкасский присягнул целованием креста.
На другой день Черкасский получил приглашение хана прибыть к нему для обмена подарками. Довольный тем, что дело сдвинулось с мертвой точки, князь выехал вместе с Самоновым, старшими чиновниками, офицерами. Его сопровождали братья Сиюч и Ак-Мурза, а также почетный конвой из 700 казаков и драгун. Ханское войско, встречавшее русского посла на конях, разделилось, пропустило отряд Черкасского внутрь и сомкнулось вновь. Для русских отвели место поблизости от ставки хана, они разбили свои шатры и встали особым лагерем. Князю Черкасскому было сообщено, что завтра он встретится с ханом.
Прием у хана Ширгози состоялся, как и было обещано, на следующий день. Черкасский и ближайшие к нему люди вошли в шатер Ширгози, который принял от князя посольские грамоты и подарки, состоявшие из сукон, сахара, соболей, драгоценной посуды. Хан первым повел речь о том, что расположен к русским, и подтвердил заключенный накануне мирный договор, самолично поцеловав Коран. Когда с официальной частью было покончено, Ширгози пригласил гостей откушать и потчевал отменным обедом, во время которого играли на своих инструментах русские военные музыканты. Все было так мило и славно, что никому в голову не шли мысли о возможном лицемерии и коварстве хана. Черкасский был околдован любезностью Ширгози. Когда тот вернул ему часть подарков, заявив, что поднесенные сукна драные и не похожи на дары великого царя, князь стал уверять хана, что это не царские подарки, а лично его, Черкасского, и той же ночью послал гонца в лагерь, где вместо него остался старшим Франкенберг, требуя немедленно прислать царские дары. Их доставили уже к утру на двадцати верблюдах, а днем они были поднесены хану. С тем же гонцом в лагерь был отправлен приказ спрятать Ходжу Нефеса, которого хан просил выдать. По свидетельству некоторых источников, Нефес покинул лагерь еще до того, как его окружили хивинцы; по рассказу же самого Ходжи Нефеса, он все время был с отрядом и его спрятали, положив на дно одной из подвод, завалив сверху товарами и припасами. В этом убежище он провел три дня, пока продолжались переговоры и обмен подарками.
Наконец хивинцы свернули свой лагерь и двинулись к Хиве; вместе с ними выступил и Черкасский со свитой, его отряд шел в самой середине хивинского войска. Перед началом движения князь отдал приказание Франкенбергу выйти из лагеря со всеми обозами и артиллерией и следовать следом за хивинцами, держась от них на расстоянии в несколько верст. Так они шли до реки Порсунгуль, где хан распорядился встать лагерем. Отсюда до Хивы было всего два дня пути. Вскоре сюда же прибыл отряд, ведомый Пальчиковым и Франкенбергом, его сопровождала тысяча всадников Ширгози. Основные силы русских встали лагерем в двух верстах от лагеря хана и князя Черкасского.
Во время этой стоянки хан снова встретился с Бековичем и Самоновым в своем шатре и попросил их о пустячном одолжении: отряд, пришедший с князем, разделить для постоя на несколько частей, так, дескать, будет легче снабжать русских всем необходимым. Иначе если их всех поставить в одной местности, то снабжение отряда слишком тяжким бременем падет на тамошних жителей, и они еще, чего доброго, возропщут и, не приведи Аллах, испортят столь замечательно начатые переговоры. Доводы хана показались князю Черкасскому резонными, он не замедлил согласиться на эту просьбу, и в лагерь к Франкенбергу отбыл гонец.
Но не тут-то было! Майор по-прежнему не верил хивинцам и их хану. Когда доставили приказ князя выйти из лагеря, разделившись на несколько отрядов, и следовать за проводниками-хивинцами в те места, в какие они укажут, осторожный немец ответил, что подчинится только приказу из уст командующего, и из лагеря не пошел. Пришлось писать Франкенбергу трижды, и трижды он отвечал отказом. Только после четвертого письма, в котором князь грозил майору за невыполнение приказа виселицей, немец наконец подчинился. Отряд разделился на пять частей, которые разошлись в разные стороны., Среди 400 человек, которых повел туркмен на хивинской службе Юмут, оказался Ходжа Нефес.
Едва колонны скрылись из видимости друг друга, на небольшой конвой, оставшийся при Бековиче, который даже не успел слезть с коня, набросились хивинские нукеры и в короткий срок одних порубили, других связали. Точно так же было и с остальными отрядами: частью их вырезали сразу, частью захватили в плен. Повезло Нефесу – при разгроме колонны, с которой он шел, караван-баши попал в руки туркмена Аганамета, который взял его в свою палатку и переодел в узбекское платье. Палатка Аганамета была в хивинском лагере недалеко от того места, где стояли ханские шатры, и Нефес в щелку видел, как казнили командиров отряда. Из шатра хана Ширгози вывели офицеров во главе с Черкасским и Самоновым и приказали им раздеться – оставшихся в одних только рубашках пленных рубили саблями, а потом каждому отсекли голову.
После этой расправы хан приказал сняться с места и идти в Хиву, в которую вступил как триумфатор, упиваясь радостью победы. Его встречали толпы подданных, а у Адарских ворот города были поставлены виселицы, на которых болтались безголовые чучела князей Черкасского и Самонова – с них содрали кожу и набили ее сеном. Голову же князя Черкасского Ширгози отправил в качестве доказательства собственной силы бухарскому хану, но вскоре тот вернул «подарочек» обратно…
Остававшиеся в прикаспийских крепостях гарнизоны, ослабленные болезнями и высокой смертностью, получив известие о гибели экспедиции, поспешили уйти морем в Астрахань. Перед эвакуацией отряд фон дер Вейдена в Красноводской крепости был внезапно атакован туркменами, изменившими проигравшей стороне. Отбив штурм, русские погрузились на суда, но по пути в Астрахань попали в жестокий шторм, в котором погибли два корабля, везшие в сумме 400 человек.
Поручика Кожина после прихода известий о разгроме отряда и гибели самого Черкасского признали невиновным, но дальнейшая судьба его неизвестна. Род его сохранился до конца XIX века, и в родовой его вотчине, селе Настасьине, что в девяти верстах от Клишина, уездного города Тверской губернии, можно было видеть кое-какие реликвии, в том числе и подлинник указа Петра об отправлении поручика флота Александра Ивановича Кожина на Каспийское море.
Посчастливилось выбраться из Хивы живым Ходже Нефесу, которого привезли в дом его нового господина Аганамета. Здесь он посулил за себя богатый выкуп, нашел двух поручителей, знавших его во времена, когда он водил в Хиву караваны от Тюк-Карагана, и хозяин отпустил его, выведя тайком ночью из своего дома. Нефес побежал к своему знакомцу, татарину Полату, у которого сторговал лошадь, обещав прислать за нее плату вместе с выкупом для Аганамета, и на той лошади еще до рассвета убрался из города.
В нескольких днях пути от Хивы он встретил караван своего родственника, шедшего с товарами в Хиву, и рассказал ему о случившемся. Родственник повернул своих верблюдов и доставил Нефеса к султану Сайдами, а тот велел ему ехать в Астрахань и рассказать обо всем случившемся тамошнему русскому начальству. Но первым доложил о гибели отряда Бековича… калмык Бакша, которого послал хан Аюка, не преминувший лицемерно посокрушаться о таком несчастье и заметить, что он предупреждал князя Черкасского об опасности похода на Хиву и предлагал абсолютно беспроигрышный поход против известного врага российского императора и его, Аюки, кубанского хана, а князь его не послушал…
Спаслись братья Бековича, в числе немногих они были отпущены на родину. Оставшиеся в живых пленные были проданы на невольничьих рынках Хивы – эти рынки были одним из главных центров работорговли в тех краях.
О судьбе попавших в плен участников похода 1717 года время от времени до России доходили лишь обрывочные известия. По рассказам самих хивинцев, в 1728 году русские невольники, которые согласились служить в гвардии хана, сговорившись с аральцами и другими степняками, хотели умертвить хивинского хана. Намерение это провалилось из-за того, что русских опередили двое придворных евнухов-персов, зарезавших хана еще до прибытия степняков. При расследовании этого дела заговор русских был раскрыт, и многие из них были убиты. Но около восьмидесяти человек заперлись в городской башне, где держались около двух недель без воды и еды, дожидаясь атаки аральцев на Хиву. Но степняки так и не решились на набег, и тогда русские, выговорив себе условия сохранения жизни, сдались. Некоторые из пришедших с Бековичем прожили в плену до глубокой старости, кое-кого отпустили со временем домой, кого-то выкупали, но сношения с Хивинским ханством прервались на долгие годы. После разгрома отряда Черкасского хивинцы, опасаясь мести русских, постарались вообще не вступать с ними ни в какие официальные сношения; они неукоснительно придерживались этого правила полторы сотни лет. В России же сложилась и долго жила поговорка – про того, кто нежданно попадал в тяжелую ситуацию, говорили: «Пропал как Бекович», хотя нам, конечно же, всегда было приятнее слышать про «шведов под Полтавой».
Степная дипломатия
После оглушительной неудачи похода князя Черкасского попытки отыскания путей на Восток через Среднюю Азию русскими правителями оставлены не были. Конечно, войска уже не посылали, но рекогносцировочные группы армейских топографов и разведчиков сделали еще несколько попыток проложить маршрут. В Каспийское море для описания его берегов было направлены несколько экспедиций, в одну из которых вошел и поручик Кожин, отказавшийся идти с Черкасским в поход. После разгрома отряда освобожденный от обвинений, он снова занялся картографированием Каспийского побережья и столь преуспел в этом деле, что составленные им карты были презентованы французской Академии наук в качестве научного пособия. Это было высшим знаком признания его трудов, какой только можно было себе вообразить.
Одно время предполагали даже путь в Индию проложить через Сибирь, Китай, с которым имели регулярные дипломатические сношения, и Тибет, как бы в обход враждебных ханств. Для такого «обходного маневра» очень удобно было использовать калмыков, чья власть в степи была сильна, а ханы их имели отличный повод для посещения Тибета – буддисты по вероисповеданию, правители калмыков получали ханские регалии от далай-ламы именно там.
Злой гений князя Бековича-Черкасского калмыцкий хан Аюка, железной рукой правивший в степи не один десяток лет, умер 19 февраля 1724 года. После его кончины остались восемь сыновей, но власть попыталась узурпировать ханша Дарма Бала, за год до того так взбунтовавшая калмыков против русского престола, что пришлось даже посылать в улусы карательную экспедицию. По указу из Петербурга ненадежную ханшу отставили и впредь наместником ханского престола повелели считать сына Аюки – Черен-Дундука.
Хан Аюка обращался к императору Петру с просьбой отпустить его на поклон к далай-ламе, но получил отказ. Петр заподозрил старого хитреца в том, что тот затевает очередную каверзу, и велено ему было ответить: «При старости лет твоих, такой дальний и продолжительный путь весьма неудобен, а по сему, пользы службы нашему величеству для, оставь сие предприятие». Ставший наместником престола сын Аюки в 1728 году также подал прошение, в котором изъявлял желание отправиться в Тибет к далай-ламе, дабы помянуть усопшего отца. Но русский двор и в этот раз ответил отказом, посоветовав Черен-Дундуку не ездить самому, а отправить особое посольство, которому и поручить исполнить все необходимые обряды.
Повинуясь этому наказу, Черен-Дундук и его мать Чуюла направили в Тибет посольство Калики Гюленя и при нем сорок всадников. Этот отряд прошел через Казань и Тобольск к китайской границе, снабженый продовольствием, подводами и всем остальным необходимым в пути за казенный счет. В Тобольске к посольству присоединился в качестве «пристава» тамошний дворянин Федор Пошехонов и с ним толмач Плотников. Но от этих сопровождающих калмыки отделались в Урге, сказав, что поедут не прямо к далай-ламе, а сначала в Пекин и уж оттуда в Тибет. Для проезда в Пекин пристав и толмач не имели соответствующих бумаг, и китайские власти их просто не пропустили далее, принудив вернуться в Селенгинск.
По возвращении этого посольства в Россию Гюленя и его людей, прямо с русской границы взятых под стражу, доставили в Москву, где с них сняли подробный допрос. При обыске у посла изъяли двенадцать листов, писанных далайламой к Черен-Дондуку лично и калмыцкому народу вообще. Послания перевели и не обнаружили ничего вредного: это были благословения народу калмыков, «дабы сохранить его от всяких напастей». Посольство привезло от далай-ламы для Черен-Дундука жалованную грамоту, ханское знамя, убор и прочие знаки ханского достоинства. Но Черену они так и не достались – эти ханские регалии получил 10 сентября 1733 года Дундук-Омбо, призванный на ханство вместо Черен-Дундука, показавшего себя «не способным к управлению».
На допросах в Москве калмыки Гюленя рассказали, что в Пекин они поехали, потому что китайцы, у которых идет война, прямо ехать к далай-ламе не позволили, поскольку путь туда пролегал через опасные места. Потом из Пекина они ехали от одного города к другому на юг три месяца, до Калганской степи, а от Калгана пошли во владения далай-ламы, до которого добирались еще три месяца. В самом же Тибете прожили они два месяца и, исполнив поручения пославшего их наместника Черен-Дундука, отправились в обратный путь, оставив у далай-ламы трех юношей для обучения. С ними далай-лама переслал священные для буддистов идолы-бурханы, книги, листы благословений и лекарства. С посольством к калмыкам отправились также тибетские ламы и лекари.
Кроме того, посланники рассказали, что от далай-ламы наследнику Черен-Дондуку был присвоен некий чин, но «в чем состоит достоинство того чина, они не знают». Им велено было также передать на словах: «Дается Черен-Дундуку от далай-ламы благословение на счастье».
Став ханом, Дундук-Омбо в 1738 году также захотел отправить посольство в Тибет и писал на имя императрицы Анны Иоанновны, прося на то разрешения; объяснял он это свое желание необходимостью исполнения обрядов буддизма «ради спасения себя в этой жизни и будущем веке». Императрица «оказала свое соизволение на сие прошение», и в июне того же 1738 года калмыцкое посольство из семидесяти человек во главе с Джамбой Джамбе отправилось в дальний путь через Казанскую и Симбирскую губернии, опять же за казенный счет. Кроме проезжих бумаг через все города русского государства, им выдан был «особливый паспорт» для проезда через китайское государство. К этому посольству присоединился селенгинский дворянин Иван Резанов и толмач Степан Савельев.
Причина, названная калмыцким ханом в прошении к русской императрице, не была главной. Настоящее, сохраненное от императрицы в тайне, задание для посольства Джамбе заключалось в получении от далай-ламы благословения на сохранение ханского титула по наследству за детьми Дундук-Омбо.
Приставленный к посольству Резанов в дороге умер, и задание его взял на себя толмач Савельев. Как калмыки имели свое «особое поручение» от хана, так и русские имели свое. Им было велено во время пути расположить к себе калмыков «ласковым обхождением и поступками», с тем чтобы они взяли их с собою к далай-ламе в Тибет. Если посольство пойдет на Пекин, то препятствий ему велено было не чинить. По прибытии на место господам Резанову и Савельеву следовало попасть вместе с калмыками на аудиенцию к далай-ламе, «где о том далай-ламе, его дворе, порядках, с которыми калмыцкие посланцы на аудиенции принимаемы, иметь всякое примечание и потом о сем записать тайно». В случае, если на аудиенцию они не попадут, следовало расспросить о ней у самих посланцев, выведав все подробности. Русское правительство особенно интересовало: какова власть далай-ламы, сила его государства, доходы его? С кем граничит Тибет? Чем изобилует и чем недостаточен? Ведет ли войны? А если ведет, с кем именно? Обо всем этом следовало расспрашивать не только тибетцев, но и по дороге китайцев, и вообще всех, с кем удастся разговориться.
Впрочем, до всего этого дело не дошло. Калмыцкое посольство надолго застряло в Селенгинске, дожидаясь из Пекина разрешения ехать далее. Наконец китайские власти ответили, что не могут его пропустить, потому что посол везет с собой десять калмыцких мальчиков, которых хотят оставить для обучения в Тибете, и, кроме того, с посольством следуют четверо русских, о которых в бумагах ничего не сказано. Посольству ничего более не оставалось, как вернуться в калмыцкие улусы.
Лишь спустя почти десять лет, уже во времена правления Елизаветы Петровны, посольство внука Аюки-хана – Дондук-Даши прошло до Тибета через Хиву, Бухару и Индию и вернулось через два года с известием, что далай-лама оставил этот свет и скоро должен перевоплотиться в другого человека.
Про далай-ламу и Тибет при русском дворе знали немногое. Известно было только, что он является первосвященником буддистов, которые утверждали, что он бессмертен и при крайней старости его душа просто покидает телесную оболочку и переселяется в тело юноши или младенца, «какового определяет имеющее к тому надежные указания духовенство».
Между тем насущные интересы России требовали гораздо большего знания, а главное, крепких связей не только с Индией, но и с Китаем, где жило немало русских. Уже в XVII веке существовала в Пекине особая русская слобода, в которой жили потомки тех, кого когда-то угнали во время пограничных конфликтов. В 1699 году некий Гришка Игнатьев, человек купца Ильи Гостева, отправленный по указу царя под видом купеческого дела в Китай, вернувшись оттуда, рассказал в нерчинской проездной избе воеводе Ивану Самойловичу Николаеву о том, что видел и что узнал.
Русский лазутчик прибыл в Пекин с караваном купца Спиридона Минчиусова в том же 1699 году и нашел, что русская слобода находится «в Пекине, к востоку на правой руке, в углу града, у стены». Слобода расположена вокруг православного храма и населена «русскими людьми, полоняниками, которые живут в китайском государстве». Возле этой слободы находятся высокие земляные стены – «в три аршина покладены»; в этих стенах помещаются купеческие караваны, а также табуны коней, пригоняемые монголами. Русский посольский двор от того места находился в нескольких верстах.
С караваном Минчиусова прибыл протопоп о. Василий Александров, который отслужил в слободской церкви несколько литургий, чем очень порадовал местных жителей. Живший в слободе священник о. Михаил был очень стар и «через то скорбен очами», так что служить уже не мог, а рукоположить кого-нибудь из местных не было возможности – все были неграмотные. Староста храма пек просфоры, а Писания читал сын о. Михаила, которого тот выучил читать, но этих двух нельзя было ввести в сан, так как оба они были холостыми, а такое не положено по церковному уставу.
Григорий Игнатьев рассказал, что на торге хорошо идут русские меха и сафьян, а у китайцев стоит закупать камку – шелковую китайскую ткань с разводами и узорами. При этом он отмечал, что на торге ходит много фальшивой монеты, сделанной из серебра с примесью меди: «такого серебра у них много». Настоящие «серебро и злато в Китае дорого крепко».
Игнатьев в подробностях описал путь караванов, места стоянок, расположение колодцев, где можно получить корма для скота и дрова. Но многое для него осталось неизвестным, потому что за иностранцами китайцы следили открыто и их сыщики ходили за всеми русскими буквально по пятам. За каждым выходившим из посольского двора непременно следовали два-три «служилых человека», державшихся нарочно на виду, чтобы иностранец знал, что за ним идут. Они провожали русских всюду: на торг, в харчевню, даже в церковь. Придя в храм, «служилые» деликатно оставались в притворе, снимали шапки и терпеливо ждали, когда закончится служба, а потом провожали «своего человека» обратно. При таких наблюдателях многое разведать было затруднительно.
Отношения между Россией и Китаем были довольно упорядоченными, но их не стремилась развивать китайская сторона, которая почитала всякое ощутимое присутствие иноземцев в жизни Поднебесной империи излишним. Китайские караваны шли в Россию через Сибирь, а в Индию, как показали опыты калмыцких посольств, путь через Китай был не надежен и зависел от условий китайской стороны. Таким образом, главной дорогой к богатствам Востока оставался путь через Хиву и Бухару.
В 1730 году при правлении государыни императрицы Анны Иоанновны прислал в Уфу посольство к воеводе Бурлину, прося принять его в русское подданство, теснимый соседними племенами хан Малой Киргизской Орды Абдулхаир. Весной 1731 года к нему для переговоров был направлен «старший переводчик по секретным делам» мурза Алексей Тевкелев, сделавший карьеру «по части секретной дипломатии» еще во времена Петра Великого. Он сумел убедить киргизов в пользе русского покровительства и тех выгодах, которые сулит заложение в степи города; из него, дескать, легко будет торговать с киргизами и прийти им на помощь, если нападут враги.
В 1733 году Тевкелев побратался с Абдулхаиром, став его «тамыром» – названым братом, – и привез с собою в Уфу его сына Эрали-султана, старшин Средней и Большой Орд, а также представителей каракалпаков. Эту делегацию отвезли в Петербург, где идея построения города на реке Ори была поддержана обер-секретарем и тайным советником Иваном Кирилловичем Кирилловым, подавшим в Сенат проект, который был одобрен и по которому 1 мая 1734 года последовало распоряжение императрицы Анны Иоанновны, поручившей строительство Кириллову.
15 июня Тевкелев и Кириллов выехали из столицы во главе целой экспедиции назначенных к новому месту службы чиновников и военных, морских офицеров – для устроения будущего порта на Аральском море и геодезистов – для планировки города. В Москве прихватили священника, нескольких студентов Славяно-греко-латинской академии, лекаря, натуралиста, горного инженера. К месту строительства нагнали людей, войска, и вскоре город, названный Орском, стал расти буквально на пустом месте. Оттуда формально управлялись земли степных владык, составлявшие значительную часть современного Казахстана – до Аральского моря включительно. Фактически эти земли никому не подчинялись, это была все та же степь, жившая все по тем же законам грабежа и насилия. Но именно к ней и были обращены помыслы тех, кто желал укрепить русское владычество над караванными путями. Еще в год основания Орска от того места, где более тысячи рабочих строили крепость и новый город, в степь отправилась команда топографов под командой геодезиста Муравина; они имели все то же задание: отыскать надежный путь к Хиве. Эта экспедиция приготовила разборные суда на Яике, чтобы перенести их на Арал и исследовать берега этого моря. Но планам этим не дано было осуществиться, хотя несколькими годами позже Муравин дошел-таки до Хивы, где он и его товарищи оказались в самом центре интриг «восточной политики». Эти похождения русских в Хиве требуют отдельного рассказа.
В 1739 году Абдулхаир, кочевавший в степях между Оренбургом и Аральским морем, известил русское правительство, в подданстве которого состоял с 1731 года, о желании построить новый город с крепостью возле реки Сыр и просил прислать туда постоянный гарнизон. Этому обращению Абдулхаира к русской императрице предшествовала череда событий, совершенно запутавших политическую ситуацию вокруг Хивы.
Хивинский хан Ильбарс Третий, в 1728 году наследовавший ханство после смерти коварного Ширгози, в финале своего правления подвергся атаке с двух сторон. Почти одновременно к нему прибыли два посольства: от хана бухарского Абул-Феиза и персидского шаха Надира. Оба посольства требовали выражения покорности. Ильбарс же, будучи настоящим хивинским ханом, поступил так, как и принято было в этом ханстве: он решил не покоряться ни тому и ни другому, а оба посольства распорядился умертвить самым коварным образом.
Узнав о том, что его посольство вырезали, Надир-шах, стоявший с войсками под Чарджоу, пошел в поход на Хиву, а ему навстречу выступил с войском Ильбарс. Шах запер хивинского хана в крепости Ханки, находившейся в тридцати пяти верстах от Хивы, и в конце концов взял крепость. По приказу Надир-шаха Ильбарса и тридцать его приближенных, в отместку за уничтожение послов, живыми закопали в землю.
Перепуганные суровостью шаха, хивинцы отправили послов к Абдулхаиру с просьбой стать ханом. Они надеялись, что Надир-шах не посмеет напасть на подданного русской короны. Однако Абдулхаир, опасаясь, что хивинцы замыслили очередное коварство и выдадут его Надир-шаху, отказался покинуть родные стойбища и со всей возможной энергией принялся обозначать свою лояльность русским.
Обрадованная столь похвальными устремлениями, императрица 20 августа 1739 года подписала указ о немедленной посылке к хану людей для выбора места построения крепости. Исполнение этого поручения было возложено на поручика Оренбургского драгунского полка Дмитрия Гладышева, знавшего татарский язык; ему были вручены грамота от императрицы и письмо от князя Урусова, которые он должен был вручить хану. Для съемок местности с ним ехали геодезист Муравин, инженерный надзиратель Назимов и переводчик Усман Арасланов. Для конвоя им дан был небольшой отряд казаков.
Гладышев и его люди выступили из Оренбурга 3 сентября 1740 года и более месяца добирались до кочевья Абдулхаира. Не дойдя до него 100 верст, они подверглись нападению разбойничьей шайки из Чиклинского рода киргизов – двумя десятками всадников распоряжались Адиль и Янгилда, племянники главы рода Бабея. Захватив русских, не обращая внимания на крики, что они следуют к их собственному хану, разбойники крепко всех связали, избили и ограбили. Гладышева пырнули ножом в спину. Оказалось, что разбойники охотились именно за поручиком, который когда-то сопровождал к Абдулхаиру полковника Тевкелева. Тогда папаша Адиля и Янгилды, славный батыр Байдара, надумал угнать у русских посланцев табун коней – в степях такие занятия считались почетным делом удальцов. Но караульные, которыми командовал Гладышев, службу несли бдительно, заметили угонщиков, открыли по ним огонь, уложив нескольких киргизов, и лихого Байдару в том числе. Теперь подросшие сыновья пошли по проторенной предками дорожке и этот свой грабеж объявили местью за гибель незабвенного родителя. Чувство горя по погибшему отцу отчасти было заглушено завладением имуществом отряда и уводом в полон яицкого казака Романа Федорова и Петра Максимова, денщика надзирателя Назимова. Разбойники со своей добычей унеслись в степь, а ограбленные и избитые русские посланцы продолжили свой путь, благодаря Бога за то, что ограничилось все только этим. По тогдашним меркам, можно сказать, они весьма дешево отделались!
Прибыв в ханское кочевье, Гладышев и его люди самого Абдулхаира не застали, а потому передали подарки, присланные для хана от казны, его жене ханше Пупайе и старшему сыну Нурали-султану, который специально ждал русских, чтобы сопроводить их к отцу, предусмотрительно державшемуся подальше от кочевья. С Нурали были его дядя Нияз, который прежде ездил с Тевкелевым в Петербург, и шестеро телохранителей хана.
Отдохнув четыре дня в гостях у ханши, отряд Гладышева с Нурали-султаном и Ниязом отправился в степную ставку хана. «Здесь известно, – сказал ему Абдулхаир, – что персидский шах Надир идет на Хиву. Мне же хочется, чтобы город этот был под властью ее императорского величества. Сего ради намерен я ехать в Хиву, и чтобы ты был при мне. Оттуда отправишься навстречу шаху и покажешь ему присланную мне ее величеством грамоту с тем, чтобы шах со мною не ссорился». Гладышев отвечал на это, что коли прислан к нему, то и должен поступать по его ханскому приказу.
Переночевав в ханской ставке, наутро Гладышев и его люди присоединились к ханскому конвою, состоявшему из 3 тысяч нукеров, набранных из киргизов, каракалпаков и аральцев. Снявшись со стоянки, хан выступил на Хиву, добравшись к вечеру до перевоза на реке Улударье, имевшей в этом месте ширину более 150 метров. На берегу были заготовлены двадцать больших лодок для переправы. Возле них и заночевали. Утром начали переправляться, ставя потри-четыре лошади в лодку, а иных пуская вплавь; закончили переправу 4 ноября. К тому времени на хивинский берег прибыла делегация из двух десятков хивинских вельмож во главе со знатным узбеком Авест-Мираном. Хивинские чины слезно просили хана как можно скорее прибыть в город, поскольку им достоверно известно, что шах собирается идти на Хиву. Абдулхаир внял их просьбам и выступил столь поспешно, что русские отстали в степи и долго плутали по ней, прежде чем вышли к городу. Там они узнали, что Абдулхаир уже принял ханство.
Провожатые ввели Гладышева в ханский дворец, где в парадной зале его принял Абдулхаир, сидевший на ханском месте – возвышении, покрытом богатым персидским ковром. На ковре была большая подушка красного бархата, на ней восседал хан, голову которого покрывала чалма из красного шелка. По бокам располагались сорок знатных хивинцев и его степных старшин.
Гладышев поздравил Абдулхаира с избранием на ханство. На это поздравление хан ответил: «Я благодарю Аллаха за то, что Хива отныне находится в подданстве русской императрицы».
Окружавшие хана хивинцы хмуро молчали, явно не разделяя его оптимизма по этому поводу. Покончив с формальными приветствиями, хан перешел к делу. Ему нужны были люди из отряда Гладышева, чтобы послать их к шаху Надиру с письмом, в котором объявлено было бы, что хан Абдулхаир, подданный русской императрицы, принял под свое начало город Хиву, дабы подчинить его русской государыне. Атак как шах является союзником русской короны, то «разорения ради того города ходить бы не изволил».
Для исполнения поручения выбраны были геодезист Муравин и толмач Арасланов, выехавшие на следующее утро, 8 ноября, в лагерь Надир-шаха. До стоянки персидского войска они добрались к вечеру, а утром 9 ноября их принял шах. Муравин передал ему письма от Абдулхаира, ознакомившись с которым шах сказал, что вполне расположен к новому хану, но желал бы вести переговоры с ним самим, а потому предлагал Абдулхаиру прибыть к нему лично. Муравин и толмач отправились обратно в Хиву. С ними вместе приехали трое знатных хивинцев, присланных шахом, во главе с Мухаммедбеком, который успел некоторое время побыть «владельцем Хивы», прежде чем сбежал на службу к Надиру. Они передали хану личное послание от Надир-шаха, которым тот гарантировал ему неприкосновенность и обещал, что отдаст Хиву в его владение. Прочитав его, хан уведомил Гладышева, что хочет тотчас ехать к шаху и просит себя сопровождать.
Гладышев поспешил к ханскому дворцу, во дворе которого уже собрались всадники ханского конвоя. Абдулхаир был в ханском облачении, сын его Нурали-султан почему-то держал в руках лук со стрелой, лежащей на тетиве. Хана и сына окружали люди, накануне пришедшие с ними из степи. Вся кавалькада устремилась по улицам города к воротам, а хивинцы, высыпавшие на плоские крыши домов и оседлавшие глиняные заборы-«дувалы», с любопытством наблюдали всю эту суету. Городские ворота были накануне заперты и завалены землей, чтобы помешать пройти персам; подъехав к ним, хан потребовал немедленно расчистить проход. Он громогласно обратился к хивинцам, сказав, что едет на переговоры к Надир-шаху, чтобы тот оставил Хиву в покое.
Хивинские вельможи принесли ключи от ворот, а стража пригнала невольников, которые живо раскидали земляную насыпь. Как только отряд Абдулхаира прошел ворота и мост через арык, хан поскакал совсем не по той дороге, что вела к ставке Надир-шаха. Хивинцы поняли, что хитрый киргиз их надул, и стали стрелять вслед уходившим степнякам, но кавалькада Абдулхаира уже отъехала далеко, и эта стрельба более походила на прощальный салют.
Сумасшедшая скачка продолжалась до самого вечера. На короткой стоянке Гладышев спросил у хана, почему они бегут? Абдулхаир ответил, что его люди перехватили тайное письмо от хивинцев, находящихся в лагере Надир-шаха. Они стращали своих земляков мощью персов, противостоять которой невозможно, и предлагали выдать Абдулхаира шаху, который через три дня будет со своим войском у стен города.
Уже на следующий день, 12 ноября, хан и его люди добрались до перевоза через Уладарью, через который в обратном направлении прошли неделей ранее. Перебравшись на ту сторону реки, хан почувствовал себя спокойнее и остановился на отдых возле укрепленного селения Конрат. Здесь разгорелась ссора между аральцами, переросшая в рукопашную схватку, которую с трудом разняли. Причиной ссоры были выборы на ханство сына Абдулхаира, Нурали-султана, которого часть аральцев просила у отца в свои правители, а другая не хотела.
Причина, по которой аральцы звали к себе ханом чужака, довольно анекдотична: до того лет десять они прожили никем не управляемые; своего последнего князя Шарахазы, природного аральца, они сами же и убили. После Шарахазы остались трое сыновей, один из которых вполне мог бы стать ханом, «но, – как пояснил Гладышев в своем донесении, – сожалея, чтоб по их легкомысленному обычаю тот, который в ханы произведется, так же как и отец их погублен не был, решили к себе ханом постороннего князя принять».
Нурали-султан довольно прочно уселся на престол хана аральцев, и некоторое время спустя от приехавшего в Самару старого знакомого Байбека Гладышев услышал, что Нурали-султан даже собирался сделать набег на Хиву, с тем чтобы убить там взошедшего на престол, брошенный его папашей Абдулхаиром, ставленника персидского шаха.
Вмешательство аральского правителя не понадобилось – хивинцы с убийством очередного хана управились сами. Надир-шах посадил ханом Тагира, родственника бухарского хана Абдул-Феиза, но как только Надир со своим войском отошел от Хивы подальше, Тагира отправили на тот свет, а на его место стали звать Нурали-султана. Тот чуть было не соблазнился, но как только узнал, что персы идут с войском обратно к Хиве, почел за благо покинуть кочевья возле Аму и убраться подальше в степь; он решил, подобно своему отцу, держаться подальше от опасного города, меняющего своих правителей чаще, чем змея шкуру. Благоразумие Нурали было вознаграждено тем, что он после смерти отца унаследовал ханство в родной орде. В Хиве же персы посадили на трон сына казненного ими хана Ильбарса.
Свое донесение Гладышев завершал сведениями о пленных из отряда Бековича-Черкасского. За короткое время пребывания в Хиве он успел узнать от находящегося в плену яицкого казака Андрея Бородина, что в Хивинском ханстве содержится русских, калмыков и иноземцев около трех тысяч человек. Всех вместе их можно видеть весной, когда пленников выгоняют чистить каналы в городе и окрестностях.
Конкуренты
Прожектеры всех мастей строили самые фантастические планы по проникновению в Индию через Среднюю Азию. Большинству из них никогда не дано было осуществиться, но кое-кому удавалось продвинуться довольно далеко. Неожиданно проявил себя англичанин лейтенант Эльтон.
Он окончил морскую школу и служил в королевском флоте, однако, привлеченный рассказами о карьерах иностранных специалистов в России, предложил свои услуги русской короне. Принятый на службу, он был включен в состав Оренбургской экспедиции Василия Никитича Татищева, которому было поручено обследование степных рубежей России. Татищев предполагал отправить нескольких морских офицеров, и Эльтона в том числе, на Аральское море, для подробного его исследования и нанесения на карту рубежей кочевий киргизов, но эту затею пришлось отложить на неопределенный срок из-за враждебности степных племен. Вместо этого Эльтону поручили исследование берегов больших рек в том краю: Белой, Камы, Волги и Яика. В своих изысканиях он весьма преуспел, и по сию пору кое-где на наших и казахских картах остались названия, данные им, поскольку именно этот англичанин впервые снял верную карту всей юго-восточной границы России. Наградой за труды ему стало увековечивание собственного имени – его носит одно из описанных им соленых озер.
Переезжая с места на место, общаясь со степными племенами, промышленниками и купцами, Эльтон собрал кое-какие сведения о Каспийском море и торге, ведшемся через него с Персией. В голове ушлого англичанина стал зреть замысел заведения караванной торговли между Англией и Персией через Каспий и Россию. План этот, в сущности, был не нов, многие хотели того же, но мало у кого это получалось. Это ничуть не пугало предприимчивого британца, а потому, вернувшись в 1738 году из Оренбургской экспедиции в Петербург, Эльтон подал в отставку и, не теряя времени, стал искать партнеров для осуществления своих планов коммерческой деятельности. Первым заинтересовался его предложением шотландец Греме, потом в дело вошли представители нескольких английских торговых домов в Петербурге, и была составлена торговая компания, собран первоначальный капитал, сложившийся из взносов участников дела. Опыт побывавшего в Азии Эльтона очень пригодился, когда на общие капиталы закупили товары, хорошо продававшиеся в Хиве или Персии, куда они собирались отправиться для торга. На речных судах Греме и Эльтон добрались до Астрахани. Оттуда путешественники морем пошли на Персию и спустя месяц были уже в Решде, где явились для представления местному правителю Ризу-Кули-Мирзе. Британцы подкрепили заверения в совершеннейшем почтении поднесением хороших подарков, самым ценным из которых оказался изрядный запас отличного рома. Этот дар решил многое в их пользу, поскольку Ризу-Кули-Мирза, невзирая на запреты своей веры, был любитель выпить и при его дворе царили вольные нравы.
Обретя в лице любителя дармового рома надежного покровителя, Эльтон и Греме узнали, что все наиболее выгодные торговые операции в Персии находятся в руках правительства, без разрешения которого и думать нечего затевать большое дело. Тогда не без помощи Ризу-Кули-Мирзы было составлено письмо, в котором они просили Надир-шаха разрешить вести торг, вывозя из Персии шелк-сырец, ввозя же английские сукна «и другие шерстяные изделия английских и европейских мануфактур». Вскоре последовал вполне благоприятный ответ. Компании была выдана грамота, дозволявшая свободно приезжать в Персию из России через Каспийское море, производить закупки шелка у персидского правительства и торговать привезенными товарами.
Окрыленные успехом, Эльтон и Греме в 1740 году вернулись в Петербург и развили бурную деятельность, готовясь к большому торговому делу. Через английского посла они вошли в сношения с русским правительством, «испрашивая дозволения на беспрепятственную транзитную торговлю английскими товарами с Персией, через земли русской короны». Такое разрешение ими было получено, а с ним и разрешение начать в Казани строительство нескольких купеческих кораблей, пригодных для хождения и по рекам, и по морю, чтобы на них возить товары в Персию.
Гораздо больше хлопот у Эльтона возникло дома, в Лондоне, где Ост-Индская компания, узнав о появлении конкурента в ее торговле с восточными странами, развернула бешеную деятельность, стремясь задушить этот проект еще в колыбельке. Огромное влияние «ост-индцев», а также немалые деньги, пущенные в дело, затянули решение английских властей. Но остановить Эльтона уже было трудно, и в 1742 году «Компания по торговле с Персией» была утверждена парламентским актом.
Не сумев помешать дома, Ост-Индская компания попробовала взять реванш в России, где у нее имелись давние и надежные связи. В ход были пущены деньги и влияние агентуры при русском дворе, и через давно прикормленных взятками придворных «ост-индцам» удалось «открыть глаза» русскому правительству, которое взглянуло на дело совсем с иной, нежели прежде, стороны. И картинка эта получилась, правду сказать, неприглядной: старую русскую мечту о торговом пути «из варяг в Индию» фактически узурпировал какой-то Эльтон, собиравшийся качать огромные прибыли, нося полные чаши мимо носа русских, платя им лишь за транзит. «Кому следовало» приказано было «вникнуть в это дело поглубже», и у новой компании сразу стали возникать какие-то нелепые проблемы. Постройка судов в Казани была «замешкана под благовидными предлогами», пошли проверки и уточнения, препятствия да «неожиданные затруднения». Эльтон в это время находился в Персии, устраивая тамошние дела компании, а в России продвижение дел застопорилось. Более опытный человек пригласил бы в компанию какого-нибудь влиятельного русского вельможу, который стал бы защищать интересы компании при дворе. При таком способе ведения дело, глядишь, и осталась бы Ост-Индская компания «при пустых хлопотах». Ан нет! Эльтон во всем стал винить партнеров, перессорился с ними, а потом и вовсе организовал свое дело в Персии. Русский консул в Гиляни писал, что Эльтон сумел «понравиться Надир-шаху, к которому, по слухам, и поступил на службу».
Это было правдой – Эльтон действительно поступил на службу к персидскому шаху, взявшись построить ему несколько европейского типа военных кораблей, рассчитывая на них возить свои товары, коли в Казани постройка судов застопорилась. В России же на это взглянули как на усиление военно-морской мощи соседнего государства, отношения с которым складывались всегда очень непросто. Эльтон вывез в Персию корабельного мастера-англичанина, завел на персидском берегу, в Ленгурте, целое «адмиралтейство»: верфь, парусные и такелажные мастерские. Его партнеры обеспокоились и стали писать в Лондон, прося оказать давление на компаньона. Но Эльтон теперь, даже если бы и захотел, не мог бросить службу у шаха. Подобно многим европейцам, служившим при дворах восточных владык, он попал «в золотую клетку» – был окружен роскошью и почетом, но распоряжаться собою по собственному усмотрению не мог – шах приказал его «удерживать» в Персии. Надир-шах мечтал о покорении туркменских племен, освоении их побережья, постройке в местах, удобных для корабельных стоянок, крепостей, а для этого ему нужен был военный флот.
Деятельность Эльтона наносила огромной силы удар по интересам России: одно дело – пытаться освоить пустынные земли побережья и Каспийского приморья, и совсем другое – отвоевывать все это у персов, имеющих в своем распоряжении первоклассный военный флот и крепости на побережье! Как только до России дошли вести о том, что Эльтон заложил на верфи в Ленгурте первый военный корабль, деятельность организованной им компании была прекращена, а астраханскому губернатору камергеру Ивану Онуфриевичу Брылкину была направлена директива, возлагавшая на него надзор за исполнением секретного приказа: «О сожжении персидских кораблей и других Эльтонова строения мореходных судов и заведенного в Ленгурте адмиралтейства: амбаров, парусных фабрик и всего тому принадлежащего».
Подготовка этой диверсии затянулась на несколько лет. Непосредственным исполнителем ее был назначен мичман Михайло Рогозей. Вся переписка по этому делу велась кодированно, так что многие места донесений не совсем ясны и по сию пору, но в общем-то понять события вокруг «эльтоновского адмиралтейства» вполне возможно.
Первый и самый мощный удар по детищу англичанина был нанесен с суши, и надо думать, не без участия в этом деле агентов русского консульства в Гиляни. Именно от консулов, из Гиляни, шли в Астрахань сведения о происходящем на верфях и вокруг них. И когда на северо-востоке Персии весной 1751 года вдруг вспыхнуло возмущение племен, которыми командовал бывший правитель Гиляни «мизандорский Асан-хан», первым, на что напали его люди, почему-то оказалось «эльтоновское адмиралтейство» в Ленгурте. Восставшие сожгли верфь, амбары и городок, выросший вокруг них. Самого Эльтона настигли в селении Рушни и убили, но до готовых кораблей добраться не смогли – их увел мастер-англичанин и спрятал где-то на побережье.
Узнав об этом, крейсировавшие в Каспийском море под общей командой мичмана Рогозея гекбот «Санкт-Илья» и шнява «Санкт-Екатерина» вышли на поиск этих кораблей. Сначала они направились к Дербенту, потом к Баку, а потом к берегам провинции Гилянь. Русский консул Данилов и его свита встретили русские суда в одном из персидских портов. От консула Рогозей узнал, что, по слухам, мастер-англичанин угнал суда в устье реки Сефируз и стал там на якорь.
13 сентября «Санкт-Илья» и «Санкт-Екатерина» вышли снова на поиск и через два дня приблизились к устью Сефируз. Осматривая местность в подзорную трубу, мичман обнаружил два корабля, стоявших на якорях за намытой течением косой. Русские суда встали на якоря в трех милях от персидских кораблей. Мичман Рогозей в это время был болен и поручил командовать атакой мичману Илье Токмачеву. К вечеру 17 сентября все было готово: абордажная команда, переодевшись в морских разбойников, уложила запас горючих веществ, ружья и порох в два швербота и налегла на весла. Море было спокойно. Диверсанты, ряженные пиратами, тихонько подплыли к персидским кораблям около 10 часов вечера, когда было уже совсем темно. Забравшись на борт ближайшего судна, Токмачев понял, что все их предосторожности напрасны, – на кораблях никого не было. Но и медлить было не резон, мало ли что могло случиться? Пока его люди раскладывали зажигательные смеси и поливали привезенной нефтью палубы и надстройки персидских кораблей, мичман измерил их для отчета. Оба судна были трехмачтовыми. Одно – длиной в сто английских футов, шириной в двадцать два; другое – девяноста футов, при ширине в двадцать один. На обоих имелись пушечные порты: у первого на двадцать четыре пушки, у другого на восемь. «И те суда я сжег без остатку. Тою же ночью, во втором часу, вернулись мы на наши суда и лодки подняли. За болезнью мичмана Рогозея, а особливо от того, что возвратиться из тех мест до зимы в Астрахань времени уже недоставало, а шнява была неблагонадежна для хождения по морю во время осенних штормов, никуда более не заходя, к Астрахани направились. 24 сентября мичман Рогозей от болезни умре. Которые же унтер-офицеры и иные служители со мною на тех двух лодках ходили корабли персидские жечь, список прилагаю», – так доложил мичман Илья Токмачев в рапорте от 12 октября 1751 года губернатору Ивану Онуфриевичу Брылкину, руководившему всей операцией по уничтожению «эльтоновского адмиралтейства».
Караван специального назначения
Во второй половине XVIII столетия уже никто из высших сановников Российской империи не строил грандиозных планов склонения к подданству правителей Хивы и Бухары, чтобы, используя их покорность, проторить подвластные только русским государям торговые пути в богатейшие страны Азии. Приходилось приспосабливаться к правлению хивинского хана и тем условиям, которые он выставлял, пропуская в очередной раз русские караваны. Например, чтобы православный архимандрит, глава православной духовной миссии в Китае, добрался до места своего служения, ему при отправке в Пекин выдавалась специальная инструкция, которая строжайше предписывала скрывать свой сан, проезжая владениями хивинского хана. Во всех дорожных документах архимандрит значился простым монахом, едущим в Пекин с целью изучения языка монголов и китайцев. Соответствующие инструкции получали лица, сопровождавшие архимандрита. Подлинные бумаги предписывалось прятать в потаенных местах, поскольку обнаружение главы христианской миссии на землях хана могло привести к каким угодно последствиям. Помочь духовному лицу и тем, кто путешествовал вместе с ним, было бы невозможно.
Сама идея восточных походов стала постепенно забываться. Но вот на престол взошла дочь Петра, императрица Елизавета Петровна, которая, «последуя стопам родителя своего», среди прочих дел, не завершенных отцом, вспомнила и планы деда, царя Алексея Михайловича, отыскать торговые пути в Индию и Китай. Но, памятуя горький урок военной экспедиции Черкасского, на этот раз решили начать не с посылки солдат, а с торговли и разведки. И то, и другое неразлучные спутники политики, а при полном отсутствии оной вполне успешно ее замещают. К тому же, как известно еще со времен античных, ослик, нагруженный золотом, открывает ворота городов куда быстрее, чем самый мощный таран. Булавки штыков лишь прихватывают политический раскрой, что называется, «на живую», накрепко же сшивается он суровой ниткой экономической выгоды. Исходя из этих весьма здравых рассуждений своих сановников (сама императрица не любила вести государственные дела), Елизавета Петровна распорядилась установить регулярную торговлю с Хивой, для чего отправить в ханство купеческий караван.
Распоряжение об отправке каравана было направлено в Оренбург, тамошнему губернатору Ивану Ивановичу Неплюеву, человеку опытному и деятельному. Его карьера началась при царе Петре – родился Иван Иванович в 1693 году. Его отец был небогатым новгородским помещиком и умер, когда Ивану было всего шестнадцать лет. По настоянию матери, едва ему сравнялось восемнадцать лет, он женился, продолжая числиться «недорослем». Через год у него родился сын. В 1714 году последовал царский указ о недорослях, согласно которому Неплюеву, в числе других молодых дворян, надлежало явиться для обучения в школе. Он попал сначала в новгородскую «цифирную школу», а оттуда в нарвскую навигационную, где проявились у него в полной мере дремавшие дотоле способности к точным наукам. Из Нарвы его перевели в Петербургскую морскую академию, а в 1716 году отправили учиться морскому делу в Венецию, где он принимал участие в сражениях венецианского флота против турецкого.
Вернувшись в 1720 году в Россию, гардемарины держали экзамен в Адмиралтейств-коллегии в присутствии самого Петра Алексеевича. Неплюев был произведен в поручики галерного флота, вскоре стал начальником петербургского порта и виделся с Петром каждый день. Он перевез к себе семью – у него к тому времени родилось еще две дочери, но долго пожить в кругу семейства ему не довелось: в январе 1721 года царь назначил его резидентом в Константинополь.
Служа по дипломатической части, лавируя между англичанами и французами, всячески желавшими поссорить Россию и Турцию, Иван Иванович сумел заключить мирный договор, согласно которому Россия получала во владение все земли на западном берегу Каспийского моря. На радостях Петр осыпал Неплюева наградами и произвел его в капитаны первого ранга.
В Россию Иван Иванович вернулся только в 1735 году, уже при царице Анне Иоанновне, получил в награду чин шаутбенахта, был произведен в тайные советники и назначен в Коллегию иностранных дел, а в 1740 году стал главнокомандующим в Малороссии.
При Елизавете Петровне Неплюев претерпел опалу, но был оправдан, получил в управление колоссальный по размерам Оренбургский край и за несколько лет преобразил его: строил крепости, населял их гарнизонами. Он нашел неудобным место, выбранное для постройки столицы края, и перенес город туда, где нынче стоит Оренбург. Когда пришел приказ об отправлении каравана в Хиву, Неплюев сразу понял, насколько это непростое дело. Сложность заключалась в том, что казенные караваны через киргиз-кайсацкие степи никогда не отправлялись – всю торговлю купцы вели на свой страх и риск. Серьезной коммерции мешали постоянные нападения шаек степняков, считавших разбойничье ремесло самым достойным для себя занятием. Они взимали за проход по «своим землям» немалую дань, но, даже получив ее, могли отобрать весь товар, а караванщиков продать в рабство. Управы на разбойников не было – гоняться за ними не хватало сил; к тому же степняки не признавали никакой власти, кроме своих старейшин, бывших в молодые годы такими же разбойниками, а потому всячески поощрявших удалой промысел.
Возглавил караван самарский купец Данила Рукавкин; судя по дальнейшим событиям, выбор на него пал не случайно, и надо сказать, это был очень удачный выбор! Он был, видимо, незаурядной личностью и для купца изрядно образован. После похода он, пользуясь заметками, сделанными в пути, подробно описал путешествие. В этом сочинении причудливо сочетаются витиеватость стиля и точность разведсводки, что, пожалуй, наиболее точно раскрывает сущность этого похода, вобравшего в себя всего понемножку. Назывался опус «Описание пути от Оренбурга к Хиве и Бухаре с принадлежащими обстоятельствами, выпавшими при отправлении в 1753 году из Оренбурга в те места каравана самарского купца Данилы Рукавкина». Он был опубликован в XVIII веке дважды: и отдельной книжкой, и в качестве приложения к занимательному календарю.
Караван выступил в путь под охраной сопровождавшего его отряда киргиз-кайсаков, с которыми было заключено особое соглашение. И тем не менее шли они, как пишет Рукавкин, «во всегдашнем ожидании разграбления каравана и побития».
Путь был долог, его тщательное описание должно было предупредить идущих следом о грядущих опасностях и сложностях. Поэтому Рукавкин старался описывать маршрут, не упуская ничего. «От Оренбурга до Хивы не более тысячи верст почитать должно, – писал он в своем дневнике. – От Оренбурга шли до реки Яик через казачий городок Уральск, потом до Сарачиковского форпоста, что в 60 верстах от Гурьева, далее до речки называемой по-киргизски “Белая Соленая”, перешли оную у киргизских колодцев. Далее шли 60 верст до реки Енигвы, перешли ту Енигву вброд и шли той же самой дорогой, что и посланный Петром Первым князь Александр Бекович-Черкасский шел. Через два дня дошли до горы Юрняк, оная гора между Каспийским и Аральским морем и склонность имеет от Аральского к Каспийскому морю. На верху той горы стоит крепость, четырехугольная, из кирпича построенная. Стены в ней обвалились, и никого в ней нет. От той крепостицы шли мы хребтом и песками, кои киргизы называют Шаменши. Шли четыре дня, потом путь склонился под гору. По всему пути были колодцы с водою. Идучи по хребту, узрели мы долину: с правой стороны видна вода, о которой провожатые сказали нам, что эта вода окружает некий остров, а на нем замок есть, называется Барса-Кельмес, и что подплыть к этому замку невозможно, баснословят, что замок-де сделан некоторым волшебством называемым “тымим”. Потом шли местами, где много воды пресной, в озере и колодцах. Так пришли к городу Ургенч, стоящему при реке. Переправились через ту реку и шли от крепости к крепости, покуда не дошли до Хивы».
Далее в рассказе купца следует дотошное описание города, его жителей и окрестностей, тем более ценные, что подобных описаний до того не бывало. Дабы его рассказ приобрел в глазах читателя особенный вес, Рукавкин пишет: «Я, по случаю моей там бытности, за долг почитаю описать с показанием того, чему в Хивинском владении был самовидец». И далее следует перечисление городов и крепостей, подвластных хивинским ханам: Анабиры, Шават, Кент, Чеп, Азарье, Ургенч; все они стояли при каналах, текущих из Амударьи. «Укреплений они, кроме глиняных невысоких стен и небольших рвов, не имеют, – писал Рукавкин. – Артиллерии никакой нет и оружие их по большей части стрелы и копья. Оружие огнестрельное они имеют, но онаго весьма мало. Во всех объявленных крепостицах жителей немного.
Торги здесь производят в установленные дни, так же как и в Российской империи бывает. Большой торг бывает в Ургенче, потому как он ближе всех к Киргиз-Кайсацкой орде, тако же и к Оренбургу. На торг съезжаются киргиз-кайсаки, бухарцы, туркменцы и аральцы.
Хивинцы живут в округе описанных крепостей, каждый при своем разведенном саде, и сеют для себя хлеб. Крепостицы же имеют только для защищения в случае вражеского нападения. У них происходят частые ссоры с туркменцами, которые такое же оружие употребляют, что и сами хивинцы. Нередки у них и междоусобные раздоры. Хивинцы, в случае вражеского нападения, получают помощь от туркменцев, за большие им подарки, по взаимному между ними условию. Туркменцы же орда немногочисленная, хана своего не имеют, начальствуют над ними старейшины.
В Хиве в ханы избирают из Киргиз-Кайсацкой орды и из Бухары, из бухарских ханских поколений, а не из хивинцев.
Своего скотоводства хивинцы не имеют и покупают скот у киргиз-кайсаков и аральцев.
Мимо Хивы протекает река Амударья, шириною не более нескольких саженей, и течение имеет быстрое. Она течет с полуночной стороны и впадает в Аральское море. Бухара у той реки стоит с расстоянием от Хивы четыре дня конной езды.
Все строение, и крепостное, и обывательское, все сплошь глиняное. Зима продолжается здесь не более двух месяцев: декабрь и январь, да и то только земля немного примерзнет, а снег если падет, то не лежит. А летом дождей мало, и хлеб произрастает от пущенной по каналам воды. Родится у них пшеница, сорочинское просо (сорго), чечевица, кунжут, из которого жмут масло, белоярая пшеница. А овощей и фруктов так много, что для них и винограда имеются немалые склады.
Имеются у них хлопчатобумажные заводы, много деревьев шелковичных. Заводы те имеет каждый, кто пожелает, бесплатно и не требуя на то дозволения.
Хивинцы имеют нравы грубые и вздорные, а как увидят противу себя отважного человека, то очень робеют. В Аральское море впадают две реки: Сырдарья и Купиндарья, из коих Сырдарья принадлежит Киргиз-Кайсацкой орде, которая по ней и кочует. От Оренбурга эта река первая, ширины в ней с Москву-реку. Сырдарья глубока, и переправляться через нее пришлось на камышовых плотах. При ней стоит город Туркестан. Из Аральского моря в Каспийское имеет течение небольшая речка, мы ее переезжали, по прежним берегам судя, не меньше десяти саженей была. Но при самом исходе ее из Аральского моря была завалена хивинцами, по опасности от бывшего в Каспийском море разбойника Стеньки Разина, в 1670 году разбой чинившего, чтобы по речке той не смог он на стругах прийти чинить разорение хивинцам. Однако же и нынче та речка немалое течение имеет.
Город Ургенч, стоящий при той реке, разорен войсками калмыцкого Аюки-хана. Вокруг Ургенча стена, внутри две мечети, ханский дом и несколько других сложены из камня, а не из глины, как остальные здесь постройки.
По дороге от Оренбурга, близ Аральского моря, не доезжая трех дней до Хивы, есть превеликая гора, о которой уверен я был русскими промышленниками, живущими в тех местах, что в ней есть золото…»
В своем повествовании Рукавкин подошел к очень любопытному моменту: во-первых, судя по его записям, в тех степях жили русские промышленники; значит, не так уж и глухо было изолировано ханство. Дальнейшие события показали, что у тех русских была налажена связь с Оренбургом, и наверняка среди них Данило нашел надежнейших информаторов о положении дел в ханстве. Поиски золота в тех краях вменялись в обязанности еще несчастному Черкасскому, и, судя по всему, в 1753 году эти поиски велись не менее интенсивно; во-вторых, Рукавкин сам рассказывает, как они занимались сбором сведений о ханстве, используя при этом местную агентуру из узбеков: «В бытность нашу в Хиве, старались мы разведывать всякими способами сами и от приятельствующих нам хивинцев, что они, хивинцы, во всегдашнем от России опасении состоят, в рассуждении беззаконного убийства князя Александра Бековича Черкасского с командой, считая, что он без достойного отмщения оставлен не будет».
Стараниями участников похода были найдены те немногие из погибшего отряда Черкасского, пришедшие в эти края в 1717 году и проведшие в плену около сорока лет. Их выкупили из рабства, и с отрядом Рукавкина они вернулись в Россию.
Столь бурная деятельность прибывших из Оренбурга, сование ими своего носа в самые различные дела не укрылись от наблюдавших за ними хивинцев. Вскоре, по распоряжению хана, все пришедшие с караваном были заперты в караван-сарае. Торговать им не разрешили, товары отобрали безденежно. Так они прожили под бдительным присмотром в течение десяти месяцев. Но Рукавкин нашел способ дать знать о таком их положении в Оренбург, и тамошний губернатор приказал задержать всех хивинских купцов и их товары. Как только весть об этом достигла Хивы, русских купцов тут же отпустили и заплатили им за товары: «Но цену дали не настоящую, а такую, какая хану рассудилась», – отмечает в своих записках Рукавкин. Но в цене ли дело! Вскоре после этого люди Рукавкина были отпущены домой, что уже можно было считать успехом – могли бы и в зиндане сгноить, и просто порубить в степи.
На обратном пути они не оставляли своих поисков и разведок. Их так и тянуло к той самой горе, про которую сказывали, что она золотоносна: «На возвратном пути из Хивы караваном проезжали мы мимо той горы и предприняли попытку заехать к той горе, но посылаемые от хивинского двора с нами послы и проводники дали нам знать, что если мы не хотим быть злосчастными и жизнь подвергать копеечной опасности, то бы оное любопытство оставили. Сами хивинцы не имеют золота и серебра, добывать и плавить им их запрещено под клятвой. Получают они золото из Персии и Бухары, в деньги оное хоть и переплавляют, но на имя Бухарского хана». Свои записки Рукавкин завершал описанием трех маршрутов к Хиве от Оренбурга, с указанием колодцев и мест, удобных для стоянок, и заключал: «Хивинцы, бухарцы и текинцы желают торговать с Оренбургом и Троицкой крепостью. Но, проезжая степь через Киргиз-Кайсацкую орду, они часто теряют свои караваны, а бывает, что и купцов побивают. И за тем, немногие отваживаются. А если бы оной опасности не было, то тогда несравнимо больше бы, конечно, приходило бы караванов, товары бы дешевели, и из России уходило бы их больше, а через то казна получала бы большие выгоды». Но чтобы твердой ногой стать в тех степях и избавиться от описанных купцом опасностей, сил у тогдашней Российской империи не было.
Быть может, это удивительно, но Данила Рукавкин вошел в историю России вовсе не благодаря своему рискованному путешествию, которое он так подробно описал, – его упоминают разве что в специальной литературе. Настоящую известность самарскому купцу принесло его избрание в 1767 году депутатом от Самары в Комиссию по сочинению проекта нового Уложения, собранную по повелению императрицы Екатерины Великой. На заседании этой Комиссии ^октября 1767 года он выступил с речью о том, что разрешение крестьянам торговать хлебом путем перекупки «приведет к их лености и отвращению от земледелия». Основываясь на законах Петра Великого, предоставившего право торговли хлебом исключительно купцам, Рукавкин требовал запретить крестьянам торговлю хлебом, а также настаивал на запрещении торговли и имения заводов разночинцам и дворянам. Речь, направленная против конкурентов русского купечества, была не последней для него на заседаниях Комиссии: 18 июня 1768 года он требовал принятия строгих мер против набегов и разбоев, производимых калмыками вокруг Самары. Если судить по протоколам заседаний Комиссии, мнение Данилы Рукавкина поддерживало большинство депутатов от купечества.
Девять лет одного века
Судьбы некоторых людей складываются порою столь удивительным образом, что многие литературные истории кажутся, в сравнении с их причудливыми извивами, скучноватыми. Многое, в особенности то, что было изложено служилыми людьми в виде рапортов и донесений, оседало в секретных архивах и становилось известно десятилетия, а то и века спустя. Так вышло и с рапортом унтер-офицера Филиппа Ефремова, совершившего невольное путешествие по Средней Азии, Индии, Ирландии, Англии, двум океанам и нескольким морям, и длилось это путешествие почти девять лет!
В июне 1774 года унтер-офицер Ефремов служил в первом батальоне Нижегородского полка, который входил в состав гарнизона крепости Оренбург, осажденной тогда мятежниками Пугачева. Имея под командой десять солдат и десять казаков, при одном орудии, Ефремов выступил из крепости, имея приказ сменить такую же команду в укреплении Илецкая Защита, – это были известные соляные промыслы, по тем временам объект «государственной важности». На рассвете следующего дня они были атакованы несколькими сотнями мятежников. Ефремов был опытным воякой, потому он, умело командуя своими людьми, успешно оборонял позицию до полудня, пока не кончились заряды для ружей и пушки. Когда стрелять стало нечем, унтер и его подчиненные, зная, что с пленными пугачевцы выделывают самые ужасные вещи, схватились с атакующими врукопашную. В схватке Ефремову отсекли саблей большой палец на левой руке, крепко сжимавшей ствол ружья, которое он подставил под удар. Ружье выпало из рук, Филиппа ударили копьем, рубанули саблей, и он без чувств повалился на землю. Очнулся унтер-офицер уже в стане бунтовщиков, среди оставшихся в живых своих солдат. На первой же ночевке, когда не знавшие дисциплины мятежники напились допьяна и повалились спать, Филипп и еще трое солдат сбежали из лагеря в степь. День они просидели в высокой траве возле степной речки, а потом решили идти к Оренбургу, до которого было около пятнадцати верст. Но они не прошли и трети пути, когда наткнулись на шнырявших по степи киргизкайсаков. Их снова захватили в плен, связали и увели в степь.
В стане киргиз-кайсков они жили, пока их новые хозяева собирали по степи полон. От степняков убежать было невозможно – захваченных людей, представлявших род выгодного товара, охраняли зорко. Месяца через два, собрав значительное число пленников, киргиз-кайсаки снялись с места и погнали живой товар на продажу.
Филиппа продали в Бухаре, и он, сменив в короткое время несколько хозяев-перекупщиков, оказался в доме важного бухарского вельможи – алтыка Донияр-бека. Для начала бывшего унтера поставили стражником к дверям гарема нового хозяина. Быстро освоившись со своим положением, Филипп стал усердно учить язык, к чему оказался весьма способен, и, преуспев в этом, получил под свою команду десять таких же стражников, как и он сам. Это была первая ступенька в его «бухарской карьере».
Вскоре после этого Донияр-бек призвал к себе Ефремова, который разумел русскую грамоту, и поручил прочитать ему бумагу, привезенную из России посланником Бухары, муллой Ирназаром. Это было посольское письмо, прочитав которое Филипп прослезился от обуявших его чувств – он видел русские слова и титулы императрицы. Его спросили: почему он плачет? Что там написано? Почему печать стоит там, где поставлена, и прочее. Филипп, как мог, объяснял. Между делом он неосторожно коснулся вопросов веры, и Донияр-бек стал сначала уговаривать его принять магометанство, а потом велел пытать, поскольку Филипп наотрез отказался. В него вливали густой соляной раствор – человек, опоенный таким рассолом, умирал медленно, в течение суток, пока соль разъедала внутренности. Но если пытуемого не хотели убивать, его легко можно было спасти, давая пить теплое, топленое овечье сало, которое вбирало в себя соль и «живот верхом и низом чистило». Пройдя все эти малоприятные процедуры, Филипп снова предстал перед Донияр-беком. Хозяин несколько поостыл, решив, что, пожалуй, толку не добьешься, а слуга Ефремов исправный. Только потребовал Донияр-бек, чтобы Филипп непременно присягнул ему на верность. Нахлебавшийся вдоволь соли и топленого сала, Ефремов почел за благо присягнуть, впрочем, как он пишет, «клянясь устами, но не душой».
После этого его зачислили в войско. Во время нескольких стычек с врагами бухарцев бывший унтер-офицер показал свою опытность в военном деле, и по приказу алтыка его произвели в кезилбаши, дав под команду пятьдесят человек таких же, как он, полонян разных народностей, пожелавших служить в войске бухарского хана. Бухарцев не смущало присутствие бывших рабов в войске, лишь бы те дрались хорошо! Со своим отрядом Ефремов совершил несколько походов в составе бухарского войска и показал себя храбрецом. За такую службу алтык наградил его званием кубаши, пожаловал землю, приносившую триста червонцев в год, и доверил командовать сотней воинов, двадцать из которых были русскими.
Возвращаясь из походов, Филипп жил при доме алтыка. Там он сошелся с доверенной рабыней, ключницей. Родом персиянка, его избранница была молода и хороша собой. В их судьбах было много общего, сближавшего их: так же, как и Филипп, она была захвачена в полон, только не киргизами, как он, а туркменами, совершавшими регулярные набеги на Персию. В Бухаре, как и Ефремов, начав с низин рабского бытия, с положения наложницы и прислужницы в гареме, она вдруг сделала неожиданную карьеру, возвысившись до «ношения ключей». Семейные союзы из пленных, служивших на доверенных должностях, весьма поощрялись бухарцами, считавшими, что семья привяжет человека к Бухаре лучше всяких пут. Многие из доверенных рабов обзаводились семействами, строили дома, рожали детей, и через поколение никто уже и не считал их чужими. Но браку кубаши и ключницы мешала разность вер. Хотя персиянка, любя Филиппа, была готова перейти в христианство, да где ж было им взять священника! Да и сам Филипп относился к их сожительству гораздо прохладнее ключницы, считая «это дело временным». Так они и прожили, не венчанные никакими обрядами, два года.
В это время кубаши Ефремов отправился на очередную войну с Хивой, отличился в сражении и был пожалован от командующего войском хивинцев Бодал-бека конем-аргамаком и кафтаном; кроме того, ему выпала честь ехать с вестью о победе в Бухару, где за радостную весть он был, по восточному обычаю, награжден особо: ему дали еще земли и пятьсот червонцев!
Но, несмотря на кажущееся благополучие, уважение и милости со стороны бухарцев, Ефремова грызла тоска по Родине. Мысль о побеге преследовала его все годы жизни в Бухаре! Но, будучи изрядным хитрецом, он понимал, что уходить надо верно, один раз. В случае поимки неудачливого беглеца сажали на кол. А если и оставляли такого в живых, то его уделом были тяжелые и грязные работы днем и душная тюрьма зиндан ночью. И так до конца дней!
Надежного человека, который мог подделать любой документ, Филипп уже давно имел на примете. Прежде останавливало его только отсутствие нужной суммы денег, но теперь, имея 500 червонцев наградных, он решил рискнуть! За 100 червонцев мастер подделок написал ему грамоту, в которой говорилось, что он, Ефремов, является послом, который по особым делам направляется в Коканд. Но грамота мало что значила без ханской печати! Тогда Филипп упросил свою сожительницу-ключницу выкрасть у алтыка ханскую печать. Та согласилась это сделать, но только при одном условии – что он возьмет ее с собой! Пришлось ей это обещать.
Во время дневной жары, когда все живое в Бухаре, укрывшись в тени садов и прохладе домов, погрузилось в сон, храбрая женщина принесла печать. Филипп собственноручно приложил ее к фальшивой грамоте, после чего преданная сожительница так же незаметно вернула хранившийся у алтыка символ государственной власти Бухары на положенное место. Никто ничего не заподозрил.
Через два дня Ефремову велено было возвращаться к войску. В компании с двумя русскими воинами он тут же выехал из Бухары, но отправился отнюдь не в Хиву. Имея при себе грамоту с подлинной печатью, они поскакали прямо в Коканд. Несчастная персиянка была коварно обманута…
До Коканда беглецы добрались без всяких приключений. Грамота избавляла их от опасных расспросов, открывала двери караван-сараев, давала корм лошадям и еду им самим. Бежавших никто не хватился: в Бухаре их считали убывшими к войску, в войске же числили бывшими в Бухаре. Никем не заподозренные, они достигли Ходжента, мест, где власть бухарцев кончалась.
В Ходженте Ефремов и его товарищи выдали себя за купцов. На имевшиеся у них деньги купили товаров и присоединились к купеческому каравану, отправившемуся в Кашмир. Путешествие длилось тринадцать дней, а дорога пролегала по высокогорью, где, не сумев приспособиться к разреженному воздуху, умер один из русских, бежавших с Филиппом из Бухары. Они похоронили его ночью, тайно совершив христианский обряд.
По прибытии в Кашмир русские стали узнавать, как попасть оттуда в Россию – в Кашмире сходились несколько караванных путей из разных стран. Сюда купцов влекли знаменитые кашмирские ткани, здесь же был большой пригород, заселенный китайцами, торговавшими товарами своей страны. Филипп и его товарищ узнали, что из России в Кашмир тоже приходят караваны купцов-татар; с одним из таких караванов можно было бы вернуться в Россию. Однако, по здравому размышлению, они отказались от этого плана. Хорошо изучившие восточный уклад жизни, они знали, что этим путем, хоть и кажущимся прямым, на родину попасть трудно. Им вновь предстоит пройти через владения бухарцев, где их, возможно, уже ищут, но даже если и повезет, далее нужно было идти с иноверцами через степи Киргиз-кайсацкой орды, где никакие законы вообще не действовали. Их, беглых чужаков, караванщики запросто могли отдать разбойникам как плату за право прохода по степи.
Поэтому русские беглецы решили идти кружным путем, держась подальше от земель, где были в рабстве и откуда бежали. С выгодой распродав товары, они отправились в Яркенд, купили там разного другого товара и слугу-негра и с купеческим караваном отправились в Тибет. В дороге умер второй русский спутник Филиппа. Похоронив товарища, Ефремов со слугой пошел с караваном дальше. В Тибете он продал товары, но лошади у них пали, а новых купить было негде. Филипп и его слуга примкнули к трем мусульманам, шедшим в Индию. Пешком они добрались до Дели, где мусульмане от них отстали. В чужом, совершенно незнакомом городе Филипп познакомился с армянином, который пригласил его к себе в дом, накормил, приодел. После того как Филипп и его слуга немного отдохнули, армянин дал им лошадей и письмо к англиканскому священнику.
Этот священник жил на землях, где правили англичане; до него путники добирались семь дней. Он встретил Филиппа радушно, а после, угощая обедом, предупредил, что, скорее всего, им заинтересуется комендант Мидлтон, и посоветовал при встрече с комендантом, не вдаваясь особенно в географию, говорить, что он, Филипп, родом из Санкт-Петербурга, города, наверняка коменданту известного.
Священник знал, что говорил! На допросе Филипп сказал все, как учил священник, и от себя, решив, что кашу маслом не испортишь, присовокупил, что он дворянин, графа Чернышева родственник. Получив на свои вопросы уверенные ответы, комендант поспешил, от греха подальше, сбыть русского с рук долой и пообещал содействовать его отправке в Англию. Он написал письмо некоему мистеру Чемберу и направил с тем письмом Филиппа в Калькутту.
До Калькутты Ефремов в сопровождении своего негра ехал сначала посуху в повозке с огромными колесами, а потом плыл в лодке, по рекам Гангу и Джанме. Прибыв в Калькутту после долгого, но достаточно благополучного путешествия, он отыскал мистера Чембера и вручил ему письмо от коменданта Мидлтона. Но тот, прочитав послание, реагировал на него вяло и ничего не стал предпринимать, чтобы отправить русского в метрополию. Тогда, хорошо ученный жизнью, Филипп решил дать взятку, а так как денег у него уже давно не было, то он не нашел ничего лучшего, как презентовать мистеру Чемберу слугу-негра. Он, которого и самого еще недавно продавали, дарили и выменивали, был истинным сыном своего века! Получив подарок, мистер Чембер оживился, вялость его как ветром сдуло, и взамен явилась необычайная деловитость, благодаря которой вскоре Филипп был устроен на корабль, плывший в Англию. На этом судне он прошел по Индийскому океану, обогнул Африку и через четыре месяца плавания достиг берегов Ирландии. Высадившись на берег, Ефремов проехал в наемной карете через всю Ирландию в Дублин. Из Дублина на каботажном судне переправился в Англию, в Ливерпуль, а из Ливерпуля опять в наемной карете поехал в Лондон.
В Лондоне он явился для доклада русскому министру генералу Смолину. Тот, выслушав рассказ о его странствиях, велел ему отправляться морем в Петербург, где немедля явиться к тайному советнику Безбородко. В Петербурге Ефремов по приказу Безбородко составил подробнейший отчет о своем путешествии, описав многие места, где до него русскому человеку бывать еще не приходилось! Помимо собственных приключений, Ефремов, как помнил, описал животных, растения, плоды, законы, обычаи, повадки людей. Помянул города, в которых побывал, как дома строят и что едят. Сообщил, чем вооружены войска в странах, через которые проехал. Очень много внимания уделил шелководству, описав весь процесс: от разведения шелковичных червей до размотки нитей.
Сведения эти, во многом отрывочные и беспорядочные, записывались, видимо, по мере того, как «вспоминалось». Например, из нравов и обычаев Ефремов особенно отметил искусство виноделия у кашмирцев и их склонность к пьянству, весьма удивительную среди мусульманских народов.
Рапорт Ефремова изобиловал отступлениями от темы доклада, рисующими верность его присяге и христианской вере, сохраненную им, русским унтер-офицером, несмотря на долгую службу в войске хана Бухары. При этом он не без гордости упомянул, что, служа в Бухаре, достиг чина, в переводе на русские чины равного майору.
Сведения, им сообщенные, были ценны тем, что об иных местах, где ему довелось побывать, до того в России известия имелись скудные, малодостоверные, часто устаревшие, а о ряде мест вообще отсутствовали.
Об удивительном путешествии унтер-офицера было доложено императрице. Его пожаловали чином прапорщика и определили на службу в Коллегию иностранных дел «по знании им бухарского, персидского и других азиатских языков». Таким образом, годы плена и странствий были зачтены Филиппу Ефремову как проведенные на службе, а значит, ему было выплачено соответствующее содержание. Так завершилось девятилетнее «хождение через азиятския земли и моря» русского унтер-офицера.
Совсем забытый подвиг
Очередная попытка прорваться в Индию и Китай через Хиву была предпринята русской короной уже в самом конце XVIII века, в правление императора Павла Петровича. Это был, пожалуй, самый фантастический и дерзкий, к тому же совершенно необыкновенный по своей политической подоплеке план. Его вызвал к жизни весьма странный антианглийский альянс императоров Павла и Наполеона Бонапарта, строивших совместные планы нанесения мощного удара по британским владениям в Индии. Странность заключалась в том, что Наполеон был, так сказать, императором «революционным», по большому счету – узурпатором и самозванцем. Природный, «законный», наследник престола, император Павел Петрович, в принципе не должен был бы искать союза с правителем страны, чья власть порождена революционной смутой и казнью такого же, как и он, русский император, законного короля Франции, помазанника Божия.
Согласно этому плану, французские войска должны были на морских транспортах добираться до черноморских портов и оттуда скорым маршем выдвигаться на исходные рубежи для дальнейшего похода через степи и пустыни в Индию совместно с корпусом русских экспедиционных войск. Но прежде того казаки под командованием атамана Платова должны были стремительным броском достигнуть Хивы, взять ее и тем самым «открыть ворота в Индию» для союзников. В очередной раз в русских штабах заговорили о маленьком Хивинском ханстве, спасающемся от покорения только благодаря тому, что до него трудно добраться.
Но непрочный союз просуществовал недолго, со смертью императора Павла идея иссякла, а отношения между Францией и Россией свернули в совсем иное русло. Правители Хивы снова могли благодарить Аллаха за милость к ним – в Европе началась цепь войн, шедших с малыми перерывами до 1815 года, покуда не был повержен Наполеон. Да и после того было не до Хивы.
С началом XIX столетия идея пробиваться через Хиву и Бухару в Индию перестала всерьез волновать умы политиков. Утопией стала казаться сама мысль о попытке выбить англичан из их колоний в Индии, имея в тылу гигантскую степь, населенную дикими кочевниками, которые паразитировали на караванных путях. Стратегические интересы России изменились кардинально – вместо гигантских планов покорения и принятия в подданство далеких и загадочных царств встали задачи упорядочения торговли, охраны границ, расширения своего влияния в степи.
Жизнь на пограничных рубежах оставалась беспокойной: как и века назад, степные кочевники разных племен ходили в набеги на приграничные селения, грабили, а главное, уводили в полон тысячи русских крестьян. Особенно часто это случалось в летнюю пору, когда на полевые работы из приволжских губерний много людей приходило на заработки. Постоянному разорению подвергались рыбные промыслы на Каспии, лихие люди взимали беззаконную дань с купеческих караванов… Все это почти открыто поощрялось правителями Хивы и Бухары, куда степняки привозили для продажи награбленное и рабов. В этих ханствах получали укрытие от преследования русских властей разбойники всех племен, здесь же были огромные невольничьи рынки, с которых русские уходили в рабство в самые разные страны, словно все еще длилось над Русью владычество Орды.
Конечно, мириться с таким положением дел никто не собирался. Рано или поздно должно было продолжиться дальнейшее движение русских в степь, чтобы обезопасить границы, отодвинуть их от центральных районов страны в глубь Азии. Этому способствовало встречное движение англичан; интересы России и Великобритании уже столкнулись в Персии и на Кавказе, где с начала века шли непрерывные войны, в которых противоборствующими странами широко использовалась тайная дипломатия. Хива и Бухара, таким образом, становились важнейшими точками влияния на противостояние двух великих империй, но оба ханства «играли за себя», стараясь всячески ограничить свои контакты с какими бы то ни было европейцами вообще. Внутри ханств бурлили политические процессы, малопонятные европейцам, известия о тамошних событиях приходили недостоверные и противоречивые.
Купцы и беглые рабы сообщали, что в 1802 году в Хиве инак Ильтазар принял титул хана, но, в отличие от прежних «декоративных» правителей, он разогнал совет инаков и стал править самодержавно. После смерти хана Ильтазара в 1810 году ханскую власть унаследовал его сын Мухаммед- Рахим, и, таким образом, в Хиве начала складываться новая правящая династия, которая сумела упорядочить внутреннюю жизнь государства. Были выпущены в обращение золотые и серебряные монеты, заведены таможни, стали отливать пушки.
Русскому командованию было жизненно необходимо знать то, что происходит на восточном берегу Каспия, в Хиве и Бухаре. От того, кто – русские или англичане – станут «старшими братьями» для строптивых и капризных правителей этих государств, зависело очень многое в противостоянии, которое позже Редьярд Киплинг назвал «Большой игрой». Ставка в ней была все та же – Индия и Китай, а вернее, владычество на торговых путях, ведущих туда и оттуда в Европу. Для выполнения особого задания, состоявшего в проникновении в закрытые для европейцев ханства, командующий Кавказским корпусом и наместник на Кавказе генерал Ермолов избрал капитана Главного штаба Николая Николаевича Муравьева.
Этот офицер сочетал в себе многие лучшие качества военного человека. При изрядном образовании он не был «кабинетным воякой». Начав службу в 1811 году, когда ему едва исполнилось семнадцать лет, он с честью прошел Отечественную войну 1812 года и принял участие в заграничном походе. Потом последовал его перевод на Кавказ, где Муравьев служил в штабе наместника, часто выезжая на передовые линии. Человек слова и чести, прямой и деловой, Ермолов был командиром, служить под началом которого было хоть трудно, но интересно и почетно.
В июне 1819 года Ермолов вызвал к себе Муравьева и велел готовиться к дальней экспедиции. Письменный приказ гласил:
«Назначив экспедицию к туркменским берегам, все поручения, относящиеся до обитающих там, возложил я на майора и кавалера Пономарева. Вслед за ним отправляется и ваше высокоблагородие, и обязанности ваши состоят в следующем:
1) Выбор удобного места на самом берегу моря для построения крепостицы, в которой должен быть склад наших товаров. Место сие не должно быть слишком близко к владениям персидским, дабы не возбудить подозрений против нас, но и не близко к Хорасану, дабы караваны с товарами, которые впоследствии правдоподобно к нам обратятся, не подвергнуть бы нападениям хищного народа. Главное же затруднение при выборе места происходить будет от недостатка пресной воды, и на изыскание оной должно быть обращено всетщательнейшее внимание, ибо всякий другой порок в местоположении при утверждении крепостицы может быть исправлен искусством. В выборе местности должно иметь в виду самый лучший путь от него до Хивы, дабы не впасть в места непроходимые или совершенно безводные. Впрочем, если на всем пространстве будут хоть изредка источники или копани, то сего весьма достаточно для караванов…
2) Господину майору Пономареву поручено удостовериться – можно ли будет, не подвергаясь опасности, предпринять путь в Хиву? Если несколько человек лучших туркменских фамилий, взятые в залог, могут то обеспечить, то исполнение сего важного предприятия возлагаю я на ваше высокоблагородие. Господин майор Пономарев будет знать время, когда это сделать удобно, и от него зависеть будет ваше отправление. Вы получите от моего имени письмо к хивинскому хану и приличные подарки. В сношениях с ним внушить ему, что вы посланы собственно от меня, но Государю Императору донесено будет подробно о том приеме, который вам оказан будет; впрочем, не смел бы я отправить вас, если бы не знал, что Великий Государь Российский желает дружбы и доброго согласия между нашими народами…
3) Если невозможно будет предпринять путь в Хиву, определенный при экспедиции армянин Петрович, имеющий знакомства между туркменами, доставит вам случай быть между ними, и вам поручаю употребить старание изведать: А) Какие силы сего народа в военном отношении? Какого рода употребляется между ними оружие? Не имеют ли они недостатка в порохе? Имеют ли понятие об артиллерии и желали бы употреблять оную в войнах против соседей? Можно ли будет из них самих в короткий срок составить артиллерийскую прислугу для некоторого числа орудий? Б) Исследовать расположенность туркмен к персиянам. Прошлая война дала многие случаи заключить о существующей между ними вражде. В) Каково отношение туркмен к жителям Хорасана и нет ли между ними вражды, обычной между соседями? Принимали ли туркмены участие в войне Хорасана против Персии? Помогают ли хорасанцам избавиться от ига персидского? И какое именно пособие дают и что служит условием для него?..»
Первый этап экспедиции был сухопутным – майор Пономарев и капитан Муравьев добрались до Баку, где их поджидали назначенные в поход суда: двадцатипушечный корвет «Казань», пришедший из Астрахани, и купеческой постройки шкоут «Поликарп». Пока суда грузились и комплектовались командой, Муравьев не без интереса осматривал Баку, совсем недавно перешедший под власть русской короны. В его дневнике сохранилось много разных заметок по поводу увиденного, и в числе прочего подробно описано посещение им зорхана – «дома силы». «Я зашел в зорхан, или здешнее училище бойцов, – пишет Муравьев в дневнике, – и меня сразу же ошиб тяжелый дух пота, градом струившегося с 10 учеников, раздетых наголо, лишь подвязанных платком. Они находились в глубокой яме, где с ними находился и учитель. Ловкость и проворство этих людей невероятны! Я бросил им рубль серебром, и они порядком расходились. Учитель их, который у них в большом уважении, кричит, поправляя их в борьбе, показывает правила, а ученики после каждого наставления кланяются учителю в ноги и целуют ему руку. Самым запоминающимся было то, как они под звук барабанов и бубнов схватили толстые и тяжелые дубины, выточенные с рукоятями, и стали оными двигать над головами и за плечами, но так искусно, скоро и долго, что я изумился. Зрелище сие похоже на пляску дьяволов в аду, как ее представляют на театре, давая “Дон-Жуана”. При этом один или двое кричали во весь голос магометанские молитвы, другие пели персидские песни. Все бывшие в зорхане зрители хлопали в ладоши, били в барабаны и бубны. Один голый боец схватил огромный лук с железной тетивой, обвешанный кольцами и колокольчиками, крича, стал плясать, ударяя себя сим орудием, делая самые ужасные телодвижения. Шум, крики, стук, пение, все это вместе производило весьма странную гармонию. Постепенно заданный шумом ритм ускорялся, и бойцы от него не отставали в своих упражнениях, пока, наконец, эта музыка не сделалась такой скорой, что и сам учитель уже стал едва поспевать за нею, ворочая своею палицей. Обычай сей существует давно в Азербайджанских краях, и мне кажется, что он весьма полезен – развивает человека, который от сего приобретает силу. Уроки сии продолжаются 40 дней кряду, после которого времени ученик приходит в большое расслабление. Окончив курс учения, он поправляется умеренной пищей, и буде захочет опять припасть к этому занятию, опять 40 дней учится. Говорят, что в Баку (у Муравьева написано “в Баке”. – В. Я.) есть пять таких зорханов – весьма обширных».
18 июля суда экспедиции отчалили от пристани Баку и пошли к туркменскому берегу. Как оказалось, Муравьев плохо переносил качку, но, мучаясь от приступов морской болезни и прочих неудобств жизни на судне, он терпеливо все переносил. Через десять дней корабли подошли к восточному берегу Каспия – совершенно пустынному, безлюдному куску соляной пустыни. С мачты осматривали окрестности в подзорную трубу и где-то совсем далеко рассмотрели, как показалось, туркменское стойбище. Туда на баркасе решили отправить армянина Петровича, имевшего с туркменами торговые дела. С борта корвета спустили еще несколько баркасов, и на них отряд под командой Муравьева отправился обследовать неизвестный берег. Высадившись на сушу, они долго ходили по округе, стараясь найти пресную воду. Но на десятки верст вокруг и в глубь берега были лишь песчаные барханы и соляные озера с кристаллизованной солью, блестевшей под ярким солнцем по берегам. Никто не знал, как здесь нужно жить, что можно, чего нельзя. Судовой кок взял да и посолил обед «дармовой солью», а через два часа всю команду уже «несло» – соль оказалась «не та» и действовала как мощное слабительное.
Пеший отряд решил пройти по берегу к тому месту, где виднелись признаки человеческого жилья. Выступили в поход сам Муравьев, Петрович, матрос Агеев, раньше бывавший в этих краях, и четверо матросов с «Казани». У всех были ружья и припасы, которые каждый нес сам. Параллельно берегу морем шел на баркасе лейтенант Юрьев с гребцами. Отряд скоро наткнулся на следы верблюжьих копыт и босых человеческих ног и, следуя им, прошел верст с пятнадцать, дойдя до самого того места, которое приметили в подзорную трубу. Оказалось, что это стог сухой травы, в который воткнута большая жердь. Было от чего огорчиться – целый день ходьбы под палящим солнцем был потрачен впустую. К тому же стало ясно, что вернуться на корвет сразу не удастся: поднявшийся сильный ветер гнал волну на берег и загнал их баркас к берегу, где и пришлось заночевать. От этого места отправили далее на север Петровича, а сами стали лагерем. Опасаясь нападения туркмен, Муравьев выставил сменный караул с двумя Фальконетами – артиллерийскими орудиями малого калибра, – которые сняли с баркаса. Поздно вечером в лагерь вернулся Петрович, который, пройдя берегом, не встретил ни единой живой души. Отряд вернулся на корвет практически ни с чем.
Зато уже утром следующего дня им повезло: дежуривший на мачте матрос в подзорную трубу заметил несколько туркменских лодок-киржамов. Лодки развернулись и, пользуясь попутным ветром, попытались уйти. Вслед им пальнули ядром, которое перелетело шедший первым киржам. Тем временем с корвета спустили лодку, в которую уселась вооруженная команда; в нее вошел и Петрович, хорошо говоривший по-туркменски. Матросы приналегли на весла, а корвет, снявшись с якоря, своими маневрами перекрыл одному из киржамов путь в море. Туркменское судно пристало к берегу, с него соскочили и побежали врассыпную несколько человек. Матросы тоже направились к берегу и бросились за ними в погоню. Тех, кого настигли, схватили, и подоспевший Петрович стал по-туркменски уверять плененных, что с ними ничего плохого не сделают. Среди пойманных был, как оказалось, и хозяин киржама – 57-летний Давлет-Али, которого матросы отвезли с собою на корвет. Туркмена отменно угостили и разговаривали с ним ласково, но он был грустен и насторожен. Давлет-Али рассказал, что живет в стойбище, подчиняющемся некоему Киату-аге. В их селении до двух сотен кибиток, и недалеко от него протекает река Гюргенчай, вода в которой пресная. От них до Астрабада день езды, а до Хивы пятнадцать, и с этими городами постоянно поддерживаются отношения. Затруднения встретились, когда у Давлета-Али попытались узнать, кто среди туркмен самый больший начальник? Он просто не понимал, что может существовать какая-то центральная власть – ее у туркмен никогда не было. Они жили племенами, во главе каждого из которых был свой старшина, а все старшины подчинялись главному из них – Киату.
Убедив-таки своего гостя в том, что ни ему, ни его племени русские не желают зла, Муравьев и Пономарев уговорили Давлет-Али проводить к Киату-аге Петровича, и корвет пошел к берегу, к так называемому Серебряному бугру, где раскинулось стойбище, в котором жил Давлет.
На следующий день Петрович отбыл для переговоров, а Муравьев отправился осматривать реку Гюрген-чай, устье которой находилось примерно в трех верстах от Серебряного бугра. Речка эта протекала по болотистой местности, лишь в нескольких местах имея сухие берега. В одном из таких мест был устроен брод, которым пользовались для перегона скота и переезда людей. Рядом с бродом стоял небольшой туркменский аул, с жителями которого через сопровождавшего его туркменского толмача Муравьев разговорился, пытаясь выяснить, как туркмены отнесутся к тому, что русские сюда придут большим числом. Туркмены отвечали неопределенно, но, как оказалось, были совсем не против того, чтобы русские восстановили древнюю крепость, руины которой лежали возле Серебряного бугра, – там туркмены могли бы укрываться от карательных экспедиций персов, которые регулярно навещали их после столь же регулярных набегов туркмен на персидские владения.
Утром 6 августа вернулся Петрович и с ним Киат-ага. Это была довольно примечательная личность. В 1812-1813 годах он был в составе посольства от туркменских племен к наместнику в Грузии Ртищеву. Тогда шла война с Персией, и Ртищев делал ставку на набеги туркмен, представлявших всегда мощную, хотя и плохо организованную военную силу, терзавшую северо-восточные провинции Персии. Посольство это было крайне неудачным – к тому моменту, когда туркменские старшины добрались до Тифлиса, между воюющими сторонами начались переговоры о мире, одним из главных условий которых с персидской стороны было удаление туркменского посольства. Ртищев распорядился богато одарить туркмен и отправил их обратно, что по понятиям восточной дипломатии граничило с оскорблением. Посему Киат-ага держался довольно холодно. Он даже не хотел начинать переговоры, твердя, что однажды туркмены уже пробовали договариваться с русскими, да, дескать, ничего не вышло…
Но дорогие подарки побороли неуступчивость Киата, а щедрые посулы вернули ему веру в слово русского офицера. К концу переговоров он «поступился принципами» и уже был согласен проводить русских к себе в Чимкени, где у него было много родственников и где было удобно вести переговоры с остальными старшинами. По словам Киата, от его Чимкени до Хивы было пятнадцать дней ходу…
Переговоры с туркменскими старшинами шли ни шатко ни валко: приезжали они по отдельности, с удовольствием ели и пили, охотно принимали подарки, ни да ни нет не говорили, а главное – невозможно было понять, кого именно они представляют и какова их реальная власть. На самые элементарные вопросы они либо не хотели, либо не могли ответить.
В своем дневнике Муравьев писал: «С таким бестолковым народом каши не сваришь! Точно можно лишь сказать, что туркмены не расположены к персиянам, которых грабят, и те их грабят в свою очередь. Правительство наше, кажется мне, должно бы без всяких переговоров, избрав на берегу удобное место, не спрашивая никого, начать строение крепости, и, назвав одного из старшин туркменских ханом, поддерживать его. Могут ли быть средства для переговоров с народом жадным, который едва повинуется своим старшинам, коим нет числа?»
В своих предпочтениях, кого ставить ханом у туркмен, капитан уже определился. Рассмотрев во время переговоров старшин, он счел, что даже самые умные из них «на переговоры приезжают только для того, чтобы нажраться до отвала плова и получить подарки» и готовы брать деньги от любого, кто предложит. Надежнее всех и смышленей ему показался Киат-ага.
Именно Киат наиболее связно рассказал о том, что туркмены делятся на три племени. Те, что живут на побережье, называются иомудами – их набирается около 40 тысяч семейств. С ними граничит племя кекленов, земли которых тянутся до Хорасана. Туркмены племени теке насчитывают свыше 50 тысяч семейств; они живут к северу от кеклен, к востоку от иомудов, на юг от Хивы, к западу от Бухары. Иомуды находятся с теке во вражде: они друг у друга похищают людей и торгуют ими.
Киат регулярно сообщал об опасностях, поджидавших русских. Так, он предупредил, чтобы русские проявляли осторожность, так как в аулах, расположенных выше по реке, замечены персидские лазутчики, предлагающие туркменам деньги за то, чтобы они, засев в камышах, отстреливали русских из водоносной команды, наконец, потеряв терпение и не видя проку в дальнейшем затягивании пустых переговоров, Пономарев предпринял решительные меры. Он зазвал на борт корвета наиболее надежных из старшин и предложил им дать Киату доверенность вести переговоры от лица племен и выдать посольские письма к нему, Пономареву, и к наместнику Ермолову. После этого разговора были составлены письма. В них содержалась просьба от лица туркмен к русскому правительству о помощи против персов и выражалось «душевное удовольствие представить избрание удобных мест для построения по всему берегу, от Серебряного бугра до Балканского залива, мест для складывания товаров».
В конце августа корвет «Казань» прибыл к Гассан-Кули, родному аулу Киата. Жители Гассан-Кули выделывали отличные ковры и строили киржамы. В честь гостей Киат устроил состязания местных молодцов, на которых воины стреляли из луков, скакали, бегали, боролись. Призовые деньги щедрой рукой раздавал майор Пономарев.
О жителях Гассан-Кули в заметках Муравьева сказано, что ружья у них персидские, а порох свой, очень плохой, потому выстрелы получаются слабые. «Жизнь они ведут праздную, получая доходы от продажи нефти и соли в Персию. Нефть берут на нефтяном острове, примерно по 2 тыс. пудов в год. Соляные копи и нефтяные промыслы принадлежат балханским жителям, но гассан-кулинцы, имея большое количество киржамов, зарабатывают на перевозе этих товаров в Персию, скупая его у добытчиков».
К месту стоянки корвета, в Гассан-Кули, прибыл кази – духовный глава туркмен, за которым особо посылали Петровича. Кази оказался совсем молодым человеком, тем не менее он пользовался большим доверием местных жителей. Подарки, поднесенные офицерами кази, очень его расположили к русским, и это расположение передалось туркменам. Таким образом, исчезли все препятствия к выполнению задуманного русскими плана. 29 августа 1819 года на собрании туркменских старшин Киат-ага был объявлен туркменским послом. Перед собранием «почтенным людям», от которых зависело решение дела, было обещано немало даров – как вскоре выяснилось, больше, чем могли дать на самом деле, и потому при раздаче не обошлось без обид: двое старшин, Иль-Магомет и Гелу-хан, сочли подарки недостаточными и отказались принять их. Пономарев пробовал их уговорить, но старшины упорствовали. Тогда майор, выйдя из себя, изругал «почтенных людей» последними словами на все лады, и те вдруг присмирели, утратив спесь и гордость, стали смирнее овечек и подарки приняли с поклонами. Это дало повод Муравьеву свои заметки пополнить следующим замечанием: «Сие средство необходимо нужно при обращении с азиятцами. Глупый народ сей робок перед тем, кто бойчее его, хотя бы и самое большое превосходство сил на их стороне было».
В начале сентября корвет совершил переход до Красноводского залива, став на якорь в виду кочевья на берегу. Здесь со дня на день ждали караван, шедший в Хиву с грузом ковров и рыбьего клея. Муравьев надеялся, что с ним явится проводник, который доставит его в Хиву. 13 сентября караван пришел. Муравьев стал спешно укладывать вещи, нанимать верблюдов и лошадей. С первым проводником не сошлись в цене, но он привел своего товарища по имени Сеид, с которым поладили.
Пономарев заготовил для капитана письма к хивинскому хану, в которых Муравьев, офицер Главного штаба, выдавался за чиновника русской таможенной службы, имевшего поручение сообщить правителю Хивы, что высадка русских на туркменский берег произведена по приказанию наместника Ермолова «с целью заведения торговых сношений с туркменскими племенами». «Таможенный чиновник» должен был предложить хану присылать хивинских купцов с товарами к туркменскому берегу и, таким образом, покончить с опасностями торгового пути через киргизские владения. Чтобы окончательно устроить это дело, капитану предписывалось добиваться от хана присылки посла к Пономареву, который собирался ждать его возвращения в Балканском заливе. Были оговорены тайные знаки: если после одной из строк письма Муравьев ставил короткую черточку, это означало, что все в порядке; длинная черта сообщала: «Дела не очень хорошие»; волнистая линия значила полную неудачу и крах предприятия.
Муравьев и Петрович, шедший вместе с ним, решили взять только верблюдов – лошадей, да и то плохоньких, им предложили по слишком высокой цене. Когда все было готово, 18 сентября вечером Муравьев съехал на берег и переночевал в туркменской кибитке. В последнюю ночь перед выходом он написал в дневнике: «Я имею весьма мало надежды на возвращение, но довольно спокоен, ибо уже сделал первый шаг к исполнению той трудной обязанности, которую взял на себя и без исполнения которой, мне кажется, я не имею права показаться перед главнокомандующим, перед знакомыми и товарищами моими».
С этого момента все свои записи он вел в особой тетради, шифруя их способом простым и в то же время, надежным: смешивая три иностранных языка в каждой строке. Делалось это в расчете на то, что если эта тетрадь попадет в руки хивинцев, то даже при помощи русских невольников они вряд ли сумеют разобраться в этой тарабарщине. Эти записи и послужили основой для описания приключений капитана и его спутника.
Утром 19 сентября Муравьев, Петрович и денщик капитана Морозов отправились к кочевью у колодца Суджи-Кабил. Сеид выслал навстречу им четырех родственников с верблюдами, и этим караваном, в сопровождении Киата, взявшегося их проводить, выступили они в степь. Муравьев был хорошо снаряжен для перехода; в вопросах безопасности он полагался не на многочисленную охрану, зная по опыту, что в иных моментах от нее мало проку, а надеялся на свою решительность и удаль, подкрепленные отличным штуцером, пистолетами, кинжалом и шашкой, с которыми он никогда не расставался.
По запискам Муравьева заметно, как постепенно, тесно общаясь с туркменами, он менял мнение о них, впрочем, скорее с удивлением, нежели радостью. «Нрав Сеида, – пишет он, – можно назвать во многом лучшим из туркмен известных мне. Он был груб в обращении, не весьма дальновиден, но постоянен, решителен и храбр. Он отличный наездник и славился разбоями, которые производил в Персии. Порой совершал прекрасные поступки, другие же его дела столь поистине гнусны, словно их совершали двое разных людей! Про Сеида рассказывают, что когда ему было 16 лет, он с отцом в степи наткнулся на толпу враждебных его племени текинцев. У отца был прекрасный конь, а лошадь Сеида еле тащилась. Отец спрыгнул наземь и велел ему пересесть и спасаться, говоря, что пожил уже достаточно, а он еще молод и сможет поддержать семью. Но Сеид выхватил саблю и велел ехать отцу: “А если не хочешь, – крикнул он, – так погибнем оба!”
Тогда они решили бежать порознь, и им удалось ускользнуть в спасительной темноте скоро наступившего вечера. Потом, в родном кочевье, родной отец признал, что юный Сеид превзошел его самого. Я нахожу, что нравы здешних туркмен гораздо лучше тех, которые я видел на берегу».
Караван насчитывал семнадцать верблюдов; большая их часть принадлежала родне Сеида, которая, пользуясь такой оказией, решила в Хиве закупить хлеба. Верблюды были связаны один с другим и тянулись длинной цепочкой. На передовом ехала курдская женщина Фатима, полонянка, двенадцать лет кочевавшая с туркменами. Будучи наложницей в доме отца Сеида, она взбунтовалась и потребовала, чтобы ее продали в Хиву, где ей, возможно, повезет в жизни больше. Свои настойчивые просьбы курдянка подкрепила попыткой броситься в колодец, при этом она кричала, что за нее мертвую туркмены не получат ни гроша. Теперь Фатиму везли на продажу. Вернее, это она днем и ночью вела караван без сна и почти без пищи. На привалах в ее обязанность входило пасти и спутывать верблюдов, печь лепешки в горячей золе. Спать ей не давали караванщики, не упускавшие случая поразвлечься с рабыней. В своем дневнике Муравьев заметил: «Что сия женщина перенесла дорогой, почти невероятно!»
Постепенно к каравану Сеида присоединялись туркмены из других кочевий, и в том числе караван Геким-Али-бая, недруга Сеида. Натянутые отношения между участниками общего каравана заставляли капитан держаться постоянно начеку. Свою стоянку капитан устраивал на некотором удалении от общей, раскладывая тюки «вроде равелина» и всегда держа оружие в готовности. Он опасался Геким-Али-бая, и не напрасно, тот за ним явно присматривал и проведал, что капитан ведет записи. По каравану пошел слух, что Муравьев вовсе не таможенник, а разведчик, но капитан, умело интригуя, очень скоро перессорил между собой караванщиков, прибегавших к нему как к третейскому судье, роль которого ему досталась после того, как он поразил их своею мудростью. Во время ночевки в степи случилось лунное затмение; суеверные караванщики напугались, а капитан успокоил их и даже прочитал целую лекцию о движении небесных светил. Его слушатели ничего не поняли, но испытали восторг перед его познаниями, как это часто бывает с людьми темными, которые тем более уважают личность рассказчика, чем менее понимают смысл рассказа. «Ты точно посланник, а не шпион, сказали они мне, – записал в своем дневнике капитан. – Видно, что ты человек избранный, которому известно не только то, что делается на земле, но даже и то, что происходит на небесах».
Странствуя с караваном по степи и горам, капитан видел немало любопытного. На их пути попадались древние кладбища с монументами, выточенными из ракушечника, колодцы по 40 локтей глубины, выложенные камнем, следы строений, полуразрушенных, но некогда мощных, объяснить происхождение которых никто из туркмен не мог. О них ничего не знали даже самые древние старики. Слишком давно были вырыты колодцы, построены стены и установлены монументы.
Через день пути они встретили большой, в тысячу верблюдов, караван, шедший из Хивы. Вели его туркмены из племени игдыров. Муравьев ехал в туркменской одежде, и те несколько слов по-туркменски, которые были ему известны, дополняли маскировку; для посторонних он был Мурадбеком из рода Джафар-бая – это избавляло от лишних вопросов. Но в этот раз избежать вопросов не удалось; встреченные караванщики распознали русских и стали спрашивать: кто такие, куда едут? Люди Сеида отвечали: «Это наши русские, беглые из Хивы. Мы поймали их на берегу, теперь везем обратно».
Пожелав друг другу доброго пути, два каравана разошлись. Сеид и его караванщики перевели дух: за жизнь посланника они отвечали перед русскими своими головами и жизнью близких, оставшихся в прибрежных селениях, а погибни хоть один игдыр, это было бы началом туркменской междоусобицы; радость же Муравьева и его спутников объяснять совершенно излишне.
Люди из повстречавшегося им на следующий день каравана, также шедшего из Хивы, рассказали, что хан положил новую пошлину для туркмен – по одному тилли (4 рубля серебром) с каждого верблюда в караване. Когда туркмены воспротивились этому, хан приказал задерживать караваны в Ак-Сарае, куда решил прибыть лично, чтобы переговорить с туркменскими старшинами, выслушать их просьбы и принять подарки. По слухам, хан уже выехал из Хивы в Ак-Сарай.
После ночевки караван, с которым шли русские, разделился – от этого места дороги расходились, ведя в разные места Хивинского ханства, где можно было закупить хлеба. Тяжелейший переход был, в сущности, завершен. Капитан вымотался, так как в отличие от туркмен не умел спать, сидя на верблюде; несколько раз задремав, он едва не упал на землю. Ночные же стоянки были коротки и тревожны – спать приходилось вполглаза, сжимая штуцер, изготовленный к стрельбе, во всякое время будучи готовым к появлению визитеров то ли из степи, то ли от соседнего костра. Вся одежда его пропылилась и пропахла потом, дрянная вода из колодцев в степи надоела, наконец, радовало то, что пришли они в места, населенные людьми.
Эту страну опутывали водопроводные каналы, на их берегах стояли селения. Земля была тщательно возделана и засажена полезными культурами, всюду были разбиты плодовые сады. Муравьева поразил вкус огромных, более полуаршина, дынь и сладких арбузов и винограда, он признался, что вкуснее этих плодов и фруктов не пробовал. Также отметил капитан, что у хивинцев сильно развито скотоводство: много рогатого скота, необыкновенной величины бараны, но особенно ему понравились кони. «Лошади в Хиве отличные, – писал он, – но говорят, того еще лучше те, которых приводят туркмены с Артека и Гюргена. То, что они выносят, неимоверно: когда туркмены идут на грабеж-“баранту” в Персию, то случается, более недели ездят по сотне с лишком верст в сутки в безводных степях и пустынях. Кони их бывают по четыре дня без воды и пищи другой не имеют, кроме как нескольких пригоршней зерна джюгана, напоминающего кукурузу, запас которого везут на тех же лошадях».
Оставшийся в одиночестве отряд Сеида пошел далее и остановился на ночевку самостоятельным лагерем. Люди держались настороженно, так как в этих местах случались ночные нападения разбойников, но беда пришла утром и не от людей. На рассвете солнце оказалось затянуто каким-то странным туманом, который вскоре обернулся песчаной бурей, накрывшей лагерь. «Мигом наши глаза, уши, рты наполнились песком, который сек лицо жесточее всякой ледяной метели, – писал капитан. – Верблюды отворачивали морды, и песчаный туман был так плотен, что не видно было предметов находящихся совсем близко. Сквозь эту бурю караван шел 10 верст, к месту стоянки, намеченной Сеидом. Это были кибитки туркмен-иомудов из рода Куджук-татар, из племени Кырык, старшиной которого был Атаниас-Мерген».
Этот старшина понравился капитану более других туркмен, превзойдя в его глазах даже Киата. Атаниас-Мерген со своим кочевьем давно переселился во владения хивинских ханов и считался состоящим на хивинской службе. Раз в неделю он ездил на поклон к хану, а в случае нужды выводил воинов своего кочевья в поход под его знаменами. Атаниас-Мерген приказал зарезать самого лучшего барана и приготовить плов для гостей, а Муравьева пригласил к себе в кибитку.
За трапезой он рассказал капитану, что все его уловки с маскировкой были напрасны и весть о том, что с побережья в Хиву пробирается русский посланник, достигла ханского дворца еще несколько дней назад. Поэтому он отсоветовал посылать в Хиву Петровича, чтобы тот известил о прибытии посланника, а рекомендовал ехать в город самому и, как тут принято, во дворе ханского дворца объявить себя. Сомневаясь в пользе таких наставлений, Муравьев, видя, что даны они от чистого сердца, сердечно благодарил своего гостеприимного хозяина.
Утром, отменно отдохнув, караван тронулся далее, и еще через сутки они дошли до селения, в котором жили родственники Сеида. То, что открылось взору Муравьева по дороге, совершенно поразило его: «Я видел возрастающую обработанное^ земли, поля с богатейшими жатвами поражали противоположностью всего того, что я видел за эти дни прежде. Едва ли в самой Германии видел я такое тщание в обрабатывании полей, как в Хиве. Все дома были обведены каналами, над которыми были наведены мостики. Я ехал мимо прекрасных лужаек, между плодовыми деревьями, множество птиц увеселяли меня своим пением. Глиняные дома и кибитки, рассыпанные по этим местам, представляли весьма приятное зрелище. Я спросил у проводников своих: зачем вы сами не обрабатываете землю, или если их земля не столь плодородна, то почему они не переселяются в Хиву? “Посол, – отвечали они мне с достоинством, – мы господа, а они наши работники. Они боятся хана своего, а мы, кроме Аллаха, не боимся никого!” Тем не менее туркмен в этих краях живет много. Они ловчее в обращении и одеты много лучше тех, которых я знал прежде. По пути, совсем рядом с домом родственника Сеида, нам встретилась туркменская свадьба. Разряженная красавица ехала на большом верблюде, покрытом шелковыми попонами».
Посла встретили радушно, ему отвели особую комнату в доме – «маленькую и грязную, впрочем, как и все остальные». Там он переоделся и умылся перед разговором со старшинами, во время которого выяснилось, что слухи в степи врали – хан еще и не думал выезжать из Хивы. Тогда по просьбе Муравьева старейшины отправили двух гонцов: одного в Хиву с известием хану, что прибыл русский посол, а другого с аналогичным известием в Ак-Сарай. Проводники на все лады расхваливали перед своими родственниками «русского посла», особенно отмечали его большую ученость и не раз повторили то, что сам Муравьев предпочел бы оставить в тайне, – как он тщательно измерял глубину колодцев в степи, записывал расстояния между ними, примечал все подробности пути. Это потом сыграло против капитана в Хиве.
К вечеру того же дня из Хивы прибыл туркменский старшина Берди-хан, состоявший на ханской службе. При встрече с капитаном он прежде всего попросил стакан водки, выпил его единым духом и, немного поговорив с Муравьевым о хане, рассказал, что в 1812 году он служил у персов, воевал с русскими, был ранен и взят в плен. Потом два года служил у генерала J1 исаневича, но сбежал в Хиву. После этого Берди-хан откланялся и уехал столь же внезапно, как и появился. Больше его капитан никогда не видел.
Около полуночи Муравьева разбудили и доложили, что из Хивы прибыл чиновник от хана и желает видеть посла немедленно. В комнату тут же вошел молодой человек, назвался Абдуллой и бесцеремонно присел возле его постели. Ночной гость начал расспрашивать капитана о цели приезда, но тот отвечал, что расскажет об этом самому хану или тому, кого хан назначит вести с ним переговоры, сказав только, что имеет к хану письма от высокопоставленных особ. Абдулла с удивлением спросил: «Вы в самом деле служите Белому Царю?» – и попросил чаю. Капитан ответил, что в полночь он чай не пьет, а потому просил Абдуллу выйти вон и оставить его в покое. После визита любителя водки он был насторожен в отношении гостей и не прогадал. Позже выяснилось, что Абдуллу никто не посылал к нему; это был сын важной хивинской персоны, который, проезжая мимо Ак-Сарая по своим делам, пожелал узнать, что там за посол приехал, да рассчитывал получить от него подарок.
Выехать в Хиву капитану и его людям удалось только 6 октября. Вырвавшись из объятий восточного гостеприимства, маленький кортеж русского посланника проделал восемь верст, как его нагнал всадник. Он привез им указание остановиться и ждать чиновников хана, отправленных накануне.
Действительно, вскоре их нагнали чиновники, ехавшие верхами, со свитою из четырех нукеров. Старшим из них был Атчанар-аллаверди, низенький человек, лет шестидесяти на вид, с длинной седой бородой. В своих записках капитан охарактеризовал его так: «Он смотрелся сущей обезьяной, немного заикался, хотя и говорил скоро. Из всякого его слова видно было в нем мерзкого и пустого старикашку, алчного к деньгам». Второй чиновник был высок ростом, тучен, с маленькой бородкой, звали его Ешнезер. В противоположность Атчанару он имел благородные манеры, а речь его отличалась сдержанностью. Ешнезеру было около тридцати лет, состоял он в звании «юзбаши», то есть сотника.
Позже Муравьев узнал, что Атчанар был не хивинец по рождению, а перс; еще ребенком туркмены угнали его во время набега и продали в Хиве. Здесь он женился, у него родились и выросли дети, и его старший сын стал отважным воином. Однажды молодой нукер вместе с ханом попал в плен к бухарцам, но ночью сумел освободить своего повелителя. Хан приблизил его к себе и назначил на важную должность в ханстве, сделав ходжаш-мегремом – сборщиком податей и начальником таможни. Пользуясь случаем, ходжаш-мегрем помог выйти в люди всей родне, устроив их на выгодные места. Сам же любимец хана был осыпан дарами, заключавшимися в основном в наделах земли и водоводных арыках, что в засушливой стране было выгоднее обладания золотом. Таким образом их семья стала одной из самых богатых в Хиве, она вела большие торговые дела в разных странах, и в том числе с Россией, торгуя в Астрахани.
После взаимных приветствий и представлений ханские гонцы передали Муравьеву волю своего владыки: русскому посланнику надлежало следовать в Иль-Гельди, где все готово к его приему, и там дожидаться дальнейших распоряжений хана Мухаммед-Рахима.
Иль-Гельди была небольшой крепостью, принадлежавшей не хану, а семейству ходжаш-мегрема. Это была своеобразная помесь загородного поместья и фортификационного сооружения, обычного в этих беспокойных местах. Селение окружали стены в три с половиной сажени вышиной (более пяти метров), выстроенные из глины, смешанной с камнем. Четыре боевые башни располагались по углам крепостицы, длина стен между ними с каждой стороны не превышала двадцати пяти саженей. Внутри Иль-Гельди имелись бассейн, несколько дворов, стойла для скота, кладовые, мельница и жилые помещения. В крепости имелся постоянный гарнизон в шестьдесят воинов, живших вместе с семьями, которые помещались в жилых комнатах и кибитках, стоявших во дворе. Такой замок не был данью роскоши в ханстве, где то и дело происходили возмущения и междоусобицы и нередки были набеги киргизов, аральцев и тех же туркмен. В подобном укреплении семья богатого хивинца, запершись вместе со своими нукерами, рабами и слугами, могла продержаться довольно долго, а так как искусством правильной осады кочевники не обладали, это было настоящим спасением от грабежа и гибели.
Гостей встречал брат ходжаш-мергема, еще один сын Атчанара – Сеид-Назар. Он был помощником у брата, состоя вторым лицом в хивинской таможне. Как и все в его семействе, он, перс по крови, отличался от хивинцев чертами лица и длинной бородой, редкой у коренных жителей этих мест. Про него говорили, что он, как и все в его семье, очень алчен к деньгам («что свойственно таможенникам всех царств на свете», – подметил в дневнике капитан). Кроме того, всем в Хиве был известен его крутой норов, но в тот день Сеид- Назар был сама любезность: передав Муравьеву поклон от хана, он угощал прекрасным пловом и фруктами, поил чаем с сахаром, что по хивинским меркам было верхом роскоши. За трапезой капитана уверяли, что в крепости ему гостить не долго – хан скоро призовет его в столицу. Весьма довольный ходом дел, капитан расположился в отведенной ему комнате, более всего походившей на чулан, но ждать от хивинцев, которые сами жили в подобных помещениях, предоставления более комфортабельного жилья не приходилось.
Минул день, за ним другой, третий… За капитаном никто не ехал из Хивы. Правда, на второй день его пребывания в Иль- Гельди оттуда прибыл третий сын Атчанара, Якуб, но он /тишь повторил, что посла вот-вот позовут. Капитан не знал, что его визит здорово напугал хана, не знавшего ничего, кроме своего маленького государства да степей вокруг. Впереди шедшего от побережья Каспия каравана летели самые фантастические слухи! Сначала говорили, что русский посол везет четыре мешка золотых червонцев в качестве подарка хану, но этот слух продержался недолго. Гораздо больше поверили доносам туркменских караванщиков, шедших с караваном Сеида и Муравьева, которые, желая заслужить освобождение от пошлин, сразу же по прибытии сообщили, что русский – это лазутчик, который все записывает да примечает. Это было еще полбеды – хан и без того понимал, что все послы в той или иной степени шпионы. Настоящей бедой стало выведенное из этого факта умозаключение, что русские высадились на туркменский берег, имея целью начать поход на Хиву, дабы отомстить за кровь отряда князя Черкасского. Уже более века хивинские правители терзались страхом перед возможной местью, и любой намек на нее заставлял совершать новые преступления, только бы отдалить час расплаты.
Наконец из Хивы приехал служитель таможни Якуб-бай, посланный от хана, дабы узнать о намерениях посла. Он потребовал передать ему письма и бумаги. Это возмутило Муравьева до крайности, и, вспылив, он стал кричать на Якуба, что послан не к нему, а к хану и, стало быть, сам вручит ему письма, но коли тот не желает принять русского посла, так пусть отправит его обратно. Рассерженный этой отповедью, Якуб-бай убрался восвояси, а для капитана опять потянулись дни бездействия и неизвестности.
Появился слух, что хан выехал в степь на охоту и вернется не ранее чем через две недели. Муравьев попросил у Атчанара лошадку, дабы размяться, проскакав по степи, но тот сказал, что капитану запрещено покидать пределы замка. Внутри же его держали вольно: он мог выходить в сад, гулять во дворе. Но постепенно режим стал ужесточаться, и содержать его стали много хуже. Пакостный Атчанар, отец богатейшего и могущественного в Хиве человека, воровал все, что было можно, и всячески отжуливал от тех денег, что даны были для прокорма капитана; самого Муравьева на рынок не пускали, и потому питаться он стал плохо. Потом ему перестали давать дрова для отопления и варки пищи. В комнату даже днем сажали двух сторожей, а ночью у порога комнаты спал караульный, миновать которого, не разбудив, было невозможно. Отрадой ему были прогулки в садике, где он перечитывал захваченную с собою «Илиаду». Надежных сведений взять ему было неоткуда, но слухи были один тревожнее другого. Передавали ему их туркмены, бывавшие на людях, и хивинцы, которых он потихоньку попаивал водочкой, но основными информаторами стали русские невольники.
У семьи главы хивинской таможни было семеро русских рабов. В Иль-Гильди жил один, по имени Давыд, остальные находились в Хиве или иных поместьях. Этот Давыд попал в плен еще совсем мальчишкой, лет четырнадцати, а к тому времени, когда его встретил капитан, ему уже было около тридцати. Его похитили киргизы около Троицкой крепости на Оренбургской линии и продали в Хиву, где он несколько раз сменил хозяев. Атчанар всячески старался не допустить контакта Давыда и Муравьева, но невольник через Петровича передал послу просьбу вывезти его из Хивы. Муравьев обещал похлопотать, но за это приказал вызнавать то, что происходит в Хиве, и сообщать ему через того же Петровича.
Давыд оказался довольно смышленым, к тому же у него имелись многочисленные знакомства в городе, в основном среди русских, принявших ислам, женившихся и сумевших выкупиться на волю. Обычно для этого невольники, получавшие около двух пудов муки на месяц, экономили и продавали излишки пайка, а кроме того, пополняли свои сбережения воровством. Собрав ту сумму, за которую они были куплены, они могли выкупиться, но только при условии, что останутся в Хиве. Покидать город им запрещалось под страхом смерти.
За незначительные подарки кое-что рассказывали и персидские невольники. От них Муравьев узнал, что у хана собирались знатные узбеки и держали совет, как поступить с послом. Хан, которому донесли о записях, ведшихся в пути капитаном, считал его лазутчиком; он вызвал туркменских старшин и отругал их за то, что они привели русского в Хиву. По мнению хана, они должны были убить капитана, а подарки доставить в ханскую сокровищницу.
Узбеки терялись в догадках, зачем явился Муравьев. Одни думали, что капитан имеет тайное задание выкупить всех русских невольников. Другие говорили, что Муравьев потребует возмещения за два судна, которые спалили лет за десять до того туркмены из рода Ата, перешедшие на службу прежнему хану и в подданство Хиве. Были и такие, что предполагали самое страшное – привезенный ультиматум с требованием ответить за убийство русских в 1717 году.
У страха глаза велики, и на совете всерьез обсуждались сведения, будто к туркменскому берегу пришел большой флот русских, высадил войска, которые спешно стали сооружать крепости, и, дескать, одна, самая большая, доведена уже до половины. Говорили также, что посол – это шпион, разведывающий дороги, которыми в следующем году пойдут войска, чтобы склонить хана к вступлению в войну с Персией на стороне русских.
В отношении того, как поступить с послом, радикальнее всех был настроен хивинский кази, предложивший вывести его в поле и там зарыть живого. Другие предлагали умертвить посла тайно или взять в заложники на предмет возможного торга с русскими. Но осторожный хан во избежание кары со стороны русского царя решил иначе: подержать посла под присмотром, дабы лучше разузнать о цели его визита, а затем дать ему аудиенцию и отпустить с миром.
От Давыда Муравьев узнал о том, как живут русские невольники. Людей продавали как скот, с аукциона тому, кто больше даст. Полоны пригоняли степняки: киргизы приводили в основном русских, туркмены – персов. Но они же и воровали рабов в Хиве, увозя их обратно за плату, полученную от их родственников. По словам Давыда хозяин на днях прикупил персидского мальчика, который был сыном богатого купца, и Атчанар, рассчитывал получить за него хорошие деньги, вернув отцу. Сестру его, девицу четырнадцати лет, уже несколько дней возили по окрестным селеньям, прося за нее восемьдесят тилли и отрез сукна на хороший кафтан.
Русским дозволялось отмечать несколько праздников в году. Им даже удавалось молиться перед образами, которые они держали в тайниках. Но после этих благочестивых упражнений кое-кто из них, случалось, напивался самогона, который они приладились гнать из местных ягод. Упившись, бузили, дрались и часто убивали кого-нибудь до смерти. Хозяева, в принципе, могли их и казнить, но, так как рабы стоили денег, буйных уродовали в назидание: выкалывали глаз или отрезали ухо. Давыдка едва не потерял ухо после того, как, будучи послан хозяином в Хиву по какому-то делу, повздорил на рынке с невольником-персиянином и в драке пырнул его ножом. Хозяин порезанного раба предъявил претензию Атчанару, и тому пришлось что-то там уплатить – для редкостного скупца это было страшнее всего на свете, и, рассвирепев, он хотел откромсать ухо «неверной собаке», но его отговорил приказчик.
«Я думал, – записал Муравьев в дневнике, – что если меня возьмут в невольники, то положение мое станет не хуже того, в котором я находился. По крайней мере, я смогу общаться с другими русскими, бывать на воле. Пользуясь этими обстоятельствами, я предполагал взбунтовать русских невольников, которых в Хиве было не менее 3 тысяч, а если удастся, то и персидских, коих было раз в десять более русских. Подняв мятеж, я бы тогда смог свергнуть хана и, сделавшись в Хиве начальником, привести в подданство России».
Зная, что «неверных» здесь казнят очень жестоко – зарывают живьем или сажают на кол, – капитан все время держал наготове свой заряженный штуцер, пистолет, кинжал и саблю, решив дорого продавать свою жизнь в бою, нежели мучительно подыхать. Несмотря на то что частенько сидел голодным, он не притрагивался к мешку с сухарями, взятому еще с корабля, – это бы неприкосновенный запас на случай побега.
К Муравьеву часто приезжали хивинские чиновники, пили водку, много и бестолково говорили, но никто из них не рисковал остаться наедине с капитаном, дабы не навлечь на себя и тени подозрения в тайных с ним сношениях.
В эти дни произошла у капитана неприятная ссора с туркменами-караванщиками, которые, видя, что капитана содержат более как пленника, нежели как посла, стали проявлять к нему нарочитую непочтительность. Поводом к ссоре послужили оргии, устраиваемые нукерами из гарнизона крепости с несчастной рабыней Фатимой. Сеид несколько раз выводил ее на рынок, но там она никого не заинтересовала – после двенадцати лет жизни в туркменском кочевье она не прельщала взоры покупателей. Тогда Сеид стал возить Фатиму по окрестным селеньям, но и там за нее давали очень мало, и он, не желая прогадать, возвращался с нею в крепость. Тут он пускал рабыню по рукам, и в соседней с Муравьевым комнате ее регулярно навещали компании мужчин. Возня, стоны, визг, всхлипы доводили капитана до бешенства. Наконец Муравьев позвал Сеида и потребовал продать женщину. Сеид гордо вскинул голову и сказал, что эта женщина его невольница и он будет с нею поступать так, как сочтет нужным, и продаст ее тогда, когда ему будет то желаемо. Но коли русский посол начал разговаривать в подобном тоне, то он, Сеид, служить ему более не желает и отправляется домой. Сказав это, караван-баши хотел уйти, но капитан остановил его. Сеид думал, что тот сейчас станет перед ним извиняться, но Муравьев сказал: «Ты правильно решил Сеид, видя мое положение. Правильно, ступай домой, чтобы не пострадать вместе со мною. Поезжай и скажи Киату-аге, который тебя послал со мною, что ты меня здесь бросил в минуту опасности… Прощай же, и не приходи более!»
Потрясенный этими словами, Сеид никуда не пошел, а, наоборот, сел и так некоторое время просидел молча. Потом он попросил прощения у Муравьева и поклялся, что не бросит его. Предмет конфликта, многострадальную Фатиму, он продал на следующий день.
Муравьев жил в полной неизвестности. Меж тем дело шло к зиме, и нужно было либо возвращаться, чтобы успеть на корабль, либо оставаться в Хиве зимовать, и тогда на корвет надо было дать знать, чтобы капитан уводил судно, которое могли прихватить льды. В начале ноября вроде бы блеснул лучик надежды – в Иль-Гельди приехал знаменитый туркменский батыр Ниас, родом из прибрежных кочевий, находившийся на службе у хана. По этому поводу был устроен пир. Во дворе крепости приготовили огромный казан плова, на который ушли целиком два барана, так что до отвала наелись все, даже рабы. Ниас сказал, что хана ввели в заблуждение, наговорив ему о русском флоте и крепости, которую почти уже построили, но он сам разуверил его в этом, и теперь не сегодня-завтра посла позовут ко двору. Дело казалось верным, но минула неделя, а потом уж и середина ноября подошла, а никаких посланцев от хана не было.
Наоборот, сведения из Хивы шли неутешительные – хан собирался на охоту, уже готов был его караван. Тешиться в поле он рассчитывал месяца три. Получалось, что Муравьев оставался в полной неопределенности положения на всю зиму. Это ни в коем случае не входило в его планы, и постепенно пришла мысль о побеге. Он стал уговаривать Сеида примкнуть к разбойничьему каравану, бросив верблюдов и все имущество в Иль-Гильди, и сулил возместить все потери, когда они выберутся к русским. Кроме того, он обещал отдать ему все подарки, привезенные для хана: перстни, часы и другие ювелирные украшения, на которых так падки восточные люди.
Муравьев разработал план, в котором предусмотрел и отравление злой собаки, караулившей ворота, и место каждого беглеца, когда ночью они должен были скрытно выдвинуться к стенам замка; с той стороны ворот их должен был поджидать Сеид, вышедший с вечера из замка под предлогом ночевки у родни. Бежать решили, когда надзиравший за послом юзбаши Ешнезер уедет в Хиву. Но в назначенный день Сеид куда-то исчез. Он появился, когда все сроки прошли, снова плакал, как дитя, просил прощения, вернул данные ему для подготовки побега деньги и ушел, оставив капитана в глубокой задумчивости. Таким его и застал вернувшийся юзбаши.
Ешнезер сразу же прошел к капитану и сообщил, что хан требует посла к себе. Так закончились двадцать восемь дней напряженного ожидания.
Выехав из Иль-Гельди, капитан откровенно наслаждался дорогой. За пять верст до города начались фруктовые сады, высаженные очень аккуратно, ухоженные, с правильными аллеями. Среди этих садов виднелись небольшие замки богатых хивинских узбеков, похожие на Иль-Гельди. В одно из таких поместий они заехали, чтобы передохнуть, и там Муравьев переоделся, скинув персидское одеяние, в котором был до сих пор, и облачившись в русский мундир.
Последний отрезок пути до города они проделали без всяких приключений, и вскоре взору капитана открылась величественная картина города, окруженного высокими стенами, над которыми виднелся огромный, бирюзового цвета, купол мечети, увенчанный золотым шаром, сиявшим на солнце. У стен города находилось древнее кладбище со множеством могил, небольшой канал пересекал дорогу, и через него был перекинут каменный мост, миновав который отряд вступил в узкие улицы города; они были заполнены народом, сбежавшимся поглазеть на русского посла. Люди лезли друг на друга, давились, то и дело перегораживали проход. Капитан приметил несколько человек, которые, сняв шапки, кланялись ему и кричали по-русски. Юзбаши, чтобы расчистить дорогу послу, немилосердно лупил стоявших на дороге плетью по головам, и так, продираясь по улочкам сквозь толпу, кавалькада дошла до дома в глухом переулке. Ешнезер сказал, что этот дом принадлежит Аги-Юсуфу, мехтеру – первому визирю хана, которому выпала честь оказывать гостеприимство русскому послу.
Муравьева ввели в чистый, выложенный камнем двор, миновав который он попал в отведенные ему покои. Комнаты были хороши, отделаны с тонким вкусом и восточной роскошью, устланы прекрасными коврами, но в них было довольно холодно. Для оказания услуг послу были предоставлены два «фераш-баши», которых звали совершенно одинаково, поэтому в своих записках Муравьев писал так: «Магомет-Ниас и с ним Магомет-Ниас другой».
Вместе с послом в доме мехтера остались юзбаши Ешнезер и Атчанар. Муравьева принимали роскошно и, что пришлось очень кстати после вынужденной голодной диеты в Иль-Гельди, обильно и изысканно кормили. К послу был приставлен специальный повар, который без устали стряпал, и в покои Муравьева то и дело вносились огромные блюда с различными кушаньями, названия которых были ему совершенно не известны. Их сменяли подносы с фруктами, а после того приносили чай и восточные сладости. В сытом безделье промелькнули пять дней – с послом обращались очень учтиво, но никуда не выпускали, даже в баню, говоря, что подобные отлучки разрешены должны быть лично ханом. Еще в день приезда посла навестил ходжаш-мегрем, главный мытарь Хивы. Он показался капитану на редкость хитрым человеком, очень ловким в обращении. Целый час они обменивались учтивостями, целью которых было прощупать позицию другой стороны. Ходжаш-мегрем просил посла выбрать его в качестве переговорщика от лица хана. На это Муравьев ответил, что он не волен назначать ханских чиновников, но в принципе он не против. В тот же вечер ходжаш- мегрем испросил у хана дозволения вести переговоры и все дела с послом и явился к ему уже как полномочный представитель. Уже несколько раз ожегшийся на специфических «восточных штучках», Муравьев через юзбаши узнал, правду ли говорит ему ходжаш-мегрем, и, лишь получив подтверждение, приступил к делу.
Ходжаш-мегрем потребовал, чтобы подарки и письма, адресованные хану, были переданы ему, а уж он вручит их правителю. С письмами проблем не было, но вот подарки… Хорошо зная папашу хивинского мытаря и познакомившись довольно близко со всем семейством, посол не исключал, что они могут «соблазниться» что-нибудь присвоить себе. В ответ на высказанное им опасение Ешнезер, недолюбливавший Атчанара, посоветовал опечатать дары. Так и сделали: на большие подносы выложили отрезы сукон, парчу и другие подарки, эти подносы завернули в холстину и свертки опечатали. Ночью в дом мехтера прибыл ходжаш-мегрем со своими людьми, и они унесли подарки в ханский дворец. Надо заметить, что хан имел странный обычай – днем спать, а ночью бодрствовать. За исключением пятницы, когда вечером шел в мечеть, он днем никогда не покидал дворца; зато все ночи напролет со своей свитой гулял по садам или ездил по спящему городу. Возможно, это была просто полезная привычка осторожного человека, правившего в стране, где не один властитель был зарезан ночью, во время сна.
На всякий случай с людьми, унесшими подарки, пошел и Петрович, который вернулся поздно ночью, иззябший и очень расстроенный: его продержали в холодном коридоре и подарили только шапку и халат с плеча ходжаш-мегрема. Главный мытарь Хивы, как и его папаша Атчанар, щедрость почитал родом расточительности. Но отец все-таки был в этих вопросах более строгим – через несколько дней он стал требовать даренный сыном кафтан у Петровича обратно.
Управляющий дома мехтера на следующий день прислал к послу слуг, прося вернуть подносы, предоставленные им для переноса ханских подарков, и Муравьев спросил о них у юзбаши. Ешнезер с усмешкой ответил, что про эти подносы лучше забыть: все, что попадало в руки хана, обратно уже не возвращалось.
С подарками вышли разные истории, которые можно посчитать иллюстрацией обычаев и нравов, царивших в Хиве. Начать следует с того, что хан ожидал получить золотые червонцы, которые якобы привез посол. И вот, осматривая дары, он взял в руки один из подносов, закутанный в холстину, и подивился его необычайной тяжести. Когда распечатали холст, то под ним обнаружили десять фунтов свинца, столько же пороху и десять кремней. Распечатали соседний поднос, и там нашли две головы сахару. Хан, которого терзали всякие сомнения относительно цели визита русского посла, увидел в этих предметах ребус в стиле восточных иносказаний и призвал мудрецов для совета. Те рассудили, что дары эти знаменуют объявление войны (порох, свинец и кремни), но в случае, если он не примет мир и сладкую дружбу, которую обозначали две головки сахара.
Когда Муравьев решил почтить дарами старшего брата хана Кутли-Мурад-инака, ему сказали, что без дозволения хана этого делать нельзя, а хан из ревности разрешения не даст. Тогда с подарками он тайно отправил Петровича, который вернулся гораздо более довольный, нежели в первый раз, – его труды вознаградили пятью золотыми тилли. Среди отнесенных им даров, состоявших их отрезов сукна, парчи и золотых безделушек, был изящный ящичек с бритвенным прибором. В одном из отделений ящичка была жестяная мыльница с кусочком черного мыла. Инак, осмотрев дар, вытащил мыло и долго его рассматривал, не в силах понять, что это такое. Заподозрив неладное, он призвал лекаря, чтобы тот растолковал – что русский посол ему подсунул: не отрава ли какая, не гяурское ли чародейство? Лекарь отправил к Муравьеву гонца с вопросом: что такое черное в ящике с бритвенным прибором? Капитан, не заглядывавший внутрь этого подарка, и сам не знал, а потому попросил прислать ему ящик обратно, чтобы он мог посмотреть. В просьбе отказали.
Тогда он попросил прислать хотя бы мыльницу или сам черный кусочек. И того не прислали…
Разбирая оставшиеся товары, предназначенные для подарков, капитан обнаружил десяток стеклянных стаканов. Их так хорошо упаковали перед отправкой, что он их сразу не увидел. Обратившись к юзбаши, он спросил у него: удобно ли будет второй раз дарить хану? На что Ешнезер поспешил заверить, что хану удобно дарить все и в любое время, тем более стеклянные стаканы, которые в Хиве большая редкость; при этом однако он посоветовал поднести не десять стаканов, так как десять считалось у хивинцев несчастливым числом, а девять, поскольку девятка, наоборот, число счастливое.
Ешнезер сам отнес стаканы в ханский дворец и очень порадовал ими хана, который, несмотря на запреты ислама, тайком злоупотреблял горячительными напитками. Пил он со своими приближенными, среди которых у него были несколько любовников, в том числе и известный нам ходжаш-мегрем, игравший роль тюклюба – пассивного партнера ханских сексуальных забав. Дома, впрочем, у него имелся собственный тюклюб – юноша пятнадцати лет. Удивляться тому нечего – педерастия была обычным явлением при дворах восточных владык, которым приедались гаремы.
В молодые годы хан слыл гулякой, любил покурить кальян с гашишем, но потом «взялся за ум» и покончил с этим увлечением. Более того, как всякий «завязавший», он обрушился на наркоманов, приказав тому, кто будет пойман за курением кальяна, разрезать щеки и рот. То же самое наказание полагалось за пьянство. Правда, ситуацию это мало изменило, и в Хиве по-прежнему повсюду «пыхали траву».
Не знавший о столь радикальном изменении привычек хана и о запретах, наложенных им на курение и выпивку, Муравьев попал впросак, поднеся ему среди других даров изящный кальян из стекла. Такого прибора в Хиве не видали, и это спасло положение. На вопрос хана: «Что это такое?» – юзбаши, который представлял дары, сказал, что это сосуд для хранения уксуса. Но особенный восторг вызвала лупа Муравьева, которой он выжигал солнечными лучами на деревяшках буквы и поджигал солому. На дивное зрелище приходили посмотреть знатные узбеки и дивились словно мальчишки, споря: может ли такие свойства иметь обыкновенное стекло?
Отправив подарки по всем нужным адресам, посол опять погрузился в вынужденное безделье, если, конечно, не считать за занятие прием различных посетителей. Все они желали получить от Муравьева какие-нибудь дары. Особенно много ходило таможенных чиновников, которых в своих записях Муравьев характеризовал как «мерзкое отродье человеческое». Был он с ними «горд и откровенно груб», что, впрочем, производило самое благоприятное впечатление, ибо, по местным понятиям, так и должен был держаться посол великой страны, чтобы внушить уважение к себе и монарху, которого он представляет.
Зная, что его подслушивают, Муравьев вел с Петровичем нарочито громкие разговоры о великих достоинствах хана Мухаммед-Рахима, о силе его и о преимуществах хивинцев над персиянами. Если же им нужно было сказать нечто не предназначенное для чужих ушей, они переходили на немецкий язык, который вряд ли кто знал в Хиве.
Учтивость принимающей стороны достигла верха предупредительности, когда приставы и мехтер, видя, что сидящий взаперти посол откровенно скучает, привели к нему муллу Сида, человека лет сорока, очень умного, образованного и ловкого в беседе. Мулла очень удачно шутил, умел говорить приятно и интересно на разнообразные темы и был великолепным шахматистом; как записал Муравьев, «шахматная игра в большом ходу в Хиве, и никогда не встречал более умелого игрока, чем мулла Сеид». Это и было основной профессией муллы – он был «развлекатель» скучавшей хивинской знати. Со смехом он сказал, что вот уж четырнадцать лет, как имеет свой дом в предместье, но не может в нем жить, так как приходится ночевать все время по гостям. Хозяева богатых домов кормили и поили его, дарили вещи и давали деньги, а он проводил с ними вечера, поигрывая в шахматишки, сочинял для них стихи, читал вслух книги, рассказывал сказки или на память что-нибудь интересное. Сеид знал персидский, арабский и турецкий языки, прочел множество книг, делал собственные переводы и умел пересказывать самые сложные для понимания «книжные вещи» простым и ясным для хивинских вельмож языком. Он отлично знал древнюю историю стран Востока и, рассказывая из нее что-нибудь, очень к месту вплетал стихи классиков. Разговаривая с Муравьевым, мулла Сеид жаловался на трудные времена: хан строг, не позволяет пить водку и курить «траву», которую в Хиве называли «бенга». Сеид мастерски развлекал гостя до глубокой ночи и ушел вознагражденный золотой монетой.
Ожидание ханской аудиенции затянулось. Но вот 20 ноября, ближе к вечеру, в дом явился ходжаш-мегрем и объявил, что повелитель требует русского посла к себе. Готовясь к визиту, Муравьев облачился в парадный мундир, с которого еще раньше спорол шитый воротник, заменив его на красный. Эта предосторожность была предпринята, чтобы кто-нибудь из русских, живущих при ханском дворце, не смог определить род его службы по форменному воротнику. Долгое препирательство вызвало оружие посла: у Муравьева была черкесская шашка; по обычаю к хану нельзя было входить с оружием, но на шашке был темляк, символ воинского звания Муравьева, пожалованного ему царем. Он счел оскорбительным требование снять шашку, но после долгих разговоров все-таки согласился. Когда решительно все было улажено, целое шествие вышло из ворот дома мехтера Ага-Юсуфа: впереди шли два юзбаши и приставы, охрана толстыми дубинами разгоняла народ, толпившийся на улицах в огромном количестве; полно зевак стояло на плоских крышах хивинских мазанок. От дома мехтера до ханского дворца было примерно четверть версты, и Муравьев, стараясь «шествовать подобающим образом», проделал этот путь, проходивший в основном по узким переулкам, степенно и гордо. У ворот дворца процессию остановила стража, и капитан присел в окружении чиновников и приставов. Тем временем, согласно ритуалу, о них было доложено хану, и вскоре из ворот вышли придворные, почтительно приглашая господина посла пройти во дворец.
Ханский дворец произвел на капитана приятное впечатление, но того восторга, с которым он описывал каналы Хивы, в его записях не чувствуется. Он отметил, что кирпичные ворота очень хорошо выстроены, а дворцовый двор представляет из себя песчаную площадку, окруженную глиняными, не очень чистыми стенами, под которыми расположились киргизские послы – шестьдесят три человека, приехавшие на поклон к Мухаммед-Рахиму. Из этого двора капитана повели в следующий, бывший родом арсенала, – здесь были выставлены семь старых пушек на сломанных лафетах. Возле орудий ход процессии немного замедлился, чтобы посол воочию мог убедиться в наличии у хана собственной артиллерии, но офицера эта «демонстрация военной мощи» нисколько не поразила – было видно, что пушками уже давно никто не занимается. В третьем дворе располагалась палата, называемая Чернюш-хане. Там обычно собирался совет инаков и знатных узбеков. Посла ввели в коридор, крыша которого была крыта простым камышом, пол был земляной и неровный, а стены очень грязные, и через него вышли в четвертый двор. Этот двор был больше предыдущих, но гораздо грязнее, к тому же он зарос степной травой. Посреди двора стояла большая кибитка, и юзбаши, поклонившись послу, сказал, что хан ждет посла в ней.
К Муравьеву подошел человек, закутанный в засаленный тулуп, одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять: это русский и, судя по вырванным ноздрям, беглый каторжник. Этот человек попытался взять посла за шарф, и Муравьев подумал, что его нарочно лишили оружия и теперь собираются убить на этом пустом и грязном дворе. Он решил биться до конца и приготовился хватить безносого кулаком, чем перепугал его до крайности. Тот отскочил в сторону, а юзбаши спешно стал объяснять, что это такой обычай – вести посла к хану. Посол успокоился, но безносый только изображал, что ведет его, опасаясь прикоснуться к такому скорому на руку человеку.
Хан сидел в кибитке на хорасанском ковре в халате из красного сукна, подаренном Муравьевым по приезде, на голове его была белая чалма. У входа в кибитку стояли мехтер Ага- Юсуф и ходжаш-мегрем – так Муравьев впервые увидел мехтера, человека, гостеприимством которого он пользовался все дни, что провел в городе.
Хан Мухаммед-Рахим был мужчиной рослым и «широким в кости», говорили, что никакая лошадь не могла его везти более двух часов кряду. После приветствий он спросил через переводчика: «Зачем ты приехал и какую имеешь просьбу ко мне?»
Муравьев почтительно отвечал заученной речью о том, что послан победителем персов, отвоевавшим у них земли и крепости на Кавказе, с письмом для хана, которое он имел честь вручить ему. Хан подтвердил, что читал письмо, и попросил рассказать то, что, как было написано в письме, ему велено передать на словах при личной встрече. Капитан повел речь о новом караванном маршруте, ведущем не к Мангышлаку, а к Красноводску, где русские намерены устроить торговую гавань.
Хан согласился, что этот путь короче, но тут же привел резоны «против». Мангышлакская дорога для хивинских караванов привычнее и безопаснее, так как проходит через земли его подданных, в то время как туркмены-иомуды ему не подчинены и склонны поддерживать персов. Дорога к Красноводску опасна для хивинских караванов, и он не согласен подвергать своих людей риску.
Муравьев согласился, что туркмены народ воинственный и малоуправляемый, но они отлично понимают язык силы. Средства же убеждения туркмен Россия хану предоставит: свинец, порох, даже орудия. На это хан ответил, что свинец, порох и, как посол мог заметить, пушки у него имеются собственные. Тогда Муравьев стал просить хана отправить в Тифлис к главнокомандующему Ермолову нескольких надежных людей для ведения переговоров, а сам он, тотчас же по возвращении, будет послан в столицу, с докладом императору о том приеме, который ему оказали в Хиве.
«Я пошлю с тобой хороших людей к главнокомандующему, – пообещал хан, – ибо сам желаю, чтобы между нами утвердилась настоящая и неразрывная дружба. Хошь гелюбсен!»
После этого возгласа следовало кланяться и уходить. Муравьева снова вывели из кибитки и повели в Чернюшхане, куда пришли мехтер и ходжаш-мегрем; слуги-фераши тут же подали подносы с фруктами и сахаром, принесли чай. За чаепитием завязалась беседа на политические темы. Посла спрашивали о войне с Персией, сколько на Кавказе русские держат войск, не бунтуют ли персы, пытаясь нарушить мир. Муравьев отвечал, что войск в Кавказском корпусе до 60 тысяч человек, не считая всадников иррегулярного ополчения, к услугам которого не прибегают, поскольку это презираемое войско беспорядочное и бестолковое, оно не может выдержать ни долгого похода, ни серьезного сражения. В случае «шалости» персов к ним высылают отряд, чтобы «наказать их, как наказывают родители своих детей, и после этого наказания персы делаются покорны».
Вскоре в палату вошли юзбаши, принесшие подарки от хана. Они помогли Муравьеву облачиться в халат из индийской парчи и подпоясаться богатым кушаком из той же парчи, за пояс ему заткнули украшенный серебром кинжал в ножнах, на голову водрузили шапку – «чуть хуже той, что была на мне прежде», – заметил капитан довольно ехидно. В этих обновах его снова повели в кибитку к хану, где, согласно протоколу, он снова все повторил дословно, а хан ответил ему теми же словами, что и прежде. В конце аудиенции Муравьев попросил разрешения приехать на следующий год, и хан милостиво разрешил. На этом церемония была окончена.
У дворцовых ворот Муравьева ждал оседланный великолепный серый туркменский жеребец-ахалтекинец. Посла усадили в седло, а туркмены взяли жеребца под уздцы и повели по улицам города, по-прежнему запруженным толпами народа. Вскоре после того, как Муравьев вернулся из дворца, в его покои прибыл ходжаш-мегрем, привезший в подарок людям посольской свиты подарки – всем по кафтану толстого сукна. Послу же он сказал, что хан просит его доложить своему главнокомандующему, пусть, дескать, русские со своими неприятелями управляются сами, без помощи ханских подданных. Еще он сообщил, что к хану приехал пушечный мастер из Стамбула, который берется отлить пушку, способную стрелять ядрами по два пуда весом каждое. Затем ходжам-мегрем возвестил, что посол может ехать назад, повернулся и вышел. Так Муравьева фактически бросили, предоставив выбираться из Хивы так, как ему заблагорассудится.
Получив разрешение уехать, капитан был совершенно счастлив тем, что все так благополучно для него закончилось. Оставались сущие пустяки: найти лошадей, сделать последние подарки хану и его приближенным, да еще он хотел отыскать в Хиве правителя туркменских племен Султан-хана, по кличке Китаец, которому удалось каким-то образом сплотить три враждующие племени. Это был человек вполне подходящий для того, чтобы править на побережье при поддержке России, проводя выгодную ей политику. Но Султан-хан, видимо, не хотел ввязываться в большую политику – зазвать его к послу так и не удалось.
Главным помощником в сборах Муравьева был юзбаши Ешнезер. Он помог нанять лошадей, закупить продовольствие и оказал еще множество услуг. Наконец все было готово, и состоялось прощание. Когда посол садился на коня, державший лошадь русский раб сквозь зубы, чтобы никто не видел, что он открывает рот, попросил помочь выкупиться из неволи – в последний день эти просьбы буквально преследовали капитана. Другой человек долго шел рядом с его конем, когда процессия посла двигалась по улицам Хивы. Хивинцы теснились вокруг, и человек этот явно ждал удобного момента. Тогда Муравьев бросил в толпу несколько горстей мелких монет, люди бросились их собирать, и человек успел сказать: «Господин посланник, не забудьте нас, несчастных, по возвращении вашем в отечество!»
Выехав из Хивы, посол и его люди направились старой дорогой к Иль-Гельди. В пути выяснилось, что Петрович умудрился потерять кошель с 300 червонцами. От горя армянин едва не помешался: обнаружив пропажу, начал визжать, как припадочный, и капитан подумал, что он накурился «бенга-травы». С огромным трудом от него удалось добиться связных слов, и на поиски кошелька отправили Сеида. К счастью, степная дорога не городская улица, где такая потеря долго не залежалась бы. Сеид скоро нашел оброненный кошелек и привез его Петровичу, с которым случился повторный приступ умоисступления, теперь уже от радости. Схватив кошелек, он молился по-армянски, кувыркался через голову и катался по песку, прервав эту безумную акробатику, только когда отряд, не дожидаясь его, поскакал дальше.
Поздно вечером они достигли Иль-Гельди; жители крепости, помня щедрость Муравьева, приветствовали его как старого знакомого. Другим приятным моментом стало отсутствие Атчанара. Хозяин Иль-Гельди не устояв перед позывом своей клептомании и присвоил лошадь одного туркмена, приехавшего в покупать табак. Туркмен припер его уликами, и тогда Атчанар приказал выгнать краденого коня в степь, а сам убрался потихоньку в Хиву.
В Иль-Гельди были сделаны последние приготовления к переходу по степи. Прежде всего закупили теплую одежду: караванщикам Муравьев купил по тулупу, а себе киргизскую шапку с ушами, теплые онучи, чтобы оборачивать ноги, большие хивинские сапоги. Заряжая перед дорогой ружья, побывавшие в починке, обнаружили, что в левом стволе двустволки что-то есть. Муравьев шомполом извлек из ствола смятую бумажку, развернул ее и прочел: «Ваше высокородие! Осмеливаемся вам донести: русских людей найдется в сем юрте тысячи три пленников, терпящих несносные труды, глад, холод и разные нападки. Сжальтесь над нашим бедным состоянием, донесите его императорскому величеству, заставьте вечно Бога молить. Есмь пленник». Видимо, ружье чинил русский невольник, и он, используя редкий шанс, рискнул обратиться с просьбой о спасении.
Почти сразу же после этого Давыдка привел в покои капитана старика, который провел многие годы в плену. Звали его Осипом Мельниковым, в рабство он попал уж тридцать с лишком лет назад: неподалеку от Оренбурга его захватили киргизы. Он тогда только неделю как женился на дочери отставного солдата Лаврентия Смирнова и больше уж своей жены никогда не видел. Попав в Хиву, Осип, как и все пленники, начал копить деньги на выкуп и собрал почти нужную сумму. Хозяин же его как раз затеял жениться и попросил у него эти деньги в долг, обещая отпустить на волю. Но вместо этого взял и продал Осипа другому узбеку. Родственники несколько раз пытались выкупить его и даже приелали деньги с караваном купцов, но новый хозяин деньги взял, а Осипа не отпустил.
«Меня мучают, бьют, и от работы отдыха нет, – жаловался старик Муравьеву, – я уж и не знаю, когда избавлюсь от сих зверей. Каждую ночь молю Христа Спасителя нашего, молил и о вас. Ведь все здешние русские полагают в вас избавителя! Мы будем еще два года терпеть и молиться, ожидая, когда вы вернетесь за нами, а ежели вас не будет, то решили уйти через степи киргизские. Умирать нам Богом суждено, коли нужно будет, так и умрем, а живыми им в руки не сдадимся…»
Мельников говорил по-русски плохо, мешая родной язык с татарскими и турецкими словами. Голос и лицо этого человека несли печать неимоверного страдания, и капитан, сознавая, что он ничем не может помочь ни ему, ни другим подобным мученикам, был вдень отъезда очень грустен, хотя и должен был бы радоваться: сложнейшая миссия исполнена и перед ним лежал путь домой.
Обратная дорога была хоть и сложна – в степи стояли крепкие морозы, – но все же опасений у Муравьева было куда меньше, чем тогда, когда он ехал в Хиву. С ним ехали хивинские посланцы, и это в каком-то смысле ограждало от неожиданностей. Кроме того, он уже узнал туркмен, а они привыкли к нему, поход сблизил их, хотя близкими их отношения не стали. Беспрестанно поминая лень азиатов, которые предпочитали мерзнуть, нежели сходить за дровами для костра, капитан сам выполнял все необходимые в походе работы: ухаживал за своей лошадью, ходил в поисках дров вокруг стоянок по версте и более. В промысле дров неожиданно ярко проявил себя Петрович, никогда особого рвения к физическим трудам не выказывавший. По случаю холодов сей премудрый армянин был облачен в шесть кафтанов и теплую шапку, так что еле двигался. Подойдя к кустам, он падал на них задом и ломал ветки, ничуть не повреждаясь при этом: кафтаны защищали его, как доспехи. Только вот подняться он с земли не мог, и, когда он наламывал достаточно кустов, его поднимали туркмены, которым осталось только собрать вязанки.
Очень часто на караванной тропе попадались падшие верблюды и валявшиеся возле них тюки с зерном. Иногда попадались замерзшие люди. Мертвецы эти были, скорее всего, персы, которых везли для продажи да бросили по пути, когда начали подыхать верблюды, побившие ноги о замерзшую землю и наст. Хозяева погибших персов, видимо, ждали, когда хан отменит введенную им подать, и, не дождавшись, сбежали в надежде прорваться сквозь непогоду. Азиаты смотрели на замерзших людей так же равнодушно как на дохлых верблюдов.
Более всего Муравьев опасался того, что на корабле, не получая от него сведений, сочтут его погибшим и уйдут, прежде чем он доберется до побережья. Тогда положение его становилось очень тяжким: без денег он не мог остаться в кочевьях туркмен на всю зиму – благотворительность у кочевников была не в ходу. Попытаться пробраться через персидские владения в Ленкорань, где были русские войска, он не мог, поскольку с Персией был подписан мир, но Хива считалась вражеской страной для персов, а он вез ее послов и сам был послом в Хиву. С одной из стоянок он выслал вперед двух родственников Сеида, Хан-Магомета и Джангана, с письмом к Пономареву.
Самым страшным в степи был даже не мороз, а невозможность выспаться. Крайне устав, люди засыпали прямо на лошадях и падали с них, не просыпаясь даже от удара о замерзшую землю. Некоторые потихоньку начали отставать, и их приходилось подгонять тычками; один за другим останавливались прямо посреди дороги туркмены, тут же валились с ног и сразу засыпали. Когда прилег Сеид, Муравьев, крепясь, ехал еще около часу, потом с туркменом Куветом они остановились, чтобы подождать Сеида, и заснули оба, ожидая, что их догонят караванщики и разбудят. Но те заснули в седлах и миновали их спящими; Муравьев и его спутник остались в степи одни. Очнувшись от сна, они спешно тронулись в путь, но никого не могли нагнать, и сзади их никто не настигал. Они решили, что сбились с пути, и тут впереди Кувет заметил всадников. Они приготовились уже к самому худшему – нападению киргизов или иного враждебного племени, которое могло их захватить и продать в неволю. Но когда всадники приблизились, один из них снял шапку и произнес несколько русских слов. Это был сын Киат-аги, молодой Якши-Магомед, – он некоторое время жил на корвете «Казань» в качестве заложника и за это время выучил несколько русских слов. Оказалось, что девять дней назад Пономарев отправил его с письмом для Муравьева.
Через некоторое время они нашли Сеида и других караванщиков. Записка от Пономарева, прочитанная у костра, успокоила Муравьева – корвет был на месте и ждал его. Он написал майору в ответ несколько строк, передал письмо Якши-Магомеду и уснул мертвым сном.
На следующий день, преодолев последние тридцать пять верст пути, караван вышел на берег Каспийского моря, вблизи того места, где на якоре поджидал Муравьева корабль. Корвет «Казань» стоял на якорях в трех верстах от берега, для встречи посла были спущены лодки. «Не знаю, – написал Муравьев в своем дневнике, – билось ли мое сердце так крепко, когда я подъезжал к Москве или Петербургу, как в ту минуту, когда я стоял почти ногами в морской воде, ожидая, когда гребные суда подойдут к берегу».
После отъезда Муравьева то и дело приходили туркмены, заявлявшие, что они посланы капитаном. Нагородив небылиц, они просили подарков за добрую весть. Один из них божился, что прислан от Муравьева, который прибудет на четвертый день. Пономарев, раздраженный бесплодным ожиданием, приказал задержать «вестника» и пообещал выстрелить им из пушки, если выяснится, что он соврал. Когда срок вышел, перепуганный насмерть туркмен на коленях молил о пощаде…
На борту корвета капитана встретили радостно, многие признавались, что не чаяли больше увидеть его в живых. Экипажу судна крепко досталось – ожидая Муравьева, израсходовали продовольствие, и уже месяц люди получали половинный рацион. Из 140 матросов здоровыми были лишь двадцать, человек тридцать слегли от цинги, а пятеро умерли. Корабельный лекарь ничем им помочь не сумел.
Когда в заливе появился лед, капитан корвета Басаргин надумал уходить – оставаясь, они рисковали потерять и корабль, и собственные жизни. Пономарев, однако, упросил его подождать пару недель, потом еще один – последний – день… Этот последний день ожидания уже клонился к вечеру, к борту корвета пристал киржам, в котором находились Хан-Магомет и Джанган, привезшие письмо Муравьева. После этого решено было ждать до конца.
Никаких кардинальных изменений во взаимоотношения России и Хивы подвиг Муравьева не внес. Имя его прославлено вовсе не тем отчаянным риском, которому он подвергался во время своего разведывательного рейда. Много позже взятие Карса во время Крымской войны прибавило к его фамилии почетное прозвище «Карский» – об этом написано немало. Про хивинский же поход принято упоминать кратко, посвящая ему две-три строки, ограничиваясь самой констатацией визита Муравьева в Хиву. Этот визит более запомнили в Хиве, чем в России. Хан Мухаммед-Рахим, когда ему сказали, что в гостях у него побывал не таможенный чиновник, а военный разведчик, штабной офицер, пришел в крайнюю ярость. Долго потом еще он вслух сожалел о том, что отпустил капитана живым, а не убил, как советовал ему старший брат и другие верные слуги.
Зимний поход на Хиву
Практически все попытки упорядочить дипломатические отношения между Бухарским и Хивинским ханствами в XVIII веке и начале XIX ни к чему путному не привели. Восточные владыки прекрасно понимали, что эти отношения втащат их в сферу интересов великой державы, которая их «переварит» экономически и политически. Сами они, играя на противоречиях, существовавших в то время между Англией, Россией и Персией, желали получать от всех заинтересованных богатые дары, льготы в торговле и в случае нужды военную помощь. Но притом совершенно не брезговали «пощипывать» окраины России и Персии набегами подвластных племен. Фактически ханы Хивы и Бухары поощряли разбой на караванных путях и захват рабов. В отношениях с Россией они применяли известную восточную тактику, не говоря ни окончательное «нет», ни твердое «да». В Петербург шли бесконечные посольства с «восточными подарками», вроде тканей, ковров и безделушек, дополненных сушеными фруктами. Послы вручали грамоты, дополняя их устно уверениями в покорности и преданности России; на деле же продолжались грабежи и притеснения русских купцов.
Ничуть не изменилось положение вещей и когда в 1825 году, после смерти хана Мухаммед-Рахима, на ханский престол взошел Аллакули. Все осталось по прежнему: русские торговые караваны пропускали по своему усмотрению, драли с христиан непомерные пошлины и всячески отваживали русских купцов от поездок в Хиву, чтобы товары, поступавшие оттуда в Оренбург и Астрахань, приносили прибыль только купцам хивинским. Но Бог с ней, с торговлей, в конце концов, те же товары можно было получать и через Персию, с которой были установлены давние, хотя и сложные, но все-таки «почти нормальные» отношения, подкрепленные к тому же многочисленными победами русского оружия в начале XIX века. Гораздо более того беспокоил преступный промысел степняков, торговавших русскими подданными. Людей для продажи в Хиве и Бухаре захватывали на промыслах в Каспийском море, на побережье, а иногда и прямо в окрестностях Оренбурга. Вопиющий пример таких действий произошел во время посещения русским императором этого города, когда со всего края в Оренбург съехалось множество народа. Среди прочих прибыла владелица небольшого степного именьица, вдова офицера казачьих войск, со своими детьми и слугами. Вдовица и ее люди не смогли найти места в гостинице, постоялом дворе или на частной квартире – всюду было битком. Тогда они решили ночевать табором, на городском берегу Урала поставили коляску, возле нее разбили палатку, в которой вся компания и устроилась. Ночью к этому лагерю подкралась шайка киргизов, которые схватили офицерскую вдову в одной сорочке и, бросив на коня, ускакали с нею в степь, не тронув детей и прислугу. Похитителей пробовали преследовать, но перехватить не успели. Когда об этом ночном происшествии доложили императору, тот был очень огорчен, приказал принять детей вдовы на особое попечение, а ее саму выкупить за его счет при первой же возможности. Представьте себе ситуацию: русский император выкупает вдову своего офицера у захвативших ее в рабство «мирных киргизов», являвшихся его подданными!
Попытки заставить прекратить набеги путем дипломатических нот ни к чему не привели: обычно, после долгих переговоров, хивинцы выпускали несколько десятков рабов, а в тот же год степняки пригоняли на рынок сотни новых. Пробовали целенаправленно выкупать пленных, но это лишь поощряло охотников за рабами производить новые захваты. И тогда решили разорить само гнездо работорговли, явившись туда с оружием в руках. Одним из главных инициаторов движения русских войск в степь и очередной попытки приведения в подданство Хивы и Бухары был назначенный в 1833 году на пост военного губернатора и командующего отдельным Оренбургским корпусом свиты его императорского величества генерал-майор и личный друг государя Василий Алексеевич Перовский. Ему в момент назначения было тридцать девять лет, и никогда еще не было в Оренбурге столь молодого губернатора и командующего корпусом.
Несмотря на относительную молодость лет, Василий Алексеевич успел к тому времени испытать и пережить многое. Фамилия Перовских происходила от побочного сына некогда могущественного князя Разумовского, который своим незаконным отпрыскам пожертвовал большое село Перово под Москвой – отсюда и пошел этот род. Сам же Василий Алексеевич родился 9 февраля 1795 года и детство свое провел в Москве, воспитываясь сначала дома, а потом в столичном училище колонновожатых, из которого был выпущен квартирмейстером в казачьи полки. В рядах казачьих войск он встретил войну с Наполеоном и сражался в составе Второй армии, которой командовал князь Багратион.
В страшной неразберихе отступления через Москву, когда французские и русские части местами перемешались, как многослойный пирог, было заключено перемирие, чтобы дать возможность разобраться, где кто. Во время этого перемирия Перовский не успел проскочить сквозь сомкнувшуюся конницу Мюрата и был взят в плен. Василия Алексеевича вместе с другими пленными заперли в храме Спаса на Бору возле Кремля, и, сидя там, он пережил страшный пожар Москвы. Лишь 17 сентября пленных вывели из города и погнали на запад. Терпя страшные бедствия и лишения, колонна пленных проделала весь тот путь, который несколько месяцев спустя предстояло проделать и войскам Наполеона. Но по счастью, еще не лютовали холода, а сердобольные крестьяне подкармливали своих, угоняемых в неволю.
Пешком вместе с другими пленными Василий Алексеевич прошел всю Европу и оказался во Франции, в городе Орлеан – сбежать ему удалось лишь спустя полтора года, в феврале 1814-го. Возможно, именно то обстоятельство, что генерал Перовский в молодости испытал участь пленника во всей ее полноте, и подталкивало его к решению о немедленном освобождении русских рабов в Хиве путем вооруженного вторжения в пределы ханства, неоднократно заверявшего русскую корону в дружбе и покорности воле Белого Царя.
Вернувшись из плена, после краткого отдыха Перовский был причислен к лейб-гвардии егерскому полку, состоя в то же время офицером Генерального штаба. Он был адъютантом генерала, графа П. В. Кутузова, вместе с которым сопровождал в ознакомительной поездке по России великого князя Николая Павловича, – именно тогда произошло близкое знакомство и сближение Перовского с будущим императором России. Между ними возникли дружеские отношения, насколько это возможно при соблюдении субординации и придворного этикета, так что по возвращении из поездки Василий Алексеевич перебрался на жительство в Аничков дворец, занимаемый великим князем и его свитой.
Перовский был красив лицом; высокий и ладный, он обладал огромной физической силой: свободно сгибал подковы и скатывал пальцами пятаки в трубочку. Манера держаться его была величественна, но лишена позы, взгляд строгий и суровый, «пробиравший подчиненных». К тому же он был прекрасно образован, не чужд литературных трудов и входил в круг друзей Карамзина и Пушкина, ничуть в нем теряясь. Карьера его протекала довольно гладко, и в 1818 году, став директором «генерал-инспекции инженеров», подчинявшейся непосредственно царственному другу, Николаю Павловичу, он переехал в другой дворец Петербурга – в Михайловский замок. Но тут карьера его оказалась под угрозой по причине расстройства здоровья, и он в 1822 году, испросив долгосрочный отпуск, выехал на лечение в Италию, где и пробыл до 1824 года.
По возвращении в Россию он был зачислен в свиту великого князя в качестве его личного адъютанта и в этой должности встретил 14 декабря 1825 года. Вооруженный мятеж заговорщиков в самом центре столицы империи поколебал многих, но не его – он остался верен присяге и узам дружбы, всюду в этот ужасный день сопровождая Николая Павловича, ставшего к тому моменту императором. Перовский, исполняя приказания нового императора, устанавливал связи с оставшимися верными присяге частями. Во время исполнения поручения возле Исаакиевской площади, где толпа простолюдинов, разгорячившихся поведением военных, выстроившихся на Сенатской площади, уже «начала позволять себе дерзкие выходки», он подвергся нападению, получив сильнейший удар поленом по спине, – впоследствии это сказалось тяжелой болезнью легких, мучившей его всю оставшуюся жизнь тяжелыми приступами удушья.
Такая верность не забывается, и император благоволил Перовскому, однако это не освобождало его от участия в рискованных предприятиях того времени. На войне с турками он был тяжело ранен пулей в левую сторону груди, перенес сложную хирургическую операцию и для поправки здоровья вновь отправился в Италию. Там ему пришлось пережить личную драму: в Италии, фактически у него на руках, умерла племянница Жуковского, А. А. Воейкова, которую Василий Алексеевич любил. Снова в Россию он вернулся в 1830 году, став директором канцелярии Морского штаба, и с этой должности был переведен в Оренбург.
Прибыв на место новой службы, Василий Алексеевич столкнулся с оппозицией в лице местной «служилой аристократии», которой молодые годы и «недостаточно крупный чин» нового губернатора внушили пагубное заблуждение относительно его полномочий и субординации. Так, начальник расквартированной в Оренбурге 25-й пехотной дивизии Жемчужников и командир оренбургской бригады не явились к нему для представления, считая, что по чину он ниже их и должен сам к ним явиться. Оба генерал-лейтенанта были уже глубокими старцами, привыкшими безнаказанно своевольничать, но тут, что называется, нашла коса на камень. Перовский «подавил бунт стариков», обратившись с рапортом к военному министру графу Чернышеву: «Как быть в сем затруднительном случае?» Ответ прибыл спешной эстафетой: генерал-лейтенанту Жемчужникову приказано было явиться к генерал-майору Перовскому и доложить ему, что он, генерал-лейтенант Жемчужников, за нарушение правил военной подчиненности получил предложение подать в отставку. Вскоре, дабы более не возникало спорных моментов, Василия Алексеевича произвели в генерал-лейтенанты.
Прочее население Оренбурга и края встретило нового губернатора приветливо, а местная татарская община, поднеся «положенные дары», предложила поселиться в огромном доме мурзы на Николаевской улице.
Столкнувшись с возмутительными фактами захвата русских и пробуя бороться с этим разными способами, Перовский совершенно уверился в действенности только военной силы. Но доклады купцов, чиновников и военных разведчиков, по роду службы или занятий бывавших в Хиве или знавшихся с кочевниками, говорили о том, что война в степи требует серьезной подготовки. Незадолго до назначения в Оренбург Перовского туда был переведен во 2-й линейный батальон капитан Никифоров. Звание его было невелико, и теперь имя капитана известно лишь весьма узкому кругу специалистовисториков, но именно ему принадлежит разработка стратегии и тактики действий против хивинцев, так что все удачи и неудачи русских войск и дипломатии отчасти и его рук дело.
Капитан Никифоров в Оренбург попал, не имея еще и тридцати лет от роду. Как говорили, его столичную карьеру сломала некая история, «имевшая место в Петербурге». По служебному формуляру трудно судить, насколько справедливы эти слухи. Точно известно, что Прокофий Андреевич Никифоров был выпускником юнкерского училища при штабе бывшей 1-й армии, в котором готовили офицеров «для занятий в Главном штабе». Но в Главный штаб он отчего-то не попал; Никифоров служил в Вологодском полку, потом был переведен в гвардейские саперы. Там-то с ним и случилась «история»: будто бы в компании гвардейской молодежи ему нанесли оскорбление, а Никифоров не вызвал обидчика на дуэль. По понятиям гвардии это было расценено как трусость, и от Никифорова просто решили избавиться, переведя его в один из линейных батальонов. Это было сильное понижение в статусе. В таких случаях на помощь проштрафившимся приходила война, во время которой можно было «смыть пятно в биографии». Никифорову шанс представился во время турецкой кампании 1828-1829 годов, когда он показал себя храбрецом и отличным воякой. Попав затем в Оренбургский 2-й линейный батальон, он встретил здесь старого знакомого по Петербургу князя Рокасовского, в лице которого обрел влиятельного покровителя. Рокасовский был начальником штаба Отдельного Оренбургского корпуса, и, когда в должность командующего корпусом вступил Перовский, князь рекомендовал ему Никифорова «как весьма знающего офицера, хорошо ознакомившегося с краем». Это было действительно так: Никифоров неоднократно выезжал на рекогносцировочные съемки. Через год он пользовался полным доверием Перовского. В 1835 году, по представлению командующего, Никифорова причислили к офицерам Главного штаба, что было случаем уникальным – ведь он не заканчивал академии, а это было непременным условием для такого зачисления. Впрочем, его знания азиатских дел во многом превосходили те, что можно было получить, учась в академии.
Внешностью Никифоров был очень похож на Лермонтова, по крайней мере, так о нем отзывались те, кто знавал их обоих. Так же невелик ростом, но широкоплеч и очень подвижен, а главное сходство обнаруживали в глазах, горевших огнем. И характеры доверенного офицера штаба Перовского и великого русского поэта во многом были схожи: взрывной темперамент, желчность и склонность колко, беспощадно оценивать окружающих. Только вот стихов Никифоров – ни плохих, ни хороших – не писал. Зато имел особенную легкость слога при написании деловых бумаг и замечательно красивый почерк. Фактически все бумаги, исходившие от Перовского, были написаны Никифоровым или при его живейшем участии. Припоминают еще, что говорил он так быстро, что непривычные к его манере разговора люди поначалу совершенно его не понимали.
Итак, соображения генерал-лейтенанта Перовского и перо капитана Никифорова породили на свет проект «сдерживающей системы», направленной против хивинцев. Проект был одобрен, и первым шагом в осуществлении его стал приказ о внезапном аресте всех хивинских подданных, находившихся в пределах российской империи, с их товарами и имуществом. Одновременно с этим в Хиву, хану Аллакули, было отправлено письмо с требованием освободить всех русских пленников. До исполнения этих требований русские отказывались от любых переговоров.
Хивинцы отвечали, по обыкновению, уклончиво. Слали грамоты, просили отпустить купцов; прошло много времени, прежде чем они поняли, что позиция губернатора тверда и Хива лишилась выгодной торговли, а главное, возможности получать чугун, железо, медь, юфть и прочие русские товары. Тогда хан сделал шаг навстречу: в 1837 году из Хивы в Оренбург были присланы двадцать пять русских невольников и богатые дары. Но Перовский знал, что русских рабов в Хиве гораздо больше, а посему подарки были отосланы обратно и арест купцов не отменен. Через некоторое время из Хивы прислали восемьдесят пленных и несколько покаянных писем, но буквально в то же время туркмены совершили набег на Прикаспийские рыбные промыслы, увели в Хиву и продали там более двухсот рыбаков и рабочих. Это положило конец терпению Перовского; под его руководством Никифоровым был составлен проект военного похода на Хиву, который отослали в Петербург, на утверждение царю.
Несмотря на близость Василия Алексеевича к государю, проект этот «был взят под сомнение» – пугали большие расходы, необходимые для его обеспечения. Да к тому ж еще не забылось несчастье, которое постигло отряд князя Черкасского. Главным оппонентом Перовского стал военный министр граф Чернышев; дабы переубедить его, Перовский выехал в Петербург и взял с собой Никифорова.
Главный аргумент Перовского состоял в необходимости освободить из рабства русских людей, уже не один десяток лет взывавших о помощи. Исполнение христианского долга здесь совпадало с заботой о престиже великой империи, которой негоже допускать, чтобы ее подданные томились в рабстве у ничтожнейших правителей крохотных государств. Император слушал полемику военного министра и губернатора Оренбурга, не перебивая, до тех пор, пока Перовский не произнес, обращаясь уже непосредственно к монарху: «Государь! Я согласен принять на себя всю ответственность за эту экспедицию!»
Проекту дали ход, и уже через несколько дней, по указу Николая Первого, был составлен Комитет, в который вошли вице-канцлер, военный министр и оренбургский губернатор. На первом заседании Комитета, состоявшемся 12 марта 1839 года, было принято решение: «Содержать истинную цель предприятия в тайне, действуя под предлогом посылки одной только ученой экспедиции к Аральскому морю».
В случае удачи похода предполагалось сместить хана Аллакули, заменив его «надежным кайсацким султаном». При этом предполагалось «упорядочить сообщения с Хивой, освободить всех русских пленных и дать полную свободу русской торговле». Перовскому было присвоено звание «командующего отдельным корпусом в военное время», что давало огромные полномочия, вплоть до производства отличившихся в чины и награждения их орденами. 17 марта Перовский и Никифоров выехали в Оренбург, спеша начать подготовку к походу.
В Оренбурге собрали военный совет, на котором решили, как и когда выступать. Большинство военных поддержали предложение генерал-майора Станислава Циолковского идти зимой. Аргументы в пользу зимнего похода были сильны: летом в гибельный зной степь маловодна и колодцы вряд ли смогут обеспечить водой отряд в 5 тысяч человек; кроме того, надо было поить вьючных животных. Зимой же хватает снега, который остается только топить, и таким образом самая главная проблема решалась. Правда, Рокасовский и Никифоров высказывали опасения, что, если зима будет морозная и снежная, отряд неминуемо погибнет: снег помешает заготавливать дрова, а верблюды падут от бескормицы, не сумев прокопаться до травы под сугробами. Тащить же с собою запас топлива и кормов в расчете на все полторы тысячи верст до Хивы было немыслимо. Но мнение большинства возобладало, и Перовский принял решение идти в поход зимой, выступив из Оренбурга в середине ноября.
Маршрут проложили, полагаясь на сведения, добытые разведывательной экспедицией полковника фон Берга, которому удалось в 1825-1826 годах пройти от Оренбурга до Аральского моря. По сведениям, собранным фон Бергом, считалось, что в Хиву ведут два пути: один по восточному, другой по западному берегу Аральского моря. Первый путь имел протяженность в 1400 верст, второй – 1320. Этот последний путь фон Берг рекомендовал в случае похода на Хиву и даже наметил на маршруте две точки для построения укрепленных лагерей: при впадении в Эмбу речки Ата-Джаксы и возле озера Ак-Булак, названного так по белому цвету воды. Это место еще называли Чушка-куль – Свинское озеро, из-за изобилия диких свиней, обитавших в прибрежных камышах.
Как оказалось впоследствии, места для лагерей были выбраны фон Бергом неудачно – в первом почти не было кормов для животных, во втором вода не годилась для питья. Но Перовский об этом не знал; по его приказу тогда же, весной 1839 года, из Оренбурга выступили два отряда, снабженные всем необходимым для постройки укреплений в намеченных точках. Оба отряда подчинялись полковнику Гекке. Ему и его людям поручалось произвести топографическую съемку местности, построить лагеря в пунктах, указанных Бергом, запасти топливо и корма для верблюдов. В качестве топлива рекомендовалось заготавливать сухой камыш степных озер и бурьян. Эти «дрова» предполагалось связывать в плотные вязаночки размером с полено, чтобы они не прогорали очень быстро.
Полковник Гекке выполнил приказ, за лето его отряды построили два укрепления: одно в 500 верстах от Оренбурга, другое на 170 верст далее, в 12 верстах от начала подъема на плато Усть-Урт. Вернувшись в Оренбург и доложив об исполнении приказа, Гекке счел необходимым сообщить в рапорте, что путь «от Эмбы до Чушка-куль состоит из солончаковой низменности и самой бедной, илистой почвы, почти безводной». Но менять что-либо было уже поздно – выступили, рассчитывая на русское «авось» и волю Божью. Слишком много затратили сил и средств, чтобы признать поражение дела, даже его не начав. Идти решили к укреплению на Эмбе, которое планировали достигнуть в первых числах декабря, потом на Чушка-куль. Там устроить большой привал, выслать вперед разведку, чтобы выяснить, много ли снега на плато Усть-Урт. Тем временем к берегу Каспийского моря, до которого от Чушка-куля всего 100 верст, должны были подойти суда, груженные продовольствием и иными припасами для отряда. От пристани их караваном должны были доставить в лагерь раньше прибытия туда основных сил. Убедившись в наличии снега на плато, отряд форсированным маршем должен был идти к Аральскому морю и двигаться вдоль его берега – по уверению беглых рабов, в этих местах пресную воду можно было найти везде.
На берегу Урала построили печи, в которых непрерывно пеклись хлеба, из них потом сушились сухари. Там же сушились картофель, морковь, лук и свекла, тоже для запаса в путь. Обслуживали эти печи солдаты, отобранные из тех, кто хоть чуть понимал в этом деле. Другие же, умевшие держать в руках инструменты, сколачивали ящики, строили лодки, понтонные сани, вьюки для верблюдов, бочки и прочее, чего в степи не сделаешь и взять неоткуда будет. Отдельное внимание было уделено заготовке фуража. Выписали специальную паровую машину для прессовки сена и при ней англичанина-механика.
Одежду пошили специально для отряда, соорудив из «джибуги», валяной шерсти, и толстого сукна полушубки, поверх которых надевались армейские шинели. Изготовили стеганые подштанники, поверх которых надевались шаровары, сапоги были выданы с огромными голенищами: в них помещались войлочные валенки, на ноги к тому же надевались теплые чулки и портянки. К меховому воротнику пристегивалась на крючках черная суконная маска для лица, с прорезями для глаз. Одетые в такую форму солдаты выглядели чудовищно толстыми, неповоротливыми, а маски придавали им и вовсе нечеловеческий вид, словно это было неземное, бесовское войско. При этом солдат должен был нести еще и всю свою амуницию: ружье, боеприпасы, ранец и прочее.
Солдат учили ставить и собирать киргизские юрты, а потом, когда осенью 1839 года пригнали верблюдов, стали учить их, как с верблюдами следует обращаться. Такую подготовку прошли четыре оренбургских линейных батальона, полк уральских казаков, Уфимский казачий полк, а также особые команды саперов и разведчиков. Про Хиву было известно, что город окружен стенами, для их разрушения могли потребоваться пушки. Поэтому в отряд включили казачью конную артиллерию. Кроме того, с собою брали большой «артиллерийский парк» для обслуживания орудий, сигнальные ракеты и фальшфейеры. Обозом везли понтоны и лодки, которые собирались использовать при переправах и на Аральском море. В отряд также вошел сводный дивизион из Уфимского конно-регулярного полка. Этот полк был сформирован по ходатайству Перовского, туда собирали особенно рослых нижних чинов из разных кавалерийских частей.
Весь отряд насчитывал 5 217 человек, при 21 орудии. Всего на одного человека в отряде приходилось по два верблюда, их наняли у киргизов 12450 голов. 18 ноября 1839 года подготовку к походу признали законченной. Отряд разделили на четыре колонны: 1-й колонной командовал генерал Циолковский, 2-й – полковник Кузьминский, 3-й – генерал-лейтенант Толмачов и 4-й – генерал-майор Молоствов.
Четвертая колонна считалась главной, в ней шел сам Перовский со своим штабом. Официально начальником штаба числился подполковник Ивакин, на деле же им руководил штабс-капитан Никифоров, который, состоя при Перовском «для особых поручений» и не имея никаких определенных занятий, распоряжался решительно всем, действуя подчас совершенно самостоятельно, но от имени своего патрона и начальника. Кроме того, со штабом шли чиновники для особых поручений, адъютанты, гвардейские обер-офицеры, прикомандированные к отряду. Еще при штабе отряда была особая группа офицеров, в чью задачу входило геодезическое и этнографическое исследование Хивинского ханства. В главной колонне находились также обоз маркитанта, оренбургского купца Михаила Зайчикова, и так называемый кухонный обоз самого Перовского.
К моменту выступления отряда ни для кого уже не были секретом ни цель похода, ни число войск, ни имена командиров. В степи русских уже ждали.
За несколько недель до выступления основных сил отряда в степь отправился авангард под командой подполковника Данилевского, насчитывавший 5 офицеров, 357 нижних чинов при 4 орудиях, с обозом в 1128 верблюдов. Этот отряд благополучнее всех добрался до Эмбы: снега было мало, верблюды легко докапывались до корма, а морозы не донимали людей.
На 11 часов утра 18 ноября 1839 года генерал-адъютант Перовский назначил последний смотр. В степи, за стенами города, был отслужен напутственный молебен. Впереди был тяжелый поход в суровую зимнюю степь, навстречу уже ждущему их неприятелю. По окончании молебна отряд развернулся в походные колонны, вперед была выслана разведка, по флангам пущены дозоры, и вся масса людей двинулась вперед. На первом же переходе отряд попал в снежный буран, который прервал связь между колоннами и навалил огромные сугробы. Снег все падал и падал, и начинало казаться, что он уже никогда не кончится. Люди выматывались, теряли силы, преодолевая снежные завалы; в Оренбурге казалось, что все предусмотрели, но поход сразу показал, что подготовка была недостаточной. За просчеты пришлось расплачиваться человеческими жизнями. Как только задул ледяной ветер и пошел снег, оказалось, что экипировка солдат совершенно не годится: одежда тяжела и неудобна, через снежные заносы пробираться солдату, одетому подобным образом, да еще и нагруженному оружием и иным снаряжением, было невыносимо трудно. Но главная беда заключалась в том, что, несмотря на толщину и плотность, обмундирование не защищало от стужи. Люди обмораживались, в первые же дни от холода погибло несколько человек. До укрепления на Эмбе отряд добрался лишь 19 декабря, потеряв в пути немало верблюдов и лошадей и отстав от намеченного срока более чем на две недели.
Видя, что дело идет не так, как предполагалось, Перовский решил дать отряду продолжительный отдых и приказал сформировать отдельную колонну из тех, у кого было побольше сил. Задачу колонне поставили дойти до Чушка-куля, встать в тамошнем укреплении лагерем и выслать рекогносцировочную группу на плато Усть-Урт. По сути, приказ о формировании этой колонны отдал Никифоров, поскольку сам Перовский в это время, поняв, что ввязался в жуткую авантюру, и не предвидя ничего хорошего, впал в депрессию. Командующий сидел в своей кибитке, и допуска к нему никому не было, кроме Никифорова, который распоряжался от его имени. Начальники колонн, состоявшие в генеральских чинах, вынуждены были подчиняться приказам штабс-капитана, получая составленные Никифоровым и подписанные Перовским директивы.
В дополнение к тяготам пути по зимней степи прибавились постоянные наскоки хивинских всадников. Крупного сражения предводители этого степного войска не желали, слишком заметна была разница в вооружении между хивинцами и регулярными частями русских – артиллерия отряда разметала бы их в пух и прах. Они избрали свою излюбленную, опробованную на караванных путях тактику, сводившуюся к внезапным, преимущественно ночным налетам. Основной целью таких наскоков был захват вьючных животных. Расчет был верным – если русские потеряют значительную часть лошадей и верблюдов, то, конечно, на себе они грузы не потащат и будут вынуждены, бросив припасы, вернуться в Оренбург. Тогда их можно будет преследовать, подбирая при этом немалые трофеи.
Так хивинцы напали ночью на расположившуюся лагерем колонну поручика Ерофеева. По приказу Ерофеева лагерь был укреплен по периметру неким подобием баррикад из тюков с припасами, фуражом и прочими грузами. Внутри укрепления были поставлены кибитки и повозки. Примерно треть отряда была больна, но хивинцы русских врасплох не застали; барабанщик отряда, цыган по национальности, заметил приближение врага и ударил тревогу. Лошади хивинцев испугались внезапного барабанного боя и стали сбрасывать седоков. В рядах хивинцев возникла паника, и они скрылись в степи. Но прежде они успели ухватить арканом одного из солдат и уволокли его за собой. Из ночной мглы еще долго слышались ужасные крики несчастного.
Хивинцы, потеряв человек тридцать, отступили, но вскоре вернулись пешими, решив, что причина их неудачи кроется в пугливости коней. В новую атаку они пошли толпой по глубокому снегу. Поручик Ерофеев приказал солдатам не стрелять и, лишь подпустив противника поближе, скомандовал стрельбу залпами. Убийственный огонь всем фронтом, производимый сменными шеренгами стрелков, стрелявшими почти непрерывно, произвел чудовищные опустошения в рядах хивинцев, и они побежали прочь. Итог этого боя был таков: отряд потерял пятерых убитыми, пятнадцать ранеными и один попал в плен. Впрочем, он тоже вскоре перешел в разряд убитых: утром разведчики неподалеку от лагеря наткнулись на его изуродованный труп. Солдат был обезглавлен, у него обрубили по локти руки и по колени ноги. Разведчики доложили, что, судя по оставшимся следам, в налете участвовало до тысячи человек.
Барабанщик-цыган, первым поднявший тревогу, получил Георгиевский крест. Поручик Ерофеев был произведен в штабс-капитаны, а потом в капитаны, представлен к ордену Св. Владимира с мечами и бантом. По возвращении из похода он был командирован в образцовый учебный полк сроком на год и оттуда вернулся уже майором, приняв под свою команду 3-й линейный оренбургский батальон. Впоследствии Ерофеев стал командиром оренбургского укрепления и за отличия по службе был произведен в подполковники. Но после этого с ним случилась старая русская беда – он стал сильно пить и в конце концов был уволен из армии. Правда, позже, по ходатайству Перовского, Ерофеев был снова принят на службу и зачислен младшим штаб-офицером в Самарский гарнизонный батальон; в этой должности он оставался до самой своей смерти.
Перед выступлением к Чушка-кулю отдельной колонны взбунтовались проводники-киргизы, отказавшиеся идти дальше. Некоторые из них даже пытались бежать, но их поймали, привели к Перовскому, которому, будучи спрошены, киргизы твердили свое: дальше не пойдем, везде лежат снега, пройти невозможно, а половина верблюдов уже пала, и остальные тоже вот-вот передохнут, а заплатят ли за них, как было обещано, еще не известно. Не привыкший терпеть дерзости от азиатов, Перовский обещал заплатить за каждого падшего верблюда по возвращении в Оренбург, но степняки только упрямо мотали головами: разговор о плате за верблюдов был лишь предлогом, для того чтобы вернуться. Поняв это, командующий пригрозил киргизам расстрелом, но те, думая, что он их просто пугает, продолжали упорствовать. Тогда, по приказу Перовского, выхватили из их толпы несколько человек и тут же расстреляли. Поняв, что «белый начальник» не шутит, киргизы закричали, что согласны идти…
Колонна выступила и под обжигающими ветрами, теряя людей десятками, дошла до укрепления у Чушка-куля. В пути терпели невероятные лишения. Даже на коротких ночевках люди не могли согреться. Невозможно было разуться, высушить обувь и портянки, а потому начались массовые обморожения ног. «Обезножевших» и выбившихся из сил помещали в лазаретные повозки, там они очень быстро умирали от холода. Спасался тот, кто мог идти, и тот, кто имел возможность согреться. Отряд из последних сил добрался до лагеря, но и там не нашли теплого жилья; да к тому же вода в округе оказалась непригодной для питья, и четверть пришедших тут же заболела дизентерией; что же до гарнизона укрепления, то он уже давно лежал вповалку.
Ситуация усугубилась тем, что в «джибуге» завелись вши, которые заедали людей. Ни прокалить одежду, ни провести дезинфекцию, да что там – просто вымыться было негде, и солдаты стали бросать завшивленные вещи. В Оренбург не возвратилось ни одного комплекта обмундирования, в котором выступили в поход. А мороз только усиливался, ледяные ветры зимней степи убивали быстрее, чем сабли хивинцев. Солдаты замерзали насмерть на постах. Один караульный офицер, проверяя посты, несколько раз окликнул часового, но тот не отвечал. Подойдя вплотную, он ударил солдата в спину, и тот беззвучно повалился в сугроб – опираясь на ружье, на часах стоял покойник.
Верблюды и лошади пали практически все. Те грузы, что они тащили, большей частью пошли на топливо. Хивинцы почти не тревожили вымирающий лагерь, кружа неподалеку от него, словно стая степных шакалов, и дожидаясь, когда противник окончательно обессилеет. Но, выполняя приказ, в разведку на Усть-Урт выслали отряд казаков в 150 человек. Через восемь дней они вернулись, найдя подъем на плато, по ущелью Кык-каус, но толку от этого было мало – на плато лежал снег еще больший, чем на равнине. Зима становилась все суровее, ни о каком дальнейшем продвижении речи уже быть не могло.
Получив известие о непроходимости снегов на Усть-Урте, Перовский 1 февраля 1840 года собрал военный совет и объявил о возвращении. Приказ по отряду гласил: «Товарищи! Скоро три месяца, как мы выступили по повелению Государя Императора в поход, с упованием в Бога и с твердой решимостью исполнить царскую волю. Почти три месяца боролись мы с неимоверными трудностями, одолевая препятствия, которые встретили в эту необычайно жестокую зиму от буранов и непроходимых, прежде невиданных в этих краях, снегов, заваливших нам путь и корма. Нам не было даже отрады встретить неприятеля, если не упоминать о стычках, показавших все его ничтожество. Невзирая на все наши труды, люди свежи, бодры, лошади сыты, запасы наши обильны (эта строка самая странная в приказе, непонятно, кого хотел обмануть Перовский: себя, людей вокруг себя? – В. Я.). Одно нам изменило: значительная часть верблюдов погибла, оставшиеся обессилели, и мы лишены возможности пополнить в пути запасы продовольствия. Как ни больно отказаться нам от победы, но мы должны возвращаться в сей раз к своим пределам. Там будем ждать повелений Императора. В другой раз будем счастливее. Мне утешительно благодарить вас всех за неутомимое усердие, готовность и добрую волю каждого при всех перенесенных трудностях. Всемилостивейший Государь наш и отец узнает обо всем».
По свидетельству Никифорова, Перовский был очень раздражен и подписал приказ прямо в черновике. К тому времени большинство командиров колонн уже слегло в болезнях, и сам он страшно мучился легочной болезнью, вызывавшей приступы удушья. Решение было принято Перовским, когда среди офицеров уже вполне серьезно обсуждалось: а смогут ли они теперь вернуться? Если посылать за подмогой, то пока соберут достаточно сил да пока до них доберутся, то и спасать уже будет некого. В обратный путь выступили, собрав последние силы; ту часть снаряжения, что не сожгли в кострах и не могли унести с собой, утопили в озере.
Они брели поредевшими колоннами по весенней степи, преследуемые летучими отрядами хивинцев, отражая их наскоки. Обессилевших бросали, везти их было невозможно за отсутствием лошадей и верблюдов, а нести их ни у кого не было сил. Ослабевшие и отставшие в большинстве своем попадали в плен к шедшим следом хивинцам, а те, кого они не замечали, так и умирали в степи…
После этого похода многие поставили на карьере Перовского крест. Сам же он отправил в Петербург подробный рапорт, приложив к нему предложение о подготовке нового похода. Ответили ему очень скоро: это невозможно. Знакомый Перовскому офицер, близкий к министру Чернышеву, сообщил мнение министра, что «для одного нынешнего царствования довольно будет и одного столь неудачного похода». Получив это письмо, Перовский отправил приказ той части отряда, что еще оставалась в укреплении на Эмбе: «Покинуть лагерь, взорвать и срыть укрепления, спешно идти в Оренбург».
Когда в город пришли люди, зимовавшие на Эмбе, можно было наконец подсчитать все потери. Оказалось, что на марше, в стычках с противником и во время стояния страшным лагерем у Свинского озера погибло, умерло от болезней и замерзло насмерть 1054 человека нижних чинов. В Оренбургский госпиталь поступили 609 человек, из них 20 офицеров, больных цингой. Больные, истощенные лишениями, они поправлялись плохо; окончательно выздоровели немногие.
Столь бесславный финал предприятия, сулившего неисчислимые выгоды в случае успеха, а для его участников несомненные славу и награды, поверг всех в уныние. Было потрачено впустую два с лишком миллиона рублей. О моральных и политических издержках и говорить не приходилось.
В мае Перовский выехал в Петербург, рассчитывая получить аудиенцию у императора. Но приняли его скверно: военный министр разговаривал с ним сухо и на просьбу о личном докладе императору ответил, что его величество примет его, когда сочтет нужным. Томительное и унизительное ожидание затянулось на целый месяц, покуда наконец Перовский не Получил приглашение на смотр в Михайловском манеже. Там, на разводе, заметив стоявшего несколько отдельно от общего строя Перовского, император подошел к нему, справился о здоровье и пригласил к себе в Петергоф. У Перовского словно камень с души свалился. Целых два дня, живя во дворце, он пересказывал императору ужасающие подробности хивинского похода. Император потребовал, чтобы Перовский предоставил ему наградные списки, и собственноручно на них написал: «Перовскому: передать лично графу Чернышеву для немедленного исполнения!» Самого Перовского отправили для лечения за границу, выдав из казны для этого 20 тысяч рублей.
Страшный «зимний поход» принес совершенно неожиданные результаты: в октябре 1840 года из Хивы были возвращены 600 русских пленных. Это были солдаты, отставшие от своих колонн и подобранные хивинцами в степи, а также рабы, содержавшиеся прежде в Хиве. Прибывшие рассказывали про свой плен у азиатов ужасные подробности – их продавали в рабство, били кнутами и нагайками, держали без пищи в клоповниках. Руки, плечи и спины недавних невольников были покрыты глубокими ранами и старыми рубцами, свидетельствовавшими о перенесенных ими страданиях красноречивее любых слов. У нескольких человек мучители выкололи глаза. Среди пленных были и женщины, захваченные на рыбных промыслах или во время полевых работ в ближайших губерниях. Некоторые пленные пытались бежать, но таких, если ловили, сажали на кол, и в назидание другим они умирали долго и мучительно. Тем же, кто все-таки сумел ускользнуть от преследования хивинцев, дойти до российских форпостов удавалось редко: они гибли от голода, жажды и зноя в диких степях. Впрочем, были среди русских пленников и такие, что переходили в мусульманство, и с ними хивинцы обращались совсем по-другому: предоставляли полную свободу, ничем не притесняли, помогали завести хозяйство, давали в жены таких же полонянок, в основном персиянок. Из рассказов бывших рабов выяснилась совершенно удивительная вещь: оказалось, что многие из них попали в рабство при живейшем пособничестве русских, продававших их киргизам, как скот! И первым из таких работорговцев был назван купец Михаил Зайчиков, которого Перовский полагал одним из самых ловких и умелых торговцев в Оренбурге и окрестностях.
До этого у купчины все складывалось наилучшим образом: владел он несколькими тысячами десятин земли, руками наемных работников засеивал их хлебом, которым торговал, делая большие обороты. Кроме того, Зайчиков вел торговлю с Азией, отправляя караваны в Бухару и Хиву, и считался одним из самых успешных и оборотистых коммерсантов в крае. Перед начальством он не заискивал, но порученное ему исполнял всегда старательно. Оценивая деловые качества оренбургских купцов, Перовский выбрал именно его – Михаила Зайчикова – в главные маркитанты своего отряда, затевая поход против Хивинского ханства. И Зайчиков прошел с солдатами до самого лагеря на озере Чушка-куль, в пути и на стоянках, как и положено рачительному маркитанту, торгуя разными привезенными товарами. Цены были под стать ситуации, когда взять более негде: Зайчиков брал за фунт баранок, стоивших в Оренбурге 3 копейки, 50 копеек, четвертка табаку ценою в 15 копеек в лагере шла по рублю. Торговал он и водочкой, которая в городе стоила 35 копеек за бутылку, а в его походной лавочке та же емкость отпускалась за 1 рубль 35 копеек. Когда у людей кончились наличные, Зайчиков без всякого спору, как и было договорено с командующим перед походом, стал отпускать товары в кредит, под запись в книге.
Вернувшись с остатками отряда в Оренбург, по этой книге купец получил от казны полное возмещение за товары, что были взяты у него и не оплачены теми, кто умер или погиб. За поход он, в числе прочих, был награжден золотой медалью «За усердие» – все ж таки, как ни крути, но снабжал Зайчиков отряд исправно и замерзнуть в ледяной степи мог точно так же, как и любой участник похода.
Возвращением пленных русские, как ни странно, были обязаны англичанам. Хотя «зимний поход» Перовского и не принес успеха, англичане, весьма чутко относившиеся к любым событиям у границ Индии, рассмотрели в нем угрозу своим интересам и поспешили предпринять «ответные меры». Из Герата в Хиву прибыло посольство английского купечества, которое получило аудиенцию у хана Аллакули. Англичане рисковали: прежний хан приказал удавить в темнице нескольких британцев, добравшихся до его столицы из Персии. Казнили их исключительно в назидание другим «гяурам-крестоносцам», чтобы отбить охоту посещать эти края. Тем не менее риск себя оправдал: английские бизнесмены сумели убедить хана отпустить русских рабов, захваченных прежде, а заодно и тех, кто попал в плен зимой 1839-1840 годов. Сделано это было для того, чтобы лишить Россию формального повода для нового похода, который мог бы завершиться не столь удачно для хивинцев. Хану при этом обещали политическую и военную поддержку Великобритании, а все расходы по возвращению пленных англичане брали на себя.
Премудрые сыны туманного Альбиона не поскупились и не только внесли за всех пленных полную сумму выкупа, но и дали денег на то, чтобы их обеспечить на дорогу. Освобожденным дали по золотой монете, равнявшейся четырем русским рублям, и по мешку муки, а также по одному верблюду на двоих. Благодаря этому из полона к Оренбургу вышли 416 человек обоего пола; в Хиве остались л ишь те, кто за время плена оброс семьей, – в основном женщины, вышедшие замуж и родившие по нескольку детей.
На бывших рабов сходились посмотреть, расспросить о сгинувших где-то в неволе близких людях; в это время и пошел по Оренбургу слушок о том, что многие из вернувшихся угодили на рабский рынок при живейшем участии оборотистого Михайлы Зайчикова! Перовский, которому донесли об этих разговорах, приказал провести следствие. Оно и установило, что награжденный медалью «За усердие» доблестный маркитант действительно долгое время был главным организатором похищений людей. Его приказчики нанимали рабочих для уборки хлеба на хуторах купца, разбросанных в степи, вербуя их каждый раз на новом месте.
Предлагались хорошие заработки, давались крупные задатки. Во время страды работников хорошо кормили, а когда хлеб бывал уже убран и вывезен, в ночь перед окончательным расчетом их угощали водкой. Когда подвыпившие люди засыпали, являлись киргизы. Полусонным, перепуганным, им вязали руки и гнали в степь, а приказчиков Зайчикова оставляли на месте связанными, «со следами насилия на лице» – для обеспечения им надежного алиби. В обмен на рабов Зайчиков получал восточные товары, доставлявшиеся с караванами его деловых партнеров из Хивы. Эти товары с выгодой продавались, равно как и хлебушек, убранный задарма, но шедший «по настоящей цене», – и приносили немалые прибыли. Этот промысел продолжался не год и не два, но сколько точно – следствию установить не удалось.
Молва приписывала соучастие в этой «коммерции» еще нескольким оренбургским купцам первой гильдии, но это доказать не удалось, и под суд зимой 1841 – 1842 годов пошел только Зайчиков со своим старшим приказчиком Филипповым. Оба были приговорены к бессрочным каторжным работам.
Филиппов сгинул где-то в Сибири, а вот Зайчиков сумел вернуться. На этапе он «обменялся сроком» с одним из осужденных, воспользовавшись тем, что способы идентификации личности отсутствовали и установить, «тот иль не тот» арестант отозвался на выкликнутую фамилию, не представлялось возможным. В карточке каторжника, указывались самые примитивные приметы, по которым точно опознать личность было затруднительно, а потому богатые или «авторитетные» каторжники частенько откликались вместо тех, кто шел по малым срокам, заставляя их принимать свое имя и вместе с ним свой срок. Зайчиков сумел «махнуться» именами с кем-то из малосрочников и под новой фамилией отбыл всего несколько лет, после чего вернулся в Оренбург.
Все нажитое имущество еще прежде ареста купец предусмотрительно перевел на сыновей, отделив их от себя, и таким образом избежал конфискации имущества. Немало у него было припрятано и «заветных кубышек»; так что, вернувшись из Сибири, работорговец не бедствовал.
Говорят, на старости лет Михайлу Зайчикова заела совесть: живя под чужой фамилией, он выстроил храм, открыл богадельню, щедро жертвовал на благотворительность. Тайна его личности в городе была «секретом Полишинеля» – вскоре по возвращении Зайчикова опознали, но трогать не стали, не решившись «ворошить прошлое», – слишком у многих в Оренбурге рыло было в пуху. При повторном суде, назови беглый каторжник «кому, чего и скока», в Сибирь вереницей отправились бы многие. Но «неуязвимость» Зайчикова не спасла его от ненависти и презрения простых людей. Несмотря на все попытки «делать добрые дела», вслед «человеку похожему на Зайчикова» всегда сыпались проклятья и угрозы. Хутора и другая недвижимость Зайчиковых регулярно поджигались, и даже смерть работорговца не примирила его с земляками, его проклинали и в могиле. Легенды же о неправедно нажитых богатствах и сокровищах, зарытых Зайчиковыми, в Оренбурге ходят и по сию пору.
«Зимний поход» здорово напугал хивинского правителя, и он, освободив пленных, 18 июля 1840 года выпустил фирман, в котором сообщал своим подданным: «…Мы вступили с великим российским Императором в дела миролюбия с твердым намерением искать его высокой дружбы и приязни. Отныне никто не должен делать набеги на русские владения и покупать русских пленных. Если же кто в противность сего высокого повеления нашего учинит на русскую землю нападение или купит русского пленного, тот не избегнет нашего гнева и должного наказания…» В Петербурге в этом жесте увидели стремление смягчить отношения с Россией. Было принято решение готовить к отправке русских агентов в Хиву, Бухару, Туран и Коканд. В ответ на фирман император распорядился освободить просидевших под арестом более двух лет хивинских купцов, возвратить им товары и отпустить их домой. Велено было принять привезшего фирман в Оренбург хивинского вельможу Атанияз-ходжу как официального посланника. Атаниязу было около сорока лет, он держался очень солидно. До того как попасть в Россию, Атанияз совершил несколько дипломатических вояжей, исполняя поручения хана Аллакули: трижды побывал в Бухаре и один раз в Герате. Он был прилично образован и, кроме родного языка, знал еще персидский и арабский. При нем была свита из двух человек, что по восточным меркам было очень скромно.
Русским послом в Бухару назначили горного инженер-майора Бутенева (видно, не давали покоя русскому правительству мысли о песочном золоте, и и к хану бухарскому решили заслать человека, сведущего в геологии). В Хиву, по предложению Перовского, отправили штабс-капитана Никифорова. Он должен был доставить личное письмо императора, адресованное хану Аллакули и его сановникам, в котором сообщалось, что посланник Хивы Атанияз-Ходжа-Реиз-Муфтий был принят и выслушан, а в подтверждение уверений в дружбе посылается с этим письмом штабс-капитан Никифоров, уполномоченный вести все переговоры. Сами же переговоры должны были касаться, во-первых, уничтожения рабства и пленения русских; во-вторых, ограничения влияния Хивы на кочевые племена, издревле состоящие в подданстве России; в-третьих, обеспечения русской торговли как с Хивой, так и соседними странами.
Кроме первого пункта, опиравшегося на ханский фирман, два других выглядели довольно спорными, в особенности второй. Он предлагался в надежде, что хоть как-то удастся разграничить с Хивой влияние на кочевников, которые подчинялись только силе и выгоде. По третьему пункту русский посол получил подробные инструкции. В его задачи входило добиться:
а) разрешения русским купцам свободно приезжать в Хиву и торговать во всех селениях ханства, имея личную ответственность хана за их неприкосновенность, сохранность товаров и имущества;
б) установления разумных пошлин на товары, ввозимые из России русскими купцами и их приказчиками;
в) присутствия при оценке товаров русского чиновника;
г) прекращения незаконных остановок караванов в степи;
д) прекращения препятствий, чинимых хивинцами всем караванам, идущим в Россию или возвращающимся из оной.
Также следовало добиваться постоянного присутствия в Хиве русского агента, через которого должны были бы решаться все спорные вопросы.
При благоприятном ходе переговоров надлежало попытаться склонить хана к подписанию трактата; если же переговоры пойдут неудачно, все равно следовало всячески склонять хивинцев к «благоприятной перемене в отношениях» и, лишь убедившись в окончательной невозможности таковой, разрешалось отбыть в Россию. В заключительно части инструкции для Никифорова говорилось: «Главная цель посылки вашей есть не столько приобретение вещественных выгод для России, как упрочение доверия к ней Хивы, и этой целью вы должны руководствоваться во всех поступках ваших, как важнейшим условием для будущего политического влияния России на соседние с нею ханства Средней Азии».
Кроме того, Никифоров получил от своего непосредственного военного командования в лице генерала Перовского чисто разведывательное задание, заключавшееся в сборе сведений топографического и стратегического характера, которые можно было бы использовать впредь. Подобные задания ему было выполнять не впервой. Уже вернувшись из «зимнего похода», в 1840 году штабс-капитан успел сходить с разведывательной группой в степь, исследуя пути, ведущие к Аральскому морю. Для тайной съемки местности в состав миссии Никифорова вошли два топографа, унтер-офицеры Петров и Чинеганов.
Вместе с ними ехал поручик Мухамед-Шариф Айтов, назначенный постоянным русским агентом в Хиве; впрочем, еще надо было получить у хивинцев разрешение на существование такой должности. Этот офицер начал карьеру в 1817 году, поступив в бугульминский земский суд сверхштатным писцом. Оттуда он был переведен в 1820 году на должность толмача в Оренбургскую пограничную комиссию. Служа в этой должности, Айтов несколько раз командировался в степь, где очень хорошо изучил быт и нравы кочевых племен, а живя в Оренбурге, познакомился, по делам службы и частным образом, со многими хивинскими купцами и посланниками, прибывавшими в город. Именно Аитову было поручено закупать и нанимать верблюдов при подготовке похода Перовского – он должен был привести их в укрепление на Эмбе. Но 12 января 1840 года его захватила в плен шайка разбойничавших киргизов, и в феврале он уже оказался в Хиве. Здесь на допросах он держался твердо и отвечал бойко, чем сумел расположить к себе самого хана Аллакули и некоторых хивинских чиновников. Пленный поручик был помещен в комнатах ханского дворца, его хорошо кормили. Хан нередко призывал его к себе и во время бесед задавал почти детские вопросы, например, интересовался: «Правда ли, что меня в России считают разбойником?» Летом, отпуская пленных и рабов, с ними в Оренбург отправили и Айтова.
При выборе его кандидатуры на роль агента при ханском дворе исходили из того, что в Хиве Айтов имел многочисленные знакомства и был мусульманином – хивинцы видели в нем прежде всего единоверца. Совсем не лишним было иметь в составе миссии человека, умеющего передать слова европейца в привычной для азиатов интонации и сгладить острые углы, никак не изменив при этом сути сказанного.
Кроме Никифорова, Айтова и унтеров-топографов, с миссией шли двенадцать уральских казаков и десять киргизов, а также оренбургский купец Деев (кстати, над ним тоже висело подозрение в причастности к работорговле). Миссия везла подарки хану и его первому министру; они состояли, как почти всегда в таких случаях, из отрезов сукна, шелка, бархата, расписной посуды и прочего в таком роде. Одновременно с Никифоровым в путь отправился и посланный в Бухару Бутенев; до реки Сыр два каравана шли вместе, а далее разделились. Кроме того, к каравану присоединилось посольство Атанияз-ходжи, который возвращался в Хиву. Дорогой с ним у Никифорова вышла ссора, причиной которой стало нежелание штабс-капитана спешить: топографическая съемка местности требовала много времени, а посол, соскучившись по дому, очень торопился. В конце концов Атанияз решил отделиться от отряда и следовать в Хиву самостоятельно, но Никифоров, всю дорогу общавшийся с ним как с подчиненным, дабы «внушить азиатам, что он есть лицо высшее», пригрозил, что прикажет связать его, если он попробует уйти вперед. Никифоров разрешил Атаниязу следовать отдельно лишь перед самым прибытием в Хиву.
Переправившись через Сыр 6 июля, караван русской миссии оказался в виду хивинской крепости. Здесь устроили привал; Никифоров ждал ханского чиновника, который, по сообщению начальника крепостного гарнизона, уже выехал из Хивы ему навстречу. Ожидание затянулось на десять дней, до 16 июля, когда в крепость прибыл узбек Вуиз-Нияз и тут же устроил пир в честь Никифорова. Впрочем, уже на следующее утро Вуиз-Нияз и его люди были готовы к выступлению, и сопровождаемый ими караван русской миссии тронулся в путь. Возможно, Вуиз-Нияз специально вел русских кружной дорогой; во всяком случае, их путешествие через степь и пески, от колодца к колодцу, затянулось, и в Хиву они прибыли только 9 августа.
Никифоров зря времени не терял, а все поглядывал, примечал и записывал. Его интересовали водные ресурсы края, как и сколько сеют хлеба да сколько раз в год снимают урожай, какие растут деревья, какую древесину можно употреблять для хозяйственных нужд, как и чем живут в этих краях люди. В частности, он отметил, что чай, привозимый из Оренбурга и Астрахани в ящиках, ценится у хивинцев много дороже того, что привозят восточные купцы, которые ссыпают этот нежный и деликатный товар в кожаные мешки, а то и в шерстяные сумы.
На постой Никифорова определили в загородном доме, принадлежавшем родственнику мехтера. К дому был приставлен для услуг послу и его людям особый юзбаши. В отличие от обычаев прежних лет, когда дела с посольствами затягивались на многие дни, к Никифорову утром 10 августа прибыл посланец от мехтера, который, задав ритуальные вопросы о дороге и самочувствии, прямо спросил, привез ли посланник высочайшую грамоту. Никифоров высказал пожелание передать бумаги хану лично. Впрочем, мехтера он тоже не обидел и послал ему имевшиеся копии. На следующий день через особого чиновника Никифорова известили, что хан желает его видеть и получить грамоты, письма и подарки.
В сопровождении членов миссии и восьми казаков, несших подарки, штабс-капитан отправился на аудиенцию. По прибытии во дворец его попросили снять оружие, и, когда он исполнил эту просьбу, чиновники повели его в один из внутренних дворов, где на возвышении, покрытом ковром, восседал хан в окружении высших чинов государства – мехтера, куш-беги и диван-беги. Здесь же стояли любимец отца хана, встречавший некогда Муравьева, теперь уже старик ходжашмегрем, нынешний фаворит Атанияз и еще несколько сановников рангом ниже.
После обмена приветствиями Никифоров произнес небольшую речь, передал мехтеру письма и грамоты для поднесения их хану. Тот читать их не стал, положил подле себя на ковер и осведомился о здоровье Белого Царя; выслушав ответ, разрешил Никифорову поднести подарки, и тот распорядился, чтобы их внесли. Поручик Айтов объяснял назначение некоторых диковинных для Хивы даров. Насколько можно было заметить, особенно сильное впечатление на хана произвел серебряный сервиз.
Переговоры во время первой аудиенции носили чисто формальный характер и были скорее разговором, который показал готовность обсуждать серьезные вопросы. В заключение аудиенции хан сказал, что готов видеться с русским послом, когда только тому будет угодно, стоит только известить об этом заранее мехтера.
Слова хана оказались вовсе не данью вежливости, и уже 13 августа была дана новая аудиенция. Хан интересовался, сколь сильны Англия и Россия, спрашивал о русском правительстве, о Турции, о причинах войны Китая и Англии. Никифоров, как мог, пояснил суть конфликта: английские купцы, торгующие с Индией, платили в казну огромные налоги, составлявшие треть всех королевских доходов. Взносы делались обычно товаром, самым главным из которых был чай, который брали в Китае, выменивая его на выращенный в Индии опий. Китайский богдыхан, видя пагубное влияние, которое производит на его подданных курение опиума, запретил ввоз наркотика. Тогда англичане стали ввозить его контрабандно, и кончилось все тем, что китайцы конфисковали запасы дурмана и утопили их в море. Английские купцы понесли значительные убытки и лишили казну значительной части дохода, и тогда Великобритания силой оружия принудила китайцев отменить запрет на ввоз опия, а заодно и компенсировать убытки, понесенные англичанами. Хан выслушал эту лекцию очень внимательно и задал несколько вопросов, показавших полное незнание всего того, что происходит в мире.
Далее аудиенции последовали одна задругой; происходили они в присутствии мехтера. Случалось, переговорщики жарко спорили, но расставались дружелюбно. Договорились почти обо всем; даже в вопросе о пошлинах хан готов был уступить. Камнем преткновения стало разграничение владений в степи. Аллакули никак не желал признавать племена киргизов подданными Белого Царя. Переговоры забуксовали: в конце каждого свидания Никифорову казалось, что он уже уговорил хана, но при новой аудиенции все начиналось сызнова. Дело усугубилось болезнью Никифорова. Каждый визит к хану давался с трудом.
Промучившись в бесплодных переговорах, штабс-капитан решил умаслить хана поднесением ему дорогого подарка: у него в запасе имелись железная печка и карсельские лампы, которые, по надежным известиям, хан очень желал получить. В день коронации императора, 22 августа, он поднес их хану, присовокупив пуд молотого кофе и 6 пудов сахара. Но, несмотря на явное удовольствие от полученного подарка, хан в переговорах на уступки не пошел.
В немалой степени неуспех переговоров объяснился тем, что ханские вельможи почти не получали подарков, ибо Никифоров, войдя в прямые и такие дружеские сношения с ханом, считал это излишним. Между тем вельможи ссорились друг с другом, и на этом можно было сыграть: так, кушбеги, который относился к русскому не лучшим образом, находился в конфронтации с мехтером. 35-летний куш-беги сделал большую карьеру, «стоя на коленях»: он был в молодости тюклюбом, настоящей звездой мужского гарема Аллакули, и мехтер недолюбливал этого выскочку. Мехтер пригласил Никифорова на обед, но коль скоро политических разговоров за столом он не вел и от бесед на важные темы уклонился, Никифоров утратил к нему интерес и ответного пира не задал, чем убил всю симпатию к себе и у мехтера.
С виду миссия жила без ограничений: русским было разрешено свободно ходить по городу, и Никифоров не раз измерял улицы, снимал планы, а топографы его с купцом Деевым ездили по окрестным городам и чертили путевые маршруты. Но за каждым их шагом зорко следили люди хана. Почту их пытались просматривать, и Никифоров стал шифровать письма и отправлять их в Оренбург только «с надежной оказией» – обычно с купеческим караваном, хозяин которого рассчитывал получить за эту услугу в Оренбурге «снисхождение» при взимании пошлин и другие льготы. «Мы живем довольно стесненно, – писал Никифоров Перовскому. – Нас мало кто посещает, а если приходят люди, которые могут дать интересные сведения, то они боятся бывать часто, ведь мы всегда окружены шпионами. Мехтер избегает всяческого сношения с нами, чтобы отклонить от себя подозрения хана в его дружеских связях с нашей миссией. Подарки, доставленные от имени вашего превосходительства, были переданы ему тайно и с крайнею предосторожностью. Впрочем, сановники хана имеют мало на него влияния: хан входит лично во все сношения с миссией по предметам переговоров».
Не видя дальнейшего проку в затягивании переговоров, Никифоров пошел на рискованный шаг и явился 11 сентября в ханский дворец уже не с увещаниями, а с грозными требованиями.
– Я уполномочен заявить от лица оренбургского военного губернатора, – сказал он торжественно, – что все кочующие в степи племена, принявшие когда-либо подданство Российской империи, признаются подданными государя императора, а все земли их кочевок достоянием империи. Будет ли Хива состоять в дружеских отношениях с Россией или нет, но пункты, изложенные в декларации, которую я честь имею представить вашему высокостепенству, будут выполняться неукоснительно.
В поднесенной хану декларации содержалось следующее:
«Именем господина оренбургского военного губернатора имею честь объявить, что:
1) Всякий хивинский подданный, посланный на сбор податей между киргизами, кочующими по северную сторону реки Сыра, будет предан смерти, как нарушитель мира.
2) Всякий хивинский подданный, посланный для сбора податей с киргизов, кочующих в песках Барсуках, на реке Эмбе, на берегах моря в урочище Кай-Кунакты, по берегам залива Карасу и на север от него, будет предан смерти, как нарушитель мира.
3) Всякий хивинский подданный, являющийся в аулы киргизов, принадлежащих Российской империи, с намерением нарушить спокойствие оных, будет схвачен и предан смерти».
Это был отчаянной смелости шаг – так разговаривать с владыкой страны, в которой жизнь человеческая необычайно дешева, а правление не придерживается законов и зависит от вздорного характера отдающего приказы. При Никифорове было лишь двенадцать казаков, и помощи им ждать было неоткуда, но его решительность произвела впечатление на Аллакули, надменный тон которого моментально сменился; хан заговорил тихо и любезно, прося Никифорова подождать в Хиве еще дней 20-25, когда он вернется с охоты, на которую давно уже собирался. Он даже позвал русского посла с собой, обещая показать свою страну, что для разведчика лучше не придумаешь – ханская охота включала объезд владений. Во время охоты хан принимал жалобы, проверял, как управляются дела в областях ханства. На охоте штабс-капитан мог бы ближе сойтись с ним в, так сказать, неформальной обстановке, тем более что, как говорили, хан был любитель выпить и поболтать. Но, увы, состояние здоровья Никифорова в тот момент было таково, что ни о какой поездке и речи идти не могло; он был просто рад той передышке, которая возникал с отъездом хана.
На охоте хан пробыл до 9 октября и через два принял Никифорова. За прошедший месяц хана словно подменили: его тон резко изменился. Он грозно спросил штабс-капитана, по какому праву оренбургский губернатор делает ему заявления, подобные тому, что он слыхал из уст посла? Почему от него требуют отказаться от принадлежащих ему территорий, если искони границей владений России была река Урал? Никифоров отвечал, что губернатор человек близкий к престолу, а потому с его словами хан должен считаться. И добавил, что коли государю будет угодно занять реку Сыр, то русские займут ее и без согласия хана, который должен понимать, что Россия великая держава и если она обрушится на Хиву всей своей мощью, то раздавит ее, как сапог давит слизней на дороге. Посему Хиве много выгоднее будет прилипнуть к России, как мокрая рубаха липнет к телу. Затем он повторил требования уступить России часть побережья на тридцать верст от Каспия в глубь степи, с тем чтобы там была основана гребная флотилия, которая бы пресекла набеги туркменских пиратов на промыслы русских.
Расстались они довольно прохладно и больше не виделись до самого отъезда посла – начался мусульманский пост, во время которого никаких важных дел в Хиве не совершалось.
Напоследок хивинцы собрали киргизских вождей, чтобы они подтвердили в присутствии Никифорова, что подданными русского царя себя не считают. На встрече в одной из комнат ханского дворца присутствовали мехтер и другие ханские сановники. Мехтер заговорил первым, попросив высказаться киргизов: считают ли они себя подданными России и следует ли отдать русским Сырдарью?
– Русские никогда не возьмут Сыра, они подобны старым бабам! Сырдарья слишком далеко от Урала – где им до нее дойти?! – заговорили один за другим киргизы. – Они только и умеют, что разорять наши стойбища. Разве так поступают с подданными?.. Мы мусульмане и никогда не будем подданными христианской империи!
На это Никифоров ответил, обращаясь к мехтеру и другим важным чиновникам ханства и не обращая никакого внимания на киргизов:
– Я прислан великим государем для переговоров с ханом, а вовсе не для того, чтобы выслушивать речи изменников. Их лживые речи легко обличит поручик Айтов, который знает об этих людях и их предках много больше, чем они сами хотели бы помнить!
Айтов показал себя во всем блеске:
– Кто берет на себя от лица всего киргизского народа право отрекаться от подданства России? Ты ли, Джангазы? Но ты родился в России, от отца, который был не только поданным ее, но даже служил императору, достиг звания майора и, совершив преступление, сбежал из Оренбурга! А твой, Сахман-Кул, ближайший родственник Джизак ездил в столицу при императрице Екатерине Великой, чтобы у ее престола повторить верноподданническую присягу киргизского народа, и был облагодетельствован милостями. О Юлмане Тлянчике и говорить нечего: все знают, что отец его был тарханом по пожалованию российских императоров и сам он пользовался покровительством, пока вероломно не поднял возмущение против русских своих легковерных соплеменников, увлек их к Сырдарье. Но недолго ты наслаждался плодами обмана: люди, которых ты увел, скоро образумились и ушли обратно в Россию, проклиная тебя. А ты, Юсуп Сарымов, вероятно, забыл о том, что твой отец предательски оклеветал хана Нурали. Кознями и пронырством он выманил у русского царя ханское звание, а когда убедился, что оно не дает от имени империи грабить и убивать безнаказанно подданных, попытался возмутить племена, а после неудачи бежал, чтобы его не выдали. Ты уже, видимо, забыл, Юсуп, как вместе с ханом Арсун-Газыем ездил в Санкт-Петербург и просил у русского правительства военной помощи, чтобы грабить Хиву?! Слишком долго было бы обнаруживать клятвопреступления каждого из вас. Не могу, однако же, скрыть своего особого презрения к двум из вас: к тебе, Киап-Гали, и товарищу твоему, Джангазы. Перечислять все ваши преступления и вероломства, заставившие вас бежать из России, нет нужды, но вспомните только, что предки ваши властвовали в Хиве, сидя на престоле хана, который теперь вас вызвал на рабское унижение и позорное клятвопреступление, дабы обосновать свои незаконные притязания на земли ваших племен…
Затея с собранием киргизских вождей провалилась, но это не сделало хивинцев сговорчивее. Они согласились лишь на то, чтобы Россия имела в Хиве своего постоянного агента; хан, как узнали русские, дал разрешение на это не в последнюю очередь потому, что агентом должен был стать Айтов, которого он хорошо знал. При этом хан просил разрешить и ему иметь своего агента в Астрахани и Оренбурге, что-бы помогать хивинским купцам, которые часто жаловались на притеснения русской таможни. Что касается всех других пунктов переговоров, то хивинцы пришли к решению не давать Никифорову окончательного ответа, а отправить в Россию, дабы разведать ситуацию, собственное посольство.
Впрочем, расстались дружелюбно. Миссию отправили обратно со всевозможной вежливостью, одарив Никифорова и Айтова конями-аргамаками с полной сбруей, деньгами, подарками, верблюдами и припасам на дорогу. Вместе с Никифоровым в Россию пошли семеро русских, освобожденных из неволи. Выйдя из Хивы 27 октября, караван Никифорова через тридцать шесть дней прибыл в Сарайчиковскую крепость.
Оставшийся в Хиве Айтов готовился совершить большую ознакомительную поездку по стране, съездить в Бухару и, может быть, в Коканд. Но планам этим не суждено было сбыться: через два дня после ухода каравана от мехтера прибыл посланник, который передал Айтову, что хан более не желает видеть его в своих владениях. Также не желал хан пропускать его в чужие владения и просил незамедлительно выехать в Россию. Чем было вызвано столь резкое изменение настроения хана, понять трудно. Предположительно хан испугался, что Айтов, заехав в Бухару, расскажет тамошним властям о готовившемся хивинцами набеге. Как бы то ни было, Айтов спешно покинул Хиву и нагнал караван миссии в пути.
Огорченный дипломатической неудачей, мучимый болезнью Никифоров не застал Перовского в Оренбурге и отправился вслед за ним в Санкт-Петербург, чтобы лично доложить об исполнении поручений. По дороге он почувствовал себя плохо и заехал в имение к матери, село Новоспасское Сызранского уезда Симбирской губернии, где слег в постель и после двух недель болезни скончался 27 января 1842 года.
Бумаги его, которые родственники с фельдъегерем, присланным из Петербурга, отправили начальству, были писаны мягким карандашом и весьма неразборчивым почерком; к тому же Никифоров часто пользовался шифром, ключ к которому знал только он один; поэтому разобрать многие записи оказалось невозможно. Но места, которые удалось прочесть, выразительно характеризуют впечатления, приобретенные штабс-капитаном при общении с правителем Хивы и его приближенными: «Хан и его сановники чужды всякого понятия о политических переговорах и даже не могут понять смысл слова “уполномоченный”. Вполне сознавая свое бессилие, они не в состоянии оценить кротких мер сношения, но трепещут силы, которая одна может их вразумить». Исходя из этих выводов, Никифоров обосновывает возможность похода в Хиву отряда в три тысячи солдат при нескольких орудиях.
Но слишком еще свежи были в столице воспоминания о зимней неудаче Перовского, и там решили, учтя ошибки прежних переговоров, мирными средствами добиваться с ханом договоренности о дружбе и разграничении влияния в степях.
Миссия в Хиве
Вместе с отрядом возвращавшегося после неудачных переговоров в Хиве штабс-капитана Никифорова весной 1842 года в Оренбург прибыл посланник хивинского хана Аллакули Вансавай Набиев со свитой из шестнадцати человек. На это посольство хивинцев в Петербурге возлагались большие надежды, министр иностранных дел рассчитывал обсудить с послом пункты мирного и торгового договора и подписать «протокол о намерениях». Посольство встречали с чрезвычайной предупредительностью и сразу же, без раскачки, снабдив всем необходимым на дорогу, отправили в Петербург, куда хивинский посол прибыл 10 марта.
С Набиевым встретился министр иностранных дел России, граф Нессельроде, и вскоре последовала аудиенция у самого императора. Николай Первый, по свидетельству придворных хроникеров, «принял хивинского посла Набиева очень милостиво». После этого целых два месяца посла и его свиту развлекали, как могли, демонстрируя столицу и достижения России в различных областях. Набиев был совершенно покорен и раздавлен красотой и величием русской столицы, не стесняясь иногда раскрывать рот от удивления. Но серьезных переговоров не получилось: Набиев не был уполномочен принимать какие-либо решения без ведома хана, а так как телеграфного сообщения с Хивой не было и узнать мнение Аллакули по тому или иному вопросу не представлялось возможным, то обсуждать с послом проект договора посчитали лишенным смысла. Одарив «как положено» – часами, бархатом, атласом, тонким сафьяном и дорогой посудой, – 9 мая 1842 года Набиева и его людей отправили в Оренбург, решив доставить проект договора с особым русским посольством.
Это посольство возглавил еще один участник зимнего похода 1839 года полковник Данилевский. Он командовал авангардом отряда Перовского и при самых трагических обстоятельствах показал себя с наилучшей стороны, за что был удостоен ордена Св. Владимира 4-й степени с мечами и произведен в полковники.
В состав посольства вошли два военных топографа братья Зеленины, недавние унтер-офицеры, произведенные в офицерские чины за тот же зимний поход. Из гражданских лиц шли натуралист Баринер, письмоводитель и личный секретарь Данилевского коллежский регистратор Григорьев, были взяты также переводчик, караван-баши из степняков, а также двадцать казаков конвоя под командой хорунжего Кипиченкова. Наняли еще пятерых киргизов, в чьей верности не сомневались; эти киргизы хорошо знали степь и уже бывали в Хиве. Кроме того, к отряду присоединился приказчик Бочаров, неоднократно бывавший ранее в Хиве с товарами своего хозяина. Бочаров хорошо говорил на степных наречиях и по-узбекски, а самое главное – имел обширные и прочные связи в среде хивинского купечества. Бочаров имел при себе несколько верблюдов, груженных товарами. Весь же караван состоял из сорока верблюдов, тридцати пяти лошадей, из них двадцати восьми верховых под казаками и чиновниками; киргизы ехали на своих конях, и две лошади были выделены для кареты-ландо, которую везли хану в подарок.
На расходы посольству было отпущено пять тысяч червонцев. В эту сумму входили, по официальной смете, семьсот червонцев «на подарки сановникам хана» и тысяча «на экстраординарные расходы», то есть на взятки им же, – посольство готовили с учетом «восточной специфики» предстоящих переговоров. Кроме денег, запасли и другие подношения – хану предназначалось уже упоминавшееся ландо с откидным верхом, и к нему вели пару прекрасных английских лошадей в убранной серебром сбруе. Для него же везли бронзовые подсвечники, чаны, орган, запасы бархата и атласа. Для министров – тоже атлас и бархат, несколько золотых часов, а также изрядный запас сахарных голов – товара, особо ценимого и любимого хивинцами.
Посольство готовилось тщательно, целых три месяца, с самого момента отъезда из Петербурга посла Набиева. Данилевский должен был продолжить усилия Никифорова по определению границы России с ханством, проведя ее по реке Сыр, северному берегу Аральского моря и склону Усть-Урта. Одним из главнейших заданий миссии было составление и подписание формального торгового договора, которым русским предоставлялись права свободной торговли в Хиве, а русские купеческие караваны ограждались бы от набегов туркменских разбойников (всячески поощряемых хивинцами). Также Данилевскому было поручено вести переговоры об освобождении невольников, и в их числе полторы тысячи персов (об этом русских просило правительство Персии). Были даны посольству и секретные поручения. Они касались прежде всего ведения военно-топографической съемки не только пути до Хивы, но по возможности и самой Хивы, укреплений других городов и оазисов. Собственно, для этого и были к отряду прикомандированы военные топографы братья Зеленины. Конфиденциальная часть задания делала и без того непростую миссию дьявольски опасным предприятием. В Хиве понятие дипломатической неприкосновенности было весьма относительным. Поймай русских разведчиков хивинцы за сбором сведений, и тогда за жизнь всех участников посольства никто бы не поручился. История взаимоотношений с Хивой знала примеры, когда жизнь и смерть послов решались в зависимости от настроения вздорных властителей ханства.
1 августа 1842 года отряд Данилевского выступил из Оренбурга. Шли убыстренным маршем, невзирая на летнюю жару; на дневки не останавливались и многодневных привалов не устраивали; маршрут был таков: река Эмба, плато Усть-Урт и далее западным берегом Аральского моря. Вперед были посланы в Хиву гонцы, и, когда на 43-й день похода караван достиг пределов Хивинского ханства, на границе посла встретил почетный конвой, сопроводивший караван до Хивы, куда вошли 19 октября 1842 года. Миссию разместили в небольшом доме, стоявшем посреди сада; дом носил гордое название «дворца», хотя и состоял всего из нескольких комнат.
Отдохнув несколько дней, Данилевский стал добиваться встречи с ханом. Хивинский правитель несколько раз назначал и откладывал аудиенцию, и только 30 октября полковник, в сопровождении переводчика и ханского посланца в Петербург Набиева, оказался в покоях хана. Прием, оказанный Данилевскому, мало обнадеживал – хан был холоден и высокомерен.
Членов русской миссии представлял, называя чины и фамилии, казначей-мехтер. По протоколу восточной дипломатии первым делом были поднесены хану подарки. Он их принял, но даже не соизволил подойти к окну и взглянуть на ландо, поднесенное ему от имени русской короны. Хан сказал, что хочет вести переговоры, но не сейчас, а через некоторое время. Когда именно, он даст знать. На этом первая встреча Данилевского с ханом завершилась.
Посол убыл, огорченный холодностью и надменным тоном хана, и забыл приказать посольскому конюху, чтобы он объяснил придворным, как пользоваться ландо. Конюх же, опасаясь, как бы лошади не испортили торжественность официальной передачи подарка, взял да и поставил каретное колесо на тормоз. Когда же члены миссии, расстроенные приемом, удалились, он ушел вместе со всеми в посольский «дворец».
Между тем вокруг невиданного в Хива экипажа собрались чуть не все обитатели ханского дворца. Хан и его любимая жена сесть в ландо не решились. Для эксперимента сочли пригодными детей хана, усадили их и повезли по двору. Вернее, потащили, поскольку заторможенное колесо крутиться не хотело. Хивинцы о тормозах понятия не имели и поэтому решили пересилить строптивую повозку, добавив лошадей. Но тормоз был сработан на славу, и ландо еле двигалось. Так продолжалось, пока Данилевский не распорядился снова отправить конюха во дворец и тот все подробно растолковал тамошним служителям. После того как все тайны ландо были постигнуты, хан сел в открытый экипаж и торжественно проехал в нем по городу…
Покуда хан решал, когда он сможет вести переговоры, у русского посла началась дипломатическая рутина – прием гостей и сановников. Первыми с визитом прибыли восемь хивинских министров, заявившие, что пришли не по делам, а просто в гости. В переводе с языка восточной дипломатии это означало: «Подарки хотим получить». Гостей, приехавших верхами, в сопровождении мальчиков для услуг, провели в дом и принялись потчевать чаем. Чай подали в стаканах, и хивинцы не знакомые с этими предметами, пить не смогли и только обожгли себе руки. Тогда Данилевский как тактичный хозяин вылил свой чай в блюдце и стал прихлебывать его «по-купечески»; господа министры поспешили последовать примеру господина русского посла. В последующие посещения министров поили из чашек, которые посольство прикупило у Бочарова; среди его товаров всегда находилось все нужное для подарков: ситцы, трубки, ножи и прочее.
После чая подали фрукты и сладости, и лишь затем господа министры получили вожделенные дары. Каждому достался дорогой нанковый халат, кусок сукна, кинжал кавказской работы в серебряной оправе, фунт чая и небольшая, фунтов в десять, сахарная голова. «Ко всем прочим подаркам они отнеслись со спокойствием восточных человеков, – записал один из участников посольства, – но, увидев сахарные головы, они повставали со своих мест, выражая знаками свое удовольствие. Это было сигналом того, что они премного довольны господином послом, что люди они воспитанные и желать большего уже не могут!»
Когда же делегация посольства – Данилевский, топографы Зеленины, хорунжий Кипиченков, натуралист Баринер – стала наносить министрам ответные визиты, ее принимали весьма скромно: угощение состояло из чая и сушеных фруктов. И никаких подарков. Со всей очевидностью стало ясно, что одаривающей стороной в этих переговорах будут русские.
Обмен визитами как будто изменил дело к лучшему: 10 ноября хан вновь принял Данилевского и эта аудиенция заметно отличалась от первой. Хан был милостив и ласков с послом, но, сказавшись нездоровым, сам переговоры вести не соизволил и поручил их своим министрам.
После этого начало твориться странное: министры приходили в миссию, много пили чаю, охотно говорили на любые темы, кроме тех, что могли продвинуть ход переговоров, при этом исправно получали «свои» подарки. Данилевский, видя такое положение дел, стал всерьез тревожиться, хватит ли у него тех подарков? В конце концов он решил взять быка за рога и предложить министрам заняться проектом договора между Россией и Хивой. Но тут, как назло, министры вовсе перестали являться! Причина этого была непонятна и настораживала, а 22 ноября поползли по городу слухи, что хан Аллакули, с которым начинали переговоры и которому дарили злополучное ландо, уже несколько дней как умер, а Хивой правит совсем другой хан.
Вскоре слухи подтвердились. Тайну из смерти хана устроил мехтер. О том, что прежний властитель переселился в сады Аллаха, знали только несколько его ближайших и верных слуг, остальные считали, что хан болен и просто не показывается на люди из-за болезни. Мехтер же, как только Аллакули умер, тут же распорядился тайно послать гонца в Хазарасп, к старшему сыну и наследнику хана, чтобы он спешно прибыл в Хиву и занял престол. Сделано все это было из опасения, что дяди наследника, родные братья хана, узнав о случившемся, могут попытаться узурпировать власть и тогда в государстве начнется резня, как это уже не раз бывало.
Наследник прибыл глубокой ночью, и только когда он уже воцарился, народу объявили о смене правителя. Но даже после того, еще целый месяц, отряд стражников из двух сотен отборных головорезов, туркмен-иомудов, служивших в ханской гвардии, охранял ворота, ведущие в крепость, в которой располагался дворец хана.
Хивинским ханам, видимо, повезло с первым министром, он был мудр и верен им. Впрочем, верность эта была порождена скорее желанием оставаться теневым кукловодом при меняющихся куклах, всегда и всем быть нужным, как и подобает умному царедворцу.
Новый хан к русским был настроен плохо. Он долго откладывал прием, а когда наконец принял Данилевского, то держался еще холоднее и заносчивее, чем его предшественник в первую встречу. Однако подарки принял, и это вселило некоторую надежду. Но надежда надеждой, а члены посольства не могли не заметить, что отношение к ним резко изменилось. Их даже стали безнаказанно задирать во время походов в торговые ряды. Чувствовалось, что атмосфера вокруг посольства сгущается.
В один из тревожных вечеров, когда напряжение достигло предела и участники миссии, удвоив караулы и держа наготове оружие, ожидали нападения, в дом, где расположилось посольство, пришел необычный визитер. В Хиве этот человек пышно назывался «министром ханской артиллерии»; звали его Сергей-ага. Господин министр артиллерии был по происхождению чистокровный русский, привела его в эту раскаленную солнцем страну удивительная игра судьбы.
Сергей-ага в прежнее время служил на Кавказе фейерверкером горной батареи. По его собственным словам, однажды он повздорил с батарейным командиром, не стерпел нанесенной обиды и по горячности убил его. Понимая, что военный трибунал не помилует за убийство офицера, он сбежал в горы к чеченцам, которые таких, как он, проливших кровь своих, принимали охотно. Но Сергей, опасаясь того, что его и здесь рано или поздно достанут, в горах не задержался, а пошел дальше, в Персию. Но между Россией и Персией давно уже были заведены дипломатические отношения, и русские могли потребовать его выдачи, как обыкновенного уголовного преступника. Не желая подвергать себя риску, в 1830 году беглый фейерверкер с караваном пришел в Хиву. Здесь он какое-то время едва поддерживал свое существование, пока однажды не увидал пушки, лежавшие у стен ханского дворца без всякого употребления сотню с лишком лет. Эти орудия достались хивинцам в качестве трофея при разгроме отряда князя Бековича-Черкасского, в 1717 году, но так как среди них не было ни одного человека умевшего управляться с артиллерией, пользы от них никакой не было. Сергей, добившись встречи с хивинским куш-беги – военным министром, заверил его, что сможет исправить эти орудия и управлять их огнем. Дело тогда шло к войне между Хивой и Бухарой, и ему дозволили попробовать.
По указанию Сергея хивинские мастера сделали к пушкам новые лафеты, отлили ядра, порох закупили у англичан, сгоняв караван в Афганистан. Расчеты артиллерийской прислуги Сергей учил сам. Все эти приготовления сумели сохранить в тайне, и, когда война началась, бухарцы не подозревали о том, что хивинцы обладают артиллерией. В ходе решающей битвы бухарские всадники погнались за притворно отступавшим противником, конная лава которого неожиданно разделилась на две части и ушла в стороны, а прямо перед атакующими остался в поле Сергей-ага со своими пушками. Командуя огнем антикварной полубатареи, он расстрелял наступавшую плотным строем бухарскую конницу картечью и заставил ее позорно бежать. Успех был полный!
После этого случая Сергей вошел в особую милость у хана и стал «министром артиллерии». Он женился на русской девушке, полонянке, украденной киргизами откуда-то из-под Оренбурга, а когда первая жена умерла, хан, в знак своей особой милости и благоволения, дал ему в жены чистокровную хивинку из хорошей фамилии. Случай небывалый: прежде все нехивинцы, состоявшие на службе у хана, женились на пленных персиянках и русских, покупаемых у оренбургских киргизов. Сергей обжился в Хиве, построил дом на манер русской избы, только из камня, с лавками, полатями и русской печью. В углу у него висели иконы, привезенные из Оренбурга хивинскими купцами. Он даже приладился гнать водку из винограда. Этой водкой и русскими пирогами с начинкой он не раз потом угощал членов миссии, но в тот вечер Сергей-ага пришел без пирогов, с дурными вестями. Спешившись, он вошел в дом, по-русски поздоровался, потом попросил всех удалиться и, оставшись с глазу на глаз с Данилевским, сообщил ему, что посольству готовится участь отряда Черкасского: во дворце состоялся совет под председательством хана и на нем предлагали истребить русских. Против выступили только он и, что самое важное, мехтер. Поэтому нападение пока отложено. Сергей-ага не называл способов спасения, не давал советов, он и так рисковал, выдавая эту тайну. Впрочем, выдавал ли? Тайну ли? Возможно, премудрый мехтер просто организовал «утечку информации», чтобы посмотреть, как поведут себя русские? Серьезные ли они партнеры для переговоров, уверены ли в себе? Если побегут, испугавшись, значит, их и бояться нечего, за ними нет реальной угрозы ханству – стоит ли тогда подписывать договоры?! Далеко в степи не уйдут! А если они люди серьезные и действительно сильные, то тогда…
Сейчас, по прошествии стольких лет, не имея под руками документов, можно строить какие угодно версии. В пользу того, что все это было игрой, говорит лишь то, что все дела в Хиве решал мехтер: вздумай он истребить русских, никакие министры ему для совета не понадобились бы, включая уважаемого министра полубатареи. Сергей-ага так прямо и сказал Данилевскому, что мехтер Я куб-бай, казначей ханства, управляет государством. Что же касается других сановников, то куш-беги, первый министр, – тоже влиятельный человек, он решает, кто достоин предстать пред светлы очи хана. Сборщик податей ходжеш-мегрем уже стар; когда-то он был любовником отца Аллакули, хана Мухаммед-Рахима, и веселым собутыльником самого Аллакули, с которым они на пару упивались до полного безобразия. У покойного хана был русский раб Федька из астраханских мещан, он выучил хана говорить и читать по-русски, а заодно приохотил его к пьянству. Веселая компания собутыльников управляла Хивой, и в прежние времена ходжаш-мегрем многое значил, но теперь старик не имеет реальной власти. В серьезные политические интриги он не вмешивается.
Опасен был, по словам Сергея-аги, диван-беги, которому формально подчинялся и ходжаш-мегрем: он был важным лицом в Хиве, так как ведал сбором пошлин с купцов, приходивших в Хиву, и попутно занимался всеми иностранцами. Диван-беги был человеком хитрым. Русских он не любил, противился выдаче пленных и поступался своими взглядами только по своему редкостному корыстолюбию, когда ему подносили дорогие подарки. Диван-беги на этой почве не ладил с мехтером Якуб-баем, который ведал внешними сношениями. Якуб-бай же относился к русским если не с симпатией, то с доброжелательным интересом, не упуская случая поближе познакомиться с обычаями и нравами северных соседей. Мехтер был, как, во всяком случае, считал Сергейага, более других расположен к русским.
Относительно нового хана он рассказал, что тот, хотя и неопытен, пытается во все вникнуть самостоятельно, но влиянию мехтера подвержен, памятуя о том, что существуют еще несколько реальных претендентов на престол. Его отца Аллакули дед Мухаммед-Рахим поначалу вовсе не хотел делать наследником: он желал, чтобы власть наследовал его второй сын Рахманкули, но изменил это решение под влиянием самого почтенного из родственников хана, старейшины рода. Тот сумел убедить хана назначить наследником Аллакули – тогда еще веселого пьяницу и сладострастника, имевшего, помимо шести жен, массу наложниц, а также целый гарем из любовников-тюклюбов. Рахманкули выделили во владение Хазараб, поручив сбор податей и охрану этой провинции от набегов. Он, уже видевший себя ханом, считал, что ханство у него просто украли, и не выказывал брату ни малейшего уважения. От него исходила постоянная угроза хивинской власти, тем более что ему было на кого опереться – покойного Аллакули недолюбливали многие…
Рассказы «министра артиллерии» о положении дел в ханстве и расстановке придворных сил помогли Данилевскому сориентироваться в ситуации и предпринять нужные действия. Проводив гостя до порога, полковник распорядился немедленно собрать совет, на котором решили отбиваться до последнего и в плен не сдаваться, ибо попавших в плен здесь казнили жестоко, об этом они были наслышаны. Из состава миссии отсутствовал лишь топограф Зеленин-первый: он, переодевшись в простое платье, отправился под видом помощника с приказчиком Бочаровым в разведывательный рейд по городам и оазисам ханства, дабы произвести тайную съемку путей и местностей, окружавших Хиву. За разведчиком отправили нарочного, киргиза, пришедшего с посольством из Оренбурга.
Сам же Данилевский, решив действовать на опережение, прежде чем узбеки договорятся между собой, отправился, несмотря на поздний час, к мехтеру Якуб-баю. Едва явившись в дом мехтера, он тотчас был принят (еще одно очко в пользу версии о тонкой игре мехтера – он ждал посла той ночью). После первых взаимных приветствий Данилевский прямо спросил: следует ли посольству ожидать дальнейших переговоров с хивинцами и подписания совместного договора или, имея в виду явные попытки уклонений хивинских властей от ведения переговоров, признать их неудачу и ехать восвояси? Если его последнее предположение верно, то посольство выступит из города уже завтра.
Мехтер отвечал, как и положено восточному дипломату, уклончиво. Он сетовал на неопытность молодого хана в межгосударственных делах, на разногласия в среде его новых советников по поводу переговоров с русскими. Послу предложили выпить чаю, а слугам было приказано послать за министрами. Когда господа министры прибыли, Данилевский повторил ранее сказанное мехтеру и добавил: «Когда мы, русские, шли к вам, то умерший хан Аллакули выслал на границу Хивы для нашей встречи и охраны особый конвой. Теперь же, когда мы будем возвращаться назад, я попрошу вас передать хану мое почтительное заявление, что никакая охрана нам не нужна. Объявляю вам именем Великого Белого Царя, что если кто-нибудь в Хиве позволит себе не только напасть на нас, но даже просто оскорбить нас, то от всего вашего ханства не останется камня на камне. Помните, что русские послы у вас в гостях уже четвертый раз, дорогу к вам теперь хорошо знают и что если русские придут с оружием, то вам уже не удастся обмануть их теперь так, как ваши деды обманули князя Черкасского!»
Этой мужественной речи оказалось вполне достаточно, чтобы господа министры заговорили другим тоном. Все стали наперебой уверять Данилевского в своем миролюбии и желании вести переговоры до конца. Данилевский подвел итог встречи, заявив: «Завтра до полудня я буду ждать вас всех у себя для дальнейшего ведения переговоров. Если до полудня вы не появитесь, в тот же день я выступаю обратно в Оренбург».
Вернувшись в посольство, Данилевский рассказал своим соратникам о разговоре с министрами в доме мехтера и приказал готовиться на всякий случай к выступлению в Оренбург. На следующий день, когда сборы в дорогу были в самом разгаре, к посольству подъехали все восемь министров. Их приняли вежливо и почтительно, проводили в дом, предложили чаю, после чего начались переговоры…
Данилевский отлично понимал, что сам факт переговоров и даже успешный их ход ничего не значат, пока не выскажет своего мнения хан. К тому же среди поручений миссии были и такие, которые исполнить можно было, только встречаясь с ханом лично. И полковник добился аудиенции у хана, который на этот раз принял его гораздо любезнее и в знак своего расположения предложил Данилевскому сесть на специально приготовленный для него табурет.
Беседа проходила довольно гладко, но, когда речь зашла о пленных персах, хан придал лицу особую твердость и наотрез отказался обсуждать этот вопрос, заметив, что России не следует вмешиваться в дела Хивы и Персии. Последовал отказ и на просьбу русского правительства об основании в Хиве постоянного русского агентства. Таким образом, эта встреча положительных результатов не принесла. Гораздо удачнее шла подготовка торгового соглашения: к 25 декабря документ был подготовлен. В нем оговаривалось право беспрепятственного прохода русских купеческих караванов в Хиву и обратно, причем правительство Хивы брало на себя обязательство защищать эти караваны от нападений разбойничьих шаек туркмен-иомудов и подвластных Хиве киргизов. Также хивинцы обязывались всячески пресекать нападения на русские рыбные промыслы, расположенные на побережье Каспия, захват в плен и продажу в рабство рабочих этих промыслов. Русским купцам предоставлялось право торговать не только в Хиве, но и в Ургенче, Хазараспе и в других городах ханства, а хивинские купцы, в свою очередь, могли свободно торговать в России; в Оренбурге – на Меновом дворе и в Караван-сарае – для них отводились особые места и помещения.
Важным успехом этого договора для русской стороны можно было считать определение границы России и Хивы по линии Усть-Урт, Сырдарья, северный берег Аральского моря. Однако все попытки Данилевского добиться того, чтобы в Хиве постоянно действовал если не дипломатический, то хотя бы торговый агент, не увенчались успехом.
Подписание договора сопровождалось некоторыми приключениями, весьма характерными для ведения дел на Востоке. Во-первых, хивинские министры, которые должны были поставить свою подпись, оказались неграмотны. Во-вторых, когда это препятствие было преодолено – подписи решили заменить печатями, – они опять стали тянуть время, чтобы получить побольше подарков от русских. Тогда Данилевский, у которого запасы подарочных предметов стремительно истощались, пошел на хитрость. Как-то во время очередного совместного чаепития он сказал министрам, что, затягивая с подписанием договора, они тем самым лишают его удовольствия сделать каждому из них особый подарок в память о столь важном событии. С этими словами Данилевский извлек из шкатулки несколько золотых карманных часов, осыпанных драгоценными камнями. Такие часы специально заказывали в Женеве, с учетом восточных вкусов, на случай поднесения подарков азиатским гостям во время их визитов в Петербург. Часы моментально сделались сладкой мечтой хивинских министров, но при этом они продолжали странно тянуть время, словно растягивая удовольствие от предвкушения редкого подарка.
Данилевский терзался догадками, не в состоянии разгадать причину: то ли министры готовили очередную азиатскую каверзу, то ли намекали, что такого подарка за подписание документа будет мало! За консультацией он обратился к Сергею, который после той памятной тревожной ночи, когда он явился с предупреждением о грозящей посольству опасности, стал бывать в миссии часто и рассказывал о ханстве и его столице немало любопытного.
Из рассказов Сергея выходило, что приближенные хана имели в Хиве огромный вес. Напрямую к хану обращаться никто не смел. Все просьбы подавали мехтеру, а если его не было, то куш-беги, который почти неотступно находился у входа в ханские покои. Обычно эти высшие чиновники разбирали дела спорящих, стремясь добиться примирения, и в случае успеха брали с тяжущихся клятву, что об их споре не узнает хан. Разумеется, «за труды» обе стороны «благодарили» придворных «миротворцев». За особую мзду можно было принести жалобу хану и даже вне общей очереди, а для особо сложных случаев был предусмотрен суд кази – духовного главы мусульман в Хиве. При рассмотрении дела необходимо было представить двух свидетелей. Благодаря этому правилу в Хиве существовал целый институт «лжесвидетелей», которые кормились свидетельствованием того, чего сроду не видели и не слышали.
В каждом городе ханства имелись свой старейшина и судья, могущий принимать решения местной значимости и вершить суд по не самым важным вопросам. Свободных за воровство вешали, но только по приговору, вынесенному самим ханом. Рабов за воровство наказывали владельцы сообразно своему желанию. За троекратную попытку побега невольников сажали на кол.
За соблюдение порядка на улицах отвечал начальник городской стражи. Подчиненные ему стражники отлавливали на улицах городов пьяных и волокли в зиндан, а потом наказывали – обычно били палками перед ханским дворцом, при большом стечении людей. За прелюбодеяние женщину наказывали смертью, но только после принесения ее мужем официальной жалобы.
В Хиве существовало подобие комендантского часа: ночью жители могли ходить по улицам только в определенные часы, когда нужно было идти в мечеть. В иное время ночных прохожих стражники арестовывали и вели в караулку, чтобы утром разобраться: кто такой, почему шляется по ночам? Если задержанный говорил, что он раб, посланный господином по срочному делу, его обычно отпускали. Что любопытно, запрет на проход по городу ночью существовал только в Хиве, в остальных городах ханства люди могли ходить по ночам сколько угодно.
Когда Данилевский обратился с мучившими его вопросами к такому знатоку хивинской жизни, как Сергей-ага, тот успокоил посла, пояснив, что министры уже давно бы подписали все бумаги, да вот боятся только, что посол их надует и часов после подписания не даст. «Они бы хотели получить часы еще до подписания бумаг, чтобы уж надежно было», – сказал «министр артиллерии». «Я-то не обману! – воскликнул Данилевский. – Но им я как раз опасаюсь верить – ну как они часы возьмут да опять начнут тянуть?! А у меня уже в запасе, кроме нескольких голов сахару, ничего не осталось!» – «Нет! – уверенно опроверг его сомнения Сергей. – Они, получив часы, обмануть побоятся! Вы тогда можете пожаловаться на них хану, и тот все равно заставит их подписать договор, а часы заберет себе. Им от этого выйдет один убыток. Так что не беспокойтесь, господин полковник, – подпишут, как миленькие!»
Данилевский прислушался к мнению знающего местные порядки человека и в тот же день произвел последнюю раздачу подарков. Утешенные в своих подозрениях господа министры, получив часы, сразу приложили печати к бумаге, а 27 декабря 1842 года к договору была приложена государственная ханская печать. Словно камень с плеч свалился у полковника Данилевского – важнейшая часть официального задания была выполнена!
Но, как мы помним, помимо официального задания посольству был поручен ряд тайных дел. Роль разведчика, нелегально собирающего информацию о Хивинском ханстве, была возложена на офицера-топографа Зелинского-первого. Малейшая неосторожность, один неверный шаг могли стоить жизни не только самому отважному офицеру, но и, пожалуй, всему посольству. За русскими крепко следили соглядатаи. Правительство Хивы совершенно справедливо опасалось, что русские, найдя надежный путь через горы и пустыни, проложат по ним маршруты для войск и тогда ханство падет. Единственным «настоящим оружием» против притязаний Российской империи у хивинцев были огромные, пустынные, труднопроходимые пространства, отделявшие их от России; они делали ханство неуязвимым и позволяли ему столь дерзко вести себя с великой державой. Выбить из рук давнего противника его заветные козыри, найти надежные пути к ханству – такая задача ставилась перед всеми разведчиками, ходившими в Хиву.
Чтобы обмануть слежку, Зеленину приходилось пускаться на разные хитрости. Ведя топографическую съемку самой Хивы, он, выйдя из посольского дома, шел первым делом на ближайший базар, покупал там большую дыню и с нею в руках шел неспешно, как бы прогуливаясь, по улицам города. Зеленин немного говорил по-узбекски; притворившись заблудившимся, он расспрашивал у уличных торговцев: как называется эта улица? вон тот арык? сад? Расстояние до объектов он мерил шагами, а полученные таким образом сведения выцарапывал ножом на дыне. Вернувшись с такой прогулки в посольский дом, он переносил «дынные заметки» на бумагу, а дыню съедал, в чем ему охотно помогали сослуживцы.
Игра была тонкая, требовавшая большой фантазии и умения общаться с чужим народом. Не все было просто и гладко, и несколько раз Зеленин был в шаге от разоблачения и гибели.
Как-то раз, когда он шел с очередной дынькой в руках и делал свои пометки, его окликнули по-русски. Зеленин обмер; оглянувшись, он увидел татарина, уроженца Оренбурга, служившего в тамошней гарнизонной команде, а потом дезертировавшего и осевшего в Хиве. В Оренбурге он видел Зеленина на улице и не раз приветствовал при встрече как нижний чин офицера, а потому и запомнил. Дезертир обзавелся в Хиве семьей и домом, куда и пригласил повстречавшегося «земляка». Отказываться Зеленин не стал. Его встретили радушно, угостили чаем, просили заходить еще, но топограф побоялся повторить визит. Соседи татарина поглядывали на него с угрозой, а дом стоял на самой окраине, в балке, мало ли что могло случиться…
Зато татарин стал часто наведываться в посольство. Ничуть не опасаясь своего дезертирского прошлого, он пытался наладить с членами миссии «выгодные дела». Люди, пришедшие с посольством, были в основном молодые здоровые мужчины, а татарин в Хиве промышлял сводничеством и рассчитывал найти среди русских щедрую клиентуру. Но он немного опоздал: место поставщика «интимных радостей» при посольстве было уже прочно занято семьей садовникаперса при посольском «дворце». Стоило только кому-нибудь из членов миссии пожелать, как с наступлением темноты жена садовника доставляла в сад женщину, о внешности которой можно было только гадать, поскольку на ней была чадра. Стоило все удовольствие полуимпериал. По желанию персиянка могла привести и несколько таких разом. Жена садовника уверяла, что таинственные гостьи – это вдовые жены умершего хана Аллакули; дескать, при новом правлении несчастных попросту забыли…
Вполне возможно, сводница врала и на самом деле «забытые розы ханского цветника» никакого отношения к ханскому гарему не имели, а посылались теми, кому было поручено присматривать за посольством. Ведь хивинцы тоже, наверное, интересовались, что происходит внутри миссии, а тут такой удобный случай…
Когда стараниями Зеленина съемки Хивы были закончены, решено было заняться тем же в других городах ханства; здесь незаменимым человеком оказался приказчик Бочаров. Этот предприимчивый коммерсант уже расторговался в Хиве и теперь снаряжал караван из нескольких верблюдов для коммерческого тура по городам ханства, где у его хозяина были деловые партнеры, а у него самого много знакомых. Пользуясь этим удобным прикрытием, Зеленин переоделся приказчиком и вместе с Бочаровым отправился в путешествие. Готовясь к рейду Зеленин, закрепляя легенду, прожил несколько дней в караван-сарае, где все это время квартировал Бочаров, живший от посольства отдельно.
Беспрепятственно маленький караван прошел по ханству, посетил города Ханки, Хазарасп, ряд других мест и под конец прибыл в Бухару. Везде их встречали с удивлением, но не враждебно; узнав, что в Хиве стоит русское посольство, с которым и пришли эти купцы, местный люд успокаивался и оказывал путникам гостеприимство. Бочаров всюду вел бойкую торговлю и скоро, продав все, что взял с собой, принялся закупать местные товары для продажи их в России. Тем временем Зеленин продолжал делать свое дело. Очень затрудняла его работу необходимость делать точные измерения и сложные расчеты без инструментов, на глазок или измеряя примитивными, подручными средствами, определяя норд и зюйд по солнцу, а расстояния вымеряя шагами. Бочаров, человек ловкий и сметливый, помогал ему, чем мог: он хорошо знал местные наречия, расспрашивал хивинцев и обо всем сообщал Зеленину.
При глазомерной съемке трюк с дыней уже не срабатывал, и потому, пользуясь тем, что вне пределов города Хивы слежка за ними велась не так плотно, топограф делал пометки карандашиком, спрятанным в ключик от часов, на внутренних сторонах крышек от коробок с товарами, и однажды разведчики чуть было не провалились с этими записями. Уже возвращаясь в Хиву, они заехали в город Куня-Ургенч и остановились там у знакомого Бочарову хивинца, не раз бывавшего в Оренбурге. У хозяина и Бочарова были общие торговые дела, и по своей нужде они отъехали из города, а Зеленин, пользуясь паузой в путешествиях, решил привести в порядок записи. Увлекшись, он, как на грех, забыл запереть дверь в комнату; вдруг в нее вошел мальчик лет четырнадцати. Немного помявшись у порога, он сказал по-русски: «Здравствуйте барин! Я вас знаю…»
Зеленину поразительно везло на встречи со знакомыми в этой стране! С ужасом он посмотрел на мальчика и стал поспешно убирать свои записи, а нежданный визитер продолжил, наблюдая за его манипуляциями: «Я два раза бывал в Оренбурге и жил там со своим прежним хозяином. Мы квартировали прямо рядом с вашим домом! Теперь меня продали сюда… Я знаю, чем вы занимаетесь! Видел в Оренбурге, как вы рисовали в степи. Но вы, барин, не бойтесь, я ничего никому не скажу». Зеленин слушал, ни жив, ни мертв.
Что тут делать? Зеленин, придя в себя, дал этому бедному, но очень наблюдательному мальчику горсть серебряной мелочи, фунт сахару и свисток, чтобы он помалкивал. Однако вернувшийся Бочаров выразил сомнения относительно того, что такой сообразительный мальчик будет просто так помалкивать, а не захочет получить сахару и свистков у кого-нибудь еще.
Пришлось им срочно вьючить верблюдов и убираться из города…
Миссия в Хиве завершила свою работу, дело было сделано, договор подписан и границы определены. Данилевский на 30 декабря 1842 года испросил у хана прощальную аудиенцию. Во время приема хан предложил господину послу пожить еще немного в Хиве, дождаться наступления весны. Данилевский вежливо отклонил приглашение, сославшись на то, что государь ждет доклада и он спешит лично порадовать его известием о подписании такого важного договора. Напоследок хан преподнес послу сюрприз, объявив, что с русским посольством отправится в путь его сановник Мухаммед-Эмин, дабы «выразить государю беспредельную благодарность за подарки и милостивое расположение».
В самый канун Нового года, 31 декабря 1842 года, караван посольства выступил в путь. Проводить русских пришел Сергей-ага, который привез на проводы корзину пирогов и бурдюк водки. Данилевский стал уговаривать «министра артиллерии» вернуться в Россию, обещая ходатайствовать о его прощении. Сергей ответил со вздохом: «Мне там, даже если простят, на старости лет один путь – в богадельню! А здесь я богатый человек и один из первых в Хиве… Нет, ваше благородие, уж лучше я здесь останусь век доживать. Да и привык я уже – как говорится, от добра добра не ищут! А вам дай Бог счастливо добраться!»
Уже перед самыми воротами, на выезде из города, русских ждало страшное зрелище: вдоль дороги, по которой они покидали Хиву, стояли ряды колов с посаженными на них персами; это была часть тех пленников, об освобождении которых Данилевский ходатайствовал перед ханом. Руки страдальцев были привязаны к ногам, в страшных муках они кончали свою жизнь, оглашая окрестности жалобными стонами. На вопрос Данилевского, обращенный к хивинцам, в чем вина этих несчастных, был получен ответ: будучи захваченными туркменами и проданными в рабство в Хиву, они, сговорившись, бежали, но были пойманы. В назидание остальным персам-невольникам приказано было посадить их на кол в день выступления русских в Оренбург. Таким образом русскому послу напомнили – в Хиве жизнью и смертью распоряжается хан, и он волен поступать с рабами, как ему вздумается.
Из Хивы посольство возвращалось специально не тем маршрутом, что шло в Хиву, чтобы предоставить возможность топографам получше разведать северную часть страны, которую никто из русских еще толком не исследовал; теперь тщательная съемка местности велась совершенно открыто, без оглядки на присутствие в караване Мухаммед-Эмина и его свиты. В Оренбург посольский караван вошел в разгар Масленичной недели, во второй половине февраля. Находясь в пути, Данилевский оправил вперед гонца из киргизов, ходивших с ними в Хиву, с известием, что возвращается он не один, а с послом хана. В Оренбурге хивинского сановника встретили торжественно, с азиатской пышностью. К министру иностранных дел графу Нессельроде был направлен курьер для получения распоряжений относительно посла Мухаммед-Эмина. Но поскольку хивинское посольство не ждали, с ответом в Санкт-Петербурге затянули. Только 22 апреля 1843 года посол со свитой в пять человек отправился в русскую столицу, куда и прибыл 13 мая.
Вскоре выяснилось, что подписание договора между Российской империей и Хивинским ханством ничего, в сущности, не изменило; во всяком случае, хивинцы даже не пытались его соблюдать. На наскоки из степи русским приходилось все так же давать вооруженный отпор, а малейшую снисходительность со стороны России в Хиве принимали за слабость. В 1858 году, принимая русское посольство полковника Игнатьева, хивинские правители объявили, что не помнят содержания договора от 1842 года, а сам текст договора ими потерян. И было похоже на то, что они не врали, – визиту русских послов предшествовала годичная резня, во время которой менее чем за год в Хиве сменились не то шесть, не то семь ханов. Немудрено, что в этой кровавой кутерьме договор, который мало что для хивинцев значил, где-то затерялся…
Службу Данилевского оценили по достоинству: за миссию в Хиву он был произведен в чин генерал-лейтенанта и переведен служить в Петербург. Ему было только тридцать пять лет, перед ним открывалась карьера. Но тут в его судьбу вмешалась любовь. Он встретил девушку, которую полюбил по-настоящему, сильно и страстно. Будь его избранница русской фамилии, вполне может статься, и состоялось бы их счастье, но девица была княжной из владетельного южнославянского рода, и родители готовили ей династический брак – супружество, пусть даже и с блестящим русским военным, было невозможно.
От греха подальше девушку решили тайно увезти на родину. Узнав об этом, Данилевский бросился следом и на первой же почтовой станции нагнал княжескую карету. Он подошел к экипажу, в котором находилась его возлюбленная вместе со своим семейством, распахнул дверцу кареты и – сидевшие в ней даже не успели испугаться пистолета в его руке – выстрелил себе в голову. Так нелепо окончилась жизнь человека, много раз рисковавшего среди врагов и погибшего среди своих…
Из других участников посольства Данилевского стоит упомянуть топографов Зелениных. Они выслужились в большие чины, а выйдя в отставку, занялись собственным делом и сильно разбогатели. Дожив до глубокой старости, всеми уважаемые, они много раз избирались от общества в различные учреждения. И вряд ли кто мог предположить, что в молодые годы они были ловкими шпионами и выполняли секретные задания, выцарапывая пометки на дынях.
Генерал Перовский упорно отстаивал идею нового военного похода на Хиву, упирая на то, что с такими трудами заключенный договор не соблюдается хивинцами. Наконец в 1853 году он совершил знаменитый Кокандский поход, длившийся с мая по сентябрь и проходивший в такой секретности, что никто о нем и не знал, покуда не пришло известие о том, что Перовский взял крепость Ак-Мечеть. За это его произвели в графское достоинство. С тех пор крепость стала называться форт Перовский и сделалась форпостом русской армии в степи. Выйдя в отставку, граф Перовский поселился в Крыму, в Алуште, где и жил до последних своих дней.
Его дело еще через двадцать лет довершили русские войска под командованием генерал-адъютанта Константина Петровича фон Кауфмана, дошедшие-таки до стен Хивы. Этот поход открыл таланты молодых полководцев Скобелева, Куропаткина и других. После отчаянного штурма, проломив минами и огнем артиллерии стены Хивы, русские взяли город. Но это уже было начало совсем других событий, требующих отдельного рассказа.
В серии вышли:
Лев Минц. Котелок дядюшки Ляо
Виталий Бабенко. Земля – вид сверху
Ольга Семенова-Тян-Шанская. Жизнь «Ивана»
Владислав Петров. Три карты усатой княгини
Свен Хедин. В сердце Азии
Геннадий Коваленко. Русские и шведы от Рюрика до Ленина
Лев Минц. Придуманные люди с острова Минданао
БенгтЯнгфельдт. От варягов до Нобеля
Олег Ивик. История человеческих жертвоприношений
Анна Мурадова. Кельты анфас и в профиль
Даниэль Клугер. Тайна капитана Немо
Валерий Гуляев. Доколумбовы плавания в Америку
Светлана Плетнева. Половцы
Ким Малаховский. Пираты британской короны Фрэнсис Дрейк и Уильям Дампир
Алексис Трубецкой. Крымская война
Валерий Гуляев. Загадки индейских цивилизаций
Олег Ивик. Женщины-воины: от амазонок до куноити
Виолен Вануайек. Великие загадки Древнего Египта
Яков Свет. За кормой сто тысяч ли
Лев Минц. Блистательный Химьяр и плиссировка юбок
Аксель Одельберг. Невыдуманные приключения Свена Хедина
Гомбожаб Цыбиков. Буддист-паломник у святынь Тибета
Никита Кривцов. Сейшелы – осколки ТРЕХ континентов
Олег Ивик. История сексуальных запретов и предписаний
Виктор Бердинских. Речи немых
Светлана Федорова. Русская Америка: от первых поселений до продажи Аляски
Стаффан Скотт. Династия Бернадотов: короли, принцы и прочие…
Геннадий Левицкий. Самые богатые люди Древнего мира
Георгий Вернадский. Монголы и Русь
Наталья Пушкарева. Частная жизнь женщины в Древней Руси и Московии: невеста, жена, любовница
Виталий Белявский. Вавилон легендарный и Вавилон исторический
Олег Ивик. История и зоология мифических животных
Лев Карсавин. Монашество в Средние века
Владислав Петров. Древняя история смерти
Олег Ивик. Еда Древнего мира
Стефан Цвейг. Подвиг Магеллана
Вашингтон Ирвинг. Жизнь пророка Мухаммеда
Владимир Новиков. Русская литературная усадьба
Отечественная война 1812 года глазами современников
Наталья Пушкарева. Частная жизнь русской женщины XVIII века
Сергей Ольденбург. Конфуций. Будда Шакьямуни
Фаина Османова, Дмитрий Стахов. Истории простых вещей
Генрих Бёмер. История ордена иезуитов
Алексей Смирнов. СКИФЫ
Андрей Снесарев. Невероятная Индия: религии, касты, обычаи
Генри Чарлз Ли. Возникновение и устройство инквизиции
Олег Ивик, Владимир Ключников. Хазары
Вячеслав Шпаковский. История рыцарского вооружения
Лев Ельницкий. Великие путешествия античного мира
Виктор Берлинских. Русская деревня: быт и нравы
Сергей Макеев. Дело о Синей Бороде
Борис Романов. Люди и нравы Древней Руси Печенеги
Генрих Вильгельм Штоль. Древний Рим в биографиях
Алексей Смирнов. Несостоявшийся русский царь
Карл Филипп, или Шведская интрига Смутного времени
Александр Куланов. Обнаженная Япония
Установить торговые связи с Индией было давней, со времен Ивана Грозного, мечтой русских государей.
Но на пути в легендарную страну лежали безводные степи, населенные кочевниками, и беспокойное Хивинское ханство, правители которого делали все, чтобы затормозить движение России на юг.
Ни договориться с хивинскими ханами, ни одолеть их силой не удавалось.
Эта книга посвящена растянувшейся на несколько веков, полной драматизма эпопее, включающей бесславные походы, дипломатические демарши, шпионские миссии, приключения авантюристов-одиночек и побеги пленников, обернувшиеся путешествиями через полмира… Только во второй половине XIX века русские войска взяли Хиву, но в то время это уже стало лишь эпизодом в «Большой игре», как назвал Редьярд Киплинг соперничество Великобритании и России в Центральной Азии.
А это уже совсем иная история…

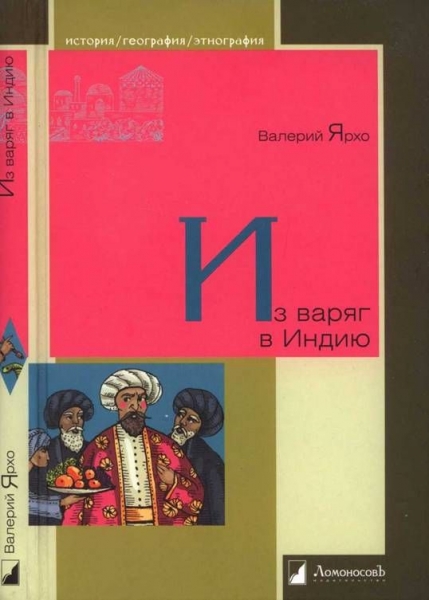




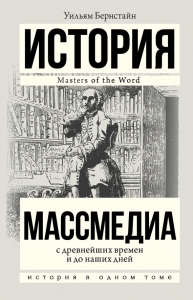

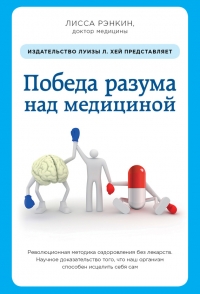

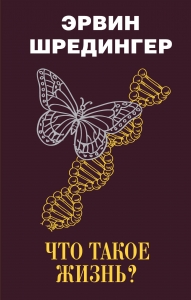

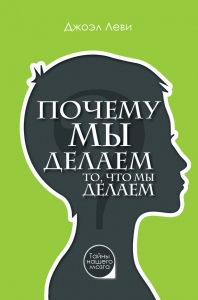
Комментарии к книге «Из варяг в Индию», Валерий Альбертович Ярхо
Всего 0 комментариев