Лешек Бальцерович Навстречу ограниченному государству
Предисловие
Последовавшие за крушением коммунистического строя события, которые часто называют посткоммунистической трансформацией, стали определяющими в современной истории каждой из вовлеченных в них стран. Впрочем, даже в сравнении с другими историческими периодами преобразований эти реформы носят уникальный характер. Во-первых, они отличаются своими гигантскими масштабами. Ведь речь в данном случае идет об изменении политического строя (демократизации, утверждении верховенства закона), экономической системы (переходе от административно-командной экономики к рыночной), радикальном расширении гражданского общества и либерализации средств массовой информации. Ключевым звеном этих реформ стал демонтаж и переустройство коммунистического «партийного государства» – структуры, самым систематическим и жестким образом подавлявшей любые индивидуальные свободы, как экономического, так и внеэкономического характера. Во-вторых, реформы по всем этим направлениям осуществлялись одновременно, в отличие от ряда западных стран, где в свое время наблюдалась совсем иная последовательность аналогичных перемен: там формирование капитализма и утверждение верховенства закона предшествовали переходу к массовой демократии. В-третьих, и за это, учитывая величайшую глубину происходящих изменений, следует благодарить Бога, посткоммунистическая трансформация произошла относительно мирным путем. Это действительно была бескровная революция.
Перемены исторического масштаба никогда не происходят по некоему единому плану. Как правило, они становятся результатом борьбы конкурирующих концепций, групповых интересов, содержат немалую долю случайности и непредвиденных последствий. Все это, однако, не отменяет необходимости и желательности иметь в качестве ориентира общую концепцию – «системную цель», или институциональную модель, которая должна возникнуть в результате преобразований. Об этом я пишу в статье «Навстречу ограниченному государству». В ней я показываю, что традиционные концепции экономической теории – понятия «общественных благ» и экстерналий – не дают четкого ответа на важнейший вопрос: каков оптимальный масштаб государства? Эти концепции несостоятельны применительно к реальной обстановке и имеют тенденцию преувеличивать оптимальные «размеры» государства. То же самое можно сказать и о большинстве теорий современной политической философии, в том числе знаменитых трудах Джона Ролза. В попытке определить оптимальные масштабы государства следует скорее полагаться на самоценность индивидуальных свобод, особенно экономической свободы и ее основы – права частной собственности. Другим ориентиром в интеллектуальном поиске оптимальных масштабов государства служит функциональная ценность экономической свободы. В статье я показываю, что государство, гарантирующее и активно отстаивающее максимальный уровень такой свободы – ограниченное государство, – обеспечивает лучшее функционирование общества по сравнению с другими моделями государственного устройства, для которых характерно широкое понимание государственных полномочий, в том числе и теми, что преобладают сегодня на Западе. Посткоммунистическим странам, если они хотят быстро догнать экономически развитые общества, следует не имитировать модели, существующие сегодня на Западе, а стремиться к построению куда более ограниченного государства. И они должны использовать любую возможность, чтобы укоренить именно этот тип государства – как за счет его закрепления в конституции, так и за счет различных международных обязательств, ограничивающих государственный произвол.
В другой моей статье, включенной в этот сборник, «Переходный период в посткоммунистических странах: некоторые уроки», делается попытка обобщить опыт реформ в государствах бывшего советского блока после крушения коммунизма. Обширный массив эмпирических данных свидетельствует о резком расхождении экономических и внеэкономических показателей уровня жизни в различных посткоммунистических странах. Более того, государства, добившиеся более высоких темпов экономического роста, как правило, демонстрируют и лучшие результаты в области здравоохранения, охраны окружающей среды и др. В связи с упомянутыми фактами возникает фундаментальный вопрос: в чем причина столь существенных различий в экономических показателях, особенно в отношении роста? Данные эмпирических исследований явно указывают на то, что главное здесь – разный накопленный объем рыночных реформ, или – если сформулировать это иначе – разница в дистанции, пройденной на пути к ограниченному государству. Чем больше та или иная страна приблизилась к этой модели, тем выше – в среднем – достигнутые ею результаты с точки зрения экономического роста.
В связи с вышеупомянутой темой возникает и другой вопрос: почему более высокие экономические достижения сопровождаются лучшими результатами и в других сферах? Чтобы ответить на него, необходимы новые эмпирические исследования. Однако уже имеющаяся у нас информация позволяет выдвинуть гипотезу о том, что некоторые важнейшие реформы способствуют не только экономическому росту, но и, скажем, улучшению экологической ситуации. К примеру, создание рыночной конкурентной среды и связанные с этим жесткие бюджетные ограничения побуждают предприятия экономить на производственных затратах, в том числе связанных с экологически вредными технологическими процессами. А утверждение, хотя бы частичное, принципа верховенства закона повышает шансы на то, что экологическое законодательство будет реально выполняться.
Я очень рад тому, что благодаря Институту Катона российский читатель сможет познакомиться с этими двумя статьями. Надеюсь, они внесут свой, пусть и скромный, вклад в дискуссию о дальнейших реформах в России.
Навстречу ограниченному государству
1 Институциональные системы и государство
Опыт истории показывает, что любая многочисленная группа людей, постоянно проживающая на определенной территории, имеет свод коллективных правил, а в обществах более современного типа существует и система институтов, отвечающих за взаимодействие между его членами, урегулирование конфликтов и вопросы обороны. Некоторые из подобных институциональных систем называются «государствами». Ответ на вопрос о том, какая группа создала собственно государство, а какая – «безгосударственную» институциональную систему, естественно, зависит от того, что мы подразумеваем под государством. Наиболее широкое распространение получило определение Макса Вебера: государство существует там, где есть специальный аппарат, обладающий монопольным правом применять силу на данной территории (Weber 1922: 29–30) [1] . Структуры, не отвечающие этим условиям, государствами не признаются. Скажем, благотворительный фонд – это не государство, а вот «государство всеобщего благосостояния» под эту категорию подпадает. В соответствии с определением Вебера, структуры, где правящая группа совершает преступления против других людей, населяющих ту же территорию, все равно являются государством, хотя и «хищническим» (как, например, Республика Заир под властью Мобуту Сесе Секо).
...
Автор выражает благодарность Симеону Джанкову, Якубу Карновскому, Ричарду Мессику, Яцеку Ростовскому Анджею Ржонке и Андрею Шлейферу за ценные замечания и предложения по содержанию статьи. Статья представляет собой доработанный вариант текста лекции, опубликованного Всемирным банком (Balcerowicz 2003). Впервые: Balcerowicz L. Toward a Limited State // Cato Journal. 2004. Vol. 24. № 3.
За отправную точку дискуссии об оптимальных масштабах деятельности государства можно взять концепцию « минимального государства», принадлежащую Роберту Нозику, – это государство, чьи полномочия ограничиваются «функциями защиты всех граждан от насилия, воровства и мошенничества, а также надзора за соблюдением контрактных обязательств» (Nozick 1974: 26).
2 Существует ли единая для всех модель оптимального государства?
Зависит ли форма оптимального государства от характеристик существующих государств или обществ, в которых они сформировались? К примеру, должно ли государство в бедных странах иметь больше (или меньше) функций, чем в богатых? Влияет ли на оптимальный масштаб деятельности государства этнический состав населения и связанный с этим уровень напряженности в обществе?
Другой вопрос звучит так: является ли оптимизация функций государства следствием демократического процесса? Если это так, то можно предположить, что в некоторых обществах для оптимального функционирования государства необходим больший упор на перераспределение богатств, пусть даже и в ущерб экономическому росту, а в других рост, наоборот, имеет приоритетное значение. Однако оценивать действия государства по принципу «большинство всегда право» – дело рискованное, поскольку это подразумевает необходимость соглашаться с любым решением большинства – в том числе о репрессиях против меньшинств, экспроприации богатств или конфискационной системе налогообложения. Таким образом, принцип власти большинства должен действовать с оговорками, а следовательно, возникает необходимость выработки других критериев, определяющих масштаб действий государства.
Ответ на вопрос, различается ли модель оптимального государства для разных обществ, во многом зависит от того, существуют ли фундаментальные различия между людьми, принадлежащими к разным сообществам. На мой взгляд, сама человеческая природа предопределяет сходные варианты мотивации и познания мира, а потому и модель оптимального государства для всех обществ в основном одинакова. Политика, построенная на противоположной точке зрения – к примеру, на тезисе о том, что в бедных странах государство должно больше вмешиваться в экономику, поскольку бедные крестьяне слабо реагируют на стандартные экономические стимулы, – стала одной из главных причин неспособности стран третьего мира выбраться из нищеты (Bauer 1976; Schultz 1980). Еще более серьезную ошибку совершили марксисты, полагавшие, что ликвидация частной собственности позволит создать более совершенного «нового человека».
Из последних заблуждений этатистов следует упомянуть концепцию, согласно которой необходимость усиления государственного регулирования в бедных странах обосновывается информационными дефектами их рынков (т. е. недостаточной образованностью населения). Подобные рекомендации вызывают недоумение, ведь в развивающихся странах государственное регулирование уже намного превышает уровень, который можно было бы оправдать необходимостью повышения эффективности функционирования экономики (Djankov et al. 2002). К тому же следует учитывать возможность того, что некоторые элементы оптимального «набора» функций государства могут делегироваться внешним структурам, например, международным организациям. Тогда возникает вопрос об оптимальном распределении этого набора государственных функций, а вместе с ним и вопрос об изменении роли независимого государства как такового. Именно эти проблемы лежат в основе дебатов о конституции Европейского союза (Creveld 1999: 402–421; Mathews 1997: 50–65).
3 Критерии, определяющие оптимальное государство
Общепринятый в экономической науке подход к определению оптимального набора функций государства следует признать неудовлетворительным [2] . В частности, экономисты, например Джозеф Стиглиц, утверждают, что «первостепенная задача государства» состоит в обеспечении правовой основы, «в рамках которой происходят любые экономические трансакции» (Stiglitz 1988: 24), но при этом фактически не упоминают о том, каким должно быть содержание такого рода законов и каким образом государство может повлиять на желательность или эффективность их применения. Бросается в глаза и полное отсутствие упоминаний о негосударственных механизмах соблюдения законов и их взаимосвязях с механизмами государства. Создается впечатление, что урегулирование всех конфликтов в экономической жизни общества является исключительной прерогативой государства. Однако подобное впечатление не соответствует данным эмпирических исследований (см., например: Greif 1997; Gow, Swinnen 2001; Waldmeir 2001).
Подобная неразбериха связана с использованием концепции «общественного блага», общего для всех и потребляемого на неконкурентной основе (Samuelson 1954: 387–389). Ради самого обеспечения общества подобными «благами» необходимо налогообложение, а следовательно, и принуждение со стороны государства. Но какие блага можно назвать «общественными» в полном смысле слова? Является ли система правосудия прерогативой государства потому, что ее услуги представляют собой «общественное благо»? Но ведь некоторые юридические услуги к этой категории явно не относятся. Тогда какие «услуги правосудия» следует считать «общественным благом», а какие нет? А маяк – этот хрестоматийный пример «общественного блага» – является ли на самом деле таковым? Рональд Коуз в своей работе продемонстрировал, что в XIX веке маяки в Британии управлялись и финансировались частными фирмами (Coase 1974). Несмотря на эти данные, маяк во многих учебниках по-прежнему приводится как наглядный пример «общественного товара» (см., например: Stiglitz 1988: 75).
В реальной жизни, возможно, присутствует куда меньше «общественных благ», чем это принято считать. Таким образом, необходимые (или желательные) рамки деятельности государства, вероятно, также следует сузить. Некоторые блага, которые называют «общественными», на деле, вероятно, являются частными, и в ведении государства они оказались из-за вмешательства последнего в экономику, ликвидировавшего или подорвавшего возможности для их добровольного частного финансирования. Другими словами, некоторые интерпретации понятия «общественное благо» неизбежно представляют собой оправдание задним числом уже свершившегося факта – расширения функций государства.
Такими же недочетами страдает и восприятие теории «внешних эффектов» («экстерналий», externalities ). Проще всего предположить, что социальные выгоды превосходят выгоды частные (положительные внешние эффекты), а социальные издержки, в свою очередь, также превосходят частные (отрицательные внешние эффекты), и поэтому в обоих случаях необходимо вмешательство государства. Однако наука установила, что по крайней мере часть экстерналий, скорее всего, является результатом институционального несовершенства, т. е. плохо проработанного определения прав собственности (Mises 1949: 654–663). В таком случае решение состоит не в усилении государственного вмешательства, а в устранении препятствий, мешающих развитию прав частной собственности. Для этого может потребоваться ликвидация некоторых последствий уже свершившегося государственного вмешательства. А «теорема Коуза» (Coase 1960: 45–56) указывает на возможность ликвидации некоторых экстерналий путем прямых переговоров между заинтересованными сторонами.
В общем, неудивительно, что Чарльз Вулф-младший, экономист из аналитической организации RAND Corporation, заключает свой всеобъемлющий анализ трактовки вопроса о недостатках рынка в экономической литературе следующим утверждением: «Формулы, позволяющей определить важнейший показатель – минимальный масштаб необходимой деятельности и отдачи государства, – попросту не существует» (Wolf 1988: 153). Этот скептический вывод следует признать справедливой оценкой имеющихся в научной литературе представлений об оптимальных масштабах деятельности государства.
4 Вернемся к основам
Амартия Сен указывает главную причину, по которой экономическая наука столь невразумительно высказывается по вопросу о желательных масштабах деятельности государства: «Экономика как дисциплина переключила внимание со значения свобод на значение общественных служб, доходов и материального богатства. Подобное сужение предмета исследования приводит к недооценке роли рыночного механизма во всей ее полноте» (Sen 1999: 27) [3] . Подобно Ф. А. Хайеку (Науек 1960), Сен полагает, что экономическая наука делает слишком большой упор на оценку деятельности государства в свете ее ожидаемых последствий, ослабляя тем самым интеллектуальное обоснование того факта, что именно основополагающие индивидуальные свободы должны служить критериями определения допустимого и желательного масштаба этой деятельности.
Экономическая свобода определяется как «отсутствие государственного принуждения или ограничений в области производства, распределения и потребления товаров и услуг за пределами уровня, необходимого гражданам для защиты и сохранения самой свободы» (Beach, O’Driscoll 2003). Главными элементами экономической свободы являются гарантированные права на законно приобретенную собственность, право свободно заключать добровольные сделки как в пределах, так и за пределами границ данного государства, свобода от государственного контроля над условиями транзакций, совершаемых отдельными людьми, а также гарантии от экспроприации прав собственности в пользу государства (Rabushka 1991; Hanke, Walters 1997). Существуют две основные разновидности ограничений экономической свободы: ограничительное административное регулирование и налогообложение, превышающее уровень, необходимый для финансирования деятельности государства в пределах, которые отвечают задачам защиты классических экономических (и иных) свобод [4] .
В XX веке на Западе произошло серьезное ослабление позиций экономической свободы – как в научном, так и в правовом плане. Приведу два конкретных примера, иллюстрирующих эту общую тенденцию. Вот первый пример: в своей постоянно цитируемой и весьма популярной книге Джон Ролз приводит сильные аргументы в пользу «принципа свободы» в качестве важнейшего критерия, определяющего общественную жизнь и функции государства (Rawls 1971). Однако из списка свобод, имеющих приоритетное значение, он исключает некоторые основополагающие элементы экономической свободы (например, свободу предпринимательства). Неудивительно, что Ролз приходит к следующему выводу: идеальной институциональной системой, вероятно, следует считать рыночный социализм. Однако рыночный социализм может существовать лишь до тех пор, пока люди лишены прав частной собственности, а значит, и права свободно создавать частные фирмы. Капиталистическая система не предусматривает юридического запрета на существование предприятий, находящихся не в частном владении (скажем, некоммерческих организаций или кооперативов). Происходит нечто другое: когда у людей есть выбор, куда вложить свои деньги, время и энергию – в частную фирму или кооперативное предприятие, – подавляющее большинство отдает предпочтение первому. Таким образом, сущность капитализма – это свобода выбора, а для существования рыночного социализма необходим запрет на частное предпринимательство (Balcerowicz 1995b: 104–110). Но как в таком случае можно считать обе эти системы одинаково совместимыми с «приоритетом свободы»?
Другой пример ослабления позиций экономической свободы на Западе связан с изменением толкования Конституции Соединенных Штатов – страны с самой мощной традицией ограниченного государства.
С 1930-х годов Верховный суд США придает приоритетное значение не экономическим, а иным свободам, хотя это и противоречит изначальному смыслу американской конституции (Dorn 1988: 77–83). Ослабив конституционные инструменты защиты экономической свободы, подобная политика открыла путь для расширения государственного регулирования экономики. Много лет спустя последствия этого регулирования подверглись критическому анализу в экономической литературе, но мало кому из ученых удалось выявить причинно-следственную связь между ослаблением конституционных гарантий экономической свободы и усилением государственного вмешательства в экономику [5] . Даже Джордж Сиглер в своей классической работе о проблеме регулирования экономики не упоминает о подобной связи (Sigler 1971).
Как показывают приведенные примеры, если экономическая свобода исключается из списка основополагающих прав или ей придается второстепенное значение, философская концепция «приоритета свободы» оказывается чрезвычайно слабым идеологическим «средством защиты» от расширения роли государства. В результате исчезают любые препятствия на пути регулирования экономики.
Ситуация усугубляется в том случае, если концепция прав личности подвергается радикальному пересмотру и в нее включаются «социальные» права или принцип «всеобщего благосостояния». В результате классическое понимание свободы – как сферы жизни человека, защищенной от вмешательства других, – смешивается с идеей о праве каждого пользоваться деньгами других людей, конфискуемыми государством за счет роста налогообложения [6] . В результате между этими абсолютно разными категориями прав возникает противоречие, а вместе с ним – и опасность дальнейшего ослабления экономической свободы за счет роста налогообложения, обусловленного расширением системы социального перераспределения богатств.
Наилучшим инструментом сдерживания государства является эффективная конституция, где четко прописаны основополагающие свободы граждан [7] . Именно в этом состоит главный аргумент теории «конституционной экономики» (Buchanan 1988). Отказ от этого принципа или его ослабления будет негативно воспринят всеми, кто считает, что свобода, в том числе свобода экономическая, имеет непреходящую ценность, а потому деятельность государства необходимо ограничивать, невзирая на последствия. Однако для некоторых других именно последствия, возможно, представляют собой главный критерий оценки альтернативных институциональных систем, в том числе альтернативных форм государства [8] . Есть и такие, кто не верит ни в непреходящую, ни в прагматическую ценность индивидуальной свободы в экономике. Они считают непреходящей ценностью власть государства (или однозначно вредным явлением – экономическую свободу, причем опять же невзирая на последствия [9] .
5 «Ограниченное» и «расширенное» государство: последствия деятельности
Как влияет экономическая свобода на такие факторы, как экономический рост, связанное с ним искоренение бедности, а также степень распространения явлений, которые мы называем преступностью и коррупцией? Необходимо ли ограничение экономической свободы государством, чтобы усилить воздействие перечисленных позитивных факторов или снизить уровень негативных явлений?
Возьмем за образец ограниченное государство, деятельность которого сосредотачивается на защите основополагающих свобод, в том числе в экономике. Если подобное государство является демократическим, то эти свободы играют роль ограничителя для принципа «большинство всегда право», что требует эффективного закрепления данных свобод в тексте конституции. Системообразующий критерий, в соответствии с которым государство должно сосредоточиваться на защите основополагающих свобод, предполагает, что оно не может расширять свою деятельность в тех формах и направлениях, которые ведут к ограничению этих свобод, т. е. такое государство остается ограниченным [10] . Но при этом ограниченное государство весьма активно выполняет свою формообразующую функцию – защищает основополагающие индивидуальные свободы от покушений третьих сторон.
Существует немало форм государственного устройства, представляющих собой более или менее радикальное отклонение от этой модели. Сосредоточим внимание на трех основных категориях государств: (1) расширенном квазилиберальном, (2) расширенном нелиберальном и (3) расширенном антилиберальном (коммунистическом).
В первом случае чрезмерные полномочия государства выражаются в различных сочетаниях экономического регулирования и перераспределения благ, приводящих к определенному ущербу для экономической свободы, но не подрывающих ее полностью. Поэтому-то я и называю эту модель квазилиберальным государством. В пределах установленных ограничений экономическая свобода в этом случае находится под относительно надежной защитой судебной системы.
В рамках расширенного нелиберального государства частное предпринимательство как таковое не находится под запретом, но по сравнению с предыдущей категорией экономическая свобода намного сильнее ограничена нормами регулирования. Степень защиты государством сохраняющихся элементов экономической свободы здесь куда меньше, чем в квазилиберальном государстве.
Наконец, при коммунистическом строе частное предпринимательство запрещено, и этот запрет действует достаточно эффективно из-за жесткой реализации государством своих функций принуждения. Эффективный запрет частного бизнеса создает вакуум, который заполняется государственной командной экономикой. Таким образом, коммунистическое антилиберальное государство является и наиболее широким – для него это функциональная необходимость (Balcerowicz 1995b: 51–54). При этом такому государству незачем создавать особую систему для масштабного социального перераспределения благ. К примеру, в маоистской разновидности подобного государства социальные выплаты были весьма ограниченны.
Теперь на основе данной типологии попытаемся сделать некоторые выводы о влиянии различных ограничений экономической свободы на устойчивый экономический рост и обусловленное им искоренение бедности.
В современную эпоху мы не находим многочисленных примеров ограниченного государства (в эмпирическом плане больше всего к этой модели приближается Гонконг). Опыт истории, однако, позволяет обоснованно предположить, что рыночно-либеральное устройство, в рамках которого полномочия властей ограничивались законом, демонстрировало весьма высокие показатели роста (Rabushka 1985).
Все экономически развитые страны подпадают под категорию большого квазилиберального государства, однако в них представлены различные сочетания систем регулирования и перераспределения богатств. Кроме того, они различаются по степени воздействия различных негативных факторов. Возьмем, скажем, хроническую безработицу и зададимся главным вопросом: можно ли связать это явление с функционированием рынка, или, напротив, оно является результатом государственного вмешательства, типичного для большого квазилиберального государства? Сторонники мнения о том, что причины устойчивой безработицы кроются в несовершенстве рынка, аргументируют это следующим образом: работодатели, дескать, устанавливают ставки зарплат, превышающие уровень, который обеспечивает равенство спроса и предложения на рынке труда, в результате чего создается избыток рабочей силы (Akerloff 1982). Однако эта теория не позволяет объяснить громадные различия в уровне хронической безработицы в странах – членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Противоположная точка зрения, согласно которой это явление стало результатом вмешательства государства в экономику (т. е. неудачных действий властей), выглядит куда убедительнее. В литературе приводится масса эмпирических данных, указывающих на прямую связь между хронической безработицей (и уровнем занятости) и такими отличительными чертами расширенного государства, как щедрые пособия по безработице, высокие налоги (обусловленные значительным объемом социальных выплат), негибкость зарплат из-за внедрения, не без помощи государства, системы коллективных договоров и юридические ограничения, затрудняющие создание новых фирм, а также функционирование рынков труда, жилья и товаров [11] .
Люди, долгое время не имеющие работы, принадлежат к категории самых обездоленных граждан, чьим интересам, по мнению Ролза, должно уделяться приоритетное внимание (Rawls 1971). Однако парадокс такой ситуации заключается в том, что именно вмешательство в экономику, характерное для расширенного квазилиберального «государства всеобщего благосостояния», приводит к росту безработицы. Этим я не утверждаю, что любые возможные варианты такого государства неизбежно порождают хроническую безработицу. Подобное происходит далеко не всегда: свидетельство тому – показатели в этой области, которые демонстрируют в последние годы Великобритания, Соединенные Штаты и Ирландия. Однако можно утверждать, что отклонение от модели ограниченного государства (т. е. ослабление или демонтаж механизмов, сдерживающих его расширение) создает риск государственного вмешательства в экономику, чреватого целым рядом нежелательных последствий [12] и при этом не достигающего заявленных целей [13] .
В большинстве развивающихся стран существует квазилиберальное или нелиберальное государственное устройство, а уровень экономической свободы и степень ее защиты государством в них существенно различаются. Дискуссия о причинах различия в показателях роста, которые демонстрируют эти страны, еще далека от завершения, но, на мой взгляд, вряд ли стоит сомневаться, что более широкое и лучше защищенное пространство экономической свободы способствует росту, а масштабное ограничение этой свободы государством приводит к катастрофическим последствиям (см.: Scully 1992; Hanke, Walters 1997; Keefer, Knack 1997; Dollar, Kray 2000). Развивающаяся страна не может жертвовать экономической свободой ради социального благосостояния – отказавшись от свободы, она закрывает себе путь к благосостоянию. Как показывает опыт, тот же принцип действует и для стран с переходной экономикой (Balcerowicz 2002).
Небольшую группу развивающихся стран Восточной Азии, демонстрирующих чрезвычайно высокие темпы экономического роста, можно рассматривать как своеобразную «лабораторию» для проверки различных гипотез о соотношении роли государства и рынка. Можно ли объяснить это «экономическое чудо» некими особыми формами вмешательства со стороны нелиберального государства (например, целевым кредитованием или индустриализацией под руководством властей)? Подобную гипотезу легко опровергнуть. Правящие режимы в странах, где произошло это «чудо», в разной степени вмешивались в экономику, но в их действиях прослеживается одна общая черта – наличие фундаментальных элементов экономической политики, характерных для ограниченного государства: относительная открытость экономики, низкий уровень налогообложения и поощрение частного предпринимательства (Balcerowicz 1995а: 26–27; фактические данные см.: Quibria 2002).
Что же касается мнения марксистов о том, что частная собственность и свободный рынок препятствуют экономическому развитию, то опыт истории показал его полную несостоятельность. Не было ни одного случая, когда страна с нерыночным, этатистским экономическим устройством добивалась бы экономического успеха. Самый радикальный отказ от свободы в истории обернулся гигантским ущербом с точки зрения благосостояния. Остается лишь удивляться, почему такое количество ученых поддерживало утверждение об экономической дееспособности и даже превосходстве социализма, игнорируя предостережения Мизеса и Хайека [14] .
Итак, мы рассмотрели вопрос о влиянии ограничения экономической свободы на некоторые аспекты экономического развития. Однако существуют и другие важные показатели – например, уровень преступности, коррупции и уклонения от налогов, а также размеры теневой экономики. Насколько они зависят от того, к какой категории относится государство?
Существует понятие «первичных преступлений» – т. е. действий, которые считаются преступлениями в любом современном обществе (убийства, разбойные нападения, грабежи, изнасилования). Что же касается расширения функций государства, то оно порождает целый набор «вторичных преступлений» (Friedman, Friedman 1984: 136). Впрочем, ограничения, перекрывающие доступ на рынок товарам, пользующимся большим спросом, приводят не только к «вторичным» преступлениям, но и в какой-то степени способствуют росту преступлений «первичных» (например, убийству людей в бандитских «разборках» и перестрелках с полицией). Наглядным примером в этой связи служит «сухой закон», введенный в США в 1920-х годах. Рост социальных выплат – главная причина резкого увеличения государственных расходов в европейских странах после Второй мировой войны – привел не только к повышению налогов, но и к расширению масштабов преступности в налоговой сфере, а также породил теневую экономику.
В коммунистическом государстве в разряд «криминала» попадает беспрецедентное количество видов человеческой деятельности: любое частное предпринимательство считалось тяжким уголовным преступлением, да и независимая политическая активность была запрещена законом [15] . Этот пример нагляднейшим образом показывает, почему правоохранительную функцию государства нельзя считать самоценной. Все зависит от того, что именно государство «охраняет» – экономическую свободу или ограничения таковой.
Помимо этического вопроса о содержании законодательства и последствий его применения возникает и проблема функционального порядка – судебная система, чрезмерно загруженная надзором за соблюдением многочисленных ограничений хозяйственной деятельности, будет просто не в состоянии предотвратить дальнейшего размывания экономических свобод. Ограниченное государство не только обеспечивает гражданам наивысший уровень экономической свободы, но и защищает ее лучше, чем государство, перегруженное регулирующими функциями.
Обратимся теперь к проблеме коррупции. Авторы многочисленных эмпирических исследований делают вывод о том, что уровень коррупции в обществе зависит от конкретного сочетания факторов, характерных по крайней мере для некоторых разновидностей большого государства: ограничительного регулирования и связанных с ним широких полномочий политиков и государственной бюрократии, высокого номинального налогового бремени, а также больших объемов государственных закупок (см.: Rose-Ackerman 1999; Tanzi 1998а; Djankov et al. 2000). Важнейшим из перечисленных факторов, пожалуй, является масштаб ограничительного регулирования и бюрократизации процесса принятия решений, которые в этом случае порой становятся результатом деятельности коррупционеров или популистов и сопровождаются произволом государственного аппарата. Все меры, максимально ограничивающие экономическую свободу и тем самым препятствующие росту, в наибольшей степени способствуют и процветанию коррупции [16] .
Взаимосвязь между уровнем налогообложения и коррупцией носит менее однозначный характер. Высокое номинальное и фактическое налоговое бремя может сочетаться с низким уровнем коррупции, если масштаб государственного регулирования невелик, а произвол бюрократии ограничивается. Самым наглядным примером подобной ситуации являются скандинавские страны. Однако в условиях и без того тяжелого налогового бремени дальнейшее повышение налогов чревато в долгосрочной перспективе опасностью возникновения коррупционного сговора между некоторыми чиновниками налоговых органов и отдельными налогоплательщиками. Кроме того, высокое номинальное налогообложение зачастую порождает массовое уклонение от налогов, отчасти выражающееся в незарегистрированной хозяйственной деятельности в рамках «теневой» экономики (Schneider, Ernste 2000: 77-114). Наконец, масштабные социальные выплаты, которые и обусловливают высокий уровень налогообложения, как правило порождают – сами по себе или в сочетании с высокими налогами – целый ряд негативных явлений, таких как дефицит рабочей силы, снижение объемов индивидуальных сбережений, злоупотребление государственными средствами со стороны тех, кто их получает, и выработку у людей зависимости от государственной помощи (Niskanen 1996; Hanson 1997; Arcia 2000).
Если высокий уровень номинального и фактического налогообложения может сочетаться с низким уровнем коррупции, то возникновение «ножниц» между номинальным налогообложением и фактической собираемостью налогов несомненно связано с массовой коррупцией. Причина этого проста: налоговые поступления в казну невелики, потому что налоговые платежи отчасти заменяют взятки чиновникам налоговых служб (а возможно, и их начальникам). Кроме того, чиновники, «отвечающие» за государственное регулирование, тоже берут взятки. Поэтому в государстве с высоким уровнем регулирования и административного произвола фактические налоговые поступления, как правило, невелики, а масштабы взяточничества огромны [17] . Следовательно, небольшой объем налоговых поступлений не всегда следует рассматривать как фактор, способствующий мощному экономическому росту. На его темпы влияет не только объем налоговых поступлений, ной общая сумма налоговых отчислений и средств, выплачиваемых в виде взяток. Доля каждой из составляющих этой суммы сильно варьируется в зависимости от типа государственного устройства и может рассматриваться как один из индикаторов, свидетельствующих о его характере.
Позвольте завершить этот раздел следующими тезисами:
> Идея о том, что ограничение индивидуальной свободы в экономике ведет к улучшению экономических показателей, не подтверждается фактами. Похоже, истина заключается как раз в обратном: чем радикальнее «расширение» деятельности государства, тем больше ущерба оно наносит экономике. Масштабные ограничения экономической свободы приводят к существенному снижению благосостояния людей. Это, несомненно, относится не только к коммунистическим государствам, но и к «нелиберальным» режимам, существующим во многих развивающихся странах. Одной из главных черт этих режимов является чрезмерное, хищническое по природе, регулирование экономики (Djankov et al. 2002). Так что реальный вопрос заключается в следующем: какие структурные реформы необходимы таким государствам, чтобы их деятельность не оборачивалась ростом нищеты, неравенства и коррупции? Даже в условиях квазилиберальной системы, характерной для стран Запада, вмешательство государства в экономику приводит к серьезной социальной патологии – хронической безработице.
> Расширение масштабов деятельности государства в различных формах чревато и иными последствиями – объявлением вне закона многих видов деятельности людей, распространением коррупции, уклонения от налогов и возникновением теневой экономики.
> Ограничительное регулирование – явление более вредное, чем перераспределение богатств. Масштабное регулирование неизбежно приводит к параличу экономики и всепроникающей коррупции. Кроме того, оно может ослабить функции государства по защите сохранившихся экономических свобод. Не касаясь этической стороны дела, можно утверждать: рациональные пределы перераспределения богатств определяются критериями сбалансированной финансовой политики и тем фактом, что социальные выплаты государства могут привести к сокращению предложения на рынке труда. Из последнего постулата, в частности, вытекает, что деньги целесообразнее потратить не на пособия по безработице, а на начальное образование.
> Многие отклонения от модели ограниченного государства приводят к увеличению количества обездоленных, поскольку чрезмерно широкие полномочия государства оборачиваются ростом нищеты и хронической безработицей. Поэтому сторонникам концепции Ролза о том, что интересы обездоленных должны иметь для общества приоритетный характер, следует очень настороженно относиться к расширению государства.6 К чему ведет «расширение» государства?
Приведенные выше критические замечания относительно расширения масштабов деятельности государства оппоненты обычно пытаются опровергнуть, используя два взаимосвязанных аргумента:
1) «Расширение» государства стало реакцией на возникшую в обществе потребность, а потому оно в какой-то мере оправданно. Так, Ричард Масгрейв утверждает: из-за «ослабления семейных уз, непредсказуемости циклов деловой активности и изменений на рынке» возникла «растущая потребность в новых институтах для оказания поддержки нуждающимся», а потому «возникновение государственного сектора следует рассматривать как следствие, а не первопричину» (Musgrave 2000: 231).
2) Без государственного вмешательства в обществе возник бы вакуум: удовлетворить определенные потребности было бы невозможно, что привело бы к ухудшению материального положения людей.
Первый аргумент касается причин расширения масштабов деятельности государства, а второй – его последствий. Первый тезис проблематичен по следующей причине: даже столь расплывчатым понятием, как «потребность», невозможно обосновать необходимость наиболее радикальных форм расширения полномочий государства, например коммунистического строя или диктаторского режима Мобуту. Впрочем, теория о том, что расширение государства отвечает возникающим в обществе потребностям, вызывает сомнения и в тех случаях, когда речь идет о переходе от ограниченного государства к квазилиберальному. Чьи потребности обусловливают подобный переход и как определить их остроту? Как увязать с этими потребностями неравномерность, характерную как для усиления регулирования, так и для роста социальных выплат? Удивительно, но факт: социальные выплаты в развитых странах увеличивались не постепенно, а резкими «всплесками», в определенные краткие периоды времени (Tanzi, Schuk-necht 1997). Подобный «взрывной» рост характерен и для некоторых форм регулирования, особенно в финансовой сфере (Allen, Gale 2000). Вряд ли «скачкообразное» усиление регулирования и увеличение социальных выплат можно правдоподобно объяснить «теорией потребностей». Гипотеза о том, что расширение роли государства становится реакцией на возникшую в обществе потребность, – лишь неубедительная попытка объяснить его с использованием псевдопсихологическихи псевдорыночных концепций. В худшем же случае она граничит с апологией «расширенного» государства.
Второй тезис – о том, что без государственного вмешательства возникает «пустота» и от этого страдают люди, – следует считать одним из вариантов подхода экономистов – теоретиков «всеобщего благосостояния» к вопросу об оптимальных масштабах деятельности государства. Я уже останавливался на проблемах, возникающих при попытке применить к реальной действительности теоретические концепции «общественного блага» и «внешних эффектов». Добавлю еще два замечания. Во-первых, негосударственную деятельность нельзя сводить лишь к рыночным транзакциям, направленным на получение прибыли. Она включает в себя и различные действия, связанные с самопомощью и взаимопомощью. Оба этих вида деятельности – рыночная, ориентированная на прибыль самопомощь и взаимопомощь – предусматривают добровольное сотрудничество между людьми. Следовательно, даже если и существуют доказательства, что рынок не способен выполнять ту или иную полезную функцию, это еще не означает, что подобную функцию следует перепоручить государству.
Во-вторых, расширение масштабов деятельности государства ограничивает простор для институциональных экспериментов (Hayek 1960). Ученые-экономисты единодушны в том, что расширение масштабов деятельности государства – даже в его наименее радикальных формах, не говоря уже о государстве «нелиберальном» и «антилиберальном», – приводит к вытеснению негосударственных игроков. Возьмем хотя бы регулирование цен, результатом которого становятся дефицит товаров и введение карточной системы. Такую меру можно назвать «первоначальным» государственным вмешательством. Если вызванное ею падение доходности деловых операций окажется неприемлемым для частных инвесторов, образовавшийся вакуум придется заполнять государственными капиталовложениями. Подобная ситуация представляет собой «вторичное» вмешательство. До вмешательства государства вакуума не существовало, именно оно его и создало. Типичный пример в этой связи – ситуация, возникающая в жилищном секторе, когда введенный властями контроль над квартплатой приводит к необходимости строительства «социального» жилья.
В двух словах, такое развитие событий соответствует простейшей модели «саморасширяющейся» деятельности государства. Все начинается с первоначального вмешательства, обусловленного различными сочетаниями политических требований, связанных с воздействием этатистской идеологии и групп интересов. В дальнейшем этот первый акт вмешательства часто влечет за собой вмешательство вторичное, вызванное уже функциональной необходимостью – т. е. факторами, действующими независимо от первоначальных намерений политического руководства. Скажем, если в результате первоначального вмешательства частные инвестиции в жилищное строительство становятся невыгодными, а потребность в жилье существует, ее придется удовлетворять за счет государственных средств.
Эта простая схема позволяет объяснить причины вытеснения частных «игроков» в тех областях, где традиционная экономическая наука воспринимает государственное вмешательство как должное из-за «несовершенства рыночных механизмов». Возьмем сферу образования. До введения «бесплатного» и обязательного обучения в государственных школах в Англии, Уэльсе и Соединенных Штатах существовала обширная сеть платных начальных школ: деньги вносились родителями учеников или церковью. В 1833 году доля совокупного национального дохода, тратившаяся на школьное образование детей всех возрастов, составляла в Англии 1 %. К 1920 году, когда обучение стало «бесплатным» и обязательным, она сократилась до 0,7 % (West 1991). «Бесплатные» (т. е. финансируемые за счет налогоплательщиков) государственные школы монополизировали спрос на обучение, и в результате система негосударственных платных образовательных услуг просто рухнула. Эдвин Вест подчеркивает в этой связи: «Специалисты в области политэкономии, за исключением Маркса и Энгельса, вплоть до середины XIX века отдавали предпочтение частному школьному образованию, основанному на принципах свободного рынка», поскольку рассматривали плату за обучение «как единственный инструмент, с помощью которого родители могли поддерживать такое позитивное явление, как конкуренция между учителями и школами» (Ibid.). В частности, Джон Стюарт Милль рекомендовал ввести обязательные экзамены, но был против обязательного государственного школьного обучения.
Рассмотрим теперь вопрос об индивидуальных рисках, связанных, к примеру, с потерей работы. Именно безработицу часто преподносят в качестве обоснования необходимости государственного «социального» обеспечения. Подобные аргументы часто подкрепляются ссылками на несовершенство рынков капитала. Однако здесь начинать следует, очевидно, с сокращения всех масштабных индивидуальных рисков, вызванных факторами, не относящимися к действию рыночных сил. Такие риски приобретают широкие масштабы из-за политики расширенного государства, приводящей к фискальным или финансовым кризисам, высокой инфляции и массовой безработице. Исключение самой возможности для проведения подобной политики за счет перехода от большого государства к ограниченному и следует считать наилучшей, незаменимой формой социального обеспечения [18] .
Более того, подобная реформа приведет к ускорению роста индивидуальных доходов и сбережений, а значит, усилит способность людей противостоять различным рискам. Кроме того, по данным эмпирических исследований, в бедных странах действует ряд неформальных методов «борьбы с рисками» (например, люди помогают друг другу деньгами или получают переводы от родственников, работающих за границей). К тому же в любом обществе существует на удивление мощный потенциал для введения более современных институциональных негосударственных схем, поощряющих индивидуальные сбережения и предоставляющих услуги в области страхования и «микрокредита» (Morduch 1999). Так, в западных странах до введения обязательного социального страхования активно распространялись добровольные страховые общества. К примеру, в Британии количество членов таких ассоциаций взаимопомощи в 1877 году составляло 2,8 миллиона, в 1897-м – 4,8 миллиона, а к 1910-му возросло до 6,6 миллиона человек (Green 1985). Ученые отмечают, что «для программ, осуществляемых непосредственно государством, как правило, характерны большие трудности с обеспечением соблюдения их условий реципиентами», что «привело к катастрофическим последствиям с точки зрения долгосрочной финансовой устойчивости программ государственного кредита» (Morduch 1999: 201).
Распространение финансируемого государством социального страхования может привести к вытеснению традиционных структур взаимного кредита и блокировать развитие его более современных форм. Об этой опасности недвусмысленно упоминается в одном из недавних докладов Всемирного банка: «В области социального обеспечения конкуренция со стороны государства может привести к вытеснению частных институциональных схем… которые оказывают адресную помощь именно тем, кто в ней нуждается, эффективнее, чем более удаленные от конкретного человека государственные программы социальной помощи» (World Bank 2002а: 24). Именно это и произошло на Западе из-за возникновения «государства всеобщего благосостояния».
Государственные социальные выплаты могут частично направляться не самым нуждающимся, а более обеспеченным людям; кроме того, они часто приводят к вытеснению добровольных схем страхования, помогающих именно беднякам. В результате можно предположить, что в бедных странах государственное социальное обеспечение может привести только к ухудшению положения обездоленных слоев общества. В подобной ситуации «государство всеобщего благосостояния» вытесняет «общество всеобщего благосостояния». Не стоит забывать и о том, что рост налогообложения, необходимый для финансирования социальных расходов, скорее всего будет препятствовать экономическому росту, а значит, и созданию новых рабочих мест [19] .
Наконец, результаты усиления регулирования в финансовой сфере четко иллюстрируют, каким образом некоторые формы первоначального вмешательства влекут за собой вмешательство вторичное, приводя к значительному расширению роли государства в этом секторе, причем не всегда оптимальному. Роль первоначального вмешательства в данном случае играет масштабное страхование вкладов, приводящее к резкому снижению рыночной дисциплины (т. е. стимулов, побуждающих вкладчиков отслеживать деятельность банков с точки зрения размеров их основного капитала и требовать полной прозрачности их отчетности). Чтобы закрыть образовавшуюся брешь, необходима волна вторичного вмешательства, в частности, введение «нормативов достаточности» основного капитала для снижения рисков, ограничений портфеля инвестиций для банков, а также использование субординированных долговых обязательств в качестве инструмента мониторинга (Bhattacharya et al. 1998; Dowd 1996; Benston, Kaufman 1996). Подобное «нормативное регулирование» в принципе представляет собой рациональную реакцию на последствия первоначального вмешательства.
7 Заключение
Экономическая наука не дает четкого ответа на вопрос о том, в чем именно должны заключаться функции государства. Непосредственной причиной этого являются трудности, связанные с применением ее основополагающих теоретических постулатов – концепций «общественного блага» и «внешних эффектов» – к реальной действительности. Глубинная же причина состоит в пренебрежении использованием основополагающих экономических свобод в качестве критериев определения пределов деятельности государства. Даже на Западе в XX веке произошло – как в научном, так и в правовом плане – существенное ослабление влияния концепции экономических свобод, что расчистило путь для расширения масштабов деятельности государства.
Идея о том, что расширение масштабов деятельности государства – т. е. все большее ограничение властями свободы в экономике – якобы ведет к улучшению экономических показателей, не подтверждается фактами. Похоже, истина заключается как раз в обратном: чем радикальнее расширение деятельности государства, тем больше ущерба оно наносит экономике. Расширение функций государства в различных формах чревато и иными последствиями: распространением коррупции, уклонения от налогов, возникновением теневой экономики и ослаблением функции государства по защите сохранившихся экономических свобод. Многие отклонения от модели ограниченного государства приводят к росту числа обездоленных – например, людей, хронически не имеющих работы.
Нельзя воспринимать как аксиому и тезис о том, что ограниченное государство (т. е. государство, чья деятельность сосредоточена на защите основополагающих свобод) не способно обеспечить гражданам определенные услуги, что ведет к ухудшению их положения. Нельзя недооценивать потенциал добровольного сотрудничества между людьми, как в форме рыночных операций, нацеленных на получение прибыли, так и в форме различных схем взаимопомощи. Кроме того, существует ряд методов преодоления рисков на уровне индивида. Более того, именно большое государство, возможно, приводит к вытеснению многих видов негосударственной деятельности и блокирует формирование ее новых, потенциально благотворных форм. Поэтому существует множество оснований рассматривать тип ограниченного государства как оптимальный.
В последние 20 лет в мире наблюдается тенденция к переходу от большого государства к более ограниченному. Это явление свидетельствует о том, что задача ограничения масштабов деятельности государства, ограничения, позволяющего высвободить потенциал добровольного сотрудничества и индивидуальной инициативы, вполне осуществима даже несмотря на то, что такой переход еще далеко не завершен и сопровождается немалыми трудностями. Всегда найдутся люди, готовые ограничить свободу других ради собственной выгоды – политической или экономической. Всегда найдутся и идеологи, эмоционально приверженные идее «сильного» государства или не верящие в потенциал добровольного сотрудничества между людьми.
Необходимо при каждом удобном случае утверждать в умах людей концепцию государства, чья деятельность ограничивается системой реально гарантированных законодательством основополагающих индивидуальных свобод. Есть и другие методы сдерживания государственного произвола – так называемые «суррогатные» формы защиты свободы личности. Институциализованные фискальные ограничения способствуют предотвращению роста государственных расходов, а значит, и налогообложения. Наличие независимого Центрального банка не позволяет прибегать к инфляционному финансированию бюджетного дефицита, защищая тем самым людей от «инфляционного налога» (т. е. снижения доходов из-за обесценивания денег. – Примеч. пер.). Членство во
Всемирной торговой организации ограничивает возможности введения странами-участницами протекционистских мер друг против друга, что способствует защите отечественных производителей и потребителей. Эти и другие элементы, составляющие «вторую линию обороны», также необходимо вводить или укреплять.
Переходный период в посткоммунистических странах: некоторые уроки
1 Введение
«Переходным» обычно называют период частичного или полного изменения институциональной системы страны, т. е. набора ее внутренних институтов и механизмов человеческого взаимодействия, к которым относятся, в частности, рыночная (или плановая) экономика и выборы.
Институциональная система по определению включает в себя, среди прочего, политическую и экономическую системы (подробнее об этом см.: Balcerowicz 1995b). Таким образом, можно выделить «политический» и «экономический» переход («политические» и «экономические» преобразования). В большинстве стран Центральной и Восточной Европы, а также в большинстве постсоветских стран преобразования в обеих сферах имеют четкую направленность. Политические преобразования направлены на изменение роли и структуры государства, а также его демократизацию.
...
Я искренне благодарен совету Фонда Уинкота за приглашение выступить с Уинкотовской лекцией в 2001 году. Особо хотел бы поблагодарить председателя совета сэра Джеффри Оуэна. Текст, следующий ниже, основан на моей лекции, однако существенно дополнен за счет на сегодняшний день уже весьма значительного массива литературы по проблемам посткоммунистического переходного периода. Учитывая ограниченность объема настоящей статьи, мне пришлось подходить к этой гигантской теме весьма выборочно и сосредоточиться на ее наиболее общих и, надеюсь, фундаментальных аспектах. Моя жена, Эва Бальцерович, сделала весьма полезные замечания к первому варианту этой работы. Я благодарен также Ремигушу Наврату за помощь в составлении обзора эмпирической литературы по проблемам перехода к рыночной экономике в посткоммунистических государствах и Малгожате Клоц-Конколович за участие в редактировании текста.
Впервые: BalcerowiczL. Post-CommunistTransition: Some Lessons: Thirty-first Wincott lecture, 8 october 2001. London: The Institute of Economic Affairs, 2002.
Под экономическими преобразованиями подразумевается переход от социалистической экономики (особой разновидности нерыночной системы) к рынку, сопровождающийся увеличением доли частного сектора в народном хозяйстве. Кроме того, в переходный период при необходимости осуществляется макроэкономическая стабилизация. Если к моменту преобразований в стране наблюдается серьезный макроэкономический дисбаланс, подобная стабилизация требует, по крайней мере в долгосрочной перспективе, проведения институциональных (структурных) реформ в промышленном секторе и в сфере государственных финансов.
Посткоммунистический переходный период в Европе и постсоветских странах, несомненно, стоит в одном ряду с другими важнейшими преобразованиями новой и новейшей истории. Его начало и основные события, особенно на первом этапе, были совершенной неожиданностью. Никто не мог предугадать, что КПСС будет распущена собственным генеральным секретарем, а президенты России, Украины и Беларуси мирным путем «упразднят» СССР. Среди других сюрпризов следует назвать объединение Германии и распад Чехословакии. Все это подтверждает общий тезис о том, что радикальные изменения в истории чаще всего отличаются непредсказуемостью.
В общем и целом посткоммунистический переход, на мой взгляд, представляет собой весьма позитивный процесс. Это осознаешь, сравнив изменения в благосостоянии людей в странах, различающихся по масштабам проведенных реформ. Следует также учитывать, что отсутствие таких преобразований обернулось бы не консервацией положения, сложившегося в 1989 или 1991 году, а его неизбежным постепенным ухудшением. Самым наглядным примером в этом смысле является ситуация в Беларуси при Александре Лукашенко.
Недовольство, которое реформы вызывают в обществе, не может служить критерием оценки посткоммунистических преобразований и уж тем более поводом для их осуждения. Как я собираюсь показать в настоящей статье, даже самые успешные экономические реформы неизбежно вызывают значительное недовольство, однако половинчатость реформ или их отсутствие рано или поздно обернутся еще большим разочарованием и отчаянием в обществе. Кроме того, многие зачастую винят «реформы» в социальных проблемах, возникающих как раз из-за их отсутствия. Хорошим примером в этом отношении служит рост безработицы, порождаемый негибкостью рынка труда. Многие представители интеллигенции и простые люди ассоциируют все, что происходило после крушения коммунизма, с «переходом к рынку». Из-за подобного ошибочного взгляда ответственность за самые серьезные проблемы, вызванные блокировкой реформ, возлагается на сами реформы.
Посткоммунистические преобразования – тема огромная и многоплановая. Ее анализ в рамках настоящей работы по понятным причинам носит весьма выборочный характер. В главе 2 эти преобразования рассматриваются в сравнительно-исторической перспективе. В главе 3 дается краткое описание коммунистической институциональной системы. Главная тема главы 4—различия в экономических результатах, достигнутых посткоммунистическими государствами, а также связь этих различий со стартовыми экономическими условиями и масштабом структурных реформ. В главе 5 приводится ряд наблюдений относительно политэкономических особенностей посткоммунистического переходного периода.
2 Посткоммунистические преобразования в сравнительно-исторической перспективе
Посткоммунистический переходный период в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ имеет ряд важных специфических характеристик: это становится очевидно при его сравнении с другими аналогичными преобразованиями [20] . Речь идет о: 1) «классическом» переходе, т. е. распространении демократии в развитых капиталистических странах в 1860–1920 годах; 2) «неоклассическом» переходе – демократизации капиталистических – в основе – стран после Второй мировой войны (Германии, Италии и Японии в 1940-х годах, Испании и Португалии – в 1970-х, некоторых латиноамериканских государств – в 1970-1980-х годах, Южной Кореи и Тайваня – в 1980-х); 3) рыночных реформах в некоммунистических странах (Западной Германии и других странах Запада после Второй мировой войны, Южной Корее и Тайване в начале 1960-х, Чили в 1970-х, Турции и Мексике в 1980-х, Аргентине в 1990-х); и 4) пост-коммунистическом переходе в Азии (в Китае начиная с 1970-х и Вьетнаме начиная с конца 1980-х). Естественно, в рамках каждой из выделенных категорий, особенно первых двух, наблюдаются значительные вариации. Однако в данном случае мы оставим их без внимания и сосредоточимся на фундаментальных различиях между соответствующими категориями преобразований, а не внутри каждой из них.
Как видно из таблицы 1, посткоммунистические преобразования в постсоветских странах имеют ряд отличительных особенностей.
Во-первых, масштаб реформ был исключительно широк. Перемены затронули как политическую, так и экономическую систему и к тому же усиливались изменениями в социальной структуре общества. Все эти внутренние изменения в соответствующих странах были вызваны и проходили в рамках распада советской империи. Большинство постсоветских государств столкнулось с дополнительными проблемами переходного периода, связанными с определением их территориальных, а также социокультурных границ и строительством институционального аппарата.
В большинстве других случаев радикальных преобразований внимание сосредоточивалось либо на политической системе (а экономическая оставалась практически без изменений), либо на экономике, не затрагивая политического режима (как правило, недемократического). Беспрецедентность масштаба перемен в странах бывшего советского блока оборачивалась, среди прочего, чрезвычайной информационной перегрузкой для политического руководства. Допускались ошибки и затяжка реформ, чему не следует удивляться, особенно если учесть, что государственный аппарат, с которым приходилось работать политическому руководству, был в основном унаследован от старого режима. Массовые кадровые перестановки стали возможны лишь в бывшей Г ДР после объединения Германии; для других посткоммунистических государств этот путь, по понятным причинам, был закрыт.
Во-вторых, хотя изменения в политической и экономической системе повсюду начались примерно в одно и то же время, говорить о синхронности преобразований в посткоммунистической Европе было бы неверно. Приватизация в условиях огосударствления экономики занимает больше времени, чем организация свободных выборов и создание политических партий хотя бы в зачаточной форме. С учетом примерно одновременного начал а политических и экономических реформ, подобное несовпадение в их темпах порождает новую последовательность событий : массовая демократия (или по крайней мере политический плюрализм, т. е. определенная степень законодательно зафиксированной соревновательности в политической жизни) формируется первой, а капитализм идет следом за ней.
Таблица 1. Основные параметры преобразований
Источник: Balcerowicz 1995b.
В-третьих, подобная последовательность событий обусловливала необходимость осуществления рыночных реформ – необычайно масштабных из-за наследия социалистической экономики – в условиях демократического или, по крайней мере, плюралистического политического устройства. В большинстве других случаев подобные реформы осуществлялись недемократическими режимами (преобразования типа 3 и 4). В странах, подпадающих под эти категории, трудно найти хотя бы один пример перехода к рынку, сравнимого по масштабам с реформами в посткоммунистических странах Европы и к тому же осуществлявшегося в рамках демократического строя. Все радикальные экономические реформы в других государствах осуществлялись несомненно авторитарными и довольно репрессивными режимами (Чили в 1970-х, Китай начиная с конца этого же десятилетия). В 1980-х годах отдельные экономические реформы проводились в условиях политической демократии: среди них – программы приватизации в некоторых развитых странах Запада, а также стабилизация и структурная адаптация в развивающихся странах. В ходе этих преобразований также возникали проблемы, связанные с демократическим политическим устройством, которые, возможно, могли бы послужить предупреждением об аналогичных рисках при проведении куда более масштабных и сложных реформ в странах Центральной и Восточной Европы.
Сам факт этих затруднений, естественно, не следует считать аргументом в пользу авторитарной модели преобразований. И дело здесь не только в неоценимом значении демократии с точки зрения человеческого достоинства, но и в том, что авторитарный режим далеко не всегда способствует ускоренному экономическому развитию, как это случилось в Южной Корее и на Тайване. Во многих случаях он (как, например, режим Хуана Перона в Аргентине или коммунистические диктаторские режимы) оказывает катастрофическое воздействие на экономику.
Четвертой особенностью посткоммунистической трансформации в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ стал ее сравнительно мирный характер. Конечно, в некоторых регионах бывшего коммунистического блока – в особенности в Югославии, на Кавказе и в некоторых бывших республиках советской Средней Азии – дело дошло до чудовищного кровопролития. Однако его причиной стали латентные межэтнические конфликты и/или использование «националистической карты» в целях сохранения диктаторских режимов, а не рыночные реформы и демократизация. В странах Центральной и Восточной Европы произошли мирные революции, а радикальное изменение политических и экономических институтов инициировалось в ходе переговоров между уходящей коммунистической элитой и оппозицией. (Единственным случаем, когда переходный период в этом регионе сопровождался насилием, стали события в Румынии, где смена власти произошла без предварительных переговоров.) Мирные переговоры были бы невозможны (а если бы и произошли, то не принесли бы результатов), если бы советская угроза постепенно не сошла на нет благодаря горбачевской перестройке и гласности. Подобные «перемены по договоренности» не всегда основывались на четком политическом соглашении и несли в себе немалый элемент непредсказуемости для всех главных действующих лиц. Однако их вообще бы не было, если бы представители старой элиты чувствовали угрозу своей личной безопасности или даже не были уверены, что получат возможность добиваться влиятельных постов в рамках новой системы. В этом смысле можно говорить о наличии неформальных политических договоренностей.
Ненасильственный характер перехода к новому строю в странах бывшего советского блока, связанный с подобными политическими договоренностями, оказывал существенное влияние на другие аспекты преобразований. Во-первых, прежняя правящая элита осталась в неприкосновенности и всегда была готова воспользоваться недовольством части населения (подобное недовольство, как это ни парадоксально, заглушает воспоминания об экономической разрухе, которой обернулась деятельность этих элит, когда они стояли у руля), чтобы добиться успехов на выборах. Во-вторых, в состав нарождающегося класса капиталистов, как правило, входят и некоторые представители прежних элит, что негативно сказывается на легитимности всего процесса перехода к капитализму и может привести к нападкам одной части прежней антикоммунистической оппозиции на другую – ту, что оказалась у власти. Подобные конфликты в рядах бывших оппозиционеров, несомненно, только на руку силам, представляющим старый режим.
Я уже упоминал о разграничении, которое обычно проводится между политическими и экономическими преобразованиями. Тем не менее на практике они во многом «накладываются» друг на друга. С одной стороны, некоторые реформы, которые обычно называют «экономическими», представляют собой и один из важных элементов трансформации политической системы. Так, приватизация экономики обеспечивает рост производительности труда, соответствие спроса и предложения и эффективность рыночных механизмов. Но одновременно она сужает возможности для политического патронажа и, наряду с либерализацией экономики, представляет собой необходимое условие для сохранения демократического строя [21] .
Экономическая либерализация в узком смысле этого понятия – т. е. устранение барьеров на пути передвижения людей и товаров, ликвидация ценовых, валютных ограничений и др. – высвобождает рыночные силы и способствует увеличению производительности, но в то же время она уменьшает зависимость индивида от государства. Многие интеллектуалы, выступающие за демократию, но против радикальных рыночных реформ, игнорируют эту важную взаимосвязь.
С другой стороны, некоторые реформы, которые обычно определяются как «политические», влияют как на политику, так и на экономику. К примеру, эффективность и беспристрастность судебной системы имеет основополагающее значение как для обуздания государственного произвола, так и для обеспечения прав собственности и нерушимости контрактов, т. е. долгосрочных перспектив экономического развития.
Имея в виду эти оговорки, рассмотрим сначала экономические, а затем социально-политические аспекты переходного периода. Однако начать я хотел бы с краткой оценки унаследованной от прошлого коммунистической институциональной системы, поскольку именно ее характер, возможно, определяет основные направления посткоммунистических преобразований.3 Коммунистическая институциональная система: краткое описание
Для целей нашего анализа характер этой системы можно свести к особенностям коммунистического «партийного государства». Это была особая форма диктатуры. Как и в рамках других недемократических режимов, где смена высшего политического руководства обеспечивается механизмами, не предусматривающими свободных выборов, лидеры коммунистической системы приходили к власти в результате политической борьбы и торга внутри элиты единственной правящей партии.
Особенность коммунистического «партийного государства» состояла в его попытках осуществлять тотальный контроль за деятельностью граждан —другими словами, в радикальном ограничении индивидуальных свобод. Особенно это относилось к свободам экономическим, что прежде всего бросается в глаза при сравнении коммунистического «партийного государства» с режимами личной власти в странах Восточной Азии, до того как в последних произошла демократизация.
Коммунистическое государство имело в своем распоряжении необычайно мощные рычаги контроля:
> частное предпринимательство было запрещено, что, в сочетании с национализацией, осуществленной на первоначальном этапе возникновения коммунистического государства, привело к монополии госсектора [22] ;
> деятельность государственных предприятий определялась системой централизованного планирования, регламентировавшей объемы производства, затраты и валютные «лимиты», цены и внешнюю торговлю;
> объем денежных средств, находившихся в распоряжении предприятий и граждан, резко ограничивался, поскольку финансовая система рыночного типа была бы несовместима с централизованным планированием;
> создание и деятельность организаций внеэкономического профиля также жестко контролировались, т. е. гражданское общество подавлялось, а оппозиционные политические партии были запрещены;
> поездки граждан за рубеж ограничивались;
> СМИ подвергались официальной цензуре и партийному контролю – как напрямую, так и за счет кадровой политики. В результате средства массовой информации в основном служили инструментом партийно-государственной пропаганды;
> правовая система была подчинена нуждам административно-командной экономики и подавления политической активности людей – важная роль принадлежала политической полиции.
Этот всеобъемлющий контроль сочетался с непомерно раздутой системой социальных гарантий коммунистического типа. Она включала довольно значительные трансферы «в натуре» (бесплатное образование, здравоохранение) и социальную защиту, осуществлявшуюся через государственные предприятия, искусственно заниженные цены на продукты питания и электроэнергию, а также низкую квартплату. Социальная «страховочная сеть», характерная для некоторых стран с рыночной экономикой, в данном случае отсутствовала, поскольку потребность в ней резко снижалась за счет ограничения возможностей и рисков индивида. Таким образом, сущность коммунистического государства состояла в крайнем ограничении индивидуальных свобод (особенно в экономике) при наличии значительных социальных льгот.
При наличии всеобъемлющего контроля и непомерно разросшейся системы «всеобщего благосостояния» ресурсы коммунистического государства, естественно, были чрезвычайно перенапряжены. Одним из немногих позитивных явлений, доставшихся от него в наследство, является относительно высокий уровень всеобщего образования.
Притом, что ресурсы коммунистического государства были перенапряжены, в отношении предоставления «общественных благ» оно также демонстрировало ряд парадоксальных особенностей. Так, его расходы на оборону были явно чрезмерны: это диктовалось имперскими амбициями высшего руководства КПСС. Закон и порядок поддерживались на приемлемом уровне, однако это достигалось методами, характерными для полицейского государства. Правовая и судебная система предусматривала уголовные наказания за частную экономическую и независимую политическую деятельность; она явно не соответствовала условиям рыночной экономики, верховенства закона и демократического общества.
Краткое описание коммунистической институциональной системы показывает, что для успешного перехода к новому строю необходима была ее радикальная реструктуризация, которую, в свою очередь, можно разделить на два главных направления структурных реформ:
1. Либерализация в широком смысле слова, т. е. радикальное расширение гражданских, экономических и политических свобод за счет упразднения различных рычагов государственного контроля, таких как запрет на деятельность независимых организаций, цензура в СМИ, система централизованного планирования и др. К либерализации можно отнести и сокращение чрезмерного налогового бремени.
2. Строительство или реструктуризация соответствующих институтов в целях формирования свободного общества и стабильной, динамичной рыночной экономики.
Либерализация создает условия для частного предпринимательства, функционирования рыночных сил и демократизации политической системы. Институциональное строительство относится в первую очередь к тем элементам государственной системы, которые обеспечивают предоставление «общественных товаров», таких как защита расширенных прав личности (свобод), обеспечение законности и порядка, а также экономической стабильности. Это направление включает также создание институтов, необходимых для развития финансовой системы рыночного типа. Среди важных элементов институционального строительства следует упомянуть также реформу налоговой системы, перестройку унаследованного от коммунистического строя административного аппарата и создание базовой «страховочной сети» соцобеспечения, не связанной ни с предприятиями, ни с ценообразованием.
Приватизацию государственных предприятий – основополагающую экономическую реформу с важнейшими политическими последствиями – можно отнести как к либерализации, так и к институциональному строительству. Она устраняет систематическое и мелочное государственное вмешательство в экономику и тем самым обеспечивает создание институтов, более способствующих функционированию рыночной экономики и экономическому развитию.4 Стартовые условия, масштаб реформ, экономические результаты
Простая методика анализа Любые процессы переходного характера можно оценить с помощью простой аналитической схемы, состоящей из четырех переменных величин:
1. Стартовые (унаследованные от прошлого) условия;
2. События, не связанные с самим процессом перехода, но влияющие на его результаты;
3. Поведение соответствующих «действующих лиц»; когда речь идет о преобразованиях в масштабе целой страны, это относится в первую очередь к политике государства;
4. Итоги (результаты).
К стартовым экономическим условиям относятся макроэкономическая сбалансированность (или дисбаланс), структура экономики, «запасы» физического и человеческого капитала, объем ВВП, географическое расположение страны, демографическая структура населения и др. Эти условия можно разделить на постоянно действующие (например, географические факторы) и краткосрочные (большинство остальных условий). С точки зрения рыночных реформ стартовые экономические условия можно также подразделить на «скрытые сокровища» и «скрытые помехи» (см.: Balcerowicz 1995b). Слово «скрытые» обозначает тот факт, что и те и другие факторы в основном подавлялись в условиях централизованного планирования, но их воздействие непременно проявится за счет либерализации экономики и крушения созданной СССР торговой системы (СЭВ).
«Скрытые сокровища» – это унаследованные от прошлого условия, которые при проведении правильной политики способствуют экономическому росту. Примерами таких факторов могут служить наличие в народном хозяйстве обширных секторов, легко поддающихся приватизации [23] , высокообразованное население или благоприятное географическое расположение страны – скажем, по соседству с западными государствами.
К «скрытым помехам» относятся стартовые условия, оказывающие, по крайней мере в краткосрочной перспективе, негативное воздействие на рост, даже несмотря на правильную экономическую политику. Среди них следует назвать прежде всего сильную зависимость внешней торговли от советского рынка, чрезмерную индустриализацию и неблагоприятное географическое расположение.
Некоторые унаследованные от прошлого условия по своему характеру неоднозначны: в условиях правильной экономической политики они превращаются в преимущества, а при ошибочном курсе – в негативные факторы. Кроме того, они могут оказывать воздействие и на саму экономическую политику (Sachs, Warner 1995). К этой категории относится в первую очередь наличие сырьевых ресурсов, особенно нефти и газа. При правильном использовании доходы от этих ресурсов могут обеспечить финансирование развития инфраструктуры и перестройки других секторов экономики. Если же они становятся источником накопления личных состояний на первоначальном этапе реформ, то способны выполнять эту функцию лишь в ограниченных масштабах. Кроме того, появление нуворишей и резкий рост социального неравенства после крушения коммунизма отравляет атмосферу в обществе. Очевидным примером такого развития событий является ситуация в России.
К независимым условиям, влияющим на результаты реформ, относятся в первую очередь внешнеэкономические факторы. Степень их воздействия определяется величиной страны и открытостью ее экономики. На первом этапе после падения коммунизма внешнеэкономическая деятельность во многом зависела от традиционных торговых связей, т. е. от стартовых условий. Со временем характер этих – и иных – экономических связей меняется в зависимости от проводимого курса.
Стартовые условия предопределяются историей, а внешнеэкономические факторы – силами, не зависящими от стран, осуществляющих преобразования. Таким образом, единственным инструментом, позволяющим тому или иному обществу добиться хороших результатов, остается экономическая политика. Она, в свою очередь, зависит от целого ряда взаимосвязанных факторов, изучением которых занимается политэкономическая наука, в том числе и то ее направление, что специализируется на анализе реформ (подробнее об этом см.: Balcerowicz 1997). Решающее воздействие на направленность и эффективность экономического курса оказывают внутриполитические события. Можно утверждать, что в посткоммунистический переходный период эти события обладали собственной динамикой, в основном не зависящей от экономического курса, однако, как уже отмечалось, они оказывали на него влияние (Balcerowicz 1995b; EBRD
2001). Поэтому не только внешнеэкономические, но и внутриполитические события следует отнести к категории независимых факторов, влияющих на результаты реформ.
Наконец, понятие «результаты» обозначает изменение за рассматриваемый период тех переменных величин, что определяют благосостояние общества. Типичным критерием для оценки перехода к рыночной экономике считается рост ВВП после крушения коммунизма. Другие показатели могут включать рост производительности труда, объем прямых иностранных инвестиций, уровень инфляции, ситуацию со здоровьем населения и экологией.
Главная задача настоящего анализа – объяснить несовпадения в достигнутых результатах за счет их привязки к различиям в экономическом курсе и других факторах (стартовых условиях и отчасти связанных с ними внешнеэкономических событиях).Различные экономические результаты
Анализируя результаты, достигнутые странами бывшего советского блока, сразу замечаешь, что уже через пару лет после падения коммунизма экономическая ситуация в них сильно различалась. Другими словами, разница в уровне жизни между различными странами этой группы сегодня куда больше, чем в относительно недавнем прошлом.
По официальным данным, реальный объем ВВП в странах Центальной и Восточной Европы и Балтии на 2000 год составил в среднем 107 % от уровня 1989 года, в то время как по странам СНГ этот же показатель равнялся 61 % (EBRD 2001).По отдельным странам мы наблюдаем еще большее расхождение.
Таблица 2. Динамика ВВП в странах бывшего советского блока, % от уровня 1989 года [24]
Андерс Ослунд всесторонне проанализировал вопрос о погрешностях официальной статистики (см.: Aslund 2001). Он указывает, что объем ВВП при коммунистическом строе сильно завышался из-за расточительных капиталовложений, чрезмерных запасов, больших военных расходов и нерентабельных производств: при исчислении ВВП все это заносилось в разряд позитивных факторов. В результате реальная ситуация в сфере производства после крушения коммунизма выглядела благоприятнее, чем можно предположить на основе официальной статистики. Другая причина ненадежности статистических данных связана с развитием «неформальной» экономики, доля которой в разных странах к тому же варьировалась. Ослунд также подчеркивает, что переход от советской системы международной торговли к рыночной сопровождался отказом от искусственно заниженных цен на нефть и газ, по которым Россия прежде поставляла это сырье странам советского блока. Таким образом, зафиксированное снижение ВВП в странах – импортерах энергоносителей в немалой степени связано с ликвидацией этих косвенных субсидий. Они пережили внешнеторговую «шоковую терапию», которая стала платой за политическую независимость. Соответственно, реальное сокращение ВВП России также было меньше, чем следует из статистики. Однако эти весьма разумные оговорки не меняют общей тенденции, которая вырисовывается на основе официальных данных. Они скорее лишь подкрепляют выводы относительно динамики ВВП применительно к малым странам – импортерам энергоносителей, таким как прибалтийские государства, Киргизия или Армения.
Приток прямых иностранных инвестиций также можно рассматривать как показатель достигнутых результатов, поскольку он обычно становится следствием успешного развития экономики (и в дальнейшем подкрепляет экономический рост). В этом отношении страны бывшего советского блока также добились весьма различных результатов. Ситуация с совокупным объемом прямых иностранных инвестиций на душу населения в долларах США выглядит следующим образом (см. табл. 3).
В абсолютных цифрах больше всего прямых иностранных инвестиций в 1989–2000 годах привлекла Польша (29 млрд. долларов); за ней следуют Чешская Республика (21,7 млрд.) и Венгрия (19,7 млрд.). России досталось 10 млрд. долларов, Румынии – 6,7 млрд., Украине и Болгарии – по 3,3 млрд. Таким образом, Польша, по размерам экономики к началу переходного периода сравнимая с Украиной, сумела привлечь в 9 раз больше прямых иностранных инвестиций.
Страны, добившиеся хороших результатов с точки зрения экономического роста, демонстрируют и высокие темпы увеличения производительности труда в промышленности.
За 1996–2000 годы в Польше этот показатель составил 53 %, в Чешской Республике – 38,9 %, в Литве – 31,8 %, в Словакии – 28,3 %, в Венгрии – 24,1 % (EBRD 2001). По другим странам с переходной экономикой аналогичных данных не имеется, но вряд ли стоит сомневаться, что «отстающие» в плане экономического роста и на этом направлении не добились особых результатов.Таблица 3. Прямые иностранные инвестиции в странах бывшего советского блока, 2001, USD на душу населения
Источник : EBRD 2001.
С точки зрения борьбы с инфляцией результаты по странам с переходной экономикой также варьируются. В целом лучшие показатели роста сопровождаются и более высоким уровнем макроэкономической стабилизации. На 2000 год уровень инфляции в странах Центральной и Восточной Европы и Балтии в среднем составил 5,7 %, тогда как в Румынии цены выросли на 45 %, в России – на 32,9 %, в Молдове – на 31,3 %, а на Украине – на 28,2 % (EBRD 2001). Это подтверждает тезис о том, что в странах, унаследовавших от прошлого высокий уровень инфляции, ее успешное обуздание ведет к более устойчивому экономическому росту.
Экономика советского типа была не только чрезвычайно расточительной, но и оборачивалась большим ущербом для окружающей среды. Одной из главных причин этого являлся высокий уровень энергопотребления по отношению к объему ВВП (высокая энергоемкость экономики). Динамика этого показателя – т. е. воздействие экономики на экологию – в странах, осуществляющих переход к рыночному хозяйству, также различается. В странах Центральной и Восточной Европы и Балтии энергоемкость экономики за 1992–1998 годы снизилась на 21 %, а в странах СНГ – увеличилась на 5 % (EBRD 2001). В среднем, как выяснилось, экономика государств, занимающих первые места с точки зрения роста, становится более экологичной, чем у отстающих.
Ситуация со здоровьем населения в посткоммунистических государствах также развивалась по-разному. В странах Центральной и Восточной Европы средняя продолжительность жизни увеличилась, в России и на Украине – снизилась, а в Болгарии и Румынии – осталась на прежнем уровне. Такие же различия наблюдаются и в отношении детской смертности (EBRD 2001). Таким образом, более высокие результаты с точки зрения экономического роста сопровождаются и улучшением здоровья населения.
Хотя оптимальное распределение доходов для каждой страны имеет свою специфику, резкий рост имущественного неравенства (или высокий уровень такого неравенства) часто рассматривается как негативное явление. Следовательно, интересно было бы сравнить, на базе коэффициента Джини, тенденции в этой области в тех странах с переходной экономикой, по которым имеются соответствующие данные:Таблица 4.
Уровень неравенства в странах бывшего советского блока, 1990-е годы, коэффициент Джини
Источник: EBRD 2001.
Как мы видим, наибольшее усиление и самый высокий уровень неравенства доходов наблюдается в России, Румынии и на Украине – странах, демонстрирующих относительно слабый экономический рост. В то же время в странах с более высокими темпами роста (Чешской Республике, Венгрии, Польше, Словении) увеличение коэффициента Джини и общий уровень неравенства не столь велики.
Причины несовпадения результатов
В связи с вышеописанной чрезвычайной дифференциацией результатов, достигнутых посткоммунистическими странами, возникает очевидный вопрос: в чем ее причины? По данной теме уже имеется значительный массив научной литературы. Авторы этих трудов в первую очередь стараются объяснить причины тех или иных тенденций в области экономического роста; куда меньше внимания уделяется различиям в других аспектах благосостояния общества. Тем не менее мы можем продемонстрировать, что некоторые важнейшие факторы, ведущие к устойчивому экономическому росту, способствуют также улучшению ситуации со здоровьем населения и экологией. Кроме того, эти переменные величины в какой-то степени взаимосвязаны. Для стран, унаследовавших от прошлого расточительную экономическую модель коммунистического типа, повышение экономической эффективности, особенно с точки зрения производства и потребления энергии и сырья, стало одним из основополагающих факторов роста, который к тому же, по очевидным причинам, влияет и на экологию. Таким образом, разница в показателях этой эффективности приводит и к различиям в темпах роста и экологической ситуации. Тенденции в области здоровья населения также можно связать с воздействием экономических механизмов (к примеру, либерализация экономики изменила ситуацию с доступностью и соотношением цен на полезные (и вредные) для здоровья продукты питания), что также воздействует на рост (Balcerowicz 1998). Наконец, условия для создания новых фирм влияют как на экономический рост, так и на ситуацию с неравенством доходов.
Анализируя причины различных результатов с точки зрения роста в посткоммунистических государствах, мы неизбежно возвращаемся к вопросу о роли унаследованных от прошлого экономических факторов (и отчасти – внешнеэкономических событий), а также того или иного экономического курса.
Стартовые условия для данной группы стран были в среднем весьма сложными и в то же время сильно варьировались (подробнее об этом см.: World Bank 2002). Ситуация со «скрытыми сокровищами» и «скрытыми помехами», влияющими на перспективы экономического роста, в разных посткоммунистических странах различалась очень сильно.
Небольшим странам – бывшим республикам СССР, чье народное хозяйство сильно зависело от экспорта в Россию (прибалтийским государствам, Киргизии, Грузии, Молдове, Армении), суждено было пережить сильнейший внешнеэкономический шок, вызванный распадом СССР и советской торговой системы. Для некоторых из них (например, Киргизии) переориентация внешней торговли затруднялась и географической удаленностью от Запада. На первоначальном этапе они были обречены на самое значительное снижение объема ВВП. В странах Центральной и Восточной Европы, не столь зависевших от советской торговой системы, падение ВВП по этой причине было менее значительным. В самой выгодной ситуации с этой точки зрения оказалась Россия: благодаря своим размерам она меньше всех остальных зависела от экспорта в другие соцстраны. Из-за больших объемов экспорта нефти и газа в бывшие страны-сателлиты она должна была сильно выиграть от изменения условий торговли после распада СЭВ и перехода на мировые цены на это сырье. Таким образом, резкое снижение ВВП России (по данным официальной статистики) в 1992–1996 годах нельзя объяснить неблагоприятными внешними факторами.
Среди других важных различий в стартовых экономических условиях следует назвать долю тяжелой и добывающей промышленности в народном хозяйстве, масштаб макроэкономических дисбалансов и уровень внешней задолженности.
Судя по всему, наилучшие стартовые условия – т. е. обеспечивавшие максимум преимуществ при минимуме недостатков – сложились в Чешской Республике, имевшей относительно рациональную структуру экономики, весьма благоприятное географическое положение, самую стабильную макроэкономическую ситуацию и незначительную внешнюю задолженность. На противоположном краю шкалы, как уже отмечалось, следует расположить небольшие бывшие республики СССР, унаследовавшие от прошлого крайне нестабильную экономику и сильную структурную зависимость от советского рынка. К промежуточной категории относились, например, Болгария (из всех стран Центральной и Восточной Европы она больше всего зависела от экспорта на советский рынок), Польша (страдавшая от гиперинфляции, наличия в экономике большого и неэффективного угледобывающего сектора и большой внешней задолженности) и Румыния (на состоянии ее экономики крайне негативно отразилась политика Чаушеску).
Как бы ни были велики различия в стартовых экономических условиях, этим можно лишь отчасти – и только на первом этапе после крушения коммунизма – объяснить несовпадающие результаты с точки зрения роста, достигнутые странами с переходной экономикой. Различия в долгосрочных показателях роста связаны в основном с проводившейся в этих странах политикой, т. е. масштабом рыночных реформ, в особенности либерализации экономики. Здесь можно сделать вывод: чем больше масштаб реформ, тем лучше средние показатели роста. Таковы основные результаты эмпирических исследований по проблемам перехода к рыночной экономике. В эмпирической литературе мне ни разу не встречался вывод о том, что менее радикальные реформы, при прочих равных, ведут к более высоким темпам роста.
Основные выводы трех последних по времени работ о детерминантах роста в странах с переходной экономикой приводятся в таблице 5.
В статистических исследованиях глубина рыночных реформ измеряется с помощью «индекса либерализации», разработанного де Мело, Деницером и Гельбом (de Melo, De-nizer, Gelb 1996) и критериями перехода к рынку, используемыми Европейским банком реконструкции и развития. Данные методики измерения учитывают в первую очередь экономические аспекты либеральных реформ, которые мы изложили в главе 3. Несомненная связь между статистическими измерениями по этим критериям и показателями роста свидетельствует о том, до какой степени различные инструменты государственного контроля препятствуют росту в бывших соцстранах и насколько важно их устранить, дав возможность развернуться частному предпринимательству и рыночным силам. Меньше внимания в этих методиках уделяется институциональному строительству – второму направлению постсоциалистических реформ, о котором мы также упоминали в главе 3.Таблица 5. Масштаб реформ и показатели роста в странах с переходной экономикой
Впрочем, даже не столь глубокий анализ ситуации в разных посткоммунистических странах позволяет предположить, что государства, добившиеся большей либерализации экономики, в среднем продвинулись дальше других и в сфере институционального строительства (и макроэкономической стабилизации, которая связана как с либерализацией, таки с институциональным строительством). Таким образом, можно сделать вывод: чем больше масштаб структурных реформ по переходу от коммунистической институциональной системы к ограниченному (в разумных пределах) государству и рыночной экономике, тем лучше показатели роста. Другими словами, более радикальные реформы влекут за собой более высокие темпы роста и улучшение экономических показателей в целом.
5 О политэкономических проблемах переходного периода
Цель настоящей главы – осветить отдельные политэкономические вопросы переходного периода. Это, я надеюсь, позволит нам получить некоторое представление о факторах, определяющих масштаб структурных реформ, с которым связана основная причина различий в экономических результатах, достигнутых посткоммунистическими государствами (см. главу 4). Учитывая ограниченность объема статьи, этот анализ ни в коей мере нельзя считать исчерпывающим.
Политический прорыв
Политический аспект посткоммунистического переходного периода имел собственную динамику – все началось с «политического прорыва», ставшего прологом короткого периода «чрезвычайной» политической ситуации, который, в свою очередь, сменился «нормальным» политическим процессом на основе многопартийности, а в некоторых странах (например, Узбекистане и Беларуси) – возвращением к диктатуре. Первый период характеризовался двумя особенностями переходного характера – «эйфорией освобождения» и особой ситуацией в политической сфере (политические силы, представлявшие старый режим, были все еще дискредитированы в глазах общественности, а бывшая антикоммунистическая оппозиция еще оставалась сплоченной). В результате в начале этого этапа политическая система и общество в целом проявляли большую готовность смириться с непростыми мерами в экономике (Balcerowicz 1995b).
В разных странах политический прорыв не совпадал по времени и глубине. Первые такие события (в Польше в первой половине 1989 года), в сочетании с резким ослаблением угрозы вмешательства со стороны СССР («фактором Горбачева»), способствовали прорыву в других странах Центральной и Восточной Европы – произошла своего рода «цепная реакция». Что же касается СССР, то решающим событием в этом смысле стал неудачный путч в августе 1991 года, спровоцировавший распад Советского Союза и начало политических и экономических преобразований в бывших советских республиках. Поскольку здесь этот процесс начался на два года позже, чем в Центральной и Восточной Европе, бывшие республики СССР могли воспользоваться опытом уже осуществлявшихся реформ переходного периода.
Кроме того, политический прорыв в посткоммунистических странах различался по глубине, а значит, и по психологическим последствиям. В этом смысле можно провести водораздел между Россией и другими бывшими республиками СССР с одной стороны (там национальное самосознание было наименее развито) и остальными посткоммунистическими государствами – с другой. Освобождение советских республик, которое произошло «извне», многие россияне, должно быть, восприняли как событие, негативное с точки зрения престижа и собственного восприятия истории. Для народов с наименее развитыми национальными устремлениями обретение независимости, по всей вероятности, значило куда меньше, чем для населения стран Центральной и Восточной Европы и Балтии.
Различия в глубине политического прорыва привели к тому, что длительность и интенсивность «чрезвычайного» периода, а также его политический климат в разных странах были тоже неодинаковы. Однако первый период после политического прорыва в каждой из этих стран имел некоторые общие характеристики, способствующие радикальным экономическим реформам. Таким образом, быстрый «запуск» этих реформ можно считать свидетельством правильного использования скудного «политического капитала», подаренного им историей, а задержку с ними – как признак того, что эти возможности были упущены. Однако лишь в некоторых странах «чрезвычайный» политический период стал моментом начала радикальных реформ: первопроходцем в этом отношении стала Польша. Судя по всему, такие реформы произошли только в тех государствах, где к власти пришли новые политические силы и к тому же экономические преобразования проводила команда реформаторов, имевшая явного лидера.
Однако за короткий «чрезвычайный» период довести до конца некоторые фундаментальные преобразования – приватизацию, создание зрелой финансовой системы, пенсионную реформу – было, конечно, невозможно. В результате даже те страны, которые воспользовались этим первым этапом, чтобы начать радикальные реформы, сталкиваются с проблемой их завершения на следующей стадии – в рамках «нормального» политического процесса. Тем не менее, вероятнее всего, решить эту проблему было бы еще труднее, если бы указанные реформы не были запущены в «чрезвычайный» период. Демократия в посткоммунистических странах наделила властью избирателей, а электорат в своих предпочтениях исходит не из преимуществ той или иной отдельной позиции (одного «товара»): он может выбирать лишь между «пакетами» позиций, составленных политическими партиями. Это обстоятельство, по всей вероятности, обернулось серьезными последствиями в отношении шансов радикальных экономических реформ и препятствий для их реализации. Поддержки подобных реформ можно добиться за счет их «привязки» к пользующейся популярностью в обществе позиции по другому вопросу (например, о вступлении в ЕС в противовес сохранению полной национальной независимости). Подобную ситуацию можно назвать позитивной привязкой. С другой стороны, негативного отношения к реформам также можно добиться за счет привязки к популярной позиции по другому вопросу (например, в российской политической жизни – к критике властей в связи с распадом империи). В этом случае можно говорить о «негативной привязке».
Возможности для создания подобных позитивных и негативных привязок в разных посткоммунистических государствах варьировались, и эти различия, судя по всему, связаны с глубиной радикальных реформ. Более «радикально-реформаторские» страны добивались лучшего соотношения между этими привязками, чем менее радикальные. Так, в странах Центральной и Восточной Европы и Балтии перспектива вступления в ЕС сыграла роль важной движущей силы в поддержку реформ. Кроме того, избиратели в этих странах, особенно в прибалтийских государствах, которых отличает высокий уровень национального самосознания, могли поддержать программы радикальных экономических реформ, предложенные силами, выступавшими за независимость, потому что они доверяли этим силам и считали подобные преобразования необходимыми для укрепления экономики, а значит, и вновь обретенного суверенитета своих стран.
В странах, где проводились менее радикальные реформы, создать такие позитивные привязки не удалось. Перспектива вступления в ЕС была для них исключена, а национальное самосознание в этих странах было в среднем ниже, чем в обществах, проводивших радикальные реформы (достаточно сравнить Прибалтику и Беларусь). Россия в этом отношении представляет собой особый случай. Здесь, в отличие от бывших стран-сателлитов, распад СССР, как уже упоминалось, породил не столько эйфорию, связанную с обретением независимости, сколько разочарование, дезориентацию и недовольство. В результате у оппонентов радикальных экономических реформ – коммунистов – появилась возможность использовать эти негативные ощущения.Роль реформаторов Однако одними ситуационными факторами – разными стартовыми условиями и сочетанием позитивных и негативных привязок – не объяснить различия в масштабе рыночных реформ, а значит, и в экономических показателях. Каждый, кто знаком с историей посткоммунистических реформ, не мог не заметить, что важную роль в ней играли компетентные и решительные реформаторы в составе правительства, наличие или отсутствие которых в руководстве страны является, несомненно, случайным фактором. Однако роль личности в истории не следует недооценивать. Благоприятные шансы для радикальных реформ, обусловленные ситуационными факторами, могли быть упущены, если бы таких людей не было, а сопротивление реформам – следствие неблагоприятных ситуационных факторов – можно, по крайней мере частично, преодолеть, если подобные реформаторы оказываются у власти. Примером первого варианта, на мой взгляд, может служить начальный этап преобразований в Венгрии, а второго – радикальные реформы в Киргизии, которые выделил в качестве приоритетной стратегической задачи президент-реформатор Акаев.
Либерализация и СМИ
Политическая либерализация позволяет СМИ обрести независимость. В коммунистические времена подконтрольная пресса не могла регулярно освещать и критиковать реалии тогдашнего строя. Находясь под политическим контролем, она занималась «лакировкой действительности». Обретя свободу, СМИ, напротив, сосредоточили внимание на негативных аспектах новой посткоммунистической реальности, поскольку плохие новости обычно вызывают больше интереса у аудитории, чем хорошие. Таким образом, освещая события в поскоммунистический период, они «сгущали краски». Подобный переход от лакировки действительности к сгущению красок, который в основном представлял собой естественный побочный результат политической либерализации и принципов функционирования свободных СМИ, не мог не оказать существенного воздействия на политические взгляды и предпочтения избирателей. Он должен был омрачить их представления о новой формирующейся реальности в сравнении с коммунистическим прошлым. Одним из источников негативного отношения к посткоммунистической действительности стали унаследованные от прежнего режима статистические методы, неспособные отразить новые явления в экономике, преуменьшавшие последствия реформ и преувеличивавшие их цену [25] . В результате изменение режима деятельности СМИ – важный и позитивный элемент посткоммунистических преобразований – парадоксальным образом усиливало ностальгию по прежним временам и укрепляло политические позиции антиреформаторских и неокоммунистических сил (зачастую эти силы во многом совпадали).
Впрочем, степень «сгущения красок» в освещении посткоммунистической действительности в разных странах, вероятно, варьировалась в зависимости от качества журналистики и, особенно, способности СМИ отличать унаследованные факторы от последствий самих реформ. Таким образом, эти различия также могли влиять на глубину преобразований за счет воздействия на результаты выборов.Реформы и недовольство
С учетом тяжелых стартовых условий и неблагоприятных внешних факторов (в особенности распада СЭВ), с которыми столкнулись все страны Центральной и Восточной Европы в начале посткоммунистического переходного периода, любая проводимая ими экономическая политика неизбежно вызвала бы недовольство тех или иных слоев общества. Помимо превращения скрытой безработицы в открытую недовольство усиливалось и тем, что радикальные реформы в целом расширили рамки экономической свободы. Поскольку далеко не все могут напрямую воспользоваться новыми возможностями, у остальных это может вызвать возмущение, особенно если они считают, что «победители» получили преимущества незаслуженно. По мере того как на смену социалистической плановой экономике приходит рынок, список престижных и высокооплачиваемых профессий быстро меняется. Шахтеры, работники тяжелой промышленности и другие категории трудящихся, считающие, что они «проиграли» от реформ – пусть даже относительно, – скорее всего испытывают недовольство. Более того, расширение возможностей неизбежно сопровождается ослаблением социальной защищенности. Этот непреложный факт порой недостаточно осознается и вызывает крайне отрицательное отношение, особенно у тех, кто считает, что это ослабление защищенности никак не компенсируется новыми потенциальными возможностями.
Однако при тех же трудных стартовых и внешних условиях затягивание реформ или их отсутствие также должны породить недовольство, хотя и в других формах. Если исходная макроэкономическая ситуация отличается высокой нестабильностью, половинчатые экономические реформы немедленно порождают высокую и постоянно растущую инфляцию, которая также оборачивается крайней экономической незащищенностью людей. Это происходит оттого, что в рамках половинчатых реформ предпочтение отдается не явной, а скрытой безработице. Подобная безработица психологически не столь болезненна для тех, кого она затрагивает, однако ее необходимо финансировать за счет денежных или квазиденежных государственных субсидий, что в свою очередь подстегивает инфляцию. Результатом становятся порожденные инфляцией незащищенность и недовольство.Более того, следует учитывать, что при любых будущих попытках макроэкономической стабилизации проблема скрытой безработицы выплеснется наружу.
Реформы нерадикального типа, характерной чертой которых, как правило, является меньший масштаб либерализации и, соответственно, больший упор на государственное вмешательство, порождают также новые формы экономического неравенства, в рамках которых выигрывают те, кто способен успешно лоббировать свои интересы в государственных структурах. На практике таковыми становятся представители прежней коммунистической элиты, более опытные, лучше организованные и обладающие более широкими связями, чем остальные. Неравенство, порождаемое их лоббистской деятельностью, в меньшей степени оправдано экономическими результатами, чем то, что становится следствием радикальных реформ и вызывает у «проигравших» еще большее отчаяние. Наконец, половинчатые реформы, не сопровождающиеся либерализацией, нацеливают энергию предпринимателей и менеджеров на «погоню за рентой» и коррупцию, а не на повышение эффективности своей деятельности, что лишает страну возможностей экономического развития. Таким образом, каждый, кто мыслит на перспективу, должен понимать, что недовольство и недостатки, связанные с половинчатыми реформами, будут куда серьезнее, чем проблемы, возникающие в ходе последовательных и радикальных мер, направленных на всеобъемлющую либерализацию, стабилизацию и институциональное строительство.
6 Заключение
Страны, унаследовавшие коммунистическую институциональную систему, должны были запустить и воплотить в жизнь структурные реформы двух основных типов: всеобъемлющую либерализацию и чрезвычайно масштабную программу по строительству или реструктуризации соответствующих институтов в целях формирования свободного общества и стабильной, динамичной рыночной экономики. Эти посткоммунистические реформы представляют собой особенно яркое проявление более широкой тенденции по обузданию эксцессов этатизма и движению к свободному рынку, наблюдающейся на Западе и во многих развивающихся странах.
Опыт посткоммунистических государств явно указывает на то, что более масштабные структурные реформы приводят к лучшим результатам с точки зрения роста и обуздания инфляции, более благоприятной ситуации в сферах экологии и здоровья населения и не столь резкому усилению неравенства доходов.
Даже самые успешные реформы неизбежно порождают серьезное недовольство. Однако затягивание реформ или их отсутствие чревато еще большим возмущением в обществе.
Литература
Akerlof 1982
Akerlof G A. Labor Contracts as Partial Gift Exchange // Quarterly Journal of Economics. 1982. Vol. 97 (4). P. 543–569.
Allen, Gale 2000 Allen F., Gale D. Comparing Financial Systems. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000.
Arcia 2000 Arcia G. Macroeconomic Impacts of Social Safety Nets // CAERII Discussion Papers. 2000. № 82.
Aslund 2001 Aslund A. Building Capitalism: The Transformation of the Former Soviet Bloc. Cambridge: Cambridge University Press, 2001 [рус. пер.: Ослунд А. Строительство капитализма: Рыночная трансформация стран бывшего советского блока. М.: Логос, 2003].
Balcerowicz 1995а BalcerowiczL. Freedom and Development. Krakyw: Znak, 1995.
Balcerowicz 1995b
BalcerowiczL. Socialism, Capitalism, Transformation. Budapest: Central European
University Press, 1995 [pyc. пер.: Бальцерович Л. Социализм, капитализм, трансформация: Очерки на рубеже веков. М.: Наука, 1999].Balcerowicz 1997 BalcerowiczL. The Interplay between Economic and Political Transition // Lessons from the Economic Transition: Central and Eastern Europe in the 1990’s /Ed. by S. Zecchini. Norwell, Mass.: Kluwer Academic Publishers, 1997.
Balcerowicz 1998 BalcerowiczL. Economic Forces and Health // Dialogue and Universalism. 1998. № 8.
Balcerowicz 2002 BalcerowiczL. Post-Communist Transformation: Some Lessons. London: Institute of Economic Affairs, 2002.
Balcerowicz 2003 BalcerowiczL. Toward a Limited State: Distinguished Lecture, World Bank Group Private Sector Development Vice Presidency. Washington: The World Bank Group, 2003.
Bauer 1976 Bauer P.T. Dissent on Development / Rev. ed. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976.
Beach, O’Driscoll 2003 Beach W.W., O’Driscoll G.P.,jr. Explaining the Factors of the Index of Economic Freedom // O’Driscoll G.P., jr., Feulner E.J., O’GradyM.A. 2003 Index of Economic Freedom. Washington; NewYork: Heritage Foundation; The Wall Street Journal, 2003. P. 49–69.
Benston, Kaufman 1996
Benston G.J., Kaufman G.G.
The Appropriate Role of Bank Regulation // Economic Journal. 1996. Vol. 106. P. 668–697.Berg, Borensztein, Sahay, Zettelmayer 1999 Berg A., Borensztein E., Sahay R., Zettelmayer J. The Evolution of Output in Transition Economies: Explaining the Differences. Washington, DC, 1999 (= IMF Working Paper № 73).
Bhattacharya et al. 1998 Bhattacharya S., Boot A.W.A., Thakor A.V. The Economics of Bank Regulation // Journal of Money, Credit, and Banking. 1998. Vol. 30 (4). P. 745–770.
Buchanan 1998 Buchanan J.M. The Constitution of Economic Policy // Public Choice and Constitutional Economics / Ed. by J.A. Gwartney, R.E. Wagner. Greenwich, Conn.: JAI Press, 1998.
Charap, Harm 1999 Charap J., Harm C. Institutionalized Corruption and the Kleptocratic State // International Monetary Fund Working Paper. 1999. № 91.
Coase 1960 Coase R.H. The Problem of Social Cost // Journal of Law and Economics. 1960. Vol. 3. P. 1–44 [рус. пер.: Коуз P. Проблема социальных издержек // Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993].
Coase 1974
Coase R.H. The Lighthouse in Economics // Journal of Law and Economics. Vol. 17 (2).
P. 357–376 [рус. пер.: Коуз P. Маяк в экономической теории // Коуз Р. Фирма, рыноки право. М.: Дело, 1993].Creveld 1999
Creveld М. van. The Rise and Decline of the State. Cambridge: Cambridge University Press, 1999 [рус. пер.:Кревельд М. ван. Расцвет и упадок государства. М.: ИРИСЭН, 2006].
De Melo, Denizer, Gelb 1996
DeMeloM., Denizer E., Gelb A. From Plan to Market: Pattern of Transition // World Bank Economic Review. 1996. Vol. 15. № 1.Djankov et al. 2002 Djankov S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. The Regulation of Entry // Quarterly Journal of Economics. 2002. Vol. 117. P. 1–37.
Dollar, Kray 2002 Dollar D., Kray A. Growth is Good for the Poor. Washington: World Bank, 2002 (mimeo).
Dorn 1988 Dorn J.A. Public Choice and the Constitution: A Madisonian Perspective // Public Choice and Constitutional Economics / Ed. by J.D. Gwartney, R.E. Wagner. Greenwich, Conn.: JAI Press, 1988. P. 57–102.
Dowd 1996 Dowd К. The Case for Financial Laissez-Faire // Economic Journal. 1996. Vol. 106. P. 679–687.
EBRD 2001
Transition Report, 2001.
London: European Bank for Reconstruction and Development, 2001.Feldstein 1997 Feldstein M. How Big Should Government Be? // National Tax Journal. 1997. Vol. 50 (2). P. 197–213.
Fischer, Sahay 2000 FischerS., SahayR. Transition Economies after Ten Years. Washington, 2000 (= IMF Working Paper № 30).
Friedman, Friedman 1984
Friedman М., Friedman R.
The Tyranny of Status Quo.
San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1984.Glaeser, Shleifer 2003
Glaeser E.L., Shleifer A. The Rise of the Regulatory State // Journal of Economic Literature.
2003. Vol. 41 (2). P. 401–425.Gow, Swinnen 2001
GowH.R., SwinnenJ.F.M. Private Enforcement Capital and Contract Enforcement in Transition Economies // American Journal of Agricultural Economies.
2001. Vol. 83 (3). P. 686–690.Greif 1997 Greif A. Contracting, Enforcement, and Efficiency: Economics beyond the Law // Annual World Bank Conference on Development Economics / Ed.byM. Bruno, B. Pleskovic. Washington: World Bank, 1997. P. 236–266.
Gwartney, Holcombe, Lawson 1998
Gwartney J., Holcombe R.,
Lawson R. The Scope of Government and the Wealth of Nations //Cato Journal. 1998. Vol. 18 (2). P. 163–190 [рус. пер.: Гвартни Дж., Холкомб P., Лаусон Р. Размер государства и богатство народов // Cato.Ru ()].Hanke, Walters 1997
HankeS., Walters S. J.K. Economic Freedom, Prosperity, and Equality: A Survey // Cato Journal. 1997. Vol. 17(2).
P. 117–146.Hanson 1997
Hanson F.A. How Poverty Lost Its Meaning//Cato Journal.
1997. № 17 (2). P. 189–210.Havrylyshyn, Wolf 2001
Havrylyshyn O., Wolf T. Growth in Transition Countries,
1990–1998: The Main Lessons //ADecadeofTransi-tion: Achievements and Challenges / Ed. by O. Havrylyshyn,
S. Nsouli. Washington: IMF, 2001.Hayek 1960 Hayek F.A. The Constitution of Liberty. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
Holmes, Sunstein 1999 Holmes S., Sunstein C.R. The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes. New York: W.W. Norton, 1999.
Keefer, Knack 1997 Keefer P., Knack S. Why Don’t Poor Countries Catch Up? A Cross-National Test of An Institutional Explanation // Economic Inquiry. 1997. Vol. 35. P. 590–602.
Keese, Martin 2002 KeeseM., Martin J. P. Improving Labour Market Performance: Lessons from OECD Countries’ Experiences. 2002 (mimeo).
Lindbeck 1994 LindbeckA. The Welfare State and the Employment Problem // American Economic Review. 1994. Vol. 84 (2). P. 71–75.
Lomasky 1987 LomaskyL.E. Persons, Rights and the Moral Community. Oxford: Oxford University Press, 1987.
Mathews 1997
Mathews J. T. Power Shift // Foreign Affairs. 1997. Vol. 76.
P. 50–66.Mises 1949
MisesL. von. Human Action.
New Haven, Conn.: Yale University Press, 1949 [рус. пер.: Мизес Л. фон. Человеческая деятельность. М.: Экономика, 2000].Mises 1956
MisesL. von. The Anti-Capitalistic Mentality.
Princeton, N.J.: van Nostrand, 1956 [рус. пер.: Мизес Л. фон. Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая ментальность. М.: Catallaxy, 1993].Morduch 1999
Morduch J. Between the State and the Market: Can Informal Insurance Patch the Safety Net? //World Bank Research Observer. 1999. № 2. P. 187–202.
Mus grave 2000 Musgrave R.A. // Buchanan J.M., Musgrave R.A. Public Finance and Public Choice: Two Contrasting Visions of the State. Cambridge Mass: MIT Press, 2000.Nickel 1997 Nickel S. C. Unemployment and Labor Markets: Europe versus North America // Journal of Economic Perspectives. 1997. Vol. 12(3). P. 55–74.
Niskanen 1996
Niskanen W. Welfare and the Culture of Poverty// Cato Journal. 1996. Vol. 16 (1).
P. 1-16.Nozick 1974 Nozick R. Anarchy, State, and Utopia. New York: Basic Books, 1974.
Nozick 1997 Nozick R. Why Do Intellectuals Oppose Capitalism? // Socratic Puzzles. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997.
Phelps 1987
Phelps E. S. Distributive Justice // Social Economics, The New Palgrave / Ed. by J. Eatwell,
M. Milgate, P. Newman. London: Macmillan Press, 1987.Quibria 2002 Quibria M. G. Growth and Poverty: Lessons from the East Asian Miracle Revisited. Tokyo, 2002 (= AOB Research Paper. № 33).
Rabushka 1985 Rabushka A. From Adam Smith to the Wealth of America. New Brunswick, N.J.: Transactions Books, 1985.
Rawls 1971 Rawls J. A Theory of Justice. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971 [рус. пер.: Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета, 1995].
Rose-Ackerman 1999 Rose-Ackerman S.C. Corruption and Government. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Rothbard 1970
Rothbard М. C. Power and Market. Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, 1970
[рус. пер.: Ротбард М. Власть и рынок. Государство и экономика. М.: Социум, 2002].Sachs, Warner 1995 Sachs J., Warner A. Economic Reform and the Process of Global Integration // Brookings Papers on Economic Activity. 1995. № 1.
Samuelson 1954 Samuelson P.A. The Pure Theory of Public Expenditure // Review of Economics and Statistics. 1954. Vol. 36. P. 387–389.
Scarpetta et al. 2002
Scarpetta S., Hemmings P.,
Tressel Т., Woo J. The Role of Policy and Institutions for Productivity and Firm Dynamics: Evidence from Micro and Industry Data. Paris: OECD, 2002 (= OECD Working Paper. № 329).Schneider, Enste 2000 Schneider F., Enste D.H. Shadow Economies: Size, Causes and Consequences // Journal of Economic Literature. 2000. Vol. 38. P. 77–114.
Schultz 1980
Schultz T.W. Nobel Lecture:
The Economics of Being Poor // Journal of Political Economy. 1980. Vol. 88 (4). P. 639–651.Schumpeter 1950 Schumpeter J.A. Capitalism, Socialism, and Democracy. New York: Harper Torchbook, 1950 [рус. пер.: Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995].
Scully 1992 Scully G. W. Constitutional Environments and Economic Growth. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1992.
Sen 1999 Sen A. Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press, 1999 [рус. пер.: Сен А. Свобода как развитие. М.: Новое издательство, 2004].
Stigler 1971
Stigler G.J. The Theory of Economic Regulation // Bell Journal of Economics. 1971.
Vol. l.P. 1-21.Stiglitz 1988
StiglitzJ.E. Economics of the Public Sector. New York:
W.W. Norton, 1988 [рус. пер.: Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора. М.: МГУ; Инфра-М, 1997].Tanzi, Schuknecht 1997
Tanzi V. SchuknechtL. Reconsidering the Fiscal Role of Government: The International Perspective // American Economic Review.
1997. Vol. 87 (2). P. 164–168.Tanzi 1998a
Tanzi V. Corruption Around the World // IMF Staff Papers.
1998. Vol. 45 (4). P. 559–594.Tanzi 1998b Tanzi V. Fundamental Determinants of Inequality and the Role of Government. Washington: International Monetary Fund, 1998 (= IMF Working Paper. № 178).
Waldmeir 2001 WaldmeirP. Justice for the Hired Hand // Financial Times. 2001. 17 May.
Weber 1922 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Tubingen, 1922.
West 1991 West E. G. The Rise of the State in Education // Policy: A Journal ofPublic Policy and Ideas. 1991. Vol. 7 (Autumn and Winter).
Wolf 1988 Wolf С., jr. Markets or Governments: Choosing between Imperfect Alternatives. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988.
World Bank 2002a
Building Institutions for Markets. World Development Report 2002. Washington: World Bank, 2002 [рус. пер.:
Доклад о мировом развитии 2002: Создание институциональных основ рыночной экономики. М.: Весь мир, 2002].World Bank 2002b Transition: The FirstTen Years: Analysis and Lessons for Eastern Europe and the Former Soviet Union. Washington: World Bank, 2002.
Институт Катона Cato.Ru
Cato.Ru – проект Института Катона (Cato Institute), призванный способствовать распространению идей классического либерализма в русскоязычной аудитории. Основные направления деятельности проекта – постоянно обновляемый сайт и электронная библиотека, издание книг и брошюр, размещение материалов либеральных экспертов в средствах массовой информации, организация публичных лекций, семинаров и конференций и проведение ежегодного конкурса студенческих исследований.
http: //www. cato. ru
e-mail cato@cato.ru
Юхан Норберг В защиту глобального капитализма
Cato.Ru и «Новое издательство» представляют книгу известного шведского экономиста Юхана Норберга «В защиту глобального капитализма», ставшую мировым бестселлером в области популярной экономической литературы и уже переведенную на 14 языков. Книга Норберга посвящена обоснованию преимуществ глобального рынка перед экономическим изоляционизмом и убедительно опровергает расхожее мнение о глобализации как причине разрыва между богатыми и бедными странами.
Примечания
1
Кревельд несколько сужает определение Вебера, добавляя еще один критерий: государство должно иметь собственную правовую идентичность (Creveld 1999:1).
2
Я подвергаю критическому анализу в первую очередь книгу Стиглица (Stiglitz 1988), поскольку среди работ сторонников подобного подхода она отличается наиболее высоким научным уровнем. Труды других ученых вызвали бы еще больше замечаний.
3
Понятие «свобода» Сен в данном случае употребляет в его классическом значении, т. е. как «основополагающие права личности». В других разделах книги он видоизменяет это понятие, включая в него и иные блага. Подобное расширенное толкование затушевывает подлинный смысл понятия «свобода».
4
В данном случае речь идет об общем определении ограничений экономической свободы, а не о конкретных «указаниях» о том, какие именно ограничения можно считать оправданными (если оправданные ограничения вообще существуют). Подробнее о том, что можно считать ограничениями или вмешательством со стороны государства, см.: Науек 1960:220–223.
5
Глейзер и Шлейфер утверждают, что усиление регулирования деловой активности в Соединенных Штатах в начале XX века стало «эффективным ответом» государства на подрыв деятельности судебной системы недавно возникшими крупными корпорациями (Glaeser, Shleifer 2003). Однако вопрос о том, чью деятельность проще «саботировать» – судов, законодателей или самих регулирующих органов, – весьма неоднозначен, и ответ на него может быть получен только эмпирическим путем. Даже если в какой-то период суды действительно попадают под контроль «большого бизнеса», это еще не означает, что наилучшая стратегия борьбы с подобным явлением – введение конкретных законодательных мер регулирования и создание специальных органов регулирования, а не укрепление самой судебной системы в рамках уже существующего законодательства. На мой взгляд, с учетом исторического опыта – ведь после периода популярности государственного вмешательства произошло дерегулирование экономики – даже сторонники борьбы со злоупотреблениями с помощью регулирования согласятся, что конституционные инструменты по защите экономической свободы следовало бы усилить.
В общем же плане я хотел бы подчеркнуть, что проблема судебных злоупотреблений и регулирования имеет второстепенное значение по сравнению с вопросом о том, каковы должны быть пределы экономической свободы или какие факторы могут превалировать над правами собственности (см.: Mises 1949: 654–661; Nozick 1974:178–182).
6
Холмс и Санстайн указывают, что обе эти разновидности индивидуальных прав стоят обществу денег, а потому различия между индивидуальными свободами и правами на соцобеспечение не носят фундаментального характера (Holmes, Sunstein 1999). Впрочем, первый их тезис вряд ли можно считать потрясающим открытием: никто не отрицает, что защита индивидуальных свобод требует определенных расходов на содержание полиции и судебной системы. Главное различие между индивидуальными свободами и принципом «всеобщего благосостояния» состоит в другом: в первом случае деньги налогоплательщиков используются для защиты отдельных людей от насилия и вмешательства других в их частную жизнь, а во втором – для перераспределения благ. Кроме того, каждая из этих разновидностей прав личности совершенно по-разному влияет на поведение людей, а значит – и на экономическое развитие. О других различиях между индивидуальными свободами и «социальными» правами см.: Lomasky 1987:84-110.
7
Хайек подчеркивает, что с учетом технического прогресса «ни один список защищенных законодательством прав нельзя считать исчерпывающим». Поэтому для «преобладания свободы» необходимой предпосылкой является тот факт, что «сфера свободы личности должна включать любые действия, не ограниченные общим законодательством» (Науек1960:216).
8
Пожалуй, самым знаменитым из современных проявлений подобного «утилитарного», или прагматического, подхода к формированию институциональной структуры общества стал афоризм Дэн Сяопина: «Неважно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей».
9
Подобные идеи в частности пользовались чрезвычайной популярностью в кругах западной интеллигенции. Объяснение этого интересного феномена см.: Schumpeter 1950; Mises 1956; Nozick 1997.
10
Соответствие этому определяющему критерию – т. е. формирование и сохранение ограниченного государства – требует особых институциональных мер, в частности, создания эффективной системы сдержек и противовесов, контроля за репрессивным аппаратом государства (полицией, прокуратурой, налоговыми органами), наличия независимой и эффективной судебной ветви власти, свободы печати и конституционного суда. Создать и поддерживать эти институты – дело непростое. Наделе «расширять» государство куда легче, чем сохранять его в «ограниченном» виде. При этом, если государство «расширилось», вернуть его деятельность в прежние пределы зачастую довольно трудно.
11
ОЭСР провела большую работу по изучению причин структурной безработицы. Результаты этих исследований подытоживаются в: Keese, Martin 2002; см. также: Nickel 1997; Lindbeck 1994.
12
Мизес и Хайектщательно проанализировали эти опасности (Mises 1949: 716–858; Hayekl960:253–376). Однако мейнстримовская экономическая наука, по крайней мере до недавних пор, не придавала их работам должного значения.
13
Танци и Шукнехт на фактическом материале показывают, что, по общепринятым показателям материального достатка, уровень благосостояния в государствах, проводящих жесткую финансовую политику, как правило выше, чем в «государствах-транжирах» (Tanzi, Schuknecht 1997). Фельдштейн убедительно доказывает, что общий ущерб от повышения налогов значительно превышает прежние оценки на этот счет (Feldstein 1997). Гвартни, Холкомб и Лоусон связывают сокращение темпов экономического роста с увеличением доли государственных расходов по отношению к объему ВВП (Gwartney, Holcombe, Lawson 1998). Кроме того, многочисленные данные показывают, что государственной системой перераспределения благ в первую очередь пользуются зажиточные слои, а бедняки от нее мало что выигрывают (Tanzi 1998b). Доказано, что регулирование товарного рынка и рынка труда приводит к снижению объемов производства и темпов экономического роста (Scarpetta et al. 2002).
14
Должен сказать, что я, как человек не понаслышке знакомый с «реальным социализмом», был просто поражен нереалистичностью точки зрения экономистов мейнстрима в ходе дискуссии об экономической эффективности социалистического строя. Эту дискуссию я проанализировал в работе: Balcerowicz 1995b: 35–50.
15
Запрет на экономическую свободу по определению приводил и к запрету на свободу политическую. В условиях свободной конкуренции на политической арене неизбежно возникла бы партия, выступающая против запрета на частное предпринимательство; более того, учитывая неэффективность командной экономики, у такой партии были бы все шансы прийти к власти, а это обернулось бы легализацией хотя бы некоторых элементов экономической свободы (Balcerowicz 1995b: 131–133).
16
К антилиберальным мерам регулирования относятся, в частности, запрет или ограничение рыночной деятельности в сферах здравоохранения и образования за счет создания здесь государственного сектора – монополиста или полумонополиста, – предоставляющего соответствующие услуги «бесплатно»: закон запрещает таким государственным учреждениям устанавливать расценки за эти услуги и взимать за них плату с потребителей. В некоторых обществах это приводит к возникновению «скрытых» платежей со стороны потребителей некоторым работникам государственного сектора в упомянутых сферах, причем официально такие платежи считаются «взятками». Вероятность появления такой системы в условиях дефицита подобных услуг из-за недостаточного бюджетного финансирования или некомпетентности госаппарата особенно велика в сфере здравоохранения.
17
Можно представить себе и такой вариант – государство, в котором собираемость налогов высока, но коррупция, тем не менее, процветает. Это может произойти, если уровень налогообложения высок, налоговый аппарат эффективен и не подвержен коррупции, однако чиновники других государственных органов используют свои полномочия в области регулирования экономики для получения крупных взяток. Однако подобная ситуация не может сохраняться долго: рано или поздно коррупция неизбежно проникает и в налоговые органы. Кроме того, под двойным бременем высоких налогов и чиновничьих поборов экономика, скорее всего, просто рухнет.
18
Стиглиц подчеркивает: «Характерные черты „сильного" государства – тот факт, что его деятельность охватывает всех граждан, а также обязательный характер его решений – одновременно являются и его главными недостатками», поскольку «ошибки, допущенные в условиях централизованной власти приводят к куда более катастрофическим последствиям, чем те же ошибки в обществе, где процесс принятия решений децентрализован». Несомненно, это убедительный аргумент против расширенного (т. е. «сильного») государства и в пользу государства ограниченного (Stiglitz 1988).
19
В этой связи стоит напомнить предупреждение Хайека относительно «государства всеобщего благосостояния»: «Если в прошлом социальные язвы постепенно исчезали вместе с ростом богатства, то меры, которые мы сегодня применяем для их исцеления, начинают угрожать дальнейшему росту богатства, от которого полностью зависит будущее улучшение положения людей» (Науек 1960).
20
Основные положения настоящей главы основываются на работе: Balcero-wicz 1995.
21
Подробнее об этом см.: Balcerowicz 1995.
22
В бывшей Югославии этой монополией пользовались управляемые трудовыми коллективами фирмы, подчинявшиеся партийной номенклатуре, но имевшие больше экономической свободы, чем государственные предприятия, которые были характерны для советской системы.
23
Одним из нагляднейших примеров в этой связи является аграрный сектор Китая в конце 1970-х годов. В российской экономике в начале 1990-х доля сельского хозяйства была гораздо меньше, и к тому же оно гораздо труднее поддавалось приватизации.
24
Я исключил из списка страны, где снижение ВВП было обусловлено гражданскими войнами (Грузия, Таджикистан), а также государства, чья официальная статистика вызывает большие подозрения в связи с тем, что у власти там находятся диктаторские режимы (Беларусь, Узбекистан).
25
Так, в Польше результаты последних подсчетов, согласно которым сокращение ВВП в 1990–1991 годах составило 5-10 %, а не 18–20 %, как следовало из первоначальных оценок, вообще не были опубликованы, тогда как прежние данные получили широкую известность.


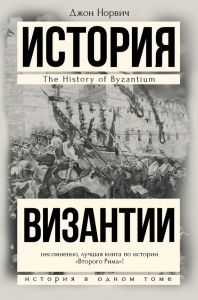




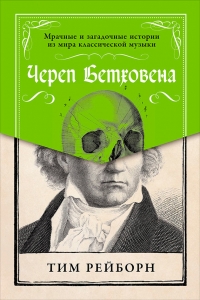



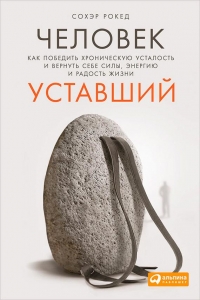
Комментарии к книге «Навстречу ограниченному государству», Лешек Бальцерович
Всего 0 комментариев