Предисловие автора
История рукописей, благодаря которым мы знаем то немногое, что нам известно о древнем мире, является одной из наиболее интересных глав в летописи устремлений человечества.
Дуглас К. Мак-МертриС тех пор как пять или шесть тысяч лет назад на Ближнем Востоке появилась письменность, сохранности письменных творений человека постоянно угрожала опасность. Причиной гибели могла быть стихия или небрежность человека и его фанатизм. Книги использовали не по назначению, их намеренно жгли или позволяли им гнить. С лица земли исчезали целые цивилизации, а письменное слово, которое одно лишь могло увековечить их культурные традиции и сами имена, пребывало в забвении. В небытие уходили книги и документы не только далеких и забытых народов; то же случалось во все века и во всех культурах, даже после изобретения книгопечатания. Древние иудеи зафиксировали утрату Книги Яшера; исчезла большая часть англосаксонской литературы; есть пробелы в драме Елизаветинской поры; сегодня мы обладаем лишь частью работ эллинских и латинских авторов.
В течение долгого времени людей мало интересовали древние тексты. Однако в период раннего Возрождения некоторые ученые-гуманисты начали всерьез заниматься поисками древних документов, а в нынешний век научных исследований благодаря широкому распространению интереса к истокам человеческой культуры каждое открытие утерянных документов приобретает характер археологического триумфа. Поиск документов с неизбежностью стимулировал и чувство ответственности за их сохранность.
Что бы ни руководило учеными — желание найти утраченные произведения классиков или интерес к истокам христианства, к проблеме подлинности Священного Писания, они неминуемо становились на путь поиска погребенных временем текстов. Каждое принесшее плоды усилие порождало новые поиски. По мере того как культурные достижения Египта, Месопотамии и соседних стран «плодородного полумесяца» все больше и больше открывались науке, их почти забытые памятники письменности также начали являться на свет. Дешифровка загадочных письмен позволила воскресить неизвестные ранее литературы и целые тысячелетия истории. Временами удавалось ощутить с поразительной конкретностью живую жизнь народа, существование которого было неведомо даже нашим отдаленным предкам. После египтян и ассирийцев с нами заговорили шумеры, хетты, хурриты, митаннийцы, ханаанеяне и многие другие. Вскоре охота за рукописями распространилась на самые глубины Азии и, как мы увидим в дальнейшем, на Новый Свет.
Рассказ о подобном восстановлении литературных текстов и документов и составляет предмет моей работы. Это, кратко говоря, книга о книгах и об ученых, которые искали и открывали утерянные манускрипты, интерпретировали и расшифровывали их. Охота за рукописями, как мне представляется, отражает наш возрастающий интерес к прошлому; так же как и другие антикварные устремления человечества, она ставит целью вновь обрести утраченные плоды человеческой любознательности и мастерства.
Поиск памятников письменности, погребенных под прахом времени, — это, по существу, подлинная детективная повесть, во многом схожая с раскопками наполненных сокровищами гробниц. Нередко, впрочем, будни утомительных, неуверенных поисков сменялись настоящими раскопками, со всеми их опасностями и тревогами. Неоднократно рискованные вылазки в чужие страны поставляли материал для подлинно эпических повестей о приключениях ученых.
Открытия утерянных произведений помогли во многом революционизировать нашу цивилизацию и изменили многие наши привычные представления. Для науки распахнулись совершенно новые горизонты. Извлеченные из праха рукописи дали нам возможность перебросить мост в прошлое, реконструировать нашу историю и оценить дух, разум и гений далеких предков. Наше наследство обогатилось произведениями, воплотившими наивысшие достижения древних в области литературы, научного знания и религии. Эти творения пролили свет на корни наших традиций и институтов, одновременно поставив перед нами новые волнующие проблемы.
Как ни странно, история поиска этих рукописей до сих пор не была изложена, не считая частных, фрагментарных описаний. Например, открытие после Второй мировой войны так называемых рукописей Мертвого моря возбудило интерес во всем мире, но ведь находку этих древнееврейских документов, хотя она и замечательна во всех отношениях, никак нельзя назвать уникальной! Именно в надежде привлечь внимание к этой, по непонятным причинам оказавшейся в небрежении, области знания, которую можно было бы назвать «книжной археологией», я и написал этот труд.
Несомненно, этот аспект исследовательской работы заслуживает особого рассмотрения. Любая погибшая цивилизация, какие бы величественные памятники ее ни обнаруживались в ходе раскопок, может раскрыть свою внутреннюю структуру только в письменных документах. Возьмем ли мы шумеров Месопотамии или миштеков Центральной Америки — всегда и везде только дешифровка текстов открывала возможность реконструировать, возродить прежние культуры.
Насколько бессистемными остались бы наши знания о Египте без Шампольонова ключа к его письменности и без богатого урожая папирусов, собранного в песчаных пустынях вдоль Нила! Глиняные таблички, откопанные в столице Эхнатона в Тель-эль-Амарне, осветили целую эпоху. Самая блестящая среди египетских находок — гробница Тутанхамона — скорее всего никогда не была бы найдена, не будь надписей и текстов, из которых ученые узнали о существовании мальчика-фараона и которые толкнули их на поиски его захоронения. Печати с надписями привели Артура Эванса к открытию Минойской цивилизации среди каменных россыпей Крита.
Большинство открытий, о которых пойдет речь, были сделаны на протяжении последних двухсот лет. Возрождение, положившее начало систематической кампании по воскрешению литературных текстов, явилось прелюдией к проблемам и задачам, которые встали перед современными охотниками за рукописями. Повсюду в своей книге я в какой-то мере пытался осветить смысл найденных текстов и обстановку, в которой они были созданы.
В круг выбранных мною тем я включил описание образцов различных материалов для письма, многочисленные способы перехода рукописей от владельца к владельцу и столь же многочисленные пути их обнаружения. Иногда я позволял себе отклоняться от основной темы для освещения менее известных аспектов культурных связей, расшифровки письмен, характеристики техники производства книг, изготовления материалов для письма, критики текста, вопросов классической филологии и других связанных с этим вопросов. Даже мошенничество и подделки сыграли выдающуюся роль в изучении рукописей, и время от времени они вынуждают уделять им внимание.
Вряд ли стоит подчеркивать, что пути и средства восстановления погребенных текстов выходят далеко за рамки полевой археологии. Многие «раскопки» проводятся в глухих закоулках разбросанных по всему миру библиотек или в национальных музеях современных шумных метрополий. Волнующий миг открытия может наступить в момент, когда на выгоревший, дважды исписанный пергамен упадет инфракрасный луч. Установление авторства и расшифровка слов и значений — весьма важная, если не решающая стадия большинства открытий. Поэтому охотник за книгами, подобно кабинетному археологу, может сосредоточиться на работе за своим письменным столом и предоставить экспедиции в чужедальние страны более непоседливым коллегам.
Не только Катай и Троя, но и другие места имели своих Марко Поло и Шлиманов. И таким людям уделено много места на страницах нашего повествования. Полу-биографический подход, может быть, и не охватывает всей исторической правды, но он помогает придать нашему в высшей степени выборочному обзору живую и правдоподобную основу.
Наконец, следует сказать, что я работал под впечатлением одной и всеобъемлющей мысли: взаимозависимость человеческой культуры в масштабах почти всего земного шара начиная с ее неолитического рассвета. Поэтому я и сосредоточил внимание на общих истоках, заимствованиях, взаимовлияниях, на неразрывности во времени и пространстве, а не на «уникальной» славе Египта, Греции и Израиля и не на схематичных конструкциях взлетов и падений обособленных цивилизаций. Это не означает попытку вывести все проявления цивилизации из одной общей колыбели. Но тем не менее, как давным-давно сказал Уильям X. Прескотт, существует «одно великое братство народов… связанных друг с другом такой степенью взаимопонимания, которая позволяет самой слабой искре знания, сверкнувшей в одном районе, постепенно распространяться все шире и шире, пока ее вдохновляющий свет не достигнет самых отдаленных уголков». Эта точка зрения лежит в основе трактовки всех вопросов, обсуждаемых на этих страницах: от способов письма, формы книг и их литературного или религиозного содержания до точек соприкосновения древних цивилизаций, на стыке которых было открыто так много документальных данных. Следовательно, насколько мне это удалось, это и книга о книгах, и книга об истории единого мира.
Поскольку ни один эксперт не может быть в равной мере специалистом во всех затронутых здесь областях, я взял на себя смелость вторгнуться во владения многих специалистов, рискуя при этом совершить немало ошибок в суждениях и фактах. Моей целью было утоление собственной любознательности. И я надеюсь, что хотя бы часть моего восторга перед миром книг — живущих, утерянных, возрожденных и еще не родившихся, но уже готовых к этому — передастся моим читателям.
Папирус Египта
…Когда папирус возвестит народам и царям Вселенной, как мысль и звук изобразить таинственно-нетленно. Способна Мудрость оживить эпох великих прах, скрижаль истории прибить на вечности вратах. Эразм Дарвин [1]С папирусом прочно ассоциируется Египет. Иероглифически Нижний Египет, то есть страна, расположенная в дельте Нила, обозначался папирусом; папирус является символом древней страны на Ниле в той же мере, что и ее пирамиды. Его роль в формировании египетской цивилизации трудно переоценить. Кроме того, из Египта папирус проник в другие страны Ближнего Востока, в классические Грецию и Рим, где он был принят в качестве основного материала для письма после того, как на Ниле он прослужил для этой цели уже тысячи лет. Даже жителям Месопотамии, которые предпочитали писать на глиняных табличках, папирус отнюдь не был неизвестен.
Но Египет не только положил начало использованию папируса как материала для письма, он, по-видимому, был главным поставщиком папирусной «бумаги» на протяжении всей древней истории. В сравнении с папирусом и пергамен, и наша современная бумага использовались совсем недолго, хотя в течение определенного периода все они были в употреблении одновременно. Поэтому было так естественно, хотя вряд ли неизбежно, что Египет стал в конечном счете главным хранителем папирусных документов, которые в этой стране оказались почти столь же долговечными, как каменные монументы. Свитки, которые и вообще-то не отличаются прочностью, попав в сырость, быстро истлевают, а пересохнув, становятся ломкими; как сказал Евсевий, один из Отцов Церкви, «их пожирали моль и время». Но в благоприятном климате и песках Египта они обрели невиданную стойкость.
Папирус использовался на протяжении всей долгой истории Египта и, вероятно, впервые был применен для письма еще в додинастический период. Старейший известный нам папирус датируется временем I династии, т. е. началом III тысячелетия до н. э. Но он ничем не заполнен. В 1893 г. швейцарский египтолог Эдуард Навилль приобрел папирус, происходящий, вероятно, из какого-то абусирского храма и предположительно датируемый 2700 г. до н. э. Предполагают, что еще несколько фрагментов папируса из Берлинского музея и других мест относятся примерно к этому же периоду.
Папирус — похожее на тростник водяное растение (Cyperus papyrus) семейства камышовых, родиной которого является Африка. Он до сих пор в изобилии произрастает по берегам рек в тропической части Африки, иногда даже запруживая их течение своими буйными зарослями. Однако в древние времена папирусные чащи тянулись вдоль всего Нила вплоть до дельты. Он несколько отличался от тех разновидностей папируса, которые сейчас встречаются в Сирии, Месопотамии, на берегах Иордана и на Сицилии, хотя они весьма напоминают тот тростник Египта, из которого в древности изготовляли «бумагу».
Древним египтянам папирус служил универсальным материалом для самых различных целей, как бамбук в Юго-Восточной Азии или агава в Мексике: он шел в пищу, служил строительным материалом, из него изготовляли одежду, обувь, циновки, лекарства и многое другое. В наиболее распространенном типе колонн в египетской архитектуре можно было распознать условное изображение стебля и бутона папируса; оно достигло гигантских пропорций в гипостильных залах Карнака и, возможно, послужило прообразом колонн греческих храмов. Когда Ксеркс наводил мост через Босфор, чтобы завоевать Грецию, он использовал канаты, свитые из папирусного волокна. Нил бороздили быстроходные, прочные тростниковые лодки, удивительно напоминающие тростниковые суда озера Титикака и сделанные из пучков папирусных стеблей — так, как делают их сегодня на великих озерах Центральной Африки. Из того же материала была корзина, в которой в зарослях папирусного камыша нашли младенца Моисея. Из папируса можно было изготовлять листы, сворачиваемые потом в свитки, готовые, как сказал Эмиль Людвиг [2], «запечатлеть на себе мудрость, чтобы затем нести ее по реке времени».
Папирусные листы не были бумагой в современном понимании — тем китайским изобретением, которое попало в Египет в VIII в., перед тем как проникнуть в Европу. Благодаря Теофрасту, преемнику Аристотеля в ликее, и Плинию Старшему, римскому естествоиспытателю, погибшему при извержении Везувия в 79 г., мы довольно хорошо знаем, как египтяне производили папирус. Характерно, что процесс этот за три тысячи лет почти не изменился: следуя описанию Плиния, мы сумели и сами воспроизвести папирусную «бумагу», а на Сицилии туристам даже продают почтовые открытки и свитки, сделанные из местного папируса.
Сырьем для изготовления «бумаги» служила нарезанная длинными, узкими лентами сердцевина трехгранных стеблей высоких, до 35 футов [3], растений. Ленты одинаковой длины и качества раскладывались на плоской поверхности в два слоя наподобие решетки: ленты первого слоя — горизонтально, а второго — вертикально. Первый слой образовывал лицевую, второй — обратную сторону листа. Затем под действием давления и нильской воды — иногда, может быть, с добавлением клея — слои превращались в довольно однородную массу, которая после этого выставлялась на солнце. Когда листы высыхали, их разглаживали с помощью раковин или слоновой кости и, вероятно, отбеливали мелом. Избыток влаги удалялся дополнительным отбиванием. После этого папирус считался готовым к употреблению. Писали на нем тростниковым пером, только на лицевой стороне.
Обычно около двадцати одинарных листов (как правило, 5–6 дюймов [4]шириной и 8–9 дюймов высотой) склеивали в длинный свиток, на котором можно было написать в несколько колонок довольно большой текст или документ. В таком виде папирус стал удобным стандартизированным предметом торговли. Средняя длина папирусных свитков во времена Греции и Рима составляла примерно 25–30 футов — такого свитка хватало как раз на один из самых коротких диалогов Платона или одно из Евангелий. Но некоторые из древних египетских свитков, как, например, один великолепный экземпляр «Книги мертвых», были намного длиннее. Папирус «Харрис I» в Британском музее, найденный в одной из фиванских гробниц, является самым длинным из существующих. Когда он был развернут, то оказалось, что длина его составляет 133 фута, а ширина — 16 3/ 4дюйма. Предполагают, что во времена Византии в Константинополе хранились свитки длиной до 150 футов, на которых умещалась вся «Илиада» или «Одиссея».
Нам неизвестно, когда искусство письма на папирусе было освоено греками. Есть вероятность, что этот египетский материал попал к ним одновременно с финикийским алфавитом. В самом деле, если судить по термину byblos (греческое слово, означающее «папирус»), греки впервые привезли этот товар из финикийско-сирийского порта Гебала (Библа), название которого у них ассоциировалось со словом „бумага“. В то же время греческое название книги — diphthera, которое означает „кожа“, свидетельствует о том, что сначала для письма использовались шкуры животных. Однако уже во времена Геродота, в век Перикла (V в. до н. э.) папирус стал настолько обычной канцелярской принадлежностью, что историк повествует о случае из прошлого ионийцев, когда из-за нехватки папируса люди вынуждены были использовать для письма шкуры животных, что делали в его время только „варвары“. В течение всего классического периода и в эпоху эллинизма папирус оставался основным средством распространения произведений греческой литературы. Книги приняли форму свитков, составленных из отдельных листов (kollemata). И только постепенно, во времена раннего христианства — этапы, остававшиеся неясными до недавнего времени, — папирус уступил место пергамену, а свитки — современной формы рукописным книгам в виде сложенных листов; эта форма, вероятно, была заимствована у старинных „записных книжек“ (pugillares), состоявших из нескольких вощеных табличек, скрепленных шнурами или петлями.
Римляне, как и следовало ожидать, скопировали греков. Они называли папирус charta или carta, и эти термины, как и слово „бумага“, вошли в современные европейские языки в виде слов chart (географическая карта) и card (игральная карта, карточка). Кстати, латинское слово, обозначающее книгу, являет собой столь же красноречивое историческое свидетельство, что и его греческий двойник. Это слово — liber — этимологически ведет начало от латинского слова „кора“. Как материал для письма кора использовалась почти повсюду; книги из коры были распространены в Центральной Азии и на Дальнем Востоке, причем еще сравнительно недавно. Даже североамериканские индейцы использовали кору березы для записей. В историческую эпоху, как свидетельствует Ливий, римские архивы применяли для записи также полотно (libri lintei). Что касается книг, то ни их форма, ни материал, из которого их делали, не являются чем-то всегда одинаковым. Книга — это всегда книга, но форма книги постоянно меняется. По сути дела, мы только ради удобства не называем книгой граммофонную или магнитофонную запись или текст на микропленке, хотя, быть может, они являют собой „книги“ будущего.
Ко времени цезарей, когда Египет стал частным владением императора, как ранее он принадлежал Птолемеям, производство папируса и торговля им стали преимущественно государственной монополией и важным источником дохода. Сырье для производства папируса доставлялось все еще исключительно из Египта. Как писал К. X. Робертс, английский папиролог, „Египет снабжал папирусом всю Римскую империю от Адрианова вала до Евфрата и от истоков Дуная до Первого порога на Ниле. Папирус использовался святым Иринеем в Галлии так же привычно, как и Оригеном в Александрии“. Как телеграф, радио, газеты и другие средства информации в век электроники, папирус помогал единению цивилизованного мира.
Сбор урожая папируса в Египте эпохи Древнего царства. Настенная роспись из гробницы в Мемфисе
С ростом утонченности бывших некогда простыми крестьянами воинов Рима появились тонкие и подчас почти неощутимые различия между разными типами или сортами папируса — некоторые из них льстиво назывались в честь императоров и их жен. Древние египтяне особо ценили священный папирус, выделанный из сердцевины стебля. Они использовали его для религиозных текстов. Знатоки различали почти столько же видов папируса, сколько существует сортов вин, причем каждый обладал особыми достоинствами, цветом, назначением, ценой, а также шириной и длиной. Некоторые из самых лучших сортов папируса поступали из Себеннита, в дельте Нила, а также из Таниса и Саиса; Carta Thebaica из Фив, в Верхнем Египте, также имел солидную репутацию. Другие сорта назывались по именам их изготовителей. Самый грубый сорт — emporetica („бумага для торговцев“) — использовался только как оберточная бумага.
В целом латинской литературе на папирусе повезло значительно меньше по сравнению с греческой, поскольку латынь никогда не проникала в Египет достаточно глубоко, разве что в административных целях в период римской оккупации. Поэтому до нас дошло из Египта ничтожное количество латинских папирусов. Как и в большинстве районов Восточного Средиземноморья, греческий язык остался здесь официальным языком и при Римской империи. Римское правление, возможно, было высокомерным и грабительским, но на нем не лежала лицемерная печать mission civilisatrice. Даже последние слова Цезаря были произнесены, вероятно, по-гречески.
Предпочтение, которое римляне отдавали папирусу, сохранялось довольно долго. После так называемого падения Рима Кассиодор, римский патриций-христианин, живший в VI в., восхваляет благородное растение: „И вот поднялся лес без ветвей; эти кусты без листьев; этот урожай в водах; это украшение болот“. Как наследница Римской империи, Церковь продолжала использовать папирус для своих документов и булл вплоть до XI столетия. Последний датированный документ этого рода происходит из канцелярии папы Виктора II и относится к 1057 г.
В археологических обзорах стало своего рода догмой, что египтологические исследования начались во времена наполеоновской кампании под сенью пирамид. Действительно, Наполеон основал Национальный институт в Каире, и вслед за этим появились великолепные тома „Описания Египта“. Одним из счастливых результатов кампании было открытие Розеттского камня [5]. Но путешественники XVIII в. — граф Сэндвич, Ричард Покок, Джеймс Брюс и граф де Вольней — были такими же деятельными и пытливыми исследователями египетских древностей, как и французы, которые шныряли по долине Нила десятью годами позже под охраной вооруженных завоевателей. Уже были сделаны попытки расшифровать египетские иероглифы, полным ходом шли поиски папирусов. Разумеется, предприятие Наполеона, которое существенно отличалось от предшествующих по организации и финансированию работ, было само по себе свидетельством вновь пробудившегося интереса к Древнему Египту.
Нельзя, однако, отрицать, что кампания дала дополнительный импульс, открыв европейский рынок для египетских редкостей — от обелисков до скарабеев, от мумий до папирусов. И местные жители, и европейцы начали безжалостные раскопки, наступили золотые дни для всякого рода торговцев и изготовителей подделок — профессии, к тому времени уже процветавшей на Ближнем Востоке. Эти люди с привычной и беспринципной легкостью угождали непоследовательным вкусам музеев Европы и богатых коллекционеров, которые, к несчастью, рассматривали папирусы как наименее ценные предметы из своего списка вожделенных древностей. Поэтому с папирусами часто обращались весьма неосторожно. Много свитков, несомненно, закончили свое существование в стеклянных шкафах невежественных частных коллекционеров, чьи скучающие потомки выбросили их или отправили на чердак вместе с акульими зубами, высушенными головами и дряхлым ручным ткацким станком тетушки Джессики.
Мародерство — худший вид археологии — состояло в основном в разграблении древних мумий. Поскольку „оргия грабежей“ была направлена на мумии доптолемеевского Египта, большинство папирусов, добытых в течение первых десятилетий XIX в., были написаны египетскими иероглифическими и иератическими [6]письменами, которые, как принято было считать, никогда не поддадутся расшифровке. В этом был твердо убежден Франсуа Жомар, глава французской миссии, вызвавший гнев молодого Шампольона отказом приобрести еще несколько папирусов. Такого рода предубеждения привели к тому, что папирусные свитки не считались ценным источником знаний о древности. Они только удовлетворяли праздное любопытство и, как правило, безнадежно рассеивались по всему свету.
Археологи, сопровождавшие наполеоновскую mission, утверждали, будто они первые осознали тот факт, что египтяне во времена фараонов обладали книгами. Озарение пришло к разносторонне одаренному Доминику Виван-Денону, талантливому рисовальщику, автору любовных стихотворений и протеже Жозефины. „Я не мог удержаться, чтобы не польстить себе тем, что я первый сделал такое важное открытие, — скромно писал он в своем „Voyage dans la Basse et la Haute Egypte“, — но был в еще большем восторге, когда несколькими часами позже получил еще одно подтверждение своего открытия, став обладателем манускрипта, найденного мною в руке прекрасной мумии… Нужно обладать страстной любознательностью, быть путешественником и коллекционером, чтобы до конца понять всю меру этого восторга“. Денона при виде этого зрелища охватили мучительные размышления и угрызения совести: „Я чувствовал, что побледнел от волнения; я уже готов был распечь тех, кто, несмотря на мои настоятельные просьбы, нарушил целостность мумии, как вдруг разглядел в ее правой руке, а также под левой рукой папирусный свиток, которого я, быть может, никогда бы не увидел, не потревожь они мумию; мой голос изменил мне; я благословил жадность арабов, а превыше всего — случай, который уготовил мне эту счастливую находку; я не знал, что мне делать с моим сокровищем, и очень боялся, как бы не повредить его; я не осмеливался притронуться к этой книге — самой древнейшей из известных доныне книг; я не решался ни доверить ее кому-нибудь, ни положить ее где-нибудь; всей ваты из моего стеганого одеяла, казалось мне, было мало для того, чтобы сделать для нее достаточно мягкую упаковку. Не излагалась ли в рукописи история этого человека? Не рассказывалось ли в ней о его времени? Может быть, в ней было описано царствование властителя, при котором ему довелось жить? Или в свитке содержались теологические догмы, молитвы, описание какого-нибудь открытия? Забыв о том, что содержание книг известно мне не более, чем язык, на котором они написаны, я на мгновение вообразил, что держу в своих руках компендий египетской литературы…“
Египетские писцы в характерных позах. Роспись из гробницы эпохи Древнего царства
Нет нужды говорить, что археолог — грабитель могил поневоле — одержал верх над моралистом. В своих путевых заметках Денон не говорит о том, куда он привез свиток, но драгоценная находка вполне могла попасть в Лувр. Можно предположить, что, когда он пришел в себя после своих сомнений и первоначальных восторженных размышлений и узнал, что свитки, захороненные с мумиями, отнюдь не уникальны, он уступил его какому-нибудь коллекционеру, — такую мысль высказал египтолог Джеймс Бэйки. Во всяком случае, нам неизвестно, где он, и мы не можем с уверенностью судить о его содержании, но с большой степенью вероятности можно считать, что свиток являлся одной из версий „Книги мертвых“; в настоящее время мы обладаем большим числом вариантов этой книги.
Когда обычай древних египтян вкладывать папирусные свитки в могилы своих усопших стал общеизвестным, расхищение мумий приняло массовый характер. Эта печальная практика была, вообще говоря, не столь уж новой: феллахи и раньше занимались грабежом могил своих древних предков в поисках так называемого мумиё (смолоподобное вещество, которым пропитаны мумии), долгое время почитавшегося западной медициной панацеей от всех болезней.
Удача Денона явилась своего рода прецедентом, поскольку в Европе спрос на такого рода редкости возрастал день ото дня. Двадцатью годами позже на сцене появились итальянские авантюристы: Пассалаква, Дроветти и неподражаемый Бельцони. Этим самоуверенным джентльменам не было свойственно уважение к останкам людей, умерших три с лишним тысячи лет назад. Они действовали с апломбом кондотьеров, осаждая свои „археологические крепости“ или беря друг друга на мушку пистолета на манер необузданных пионеров американского Запада. Их деятельность включала систематическое и безжалостное ограбление фиванского некрополя.
Джованни Бельцони, наиболее симпатичный из этой компании, откровенно говорил, что все его внимание было сосредоточено на извлечении погребальных свитков: „Целью моих поисков было лишение египтян их папирусов; некоторые из их числа я находил спрятанными в груди мумий, под руками, между ногами выше колен, на ногах; свитки были закрыты многочисленными слоями ткани, в которую были завернуты мумии“. Деятельный падуанец описывает свои действия с ужасающей откровенностью: „Почти лишившись сил, я стал искать место, чтобы отдохнуть, и, найдя его, попытался сесть; но когда я оперся на тело какого-то египтянина, оно развалилось подо мной, как картонка для шляп; естественно, я попытался опереться на что-нибудь, чтобы поддержать себя, но опора для рук оказалась столь же ненадежной, так что я окончательно провалился и оказался среди разламывающихся мумий, сопровождаемый треском костей, рвущихся тряпок, деревянных ящиков, которые подняли такую пыль, что я вынужден был с четверть часа сидеть неподвижно, пока она не осела“. Он продвигается дальше по проходу: „Он был весь забит мумиями, и я не мог сделать и шагу, чтобы не уткнуться лицом в какого-нибудь истлевшего египтянина: так как проход был с небольшим уклоном, мой вес помогал мне (Он был когда-то силачом в цирке. — Л. Д); тем не менее я был весь засыпан костями, ногами, руками и черепами, скатывавшимися на меня сверху. Так я продвигался от одной пещеры к другой, и все они были доверху заполнены мумиями, нагроможденными самыми разными способами: некоторые стояли на ногах, некоторые лежали, а другие стояли на голове. Я не мог сделать и шага, чтобы не повредить так или иначе какую-нибудь мумию…“
Самый изощренный мастер голливудских фильмов ужасов вряд ли превзойдет такой сценарий. При этом следует иметь в виду, что Бельцони был светлым ангелом по сравнению с некоторыми из его конкурентов, местных и иностранных. Учитывая, что магические погребальные свитки должны были облегчить мертвым египтянам переход в другой мир, нельзя не увидеть в этом мрачную иронию: как и пирамиды, свитки способствовали привлечению грабителей, обиравших прах их владельцев.
Когда улеглась пыль, поднятая этими дьявольскими набегами на египетские некрополи, почти никто уже не помнил, что первый известный на Западе египетский папирус был написан на греческом. Довольно долго непрочитанные иероглифические свитки фиванских мумий занимали умы ученых, но несколько разрозненных находок греческих текстов — если они вообще были идентифицированы как греческие — в начале XIX в. почти не привлекли внимания. Даже такой выдающийся историк эпохи эллинизма, как немецкий ученый Иоганн Густав Дройзен, проявлявший постоянный интерес к папирусам, не смог распознать греческую скоропись на нескольких документах, доставленных в Берлин (он решил, что они написаны на арабском!). Кроме того, преимущественно юридическое и административное содержание известных греческих папирусов поколебало надежды исследователей классической литературы.
В 1809 г. французский священник, аббат Делиль, написал поэму, в которой были следующие стихи: „D’Homere et de Platon, durant les premiers ages / le papyrus du Nil conservait les ouvrages“ („От Гомера до Платона, на протяжении первых веков папирус Нила сохранил эти труды“). Конечно, это была всего лишь поэтическая вольность. Насколько известно, еще никто к тому времени и в глаза не видел греческого классического папируса. Но тем не менее Делиль, поэт меньшего масштаба, чем Уордсворт, превзошел его как пророк.
В июне 1821 г. англичанин Уильям Джон Бэнкс посетил остров Элефантина на Ниле, в Южном Египте, близ Асуана. Остров уже в те времена был важным центром торговли древностями, и здесь Бэнкс, вместе со своим итальянским другом, приобрел у торговца ныне прославленный свиток, содержащий выполненную прекрасным письмом II в. н. э. копию семисот стихов из последней (24-й) книги „Илиады“. В 1879 г. этот ценнейший манускрипт был приобретен у семьи Бэнксов Британским музеем. Он был почти на тысячу лет старше, чем самая старая из известных в то время копий, но, как оказалось, это была первая ласточка из большого количества гомеровских текстов, которые, к неудовольствию ученых последующих поколений, составили значительную часть всех греческих папирусов. Копий „Илиады“ было намного больше, чем копий, очевидно, менее популярной „Одиссеи“. Тем не менее в 1820-х годах Гомер Бэнкса был сокровищем, и он оставался редкостью до нового расцвета папирологии, который наступил через полстолетия.
В сущности, все свитки, которые были обнаружены в первой половине XIX в., представляли собой нелитературные документы, относящиеся к повседневным делам. Среди них выделялись бумаги II в. до н. э. из Серапеума, близ Мемфиса, выкопанные феллахами в 1820 г., в которых содержались записи, касающиеся двух сестер-жриц. Эти записи послужили источником для нескольких романов, один из которых был написан французом Брассёром де Бурбур.
В целом археологи, теперь появившиеся на сцене, стремились к более значительным объектам: пирамидам, скульптурам, могилам и дорогим предметам искусства. Поэтому до нас не дошло почти никаких сведений о месте и обстоятельствах обнаружения манускриптов. Более того, стало обычным делом разделять манускрипт на части для увеличения дохода, и части одного и того же свитка рассеивались, подобно умерщвленному Осирису, по всему свету в ущерб научным исследованиям. Затем к середине XIX в. стали появляться все новые и новые папирусы, по крайней мере время от времени. Новые надежды возникли после появления утерянных речей Гиперида, современника Демосфена; фрагмента из спартанского барда Алкмана, приобретенного в 1855 г. Огюстом Мариэттом для Лувра, и, наконец, папируса, получившего впоследствии название „Папирус пророчеств“ и попавшего в конце концов в Берлин. В нем содержался каталог работ Аристотеля, среди которых упоминалась утерянная „Афинская полития“. Впрочем, последняя была открыта пятнадцатью годами позже.
Выдающиеся папирологи, такие как А. С. Хант и Фредерик Кеньон, датируют новую эру 1877 г. Именно тогда, как писал Хант в 1912 г., „были осознаны громадные возможности Египта в этом направлении… и поток, которому тогда было положено начало, с тех пор не прерывался“. Эта хронологическая линия раздела соответствует открытию в 1877 г. Файюма как источника папирусов. Количество папирусов, затопивших каирский рынок древностей, было просто ошеломляющим. Представители европейских научных организаций страстно боролись за право купить их, но большая часть через одного австрийского торговца попала в частную коллекцию эрцгерцога Райнера Габсбургского, который в 1884 г. поместил их в свой музей в Вене. Впоследствии эрцгерцог неоднократно пополнял свою коллекцию, и в 1899 г., когда она была передана Императорской Венской библиотеке, в ней насчитывалось около ста тысяч папирусов разной длины — от небольших клочков до солидных свитков. Большинство из них, однако, находились в плачевном состоянии. Почти все папирусы, включая и те, которые были приобретены другими научными учреждениями, представляли собой документы, то есть нелитературные тексты: счета, расписки, контракты, разного рода официальные распоряжения, завещания, договоры об аренде, школьные сборники упражнений, гороскопы, письма, записки и т. д. Целые возы рукописей по содержанию касались исключительно домашних мелочей. Большая часть папирусов относилась к позднему, византийскому, периоду, значительное количество было написано уже после победы ислама. Почти треть венских папирусов — вероятно, самая ценная часть коллекции — была написана на арабском языке. Довольно много папирусов было на коптском [7]. Хотя диапазон проблем, охватываемых папирусами, был впечатляющим, ученые того времени уделяли мало внимания социальной и экономической истории Древнего мира. Папирусы ценились прежде всего по их литературному содержанию, которое в данном случае расценивалось как весьма посредственное. Кроме того, большое количество и плохое состояние документов превращали сортировку и изучение их в трудоемкое и длительное занятие.
Происхождение папирусов явилось предметом споров среди экспертов. Было известно, что Файюм, в котором, вероятно, была сделана находка 1877 г… дал миру и эти папирусы, но точное местонахождение и обстоятельства, способствовавшие их сохранности, не были известны. Хранитель коллекции Райнера был убежден, что все они были извлечены из древнего архива столицы округа Мединет-эль-Файюм — древней Арсинои, или Крокодилополиса. Однако он был введен в заблуждение относительным единообразием первого венского приобретения, которое, как было позже установлено, действительно происходило из одного источника. Но и при этом условии состояние материалов — беспорядочность, фрагментарность, изорванность, — так же как и неофициальный, частный характер и их диапазон, охватывающий несколько столетий (некоторые из них относились к X в.), бросало тень сомнения на их предполагаемое происхождение. Статья хранителя, опубликованная в Вене, была быстро опровергнута блестящим молодым немецким египтологом Адольфом Эрманом.
Эрман довольно смело предположил, что все эти документы были найдены в громадных кучах мусора, тянувшихся на целые мили по всему Файюму, да и по большей части остальной территории Египта. Драгоценные документы бесцеремонно выбрасывались заодно со всяким хламом, образуя последовательно чередующиеся слои в этих своеобразных египетских свалках. К счастью, египтяне не были склонны к сжиганию своих бумаг и мусора. Они оставляли за собой рукотворные холмы, подобные кучам кухонных отбросов доисторических поселений. Местные феллахи всегда использовали их как источники себах — удобрений, богатых солями азотной кислоты. Нет нужды говорить, сколько бесценных сокровищ было уничтожено вследствие этого. Некоторые палеографы тем не менее продолжали поддерживать тезис об архивном происхождении документов, и они не были так уж неправы: найденные документы вполне могли включать выброшенные за ненадобностью архивы.
Литературные приобретения пока что были намного скуднее, если не считать частей утраченной „Гекалы“, идиллического эпоса Каллимаха, изданного Теодором Гомперцем. Но феллахи узнали о ненасытном аппетите европейцев на этот „хлам“, и с того момента этим клочкам бумаги уже не грозило полное уничтожение. Тем не менее неосторожное обращение и явная небрежность вели к тому, что разрушалось больше документов, нежели было когда-либо спасено. И чаще всего никто не записывал, где были найдены те или иные документы и где могли находиться другие части документов, что позволило бы воссоединить их. И только со временем к экспертам, в том числе и к археологам, пришло понимание того, что нельзя оставлять дело поиска папирусов в руках случайных и невежественных людей. Это положение должно было, однако, измениться, когда У. М. Флиндерс Петри раскинул свою палатку в Файюме в конце 1880-х годов. Ему предстояло первому начать разыскивать папирусы по всем правилам науки и суждено было открыть еще один источник древних манускриптов. С него начался героический век открытий папирусов.
О чем рассказали саркофаги
Умение консервировать материал… подметить любой мелкий факт; заметить пустяковую деталь, которая может таить в себе большой смысл: воспринять и развить логическую схему; расставить все по своим местам, не упустив ни одного вероятного решения, — все это и есть суть и душа работы, без этого раскопки — тяжелый и бессмысленный труд.
У. М. Флиндерс ПетриФайюм, в котором Флиндерс Петри работал с 1887 по 1890 г., был тогда весьма заброшенным районом Египта. С точки зрения археологии он оставался ничейной землей до тех пор, пока молодой английский археолог не познакомил мир с прошлым Файюма, ставшего благодаря ему главным источником греко-римских папирусов.
Не входя в бассейн Нила" Файюм тем не менее традиционно считался египетской провинцией и интенсивно возделывался в течение почти всей истории страны. По сути дела, он представляет собой обширный оазис (и одновременно глубокую впадину) в Ливийской пустыне, милях в пятидесяти к юго-западу от Каира. Через узкий проход в холмистой гряде, окаймляющей его, он соединяется с Нилом, которому, как и весь Египет, он обязан своим плодородием. В отдаленные времена Файюм был, вероятно, занят большим водным массивом — Меридовым озером, которое постепенно уменьшалось в размерах. Задолго до образования династического Египта берега этого болотистого озера были заселены охотниками, рыболовами и земледельцами, культура которых имела существенные черты сходства с мезолитической и неолитической культурой североафриканской Сахары. Они принадлежали к длинноголовой средиземноморской расе и вместе с родственными племенами западной дельты Нила вполне могли дать решающий толчок, вызвавший к жизни египетскую цивилизацию.
На предварительном этапе работ Петри предстояло доказать, что особое внимание Файюму было уделено фараонами XII династии Среднего царства (2000–1780 гг. до н. э.). Именно эти "фараоны-инженеры", величайшим из которых был Аменемхет III, возвели грандиозные плотины, чтобы сдержать озеро, поднять плодородие земель и направить воды нильского разлива в оросительные каналы. Некоторые из фараонов перенесли в этот район свою столицу и построили много пирамид в таких соседних поселениях, как Гавара, Кахун и Иллахун (Эль-Лахун) — места первых археологических удач Петри. Когда более чем через тысячу лет Файюм посетил Геродот, над озером все еще возвышались колоссальные статуи, воздвигнутые Аменемхетом III; греческий путешественник был восхищен также Лабиринтом — гигантским храмом, размерами превосходящим храм в Луксоре; все это теперь бесследно исчезло. В равной степени Геродот был очарован местным культом — поклонением священным крокодилам, обитавшим в Меридовом озере и олицетворявшим главное божество Файюма — рептилию Собк (Себек или Сухое).
После Геродота по следам Александра пришли грекомакедонские завоеватели, и под управлением основанной ими иноземной династии Файюм пережил новую полосу экспансии и расцвета. С намного большим размахом были возобновлены работы по восстановлению плодородия земель; македонские ветераны и другие эллинизированные пришельцы освоили новые земли и построили около сотни новых городов, носивших знакомые, звучащие по-гречески названия, такие как Филадельфия, Теадельфия, Евгемерия, Дионисий и Вакхий. Несомненно, Файюм пришелся поселенцам по вкусу. Здесь монотонное однообразие пустынного ландшафта и прибрежной нильской равнины нарушалось холмами с зелеными лощинами и изредка — водопадами. Пышно росла олива и плодоносил виноград, так же как в Аттике или Фессалии. Однако столетия спустя, когда порядок, установленный пришельцами, рухнул, Файюм был предан забвению; оросительные каналы не ремонтировались, и пустыня поглотила большую часть плодородной земли; когда-то процветавшие греческие поселения превратились в города-призраки.
Когда Флиндерс Петри начал свои первые раскопки в Файюме, связь с Каиром была плохой, а жизни и имуществу путников угрожали банды грабителей-бедуинов. Как это уже стало обычным для позорной практики управляемой французами египетской Службы древностей, многообещающие с точки зрения археологии участки были отданы на откуп торговцам древностями или удобрениями, которые с разрешения или без такового с незапамятных времен рылись в кучах мусора заброшенных городов. Это были те самые люди, которые извлекли на свет божий большинство папирусов, переправленных в Европу.
Петри, ставший выдающейся фигурой в египтологии XIX в., прибыл в Египет в 1881 г., не имея ни малейшего намерения производить раскопки. Он вообще не собирался посвящать свою жизнь археологии. Однако, будучи занят изучением конструкции пирамид и тщательными их обмерами, он стал свидетелем раскопок, производимых французами у пирамид в Гизе. Недалеко от Сфинкса он увидел команду солдат, взрывавших, согласно приказу, гранитные руины древнего храма, — уничтожать было легче, чем восстанавливать. Запущенность и варварское отношение к древностям настолько потрясли его" что он испугался: не исчезнет ли большинство из них на протяжении нескольких поколений? "Год работы в Египте, — писал он впоследствии, — вызвал у меня ощущение, что я нахожусь в доме, охваченном огнем, — настолько быстро шло разрушение". Именно там и тогда он решил выступить в роли спасителя.
И более всего Петри хотел бы видеть спасенными небольшие, кажущиеся незначительными предметы и вещи, без которых было почти невозможно воссоздать жизнь и цивилизацию на Ниле на протяжении трех или четырех тысячелетий, предшествующих рождению Христа. "Вполне возможно, — предупреждал он археологов-неофитов, предвкушавших немедленное вознаграждение своих усилии, — что в иных местах вам попадется пустяк, не стоящий на рынке древностей и шести пенсов; однако сами стены, планировка, глиняные черепки и результаты обмеров могут принести именно те сведения, о которых уже годами мечтают историки" [8]. Была отчаянная потребность в какой-то методике поисков, в дотошной технике раскопок. По мнению Петри, сито было куда более подходящим инструментом по сравнению с лопатой, и такое прозрение делает его Коперником современной археологии.
Петри был выдающейся личностью даже среди других знаменитостей Викторианской эпохи. Рядом с ним, никогда не обучавшимся в высших учебных заведениях, напыщенные обладатели университетских степеней выглядели дилетантами. Со временем он получил почетные титулы от дюжин академий и был назначен руководителем первой в Англии кафедры египтологии при Лондонском университете. Он отличался исключительной независимостью суждений, но явно не был склонен к общению с чиновничьим племенем и нередко отпускал ядовитые замечания, которые, разумеется, достигали ушей его коллег. К сожалению, ему явно не хватало официальной поддержки, которая в лучшем случае была эпизодической. Всем тем, что ему удалось достичь, он был обязан своему исключительному аскетизму и суровой экономии. Его первый проект — изучение пирамид — по всем расчетам должен был стоить как минимум 1300 фунтов, но обошелся ему в 300 фунтов. Петри почти ничего не тратил на себя, питался и спал в таких условиях, которые наверняка посрамили бы первых христианских отшельников в египетской пустыни.
Чарлз Брэстед, сын американского египтолога, вспоминал о своем посещении вместе с отцом одного из объектов раскопок в Египте. Там они встретили Петри, которому тогда был сорок один год, "человека с веселым лицом, добрыми глазами и мальчишеской живостью. Его одежда вполне соответствовала ходившей по всему свету молве о нем — настолько она была не то что небрежна, а нарочито неряшлива и грязна. Он был совершенно неопрятен, одет в грязные, изодранные рубашку и брюки и рваные сандалии на босу ногу. Одной из его многочисленных причуд была потребность в том, чтобы его помощники стремились превзойти его собственную небрежность и чтобы он мог гордиться тем, как он сам и его люди "плюют на трудности" в полевых условиях. Он держал их на такой жестокой диете, что выдержать ее могли только люди с железным здоровьем; но и о них было известно, что время от времени они тайком покидали лагерь, дабы утолить голод, разделив с местными феллахами их пресный хлеб и бобы — пищу изысканную по сравнению с их собственной".
Хотя Петри редко удавалось получить разрешение на раскопки наиболее ценных объектов, именно он в той или иной мере является основоположником науки о егн-петских древностях. Возможно, он доставил директорам музеев сравнительно немного предметов, представлявших для них интерес, но зато он вписал совершенно новые главы в рассказ о прошлом людей, обитавших в долине Нила, пролив свет на все периоды, начиная с неолита и двух первых династий, считавшихся некогда мифическими, до римской и византийской эпох.
Первые значительные раскопки из его "семидесяти лет в археологии" Петри предпринял зимой 1883/84 г. в Танисе, в восточной части дельты Нила, и именно тогда он впервые соприкоснулся с папирусами. Даже сегодня трудно поверить в то, что в этом сравнительно влажном районе Египта могли сохраниться какие-либо документы. Но Петри всегда был готов к неожиданностям, и когда в одном из разрушенных зданий он наткнулся на кучу мусора, то не поленился нагнуться, чтобы взглянуть на нее повнимательнее. Перед его удивленным взором предстало какое-то письмо, написанное "изящными греческими буквами", однако так же внезапно, как эти буквы появились, они и исчезли при самом легком прикосновении. Здание, которое он обследовал, носило на себе следы пожара. И снова разрушение привело к сохранению, так как в погребе Петри обнаружил обгоревшие остатки "корзины, полной знаний": "В нише под лестницей, ведущей в погреб, было пять корзин со старыми папирусами. Хотя многие из них полностью погибли от огня, превратившись в белый пепел, содержимое одной корзины было только обуглено; осторожно подкопав землю под драгоценной черной массой, я поднял ее наверх и со страхом и благоговейной радостью отнес домой. Десять часов ушло на то, чтобы благополучно отделить рукописи друг от друга — скрученные, сдавленные, вмятые одна в другую и все такие хрупкие, какими могут быть только обгоревшие папирусы; одно движение или одно резкое прикосновение — и рукопись погублена. В конце концов мне удалось отделить более ста пятидесяти документов; теперь, тщательно обернутые по одному и положенные в жестяные коробки, они благополучно отправились в путь… Немного больше воздуха при горении, немного меньше осторожности при раскопках, обработке, упаковке и распаковке — и этих документов не стало бы. Конечно, при обычной системе, когда организация раскопок возлагается на надсмотрщиков-арабов, от подобных находок не остается и следа".
Это было типично для Петри — работать с величайшей осторожностью, почти не полагаясь на помощь наемных работников и на ходу создавая методы консервации. Тексты оказались весьма ценными, хотя из числа написанных на греческом лишь немногие имели какое-нибудь значение. Они датировались довольно поздним временем. Но среди египетских папирусов был каталог иероглифических символов и соответствующих им иератических, или скорописных, знаков, размещенных параллельными колонками. Документ, по-видимому, был пособием для обучения системам египетского письма. Это был первый найденный документ такого рода, и он оказался для филологов просто бесценным. Другой обуглившийся папирус пролил свет на древние географические концепции египтян и на административное деление страны на номы.
Петри не был сколько-нибудь обескуражен, когда в начале 1887 г. Служба древностей предложила ему обследовать Файюм. Правда, археологи считали, что Файюм не оправдает затрат; вот уже двадцать пять лет ни один из археологов не отваживался ехать туда. Но что касается Петри, то он, хотя ему и приходилось ранее испытывать разочарование, всегда усматривал в новом объекте вызов и открывающуюся благоприятную возможность. И действительно, отсутствие романтического ореола и неизученность этого района еще более содействовали успеху Петри.
Главной целью Петри в Файюме были пирамиды. В отличие от лучше сохранившихся пирамид в Гизе об этих решительно ничего не было известно. До сих пор не было предпринято ни одной попытки узнать, когда они были построены и кем. Помогут ли ему эти пирамиды — для Петри излюбленные памятники Египта — приподнять завесу, окутывающую Файюм?
Ему не понадобилось много времени, чтобы опознать в пирамидах постройки XII династии. А его раскопки пирамиды Аменемхета III и определение местоположения погребальной камеры — образец высшего искусства и изобретательности в египтологии. Он начал с Мединет-эль-Файюма (древнего Крокодилополиса), в котором обследовал остатки древнего храма; затем он перебрался в Гавару. Здесь его внимание также было сосредоточено главным образом на местных пирамидах, но он обнаружил и другой, "менее всего ожидаемый… источник интересных данных" — прославленные теперь портреты умерших, выполненные на воске на крышках саркофагов с мумиями. Вместе с фресками Геркуланума и Помпей эти портреты являются наиболее живыми и выразительными произведениями греко-римской живописи из тех, которыми мы обладаем. Местное кладбище, казалось, представляло собой неиссякаемый источник вощеных панелей: иногда в течение двадцати четырех часов на свет появлялось до пяти портретов.
Однажды, когда местный мальчик только что сообщил о находке очередного портрета, прибыла группа посетителей. Сообщения Петри в лондонские журналы о ходе работ сделали его исследования достоянием гласности. Уже в течение первого десятилетия его долгой карьеры он стал среди своих коллег-археологов живой легендой. Они изучали его методы исследования так же, как и его открытия, они убеждали его распространить свои теории на эволюцию и взаимосвязи всего древнего Ближнего Востока.
Погребальный портрет из Гавары.
Вощеная доска
Группа, прибывшая в этот день в лагерь, расположенный в пустыне, состояла из трех выдающихся немцев: "Шлиман, невысокий, круглоголовый, круглолицый, в круглой шляпе, с круглыми вытаращенными глазами в очках, бодрейший человек, педантичный, но всегда склоняющий голову перед фактами. Вирхов, спокойный человек с привлекательным лицом и прекрасной седой бородой… Швейнфурт (этнолог)…" Все трое проявили живейший интерес к работе англичанина, но Шлимана Петри по случайному стечению обстоятельств мог порадовать особого рода находкой.
Она была сделана при необычных обстоятельствах, когда Петри раскапывал греко-римское кладбище в Га-варе. Это была мумия молодой девушки, голова которой покоилась на греческом свитке, написанном превосходным унциальным письмом [9]II в. н. э. Папирус содержал значительную часть второй книги "Илиады". Более достойным удивления, чем сам текст, снабженный примечаниями, который в действительности дал мало что нового гомеровской текстологии, было место, где находился свиток.
Фрагмент списка "Илиады" II в. н. э., выполненного унциальным письмом того же типа, что и письмо "Папируса Петри" из Гавары, очевидно предвосхищающее стиль библейских кодексов IV в. на веллуме, особенно Ватиканского и Синайского
Скорее всего греческая красавица ни разу не прочла этот свиток. Погребение греческих рукописей вместе с мумиями имело вовсе не такой рациональный смысл. Вероятно, греческие поселенцы в Египте просто переняли, еле улавливая суть, — что обычно бывает при заимствовании ритуалов — древний египетский обычай снабжать умерших копией "Книги мертвых", но содержание текста к этому времени для них уже не имело значения. В противном случае, как заметил один современный папиролог, "самой наивной нашей доверчивости трудно было бы допустить, что хоть кто-нибудь мог выбрать в качестве спутника в загробную жизнь речь Исократа "Против Никократа", которая была найдена между ног одной из мумий". Ученых часто удивляло, почему в явно неразграбленных саркофагах находили лишь части свитков, и должно было пройти немало времени после раскопок Петри в Файюме, прежде чем они поняли, что эти фрагменты, так же как и целые свитки, — безотносительно к их содержанию — могли служить целям погребального ритуала.
Что бы ни означал этот обычай, был открыт фактически неисчерпаемый источник греческих папирусов, и со временем другие могилы должны были также явить первоклассные образцы. Свиток с "Илиадой" был наиболее эффектным из папирусов, найденных в Гаваре. Профессор Сейс упоминает примерно о четырехстах пятидесяти фрагментах, в большинстве своем являвшихся различными актами, списками налогоплательщиков и другими юридическими документами. Многие из них были просто-напросто занесены в этот район движущимися песками. Петри и его сотрудники высказывали предположение, что эти разнообразные документы являлись частью какого-то общественного архива, в течение веков развеянного ветром и погребенного в пустыне, но гораздо более вероятно, что они попали сюда просто из соседних куч мусора. Даже Петри все еще не воспринимал залежи мусора как сокровищницы папирусов.
В Гаваре было найдено по крайней мере два необычных литературных фрагмента — часть неизвестного исторического труда о Сицилии. Любопытна не столько содержанием, сколько способом своего захоронения серия византийских папирусов, датируемых 512 или 513 г. и имеющих отношение к продаже двух монастырей. Они были тщательно свернуты, связаны вместе и помещены в кувшин, точно так же, как свитки Мертвого моря и другие многочисленные документы древности. Папирусы Гавары убедительно доказали, что Файюм богат древними документами. В дополнение к этому они дали новую информацию о различных путях, какими подобные тексты могли сохраняться: главным образом в заброшенных зданиях, в могилах вместе с мумиями, в глиняных сосудах и просто в песке. Но этим, как мы еще увидим, далеко не исчерпывались их потенциальные источники.
В следующем сезоне, 1889/90 г., Петри сосредоточил свою деятельность в Гуробе, вблизи от восточного прохода в Файюм. Именно здесь его ожидала самая богатая находка, открывшая новую эру в поисках папирусов и положившая начало новой науке — папирологии.
Еще работая в Гаваре, Петри заинтересовался Гуробом, когда местные жители принесли ему оттуда бусы и украшения. Он сразу почувствовал, что разрушенный город таит в себе много интересного, так как во времена XVIII династии он поддерживал тесные связи с чужеземцами из Восточного Средиземноморья. В оправдание своих надежд он нашел финикийскую "Венеру" и деревянную фигуру хеттского арфиста, но наибольшее впечатление на него произвело множество ваз, которые он, выдвинув смелую гипотезу, назвал эгейскими. Открытия Эванса в Кноссе десятью годами позже подтвердили правоту Петри. Летопись контактов между Грецией, Критом и Египтом в один миг была продлена в прошлое более чем на тысячу лет. Появилась возможность датировать Критскую цивилизацию путем сравнения ее памятников с эгейскими (минойскими) предметами искусства из Египта эпохи Среднего и Нового царств. Уже одно это стало вехой в археологии Ближнего Востока и выявило новое звено в хронологии незафиксированных во времени цивилизаций. Петри в своем отчете о раскопках впервые ввел ныне полностью признанный термин "эгейский".
Не без сожаления Петри перешел наконец из погребенного под песком древнего египетского города к соседнему поселению птолемеевской эпохи с его обширным кладбищем, расположенному в северной части Гуроба. Однако, каким бы незначительным оно ни казалось, пренебречь им было нельзя из-за поставленной задачи исчерпывающего археологического обследования данного района. Первая проверка подтвердила пессимистические настроения Петри. Остатки материальной культуры не шли ни в какое сравнение с таковыми эпохи фараонов. Упадок был очевиден даже в том, как при Птолемеях хоронили мертвых, которые были погребены на краю пустыни. "Их мумии, — писал Петри в своих заметках, — лишены амулетов или украшений, все они превратились в черную пыль, их картонажи чрезвычайно условны и неинтересны, не имеют имен, а гробы их чудовищно примитивны; лишь некоторые из них поднимаются до гротеска, другие же таковы, что их устыдился бы житель тихоокеанских островов. Вместо носов — длинный треугольный выступ, глаза обозначены двумя зарубками в доске, рот — третьей. У некоторых нос не выделяется над поверхностью доски; у других глаза раскрашены белой и черной краской в ужасной попытке хоть как-нибудь украсить саркофаг. Внутри этих чрезвычайно грубых ящиков находились изящные по сравнению с ними картонажи". Однако тут же, вслед за этими удручающими словами, Петри добавляет: "Но то, что было никчемным во времена Филадельфа, сейчас — сокровище".
Когда Петри обследовал картонажи, или футляры для мумий, он подлинным чутьем исследователя заметил, что они образованы не слоями ткани, как во времена фараонов, а листами папируса, и некоторые из них хранили на себе следы текста. С этого момента начинается история Золушки. Эти захудалые безымянные покойники одарили мир самыми древними из известных до сих пор греческими рукописями.
Профессор Сейс, которому Петри поручил их издание, был весьма взволнован. Откопанные классические папирусы, по его словам, были "такого почтенного возраста, о котором самый оптимистически настроенный ученый не осмеливался и мечтать".
Картонажи долгое время использовались в качестве внутреннего футляра для мумий. Греческие поселенцы в этой погребальной практике вновь скопировали египтян, но они — с большой пользой для нас — упростили этот процесс. Вместо того чтобы обертывать мумии полотном, они использовали для этой цели выброшенные за ненадобностью листы папируса, которые смачивались и плотно прикладывались к голове, ногам, груди, плечам мумии. Поверх мокрых листов накладывался толстый слой штукатурки, которая затем окрашивалась более или менее яркой краской. Вначале листы папируса склеивались друг с другом, но, к счастью, от этой практики позже отказались. Дело в том, что без клея мумии оказались более долговечными: клей привлекал насекомых, и они поедали склеенный папирус слой за слоем, оставляя после себя только штукатурку.
Петри смог отделить картонажи от тридцати мумий. К счастью, большинство папирусов из Гуроба были без клея, но состояние их было ужасным. Удивительным само по себе было уже то, что некоторые из них после двухтысячелетнего пребывания в могиле вообще смогли пережить то обращение, которому они подверглись. В тех местах, где папирус был обращен текстом к штукатурке, буквы исчезли под химическим воздействием извести.
Откуда появились эти папирусы? Их физическое состояние подсказывало ответ. Прежде всего большинство документов были фрагментами разных текстов, и приобретались они древним гробовщиком, по-видимому, как мусор. Возможно, этим материалом его регулярно снабжал мусорщик, собиравший их в разных местах. Часто футляр одной мумии или даже нескольких мумий был сделан из обрывков одного и того же текста, которые можно было сложить вместе. В одном случае, например, эти фрагменты оказались частными и официальными бумагами колониста, из которых удалось восстановить его карьеру. В отдельных случаях длинный документ шел в дело целиком, особенно когда его использовали для того или иного более ровного участка тела. Затем, если улыбнется счастье, "его можно было извлечь в таком виде, как будто более чем двухтысячелетнее погребение не нанесло ему ни малейшего вреда".
Когда все папирусные саваны были собраны, Петри посвятил себя задаче распрямления затвердевших кусков — делу отнюдь не легкому, которое не всегда заканчивалось удачей. Петри рассчитывал главным образом на смачивание папирусов. Позже был отработан более удовлетворительный способ пропаривания и химического воздействия. Петри сумел обработать большое количество отрывков, которые можно было прочесть. После окончания сезона он взял их с собой в Англию и вручил Сейсу, который на лето перебрался в свой старый колледж в Оксфорде. Сейс пригласил профессора Джона Пентланда Махаффи из Дублина, изучавшего историю Птолемеев, разделить с ним эту волнующую работу во время долгих летних каникул 1890 г. Некоторые фрагменты не были еще раскрыты, но большинство было готово для предварительной сортировки, после которой могла начаться работа по дешифровке. Начертания букв были незнакомыми, тексты принадлежали к периоду, до сих пор не приносившему палеографических находок. Предстояло определить содержание текстов, а затем попытаться идентифицировать их. Идентификация являлась величайшим вызовом, и она же таила в себе величайший сюрприз для исследователей классики. Если выяснялось, что фрагмент относится к какому-либо утерянному или неизвестному науке произведению, возникала гигантская проблема определения авторства — часто проблема неразрешимая.
И Махаффи, и Сейс с умилением описывали счастливые недели этого оксфордского лета. "Мало кому из современных ученых, — писал Махаффи, — выпадало счастье проводить такие дни, какие провели мы вдвоем в Оксфорде в долгие каникулы 1890 г., погружаясь на целый день, пока светило солнце, в эти неотчетливые и отрывочные записи, обсуждая по вечерам найденные нами бессвязные данные и их возможное значение. Постепенно проявились куски какого-то Платонова диалога — теперь установлено, что это был "Федон"; потом страница из трагической поэмы… и вместе с ними много юридических и официальных документов с датами, которые удивили нас и заставили призадуматься…"
Отрывок из аттической трагедии в триста стихов оказался одной из грандиознейших загадок. Письмо было трудным для понимания, и расшифровка продвигалась медленно. Сначала фабула казалась неясной. Стиль, однако, напоминал Еврипида. Впрочем, напоминал не настолько, чтобы быть в этом уверенным. Вот если бы ученым удалось привязать этот сюжет! Вдруг Махаффи сказал Сейсу: "У меня появилась идея: пойдем в библиотеку!" Так они и сделали. "Через несколько минут, — писал позже Сейс, — он показал мне цитату из утерянной трагедии Еврипида "Антиопа", в точности совпадающую с одной из строк, которые мы копировали, Отрывок был идентифицирован, и давно утерянная реликвия великого афинского поэта была снова в наших руках". Этот эпизод, кстати, служит яркой иллюстрацией того, каким образом происходит обычно идентификация утерянных произведений. Такие сцены повторялись довольно часто.
Утерянная "Антиопа" цитировалась Платоном в диалоге "Горгий". В античные времена эта трагедия считалась одним из лучших творений Еврипида. Мифологическая по теме пьеса описывает спасение плененной Антиопы двумя ее детьми, которые наказывают ее угнетательницу — подлую Дирке. Дирке привязывают к рогам дикого быка, как это изображено в знаменитой эллинской мраморной скульптуре, находящейся сейчас в Национальном музее в Неаполе. Основываясь на знакомом сюжете, Сейс и Махаффи были уверены, что папирус, найденный Петри, содержит части последнего акта, в котором молодые герои Амфион и Зет пришли к соглашению с мужем Дирке, Ликом, и воцарились на престоле в Фивах.
Выполненный в III в. до н. э. список Платонова "Федона", обнаруженный Петри в Гуробе. Восходя к столь раннему времени, он, возможно, не сильно отличается от рукописей времени великих греческих классиков.
"Федон", хотя эта работа Платона и была уже известна, с точки зрения палеографии был находкой первого ранга. Он был написан аккуратным лапидарным письмом, весьма близким к надписям на камне IV в. Ма-хаффи и Сейс утверждали, что он мог быть написан рукой уроженца Аттики, возможно даже при жизни Платона, и был взят с собой переселенцем, покидающим родную Грецию.
"Федон" и "Антиопа" были самыми яркими из литературных папирусов, найденных Флиндерсом Петри. Но значительный интерес вызвал также и другой фрагмент, в котором описывается состязание между Гомером и Гесиодом. Один из коллег Махаффи приписывал его к "Музейону" Алкидаманта, софиста IV в. до н. э. Одна из версий поэмы была известна со времен императора Адриана (который цитируется в ней), со II в. н. э., и считалась оригиналом до тех пор, пока за двадцать лет до находки Петри молодой немецкий ученый в двух блестящих статьях, являвших собой образчик филологической детективной работы, не оспорил эту точку зрения. Руководствуясь несколькими намеками в тексте, он предположил, что это произведение было известно задолго до времен Адриана. Затем он смело заявил, хотя ему и недоставало решающих доказательств, что настоящим автором был эолиец Алкидамант, живший за четыреста лет до Адриана. Папирус III в. до н. э., найденный Петри в Файюме, подтвердил его предположение. "Редко случается, — писал критик в 1892 г., — чтобы ученый в этой области получил такое неожиданное подтверждение правильности своей теории и тем самым доказал, что она базировалась на столь глубоком знании и проницательности". Этим немецким ученым был Фридрих Ницше.
Среди других замечательных отрывков в коллекции Петри был, конечно, фрагмент "Илиады". Казалось, это был "жалкий обрывок… содержащий только окончания строк одной колонки и начала соседней, всего тридцать пять окончаний и начал, но этого было достаточно, чтобы узнать строки одиннадцатой книги "Илиады", причем пять или шесть строк из них не содержались ни в одном из известных нам вариантов текста". Поскольку это была, несомненно, самая древняя из когда-либо обнаруженных копий отрывка из "Илиады", ей суждено было породить бесконечные споры о достоверности традиционного текста, который дошел к нам от александрийских критиков более позднего времени.
После памятного лета 1890 г. Сейс, основные интересы которого были связаны с языками Ближнего Востока, а не с греческой литературой и палеографией, с разрешения Петри передал всю ответственность за редактирование и публикацию папирусов Махаффи. Многие годы спустя Сейс с легкой грустью вспоминал те дни интеллектуального восторга, когда они, казалось, вновь переживали времена Возрождения: "В эти дни, как и тогда, на свет появлялись все новые утерянные фрагменты классической литературы вместе с копиями существующих сочинений, но эти копии были на столетия древнее рукописей, уже известных нам". Как они наслаждались, закопавшись по уши в этих текстах, пока не наступало время обеда, когда они "за десертом и вином в профессорской могли обсудить свои открытия и надежды с другими учеными! Это было прекрасное время, но, как и всему прекрасному, ему слишком быстро пришел конец".
Для Флиндерса Петри, Сейса и Махаффи непреходящей радостью было сознавать, что они участвовали в первом крупном открытии древнегреческих папирусов. В их распоряжении были литературные тексты III, если не IV столетия до н. э., быть может написанные при жизни Демосфена или Еврипида. Теперь наконец можно было изучить особенности раннего эллинистического письма. Даже те греческие тексты, которые донесла до нас традиция, стали известны в копиях, созданных на тысячу лет раньше старейших традиционных текстов. Среди них были отрывки произведений, приписываемых величайшим именам классической литературы и считавшихся безвозвратно утерянными. Чтобы опубликовать основную часть находок, потребовалось четыре толстых тома, и эти тома даже не смогли вместить все греческие папирусы, не говоря уже о других языках. И все же находки Петри среди погребального убранства Гуроба знаменовали собой лишь преддверие возрождения исчезнувшей было древней литературы.
Торговля папирусами
Папирусы возбудили не меньший интерес, чем в свое время черепки. И мы имеем поэтические произведения, которые можно сравнить с Гермесом Олимпийским и Возничим Дельфийским; и у нас есть новые истории, не уступающие историям, ставшим известными благодаря раскопкам Трои, Микен и Крита.
Фредерик Дж. КеньонФредерик Дж. Кеньон служил младшим помощником в Британском музее уже несколько месяцев, когда в январе 1890 г. его внезапно пригласили в хранилище рукописей. Перед ним стоял стол, на котором лежали папирусные свитки. Папирусы были только что раскрыты опытным техническим специалистом. Что он мог сказать о них? С первого взгляда материал казался совершенно незнакомым. Скоропись, хотя и явно греческая, была необычной и почти совершенно неразборчивой. Кеньон решил, что некоторые из свитков могли быть исторического содержания, другие, вероятно, были литературными произведениями. Кеньон сумел произвести должное впечатление на своих руководителей, и они передали ему свитки. На следующий год — одновременно с книгой Сейса и Махаффи "Папирусы Флиндерса Петри" — Кеньон опубликовал их. И этот год, 1891-й, стал annus mirabilis (годом чудес) папирологии. В то время как рукописи Петри, составлявшие покровы мумий, были слишком коротки для того, чтобы полностью восстановить античную трагедию, папирусы Британского музея дали миру почти целые произведения.
Список литературных открытий возглавляют четыре текста, изданные музеем в течение 1891–1897 гг. Это были "Афинская полития" Аристотеля, "Мимы" Герода (Геронда), поэмы Вакхилида и новые речи Гиперида.
Как только трактат Аристотеля был опубликован, его возможный источник возбудил огромное любопытство. Неужели какой-то счастливчик откопал старую библиотеку?
Однако, кроме слухов, не было никаких сведений, а служащие Британского музея отказывались говорить об источнике текстов. Они заявляли, что "не надо ждать ответа или требовать его… Вполне вероятно, что из этого источника придет еще много текстов, и если это так, то руководство Британского музея поступит в высшей степени недальновидно, открыв этот возможный источник будущих сокровищ". Естественно, эта таинственность раздражала многих, и не в последнюю очередь египетскую Службу древностей в Каире. Она также в избытке порождала различные подозрения. Однако, вне всякого сомнения, служащие Британского музея имели все основания к тому, чтобы хранить упорное молчание. Должны были пройти годы, прежде чем можно было обнародовать факты. Сделал это Эрнст Альфред Томпсон Уоллис Бадж, выдающийся ориенталист, многие годы связанный с музеем, в котором он состоял хранителем отдела египетских и ассирийских древностей.
Уоллис Бадж, которого Британский музей раз шестнадцать направлял на Ближний Восток для покупки рукописей, умел заключить выгодную сделку и, как правило, весьма свободно толковал букву закона, регулирующего вывоз древностей. Вследствие этого он испортил отношения не только со Службой древностей в Египте, руководимой французами. Турецкие власти в Месопотамии, так же как и британские чиновники, управляющие Египтом, по слухам, с неодобрением смотрели на его деятельность. Но "все делали это", а Бадж более изобретательно и успешно, чем другие. Он умел находить общий язык с местными жителями и, когда возникала необходимость избежать нежелательных контактов с бдительными чиновниками, вполне мог рассчитывать на какого-нибудь Ахмеда в Египте или не менее хитроумного Хасана в Месопотамии. И всегда находилось несколько высокопоставленных особ, готовых помочь ему выбраться из затруднительного положения или миновать западню.
У него было много врагов, особенно среди других агентов и представителей соперничающих европейских организаций, не исключая его сограждан — англичан. Завидуя его успехам, они в любой момент могли донести на него властям и обвинили его также в тайном соглашении со Службой древностей, в получении крупных барышей и бесстыдной эксплуатации невежества местных жителей. На последнее обвинение он находчиво ответил: "Это результат явной недооценки местных жителей, которые, как хорошо известно всем, кто имел с ними дело, весьма сообразительны в защите своих интересов. Правда заключается в том, что они пытались обращаться со мной так, как они это делают со всеми, а когда убеждались, что это не приносит успеха, они меняли свои планы и начинали доверять мне".
Бадж, как было правильно сказано, имел за всю свою жизнь только одну страсть, и этой страстью был Британский музей. Бадж был в большой степени движим тем же пылом, той же дерзновенной, обаятельной предприимчивостью и той же любовью к словесности, что и энтузиасты эпохи Возрождения. Подобно величайшим из гуманистов, он был и филологом, и путешественником, и дипломатом. В нем было также что-то от человека Елизаветинской эпохи с его разносторонностью и жизнелюбием. Грубоватый, непостоянный, первоклассный рассказчик, полный энергии, нетерпимый к притворству и праздности, обладавший внушительной комплекцией, он был неповторимой личностью среди людей науки. В компании своим коллегам-ученым Бадж предпочитал солдат и деловых людей, и, хотя он добился выдающегося положения в востоковедческом языкознании, ему суждено было стать ученым — искателем приключений в полном смысле этого слова.
Бадж родился в 1857 г. в Корнуолле. Его предки издавна служили в Ост-Индской компании, и его детство было наполнено скорее рассказами о Востоке, чем воспитанием вкуса к классике. Когда ему еще не было двадцати, он по собственной инициативе занялся древнееврейским, для того чтобы изучить Книгу Царств в оригинале. Когда Джордж Смит, пионер изучения месопотамских текстов, прочел свой знаменитый доклад об ассирийском описании Всемирного потопа (основанный на клинописных табличках, найденных в Ниневии), который глубоко повлиял на развитие науки о Ветхом Завете, молодой Бадж был буквально потрясен. Его познакомили с доктором Самюэлем Берчем, в то время ведущим ориенталистом Британского музея, и с этого момента путь Баджа был предопределен. Берч позволил ему скопировать несколько ассирийских текстов, хранящихся в музее, заинтересовал подающим надежды ассириологом Гладстона и позаботился о том, чтобы Баджу была предоставлена в Кембридже стипендия студента-заочника. Вслед за тем Бадж получил стипендию от колледжа Христа и несколько академических премий. Будучи еще студентом, в возрасте двадцати одного года, Бадж написал свою первую книгу "Ассирийские заклинания", в которой рассматривались магические тексты. Через несколько месяцев за ней последовала другая. Профессор Баджа вначале с неодобрением отнесся к публикации еще не оперившегося юнца, но вскоре признал мастерство молодого человека в интерпретации клинописи. Эти книги были только началом в последовавшем за ними длинном списке трудов. Действительно, их поток был столь обилен, что Бадж, вполне возможно, превзошел в смысле количества некоторых из самых плодовитых авторов популярной беллетристики. В конце концов у него набралось что-то около ста тридцати работ, перечень которых занял в "Кто есть кто" вместе с биографической справкой об авторе целую страницу, образовав самую обширную статью в этом томе.
Несмотря на такую плодотворную литературную деятельность, которой хватило бы на несколько человек, Бадж находил время для проведения многочисленных раскопок в Месопотамии, Египте и Судане. Он действовал с присущей ему энергией, почти полностью игнорируя при этом научную методику раскопок. В 1883 г. по рекомендации Гладстона он был направлен в восточный отдел Британского музея. Его продвижение было быстрым, несмотря на то что зависть некоего коллеги заставила его до поры до времени отказаться от ассириологии. Но он так же быстро освоился и с египтологией, избрав своей специальностью изучение иератических текстов. К 1893 г. он стал главой отдела, которым успешно руководил вплоть до ухода на пенсию в 1924 г.
Бадж внес выдающийся вклад в египетскую археологию, когда в 1887 г. сумел, руководствуясь смутными слухами, найти клинописные таблички, выкопанные, как предполагалось, какой-то крестьянкой в Верхнем Египте. Благодаря своим познаниям в ассириологии он, наперекор всеобщему мнению, убедительно доказал, что эти таблички были подлинными записями, представляющими собой переписку между фараонами Египта и чужеземными властителями или вассалами во II тысячелетии до н. э. Верный своему обычаю, он немедленно организовал покупку восьмидесяти двух бесценных глиняных документов из Тель-эль-Амарны для Британского музея.
Годом позже, в декабре 1888-го, Бадж не спеша ехал местным поездом, направляясь вверх по течению Нила в Асьют и останавливаясь по дороге в разных селениях, в том числе в Маллави, примерно в 185 милях к югу от Каира, раннехристианском центре, где в предыдущем году он приобрел коптские и греческие "магические" папирусы. На этот раз он решил попытаться выяснить у местных жителей источник этих религиозных текстов. Его переправили через реку и привели к невысокой холмистой гряде, где он увидел много прекрасных высеченных в скалах древних гробниц эпохи поздних фараонов (XXVI династии). На одном из склонов холма ему показали два ряда гробниц римско-византийской эпохи, по-видимому IV или V в. Из этих гробниц в дополнение к "магическим" папирусам было извлечено большое количество мумий. Бадж сразу обратил внимание на нижний ярус гробниц, которые остались нетронутыми, так как "огромные кучи камней и песка преграждали доступ к ним". Он питал определенные надежды на то, что в этих гробницах содержатся ценные древности.
Бадж был здесь только проездом. Он не имел ни времени, ни возможности вести раскопки. Да и снаряжения и разрешения на раскопки у него тоже не было. Кроме того, он не мог не признать, что права первооткрывателей принадлежат местным жителям — коптам, которые привели его на это место. Он предложил, чтобы они получили разрешение от Службы древностей на вскрытие гробниц. Бадж писал в своей автобиографии: "Они наотрез отказались сделать это, объяснив, что не доверяют этому учреждению!" Из сказанного можно сделать вывод — хотя Бадж и хранит об этом молчание. — что они боялись, как бы оповещение Службы древностей не привело к появлению других людей — может быть, профессиональных археологов или даже конкурентов-торговцев. К тому же Службе древностей было дано право задерживать наиболее ценные предметы, объявив их национальным достоянием.
Законные требования египетских властей, казалось, совершенно не волновали Баджа. Вместо этого он находит решение, устраивающее и его, и коптов: они начинают расчистку подступов к гробницам и проникают в них, а он обещает выкупить половину всех находок, обнаруженных ими в этих скалах. Если же затея не принесет ничего, достойного внимания, он обязуется оплатить пятьдесят процентов расходов на расчистку песка и камней, преграждающих доступ к гробницам. Заключив джентльменское соглашение, Бадж отправился дальше. Однако мысль о затеянных им раскопках не давала ему покоя. Правильно ли он сделал, доверившись своей интуиции? Довольно долго его местные компаньоны не могли сообщить ему ничего утешительного. Они решили отложить все операции по расчистке до лета, хотя в это время все археологические работы обычно прекращаются. Но они чувствовали, что знойное, расслабляющее время года как нельзя более подходит для успешного выполнения их задачи, так как "сильная жара обычно парализовала энергию инспекторов Службы древностей и содержимое гробниц оставалось на произвол судьбы" [10].
В сентябре Бадж получил известие, что в гробницы наконец сделан проход. Но сообщение местных землекопов сопровождалось ставшим уже привычным для археологии Ближнего Востока досадным рефреном: в гробницах успели побывать до них — правда, не в нынешние времена. Грабители безжалостно обчистили гробницы еще в древности, оставив явные признаки своего набега на мумии, которые были бесцеремонно разломаны на куски и разбросаны повсюду. Копты написали, что никаких папирусов до сих пор найти не удалось. Однако поиски продолжались, и в ноябре 1888 г. Бадж получил известие, что в одном из раскрашенных ящиков было обнаружено несколько свитков значительной длины.
Бадж договорился с коптами, что они встретят его, когда его корабль, направлявшийся через Индийский океан и Красное море, в апреле 1889 г. прибудет в Порт-Саид. Здесь, в соответствии с планом, Бадж и его партнеры встретились. "Мы обсудили, — рассказывает Бадж, — покупку всех этих папирусов, и они назвали свою цену. Папирусы должным образом были доставлены в Англию, и попечители Британского музея приобрели их. Немедленно некоторые любители совать нос в чужие дела обвинили меня в напрасной трате средств музея на покупку папирусов за "безрассудно большую цену", а другие заявили, что я обманул "бедных туземцев" и ограбил их, заплатив за папирусы меньше, чем они стоили. На самом деле местные жители получили больше, чем просили, и были полностью удовлетворены. Они поддерживали со мной деловые отношения по крайней мере в течение еще двадцати лет, пока у них оставалось хоть что-нибудь, что можно было продать".
Копты из Маллави поддерживали деловые отношения и с другими людьми. Когда Фредерик Кеньон принялся за расшифровку и переписку текстов, он обнаружил, что несколько бесценных отрывков "Афинской политии", главной находки из всего числа папирусов, отсутствуют. Но даже если копты вели честную игру с Баджем, никому, конечно, не суждено узнать, какие именно тексты они нашли в этих скальных гробницах, — сами местные жители не могли прочесть их. Точно так же никто не смог бы с уверенностью сказать, какие тексты были извлечены из этих гробниц или же как именно они были найдены. И все же музей имел все основания быть довольным результатами третьей "закупочной миссии" Баджа 1888–1889 гг. Подробный перечень, представленный на рассмотрение попечителям, среди прочего включал в себя: двести десять клинописных табличек и фрагментов из Куюнджика (Ниневии); тысячу пятьсот табличек и сорок девять круглых печатей из Абу-Хаббы и Дера в Месопотамии; три свитка папируса, исписанных с обеих сторон греческими письменами (на оборотной стороне оказалась копия произведения Аристотеля); различные свитки папируса, содержащие части "Илиады", магические тексты и т. д.; три иероглифических папируса и пятьдесят две арабские и древнесирийские рукописи из Мосула и его окрестностей.
Когда Бадж в соответствии с инструкциями Британского музея на следующий год вернулся в Египет, чтобы начать поиски отсутствующих фрагментов трактата Аристотеля, весь Египет бурлил, взбудораженный новостью об этом выдающемся открытии. Служба древностей была разгневана тем, что еще одно сокровище ускользнуло у нее из рук. И хотя Британский музей воздерживался от объяснений того, каким образом он стал обладателем "литературной находки века", официальные лица в Египте не сомневались, что Уоллис Бадж имеет какое-то отношение к этому делу. Они не преминули выразить ему свое неудовольствие и установили тщательное наблюдение за его деятельностью.
Некоторые коллеги Баджа, не так хорошо информированные, высказывали другие мнения. К своему удивлению, Бадж встретился с джентльменами, которые настаивали на том, что это они идентифицировали греческий текст утерянного произведения. "Другие заявляли, что нашли папирус сами и продали его местным жителям, которые продали его мне, и не один археолог лично уверял меня, что сам вручил папирус попечителям". Вариации этих историй время от времени продолжают всплывать в литературе, но, с тех пор как Бадж нарушил молчание, а Кеньон и Британский музей подтвердили его роль в этом приобретении, им можно не придавать ни малейшего значения.
В попытках обнаружить недостающие фрагменты Бадж предпринял длительные поиски в деревнях по обоим берегам Нила. Наконец его привели к одному человеку в Асьюте, с которым он быстро пришел к соглашению. Оставалась проблема вывоза фрагментов из страны. О том, чтобы Служба древностей дала разрешение на вывоз, не могло быть и речи. Кроме того, Бадж находился под неусыпным наблюдением. Однако он недолго искал выход из положения. "В конце концов я купил набор прекрасных фотографий Египта, сделанных синьором Беато, которые могли быть использованы для выставки в египетской галерее Британского музея. Разрезав (!) папирус на части, я поместил их между фотографиями, упаковал в несколько ярких бумажных оберток мадам Беато и отправил пакет в Лондон заказной бандеролью". Последовало несколько недель напряженного ожидания. И когда Бадж был уже готов отправиться в Месопотамию, он получил телеграмму, в которой ему сообщали о прибытии пакета и с невинным видом подтверждали, что его "содержимое в точности соответствовало тому, что ожидали получить".
В ноябре 1896 г., когда Бадж встретился со своими местными коллегами в Каире, чтобы получить несколько греческих рукописей, к нему явился некий человек из Меира. Он не принимал участия в предыдущих операциях Баджа, но был хорошо осведомлен о репутации англичанина и заявил, что у него есть для продажи папирусный свиток. Вот как описывает это Бадж: "Он открыл коробку и извлек из нее свиток светлого папируса со многими оторванными от него фрагментами, и, когда конец папируса был развернут, я увидел на нем несколько колонок, написанных греческим унциальным письмом. Я не настолько знал греческую литературу, чтобы идентифицировать текст, но все же достаточно для того, чтобы понять, что передо мной литературное произведение и что оно написано в конце II в. Было ясно, что я должен сделать все от меня зависящее, чтобы приобрести его для Британского музея. Но я и виду не подал, что документ меня интересует, и мы оба продолжали разговаривать о чем угодно, кроме папируса, потягивали кофе и покуривали кальян, пока гость не стал увязывать свою коробку, чтобы уйти. Тогда, сделав вид, что я вспомнил о папирусе в последнюю минуту, я вновь заговорил о нем и попросил человека назвать свою цену. Когда я начал с ним торговаться, он оказался "твердым" и "сухим", как говорят местные жители, и по сравнению с тем, сколько я платил за греческие папирусы в предыдущие годы, его цена казалась просто абсурдной".
Во время последующего разговора Бадж должен был пустить в ход все ловкие приемы бывалого торговца на восточном базаре. Он решил, что не уйдет, пока не гарантирует себе получение этого папируса. Но он не хотел, чтобы теперешний владелец папируса понял это. У Баджа не было при себе требуемой суммы, и он должен был убедиться, стоит ли папирус этих денег, прежде чем ударить по рукам. Поэтому он сначала попросил у владельца разрешения скопировать несколько строк, чтобы отправить их в Лондон и получить согласие на выплату требуемой суммы. Хитрость заключалась в том, что он, дожидаясь ответа из музея, как бы закреплял за собой право на приобретение этого манускрипта. Бадж продолжал свои попытки завоевать доверие этого человека, поглощая вместе с ним одну за другой бесконечные чашечки кофе — общепринятое средство "смазывания" социальных контактов на Ближнем Востоке. В ходе разговора он выяснил, что свиток был найден в саркофаге, извлеченном из большой гробницы, в одном из многих захоронений в холме, расположенном близ Меира. Папирус, по словам человека, лежал между ногой мумии и стенкой саркофага. Затем египтянин стал рассказывать о других предметах, найденных им в гробнице, часть из которых он, по-видимому, прихватил с собой для распродажи на рынке древностей. Бадж знал, "что лучшим способом облегчить заключение какой-либо трудной сделки является вручение суммы за какую-нибудь другую покупку наличными", и несколько предметов тут же перекочевало из рук в руки. "Вид денег произвел на египтянина должный эффект", и теперь можно было возобновить переговоры о более важном объекте — папирусе. Наконец договорились о цене, но Бадж вынужден был признаться, что не сможет уплатить до тех пор, пока не будет уполномочен на это музеем.
Теперь, однако, представление устроил египтянин. Рассердившись, он собрал свои вещи и был готов уйти. Бадж испугался. "Я почувствовал, — писал он, — что с моей стороны было бы громадной ошибкой позволить ему уйти, поэтому я сказал, что мог бы выложить приличную сумму из своего кармана в качестве залога, при условии, что он отдаст папирус на сохранение моему местному другу в Каире до моего возвращения из Верхнего Египта… Он согласился… После этого я отправил копию нескольких строк греческого текста директору библиотеки в Лондон и запросил инструкций…"
В ожидании ответа Бадж совершил обычную поездку по Нилу, чтобы посмотреть, в каком состоянии другие его предприятия. Вернувшись в Каир, он нашел письмо из музея с просьбой выкупить папирус, который, как подразумевалось в сообщении, обладал значительной ценностью. Но возникли новые осложнения. Человек из Меира показал фрагменты другим экспертам, один из которых решил, что он узнал в них утерянные поэмы древнего классического автора. Один английский ученый, без определенной цели живший тогда в Каире, подтвердил это и стал похваляться повсюду в городе своим необычайным открытием. Огласка повысила стоимость и привлекательность свитка, который стал теперь желанным для многих. Его владелец понял, что даже та "абсурдная" сумма, которую он запросил у Баджа, была чересчур скромной, и забрал свиток у друга Баджа, на чье попечение он был оставлен.
Фрагмент из папируса с текстом Вакхилида, написанного около середины I в. до н. э.
В этот момент Бадж вновь появился на сцене, готовый заплатить то, что был должен, и забрать папирус. Вместо этого человек из Меира настаивал на возвращении задатка, заявляя, что он более не хочет иметь дело с Баджем. К тому же он намекнул, что Служба древностей якобы знает о существовании манускрипта и запугивает его. Бадж был вне себя. Он не мог подвести Британский музей. Он спорил, льстил, умолял. Как мог этот человек только подумать о том, чтобы не продавать ему свиток, когда фактически он уже продал его?! Бадж был неумолим, и в конце концов его настойчивость заставила египтянина отступить: "Просидев в его доме вместе с ним два дня и две ночи, к вечеру третьего дня мы пришли к соглашению, и я вернулся в Каир с папирусом". Нам неизвестно, была ли при этом заплачена более высокая цена, чем было оговорено вначале.
Опасная операция по вывозу манускрипта из страны под самым носом у Службы древностей, минуя железнодорожную охрану, морскую милицию, таможенных чиновников, переносит нас в знакомую область приключений. Для Баджа к этому времени подобного рода международная авантюра была более или менее обычным делом, одной из многих операций, осуществленных им в промежутках между такими занятиями, как написание книг о коптской церкви, о словаре иератических текстов, о религии Древнего Египта и планирование новой выставки в вавилонском зале Британского музея. Но в спокойном сообщении Баджа о результатах этой миссии проскальзывает нотка гордости: "Двумя неделями позже я лично вручил папирус директору библиотеки… Папирус содержал сорок колонок текста од Вакхилида, великого лирического поэта, творившего в первой половине V в. до н. э. Эксперты пришли к выводу, что копия была сделана в середине I в. до н. э. Сэр Ричард Джебб (выдающийся исследователь классической литературы) сказал мне, что, по его мнению, это приобретение стоит всех моих других приобретений для музея, вместе взятых! Произведения Вакхилида были до того момента почти совершенно неизвестны, за исключением нескольких разрозненных фрагментов".
Жемчужины в кучах мусора
А не будет ли целесообразнее и в конечном счете, может быть, экономичнее отправиться прямо к источнику и самому откапывать папирусы, вместо того чтобы покупать их из вторых или третьих рук, поощряя тем самым незаконную торговлю?
Артур С. ХантАрхеологические кампании Петри в Танисе и Гуробе уже дали нам первое представление о научных раскопках папирусов. Но как бы ни были замечательны находки Петри, они были скорее делом случая, а не результатом хорошо продуманного поиска. Для этого блестящего археолога папирусы вряд ли были чем-то большим, нежели приятными, но все же второстепенными результатами раскопок. И если мы не польстили чрезвычайно плодотворным махинациям Уоллиса Баджа, причислив и их к "археологии", то ни одним опытным археологом до того времени еще не предпринималась экспедиция с определенной целью поисков древних текстов, скрытых в песках Египта.
Всему этому суждено было измениться с появлением в Египте двух молодых оксфордских ученых, Бернарда Пайна Гренфелла и Артура Сёрриджа Ханта, которые четверть века возглавляли научную папирологию. Их работы в Файюме, Оксиринхе и дома, в Оксфорде, открыли новую эру в возрождении классических манускриптов, так как они разработали специальный метод для поисков папирусов. Друзья в равной мере были хорошими археологами и дешифровщиками. В 1897 г., когда им обоим было еще по двадцать с небольшим лет, они открыли для мира так называемые "Логии" — самое древнее к тому времени свидетельство о жизни Христа.
То, что принесло Гренфеллу и Ханту всемирную известность, начиналось весьма скромно. Инициативу проявил Фонд (позднее Общество) исследования Египта — организация, которая до этого в основном поддерживала археологические исследования Египта эпохи фараонов. Руководителям Фонда надоело в поисках утерянных рукописей полагаться только на слепой случай, особенно учитывая публикации Британского музея в 1891 г. и достижения Флиндерса Петри. Призывало к немедленным действиям также и то обстоятельство, что в 1890 г. местные жители предприняли в широких масштабах поиск папирусов, главным образом в Сокнопэи-Незус, на самой западной окраине Файюма, в результате чего каирский рынок был буквально наводнен различными материалами нелитературного характера.
В действиях Фонда исследования Египта не было ничего необычного или в корне нового. Вызывает удивление только то, что западные организации и ученые так долго не могли прийти к этому. Возможные участки раскопок быстро сокращались: в Египте стремительно расширялась зона земледелия, а участники самодеятельных раскопок истребляли в гигантских масштабах ценные информативные данные и вещественные материалы. Даже когда феллахи узнали о доходе, который можно было извлечь из папирусов, их грубые методы раскопок приводили к уничтожению половины обнаруженных хрупких свитков. Бесцеремонные торговцы и охотники за сувенирами также внесли свою лепту в разрушение и уничтожение рукописей.
Все эти соображения тяготели над Фондом, когда он решил субсидировать проект археологического поиска папирусов. Для раскопок был, естественно, избран Файюм, где прославился Флиндерс Петри. Файюм пользовался репутацией места, давшего огромное количество текстов, к тому же ему угрожало намечавшееся в ближайшем будущем расширение обрабатываемых земель. Фонд получил разрешение исследовать северо-восточный район, и к концу 1895 г. экспедиция была готова начать работы. Для руководства предварительными раскопками были избраны Дэвид Джордж Хогарт и двадцатипятилетний Бернард Пайн Гренфелл. Хогарт специализировался на Юго-Западной Азии, в частности на хеттских надписях, и вскоре оставил папирологию. (Позднее он руководил знаменитыми раскопками в Каркемише, где ему помогали Т. Э. Лоуренс и Леонард Вулли.)
Несмотря на свою молодость, Гренфелл был вполне подготовлен к тому, чтобы взять на себя руководство. Он с отличием сдал экзамены в Оксфорде и собирался специализироваться в экономике, когда публикация "Афинской политии" Аристотеля привлекла его внимание к греческим папирусам. Написав очерк о них, он получил стипендию на два года для поездки за границу и зимой 1893/94 г. принял участие в раскопках в Коптосе, в Верхнем Египте, под руководством Флиндерса Петри. Он начал учить арабский язык и присутствовал при покупке Петри греческого папируса нелитературного содержания, который впоследствии предоставил ему возможность продемонстрировать свое искусство издателя. Со временем он самостоятельно приобрел недостающую часть этого папируса и ряд других текстов.
С самого начала работ в Файюме Гренфелл стремился включить в группу исследователей своего друга со студенческих лет Артура Сёрриджа Ханта, который был младше его на два года. Хант, так же как и Гренфелл, по окончании Оксфорда получил статус стипендиата и изучал латинские рукописи в испанских библиотеках, но Гренфелл сумел убедить его присоединиться к нему в Египте. Таким образом, как сказал один из панегиристов Ханта, "потеря для латинской палеографии превратилась в приобретение для папирологии".
В январе 1896 г. Хант последовал за Гренфеллом в Файюм, положив начало союзу, который один их немецкий коллега назвал schopferische Einheit — творческий союз. В 1926 г. в некрологе своему другу Хант трогательно писал об их отношениях: "Наверное, не часто складывалось более тесное и гармоничное научное сотрудничество между людьми, чем то, каким было наше в 1896–1908 гг. Зимой в нашем египетском лагере мы редко видели еще какого-нибудь европейца: летом большую часть издательской работы мы делали в одной комнате. Мы обсуждали проблемы, возникающие при раскопках, трудности дешифровки и интерпретации, обменивались для сравнения копиями папирусов; то, что писал один, проверял другой". Собратья по науке прозвали их "оксфордскими Диоскурами" и "созвездием Близнецов папирологии". И в самом деле, определить индивидуальный вклад каждого из них в общую работу невозможно. Призыв Ханта на военную службу во время Первой мировой войны или затяжные болезни Гренфелла не вносили существенных изменений в их работу и, разумеется, нисколько не приуменьшали ее тщательности и выдающегося мастерства. Их совместные труды, особенно по дешифровке, идентификации, изданию и переводу находок, достигли редкого совершенства и высшей степени точности.
Они были совсем несхожи по интеллекту и темпераменту, но именно в силу этого гармонично дополняли и обогащали друг друга. Результатом была величайшая компетентность. Гренфелл был открытым, пылким, отзывчивым человеком. В обществе, в колледже, на кафедре, во время научных встреч он чувствовал себя в своей стихии. Он никогда не мог отказать, если его приглашали выступить с речью, и его таланты быстро получили всеобщее признание. Но в том, что касалось критического подхода, внимательного взвешивания доказательств и доводов, тщательной дешифровки, палеографического микроанализа и проверки источников, Хант, по-видимому, превосходил Гренфелла. Во все, за что бы ни брался Хант, он привносил сдержанную рассудительность, свойственную основательной, трезвой, трудолюбивой и глубокой учености. Это был малообщительный и несколько застенчивый, но очень деликатный и добрый человек. Потомок старинной эссекской семьи, он был благовоспитанным англосаксом, верным своему обществу и своей церкви, преданным высоким идеалам и скромным. Те, кому довелось узнать его ближе, находили, что это человек, нежно любящий близких, с довольно легким характером и весьма остроумный версификатор. Один из друзей вспоминал о нем как об "идеальном ученом, прекрасном обликом и манерами".
Кампания 1895/96 г. в Файюме была организована в небольших масштабах; целью ее было определение возможности систематических раскопок, и она послужила отличной школой для молодых ученых. В древнем Каранисе, где впоследствии производила раскопки экспедиция Мичиганского университета, и в Вакхии они имели достаточно возможностей оценить важность поселений городского типа для их отрасли археологии. Египтологи, интересовавшиеся храмами и гробницами, вообще-то с пренебрежением относились к невзрачным "жилым" районам, считая их малоперспективными. В густонаселенном Египте большая часть поселений была обитаема постоянно, по крайней мере до арабского вторжения, и было маловероятным, чтобы от эпохи первых фараонов уцелело что-либо значительное и ценное.
Однако в отношении классических папирусов птолемеевского, римского и византийского периодов положение было совершенно иным. Эти городища, особенно находящиеся на краю пустыни, могли бы оказаться самыми богатыми хранилищами. Никто, правда, не знал, каковы наиболее благоприятные условия для сохранения и обнаружения папирусов на этих объектах. Случилось, однако, так, что в Файюме археологи познакомились со всеми вероятными видами сохранения папирусов. Для того времени одним из излюбленных объектов для искателей папирусов был всякий дом, покинутый внезапно, но сохранившийся более или менее нетронутым. Здесь, спрятанные в кувшинах или каким-либо другим образом, могли сохраниться неповрежденные свитки. К сожалению, таких домов было мало, и вероятность сделать богатые находки в потайном погребе, как произошло у Петри в Танисе, была ничтожно мала.
Вначале Гренфелл и Хант избрали объектом поисков целые свитки и поэтому сосредоточили внимание на усадьбах. Столько же внимания уделялось и могилам, поскольку любая из них могла быть местом упокоения греческого колониста, похороненного вместе с неведомым шедевром. Имелись также папирусные погребальные ящики на ранних птолемеевских кладбищах, причем принадлежали они к такому времени, что вполне могли содержать фрагменты, относящиеся к величайшему периоду греческой литературы. Возможно, из-за этой ориентации на птолемеевский период первая файюмская экспедиция была не столь плодотворной, какой она могла быть. Было обнаружено довольно много документов, но, по словам Ханта, "результаты, хотя и были ободряющими, отнюдь не произвели большого впечатления… Однако мы приобрели полезный опыт, который пригодился нам в будущем, а результаты оказались достаточными, чтобы оправдать новую попытку".
Таким образом, когда Гренфелл и Хант отправились в следующую экспедицию зимой 1896/97 г., надежды были не слишком радужными. Местные жители вполне могли к этому времени уже разграбить всё подчистую. Не слишком ли запоздали ученые?
Фонд исследования Египта снова финансировал раскопки. Так как Файюм на этот раз не вполне оправдал ожидания, было решено обратиться за разрешением производить раскопки где-нибудь в другом месте. Выбор пал на границу пустыни на западе Нильской долины, где физические и климатические условия казались благоприятными для сохранения папирусов. Здесь также существовали некогда многочисленные городские поселения греков. Департамент древностей разрешил производить раскопки в пределах девяностомильной [11]полосы непосредственно к югу от Файюма и до Минии. Решение сконцентрировать усилия на крайнем юге выделенной территории принадлежало Гренфеллу, и его археологическое чутье оказалось безошибочным: он выбрал городище древнего Оксиринха, в то время частично занятое группой из нескольких хижин, носящей название Бехнеса (Футух-эль-Бахнаса).
Столица этого древнего района, или нома, расположенная приблизительно в 120 милях к югу от Каира, у Бахр-Юсуфа (западного рукава Нила, орошающего также Файюм), никогда не привлекала путешественников. Там нет ни величественных зданий, ни свидетельств монументомании Рамсесов, ни высеченных в скалах мавзолеев, ни разрушенных дворцов царей-вероотступников. Интенсивные раскопки, проведенные здесь со времен Гренфелла и Ханта, усугубили мрачный вид останков покинутого города, создавая впечатление, будто упадок его был довершен окопной войной и минированием. Но именно здесь был открыт папирологический Клондайк. Как сумел Гренфелл предугадать все это?
Оксиринх был назван греками по имени рыбы oxyrhynchus, которую местные жители считали священной, так же как жители Файюма считали священными крокодилов. Название дало Гренфеллу указание на то, что здесь жили греки. Кроме этого, об Оксиринхе было известно очень мало. Он не играл какой-либо роли в истории, но, судя по размерам территории, занятой руинами, и по тому, что Оксиринх обладал статусом провинциального центра, он должен был иметь и значительное население с довольно высоким культурным уровнем. Представители его зажиточных эллинизированных высших кругов могли в свое время владеть греческими литературными текстами, возможно даже целыми библиотеками.
Был и другой стимул для работ в этом месте. Ни один из папирусов, появлявшихся до тех пор на рынке древностей, не вел свое происхождение из Оксиринха. Это могло указывать либо на то, что там не было папирусов, либо на то, что за недавнее время феллахи не совершали набегов на древности этого города. Последнее предположение вполне правдоподобно: немногие оставшиеся там обитатели подвергались постоянной опасности со стороны бедуинов-грабителей из прилегающей пустыни и едва ли думали о чем-нибудь другом, кроме бегства отсюда. Полуразрушенные остатки четырех красивых мечетей указывали на сравнительно недавний исход большей части обитателей Бехнесы.
Оксиринх привлекал также тем, что он был оплотом раннего христианства и в нем было много монастырей (с десятью тысячами монахов и двенадцатью тысячами монахинь) и церквей. Это было одно из немногих имевшихся об этом месте сведений. А раз так, то не могли ли сохраниться здесь фрагменты христианских текстов на греческом языке, более ранние, чем старейшие из известных в то время рукописей Нового Завета? "Быстрое распространение христианства в районе Оксиринха сразу после официального признания новой религии (в IV в.), — писал Гренфелл, — указывало на то, что в предшествующие века гонений оно уже приобрело сильное влияние".
Ожиданиям Гренфелла суждено было сбыться в большей степени и быстрее, чем он когда-либо смел надеяться. Фонд исследования Египта решил, что Гренфелл и Хант должны присоединиться к Флиндерсу Петри в Оксиринхе. Петри намеревался исследовать древнее египетское кладбище, а Гренфелл и Хант занялись поисками зарытых папирусов. Однако после нескольких пробных раскопов Петри решил, что это место не обещает ему многого, и переместился в Десбашех, в 40 милях к северу. Гренфелл и Хант остались одни и впервые могли работать совершенно самостоятельно. Они начали с греко-римского кладбища, но не нашли ни одного из столь желанных покровов мумий или еще более редких погребальных свитков. Все было ясно: могила за могилой были давно уже разграблены, а несколько невскрытых могил находилось во влажной почве, которая конечно же разрушила, возможно, погребенные в ней папирусы.
Тем временем исследователей ожидали волнения другого рода. Бедуины имели обыкновение наносить в Оксиринх ночные визиты. Странствующие короли пустыни следовали своим естественным склонностям, которые, как они утверждали, были одобрены самим Создателем, чтобы добавить к их жалким средствам существования некую толику, заимствованную у чуть более богатых собратьев. Деревенские жители обычно робко покорялись, но однажды ночью грабители попытались проникнуть в хижину исследователей, находившуюся за пределами деревни. На этот раз, к удивлению и негодованию бедуинов, они были обстреляны местной охраной и спешно бежали.
После трех недель бесплодных раскопок на кладбище Гренфелл и Хант решили совершить атаку на "город". Как и все другие, они полагали, что папирусы, доставляемые феллахами, были найдены в основном в жилищах, а не на кладбищах, поэтому логично было исследовать древние дома Оксиринха. Однако первые впечатления были далеко не обнадеживающими. Гренфелл тщательно исследовал длину и ширину городища — приблизительно квадратная миля. Видны были только жалкие контуры нескольких бывших зданий. Вокруг них все представляло "сплошные развалины, в которые превратился город в результате тысячелетнего использования его в качестве источника камня и кирпичей". Здания были разрушены, и песок, казалось, едва ли скрывал что-нибудь существенное. Даже тщательные поиски, которые могли занять годы, вряд ли обнаружили бы папирусы. Оставались только холмы мусора — стены песка и отбросов высотой футов в семьдесят, пересекавшие вдоль и поперек город и его окрестности. Они содержали отходы столетий, если не тысячелетий.
Производить раскопки папирусов в мусоре казалось почти признанием поражения. Несмотря на значительное количество папирусов, полученных через феллахов с 1877 г., возможности, предоставляемые этими свалками, едва ли приходили на ум европейцам. Теперь, однако, Гренфеллу и Ханту предстояло показать, что холмы мусора были важнейшим источником древних текстов, и папирология пошла буквально по стопам полевой археологии.
Редко какой документ сохранялся неповрежденным. Многие материалы, с которыми обошлись так непочтительно, были разорваны или случайно обожжены, и только при определенных специфических обстоятельствах выброшенный таким образом папирус сохранялся от полного уничтожения. Там, куда добиралась вода, поднимавшаяся во время ежегодных разливов, папирус просто сгнивал. Особенности образования конкретного холма и его состав были решающими для сохранения исписанных листов или свитков. Во многих случаях, например, временная заброшенность соседнего поселения приводила к образованию сверху защитного слоя. Со временем Гренфелл и Хант научились определять вероятные места захоронения папирусов по стратиграфии рукотворных холмов. Один из перспективных видов наслоений, называемый местными жителями "афш", состоял из почвы, смешанной с соломой или ветвями, — в таком слое почти наверняка папирусы сохранялись на протяжении веков. Гренфеллу и Ханту это напоминало поиски золота: "Золотоискатели следуют кварцевой жиле, в то время как искатель папирусов должен придерживаться слоя или жилы афша…"
Как правило, папирусы обнаруживались чаще в более или менее горизонтально расположенном слое, а не рассеивались по всей толще холма. Кроме того, папирусы из различных слоев обычно относились к различным временным периодам; смежные слои скорее всего были близко связаны по времени. Холмы Оксиринха разделялись на три главные группы — римские, византийские и арабские, и их можно было отличить по расположению относительно городища. От более раннего, птолемеевского, периода не было обнаружено почти ничего.
Нужно было проложить траншеи, чтобы развернуть работы со сколько-нибудь серьезным размахом, а это требовало больших расходов времени и рабочей силы, что оксфордские исследователи могли себе позволить лишь в очень умеренных пределах. Кроме того, чтобы хрупкие тексты не пострадали или не исчезли под одеяниями землекопов, с последних нельзя было спускать глаз. Следовало также сортировать обрывки в соответствии с местом их нахождения, для того чтобы в дальнейшем облегчить соединение разорванных папирусов и определение их датировки и содержания. В Оксирин-хе, как и на многих других городищах, было скорее исключением, чем правилом, то, что папирусы выдерживали разрушительное воздействие времени и людей: в подавляющем большинстве мусорных куч не удалось вообще ничего обнаружить. Археологические раскопки совершенно непохожи на вскрытие набитого золотом банковского подвала. Романтическому воображению рисуются открывающиеся на каждом шагу сказочные сокровища, однако в действительности происходит скорее нечто совершенно противоположное. При раскопках в поисках папирусов, как и во всем остальном, признавался Гренфелл, "больше неудач, чем находок".
Тем не менее молодые ученые нашли, что жизнь в пустыне имеет "очарование, каким обладают лишь немногие другие поприща". Однако они не романтизировали ее трудности. Оба были англичанами, принадлежавшими к высшему классу, и ценили комфорт и чистоту. Но страстное увлечение античной литературой перенесло их в знойные песчаные пустыни Востока, где они "стояли целыми днями, полузадушенные и ослепленные особо едкой пылью древнего мусора, почти всегда смешанной с не менее раздражающим песком пустыни; пили воду, которую даже водопроводные станции лондонского Ист-Энда вряд ли рискнули бы поставлять своим потребителям, и непрерывно следили за рабочими, которые, как вы ни тешьте себя уверенностью в обратном, украдут, если только будут иметь возможность и решат, что игра стоит свеч".
11 января 1897 г. началось первое решительное наступление на свалки Оксиринха. Прохладным утром Гренфелл и Хант двинулись из своей хижины в сопровождении приблизительно семидесяти рабочих и мальчишек, которые были немедленно поставлены копать траншеи. Для раскопок был избран низкий холм около древнего храма, и почти тут же в большом количестве появились обрывки папирусов; некоторые из них были подозрительно длинными, почти целыми. Вначале были найдены материалы нелитературного характера, среди них частные письма, контракты и другие юридические документы. Но затем было обнаружено несколько фрагментов, отчетливо написанных унциальным письмом, свидетельствующим об их религиозном или литературном содержании.
Через несколько дней Хант начал сортировать папирусы. Он был немало удивлен, обнаружив среди клочков, собранных на второй день, греческое слово "сучок" (karphos), написанное унциальным письмом на поврежденном папирусе, содержащем около двадцати строчек. Измятый кусок, размерами менее 6x4 дюйма, казалось, был из записной книжки (листок был нумерован), составленной, как современная книга, из страниц, а не в виде свитка. Папирусная книга сама по себе была новинкой. Казалось, эта форма должна характеризовать ее как скромный документ нелитературного характера. Однако греческое слово karphos почти сразу напомнило Ханту хорошо известное место в Евангелиях о сучке и бревне (Мф. 7, 3–5; Лк. 6, 41). Внимательное чтение подтвердило предположение Ханта: это действительно был стих из Евангелия. Но на этом сюрпризы не кончились. Дальнейшее исследование обнаружило на листке восемь изречений, каждое из которых начиналось формулой: "Иисус сказал". Однако только три из них были идентичны в своей основе стихам в Новом Завете. Три изречения, приписываемые здесь Иисусу, были совершенно неизвестны, а два других были слишком серьезно повреждены, чтобы их можно было понять. Вот одно изречение, не имеющее новозаветной аналогии, которому суждено было всю жизнь вдохновлять Ханта (оно появляется в одном из его стихотворений); "Иисус сказал: где бы ни были двое, и вот с ними Бог, и где бы ни был один, Я говорю, Я с ним. Подними камень — и там ты найдешь Меня, рассеки дерево — и Я там".
Этот клочок, который стал затем известен под названием "Логии", был, пожалуй, самой сенсационной из числа сделанных за все времена находок столь скромного размера. Вызванные ею теологические дискуссии породили в последующие годы огромное количество статей и монографий. Прежде всего "Логии", или "Речения Иисуса", переписанные примерно в 200 г. н. э., отодвинули начало христианской истории почти на сто пятьдесят лет назад. До этого самыми ранними письменными свидетельствами жизни Христа были знаменитые Ватиканский и Синайский кодексы. И вот триста лет, отделяющие земную деятельность Христа от самого раннего из дошедших до нас упоминаний о нем, оказались внезапно сокращены наполовину.
Но больше всего умы людей занимало необычное содержание текста на этом листке. Три неизвестных изречения, приписываемые Иисусу, казались некоторым столь же достоверными, как и слова Иисуса в Евангелиях. Не представлен ли ими какой-нибудь утерянный популярный сборник, первоначально ходивший наравне с Евангелиями еще до того, быть может, как последние удостоились своего исключительного, канонического статуса? Или же "Логии" были остатком произведения более древнего, чем так называемые синоптические Евангелия? Не послужили ли они в дополнение к Марку источником Q (от нем. Quelle — источник, ключ) для Матфея и Луки? [12]Таково было предположение нескольких немецких ученых. Однако другие ученые усматривали в них близость к апокрифическим Евангелиям евреев и Петра или к Евангелию Двенадцати. Некоторые теологи под впечатлением, в частности, стиха, приведенного нами выше, утверждали, что здесь прослеживается менее живая, менее яркая традиция, чем традиция канонических Евангелий. Они усматривали в "Логиях" отголоски "философской интерпретации" учения Христа, провозглашающей существование "имманентного бога". Этот взгляд получил определенное подтверждение, когда Гренфелл и Хант в 1903 г. нашли в Оксиринхе еще один текст, относящийся к "Логиям". Тогда, быть может, "Логии" были пропитаны сектантским духом? Не были ли они еретическими?
Полемика продолжалась долгое время и оставалась незавершенной до тех пор, пока полвека спустя на берегах Нила — и снова в Верхнем Египте — не была сделана другая находка. Речь идет о находке утерянных гностических [13]книг, целой библиотеки, спрятанной в кувшинах в Хенобоскионе (Наг-Хаммади). На этот раз открытие было сделано местными жителями, так что за достоверность всех подробностей его нельзя поручиться. Это произошло вскоре после окончания Второй мировой войны, приблизительно в то же время, что и находка рукописей Мертвого моря, слава которой не совсем заслуженно затмила открытие в Наг-Хаммади. Когда же наконец удалось изучить коптские тексты и подготовить их научное издание, французский ученый-библеист А.-Ш. Пюэш обнаружил, что неканонические откровения Христа из "Логий" содержатся слово в слово в этой еретической литературе и, возможно, были заимствованы оттуда [14].
Установление еретического происхождения "Логии" могло, конечно, восприниматься как тяжкое потрясение. Однако тот аргумент, что не все слова Христа содержатся в Новом Завете и кое-какие высказывания, хотя бы частично, сохранились в других религиозных произведениях, до сих пор остается неопровергнутым.
Находка "Логии" стала триумфом систематических поисков греческих папирусов и привлекла всеобщее внимание к дальнейшим работам Гренфелла и Ханта. В глазах общества это было основанием археологии папирусов. И Гренфелл и Хант стали знаменитостями в ученом мире, осыпавшем их почестями. Через несколько месяцев после возвращения в Оксфорд они опубликовали научное издание "Речений Господа нашего" с факсимиле манускрипта. Фонд исследования Египта распространил брошюру, в которой оповещал о принятом решении создать греко-римское отделение исключительно для поисков в Египте греческих папирусов и их изучения. За этим последовала серия монографий, регулярно издаваемых Гренфеллом и Хантом, а к 1908 г. в Оксфорде была основана первая кафедра папирологии, которую возглавил Гренфелл. Впоследствии его сменил Хант.
Вот так "Логии" создали вокруг молодых ученых благоприятную атмосферу всеобщей симпатии и побудили их к дальнейшим усилиям. Предположение Гренфелла, что Оксиринх принесет христианские тексты, получило веское подтверждение. И в самом деле, на следующий день после находки фрагмента "Логий" Хант обнаружил лист из списка Евангелия от Матфея, также датируемый первыми десятилетиями III в. Столь ранняя дата означала, что эти отрывки были написаны до признания христианства в Римской империи. Гренфелл предполагал, что они являлись остатками христианской библиотеки, владелец которой, возможно, погиб при гонениях Диоклетиана, после чего от его книг постарались побыстрее избавиться.
В оставшееся время первой кампании в Оксиринхе Гренфелл и Хант решили производить работы быстрее и с большей интенсивностью. Количество рабочих было увеличено до ста десяти. Наиболее эффективной рабочей единицей считалась пара, состоящая из взрослого рабочего и мальчика; добыча каждой такой "команды" хранилась и упаковывалась отдельно. За исключением четырех опытных рабочих из Файюма, землекопы набирались на месте, и исследователи быстро поняли, как им повезло, что они имели дело с "неопытными" рабочими, не ведающими о рыночной цене античных находок. Несомненно, местные жители удивлялись нелепой страсти иностранцев к клочкам старой, грязной бумаги.
Рабочий день продолжался около одиннадцати часов, и под конец среди рабочих осталось больше подростков, чем взрослых мужчин, потому что ими было легче руководить и они были честнее. Казалось, вся молодежь окрестностей требовала принять их на работу. "Некоторые из претендентов были столь малы, что, казалось, совсем недавно оставили свои колыбели, если только им была ведома такая немыслимая роскошь". Гренфелл тепло вспоминает одного такого сорванца, едва восьми лет от роду, но самого проворного из всех, "каким-то чудом умевшего различать наиболее подходящие слои почвы и находить в них папирусы".
Укрепив силы для нового наступления на тот же холм, где были найдены "Логии", Гренфелл и Хант двинули теперь фалангу рабочих на его северную часть. И то, что началось как скромный ручеек, превратилось в настоящий поток. Поскольку сортировка, упаковка и транспортировка требовали осторожности и аккуратности, исследователи оказались в счастливом затруднении, не зная, как справиться с нежданными богатствами.
Вскоре у них кончились упаковочные ящики. В конце концов пришлось выделить двух рабочих, которые целый день занимались только изготовлением жестяных ящиков для хранения папирусов. Но и при этой подмоге через десять дней они едва справлялись с наплывом материала. И так продолжалось почти постоянно. Однако находки в этих отвалах составляли лишь крупицу того, что в них было когда-то: столь многое было безнадежно уничтожено, разорвано или сожжено. Как правило, нижние слои не приносили ни единого клочка. По-видимому, в этих слоях свитки постигла та же участь, что и всю бумагу в большинстве других стран, кроме Египта.
Как объяснить тот факт, что в трех типах холмов (римских, византийских и арабских) такое обилие свитков обнаруживается в одних и тех же слоях? Наиболее правдоподобным было предположение, что эта масса папирусов происходила из местных архивов. Вот как объясняет это Гренфелл: "В римский период в Египте был обычай тщательно сохранять в архивах в каждом городе всевозможные документы, имеющие отношение к управлению и взиманию налогов в стране: даже частные лица имели обыкновение посылать в эти архивы письма, контракты и другие документы, которые они хотели сохранить, точно так же, как мы посылаем подобные документы адвокату или банкиру. Конечно, через какое-то время, когда документы были больше не нужны, требовалось проводить чистку, и, очевидно, старые папирусные свитки помещались в корзины или на плетеные лотки и выбрасывались как мусор". Такой обычай, странным образом напоминающий еврейскую практику погребения книг в генизе (своего рода "книжном чулане"), оказался благодеянием для папирологов. Это еще раз подтверждает банальную истину археологии, состоящую в том, что подчас разрушение и небрежение становятся залогом сохранности там, где усерднейшие старания людей сохранить что-либо заведомо обречены на провал.
Добыча из этих архивов была и в самом деле значительной. От раннего римского периода (I — начало II в. н. э.) дошло содержимое целых корзин. Изредка свитки все еще находились в своих плетеных вместилищах. Папирусы позднего римского и византийского периодов отличались необычной длиной и документальной ценностью. Более чем через два месяца, в середине марта, в византийских отложениях была сделана величайшая в количественном отношении находка. Гренфелл и Хант вскрыли холм с "толстым пластом, состоящим почти сплошь из папируса". Шесть пар рабочих немедленно были переведены на это место, и теперь стало проблемой, как достать в арабской деревне достаточно корзин, чтобы перенести папирусы от холма. Добыча этого дня составила тридцать шесть корзин, полных до краев. Можно представить радость Гренфелла и Ханта, когда они опустошили корзины и нашли много свитков в отличном состоянии, некоторые из них по 10 футов длиной. Корзины нужны были и на завтрашний день, поэтому большую часть ночи ученые провели, раскладывая папирусы. Наутро они опять были вместе с рабочими, и вчерашнее повторилось, "так как еще двадцать пять корзин было наполнено, прежде чем место опустело".
Гренфелл и Хант остались еще на один месяц. Но они были убеждены, что прощупали самые многообещающие места. Когда дело дошло до упаковки папирусов для отправки пароходом, им пришлось наполнить двадцать пять больших ящиков, весом почти в две тонны. Продолжить их разворачивание и сортировку предстояло в Оксфорде, а изучение и конечная публикация материала должны были занять годы. Первый том папирусов Оксиринха был опубликован через одиннадцать месяцев после возвращения ученых в Англию (25-й появился в 1959 г. при поддержке ЮНЕСКО), но и через четверть века несколько ящиков все еще не были открыты. Однако первый том содержал достаточно сюрпризов, несмотря на то что ни один текст не был полным.
Гренфелл и Хант выбрали 158 текстов приблизительно из 1200 документов, находившихся в довольно хорошем состоянии, которые они могли изучить после возвращения из первой кампании в Оксиринхе.
Самым ценным был фрагмент утраченного стихотворения, которое почти наверняка может быть приписано Сапфо. Он содержал двадцать более или менее поврежденных строк, шестнадцать из которых были довольно разборчивы и допускали возможность удовлетворительной реконструкции. Ода, вероятнее всего, была посвящена брату Сапфо, Хараксу, который после странствий на чужбине возвращался морем домой на Лесбос. Это был только первый и, возможно, не лучший из нескольких фрагментов Сапфо, обнаруженных затем в папирусах. "Тем не менее Сапфо — это Сапфо", — говорил Хант. Эти строки несут несомненный отпечаток "простодушной прямоты и непринужденной выразительности, столь характерных для поэтессы":
Нереиды милые! Дайте брату Моему счастливо домой вернуться, Чтобы все исполнилось, что душою Он пожелает, Чтоб забылось все, чем грешил он раньше. Чтоб друзьям своим доставлял он радость И досаду недругам (пусть не будет Ввек у меня их!). Пусть захочет почести он с сестрою Разделить. Пускай огорчений тяжких Он не помнит. Ими терзаясь, много Горя и мне он Дал когда-то. К радости граждан, сколько Он нападок слышал, язвящих больно! Лишь на время смолкли они — и тотчас Возобновились [15].В первом сборнике Гренфелл и Хант заявили: "Маловероятно, что мы найдем еще одну поэму Сапфо, еще менее вероятно, что мы натолкнемся на другую страницу из "Логий"". Это предсказание, к счастью, оказалось ошибочным. Ученые были ближе к правде, когда добавили: "Но у нас нет оснований полагать, что будущие сюрпризы будут гораздо менее волнующими, чем предыдущие". У Гренфелла и Ханта мог возникнуть соблазн остаться дома и посвятить себя изданию манускриптов. Материалов одной кампании было достаточно, чтобы поглотить их энергию на годы вперед. Однако следующие десять лет, вплоть до 1907 г., когда здоровье Гренфелла сильно пошатнулось, они производили раскопки в Египте каждую зиму, деля время между активной работой и более созерцательным изучением найденного. На обоих поприщах они проявили выдающиеся способности.
Снова в Оксиринхе
Краса Елены на челе Египта.
Уильям ШекспирС 1898 по 1902 г. Гренфелл и Хант снова работали в Файюме. Оксиринх принес громадное количество документов римского и византийского периодов, но ученые особенно стремились найти материалы более ранней, птолемеевской, эпохи. Файюм, предположительно богатый папирусными оболочками мумий, был самым подходящим местом для поисков. Кроме того, Оксиринх был настолько истощен, что, казалось, мог и не оправдать еще один полный рабочий сезон.
Ни одно из мест раскопок в Файюме не вознаградило, впрочем, ученых столь же щедро, как Оксиринх, пока они не избрали своим объектом Тебтунис (Урум-эль-Барагат). Эти раскопки были организованы Калифорнийским университетом на средства, завещанные миссис Фебой А. Херст. Тебтунис был выбран потому, что он, как и Оксиринх, лежал несколько в стороне от оживленных дорог, в труднодоступном районе, вследствие чего он тоже почти не пострадал от местных кладоискателей. Этот объект отличался, однако, от Оксиринха большим разнообразием: помимо мусорных холмов здесь были дома, дворцы, коптская церковь и кладбища — и все это требовало изучения. Среди различных предметов, извлеченных на свет археологами, было множество скарабеев, бус и амулетов из могил Среднего и Нового царств эпохи фараонов. На каждом шагу попадались свидетельства местного культа божества — крокодила, и было даже обнаружено одно из его святилищ. В разрушенных зданиях Тебтуниса нашли несколько прекрасно сохранившихся греческих свитков, но среди них было мало ценных литературных находок. И снова внимание исследователей привлекло местное кладбище птолемеевской эпохи. Оно было довольно обширным, и ученые надеялись обнаружить большое количество оболочек мумий III в. до н. э. Но вскоре выяснилось, что здесь тоже успели поработать грабители. Кроме того, влажность и соль причинили значительные повреждения. Тем не менее было спасено от полной гибели около пятидесяти покровов мумий.
Все же до поры до времени затея с Тебтунисом казалась скорее провалом. Картина резко изменилась благодаря тому, что впоследствии расценивалось как наиболее эксцентричное из всех открытий папирологии. Исследователей ждал большой сюрприз, но они едва не прошли мимо него. В это время они продолжали раскапывать птолемеевское кладбище, которому, казалось, и конца не видно. И вот наконец добрались до участка, расположенного рядом с кладбищем и предназначенного для захоронения крокодилов. Для Египта в этом не было ничего странного, но ученые испытывали досаду: что толку в этих диковинных мумиях, разве заменят они человеческие останки, при которых могут оказаться папирусные свитки или погребальные покровы?! Раздражение англичан было столь заразительным, что ему поддались и местные рабочие. Одна из его вспышек, описанная Гренфеллом и Хантом, вошла в историю: "Захоронения большого птолемеевского некрополя… содержали во многих случаях, как выяснилось, одних крокодилов. И вот 16 января 1900 г. — день, запомнившийся уже потому, что он принес нам двадцать три раннептолемеевские мумии с папирусными картонажами, — один из наших рабочих, возмутившись тем, что вместо ожидаемых саркофагов он обнаружил уложенных в ряд крокодилов, изломал одного из них в куски. И тут открылось, что эта тварь была обернута листами папируса".
Прошение птолемеевской эпохи, датируемое 163–162 гг. до н. э. Греческая скоропись в палеографическом отношении весьма примечательна обилием лигатур.
В конце концов и с вновь проснувшимся энтузиазмом были выкопаны тысячи останков крокодилов "самых различных размеров — от совершенно взрослых особей длиною в 13 футов до крошечных крокодильчиков, только что вылупившихся из яйца, не считая многочисленных бутафорских мумий, в которых после вскрытия обнаруживался кусок кости или несколько яиц". Из большого количества выкопанных мумий только около двух процентов имели при себе папирусы. Впрочем, крокодилы были не только обернуты листами папируса, но и оказались нафаршированы целыми свитками. Для того чтобы соответствующим образом обмотать и наполнить крокодила приличных размеров, требовалось изрядное количество папируса, и практически все эти листы содержали греческие тексты. К сожалению, они были сильно повреждены, однако удалось спасти много больших по объему и ценных, пусть в основном и нелитературных по содержанию, документов. Датировались они главным образом серединой II в. до н. э. Благодаря крокодилам Тебтуниса палеография уверенно распространила свои знания на II в. до н. э. Эти папирусы были высоко оценены в последующие годы благодаря содержащимся в них документальным данным об экономической, социальной и политической истории птолемеевской эпохи, а также в связи с их большим вкладом в изучение эллинистического права.
В штаб-квартире экспедиции Гренфелла и Ханта культ крокодила пережил своего рода возрождение: крокодил стал фигурой символической. Э. Дж. Гудспид, гость из Америки, сообщает, что это священное животное попадалось на глаза в любом уголке лагеря. Даже его палатка удостоилась чести приютить под своим кровом несколько мумий детенышей крокодилов. Во время его пребывания в экспедиции был выстроен целый "крокодилий дом".
В 1902 г. Гренфелл и Хант еще раз рискнули выехать за пределы Файюма. Целью был Эль-Хибе, на берегу Нила, где феллахи незадолго до того нашли несколько оболочек птолемеевских мумий. Раскопки в этом месте велись два сезона, и снова под покровительством Фонда исследования Египта. Собранный урожай папирусов был примечателен возрастом находок (III в. до н. э.) и тем, что в их числе оказалось несколько необычных, в частности фрагмент, приписываемый Еврипиду, а также отрывки из неизвестной комедии и эпической поэмы.
После Эль-Хибе ученые вновь обратились к Оксиринху, проведя там свои последние пять сезонов в Египте. Раскопки на других объектах, должно быть, убедили их в том, что они серьезно недооценили потенциальные возможности Оксиринха. Кроме того, видимо благодаря огромному количеству папирусов, вывезенных отсюда Гренфеллом и Хантом в первый год их работы, ни местные жители, ни европейцы не потрудились обследовать эту местность вторично. Только один большой холм, поверхностно исследованный двумя учеными в 1897 г., привлек внимание местных жителей как раз перед возвращением Гренфелла и Ханта. Новые находки в Окси-ринхе хотя и оказались впечатляющими, но уже никогда не были столь обильны, как в первом сезоне. Когда Гренфелл и Хант окончательно расстались с Оксиринхом, они прекрасно понимали, что он ни в коей мере не открыл им всех своих сокровищ. За ними последовали другие ученые, главным образом немцы и итальянцы: Оксиринх казался неисчерпаемым. Даже в 1922 г. Флиндерс Петри, к тому времени уже патриарх египтологии, нашел там несколько сот фрагментов, среди которых были отрывки из иудейских гимнов II или III в. н. э.
"Оксфордским Диоскурам" не пришлось сожалеть о своем возвращении в Оксиринх. Каждый сезон был в целом удачен и полон сюрпризов. В течение 1903/04 г. были найдены новые фрагменты "Логий", а в сезон 1904/05 г. обнаружилось такое множество документов, что это напомнило "самые счастливые дни раскопок в 1897 г.". Среди сюрпризов этого сезона были иудейские и сирийские тексты, а также деревянные вощеные таблички для письма, известные еще со времен раскопок в Помпеях. Были найдены отрывки утерянного "Энея" Еврипида. Даже самое беглое перечисление находок в Оксиринхе не может обойтись без упоминания о такой важнейшей находке, как "Следопыты" Софокла, одной из утерянных "сатировских драм" (устраивавшихся перед началом представления греческих трагедий), которая была столь успешно реставрирована в Германии, что ее удалось поставить на сцене, или о нескольких драгоценных фрагментах произведений поэтов Алкея и Ибика (Ивика).
Два последних сезона в Оксиринхе были самыми плодотворными с точки зрения литературных находок. Однако Гренфелл и Хант в 1905 г. решили было, что они в основном исчерпали этот источник погребенных сокровищ. Действительно, оставалось как будто бы мало подходящих объектов, относящихся к римскому и ранневизантийскому периодам, и, кроме того, было хорошо известно, что после IV в. интерес к греческой литературе в Египте резко упал. Тем не менее в докладе Фонду исследования Египта после возобновления работ в декабре 1905 г. отмечается: "Судьба… как показали события, приберегла наиболее ценные подарки к пятому сезону (1905/06 г.), результаты которого превосходят даже итоги первых раскопок в Оксиринхе в 1897 г.". Сознавая, что им вряд ли удастся предпринять еще одну экспедицию, ученые удвоили число рабочих и планировали обследовать возможно большую территорию. Они рассчитывали тщательно прочесать даже заведомо малообещающие слои отходов, относящиеся к поздневизантийскому периоду.
Одной из первых находок был еще один христианский текст на греческом языке. Это лист тонкого пергамена (не папируса) из некоего утерянного Евангелия, описывающего апокрифический эпизод: посещение Иисусом Иерусалимского храма. Отчасти в манере сократического диалога Иисус вовлекает некоего фарисея в дискуссию о понятии чистоты, в ходе которой выдвигает положение о внутренней чистоте, противопоставляемое бессмысленным и формальным церемониям очищения. Гренфелл и Хант были потрясены "изощренным литературным стилем, образностью, энергичностью языка, содержащего слова, отсутствующие в каноническом Новом Завете, а также свидетельством любопытного знакомства — то ли действительного, то ли показного — с топографией храма и иудейскими церемониями очищения". После этого христианского пролога к экспедиции первое место среди находок заняла поэзия, в том числе несколько благодарственных гимнов, созданных могучим талантом самого Пиндара.
В нескольких случаях в Оксиринхе попадались большие партии документов, явно принадлежавшие одному частному лицу или одному архиву и поэтому грудой сваленные в одном месте. Но ни одна из таких находок не содержала сколько-нибудь ценных литературных фрагментов. Разве нельзя было предположить, что целая библиотека или какая-нибудь коллекция книг могла быть выброшена точно таким же образом? Тайная надежда на это никогда не оставляла обоих друзей. "И вот 13 января, — писали они в отчете несколько месяцев спустя, — нам наконец посчастливилось сделать открытие такого рода. Незадолго до заката мы добрались на глубине примерно 6 футов от поверхности до места, где в III в. н. э. кто-то вытряхнул целую корзину папирусных свитков с литературными текстами. В исчезающем свете дня невозможно было извлечь находку полностью, и на ночь у этого места была поставлена надежная охрана; на следующее утро остальное было благополучно выкопано. Перед тем как выбросить папирусы на свалку, их, по обыкновению, разорвали на куски, но среди сотен мелких обрывков была пара сердцевин папирусных свитков, содержащих каждая по десять-двенадцать колонок, ряд фрагментов по пять-шесть колонок и довольно много по одной-две колонки в каждом. Процесс комбинирования разрозненных кусков оказался, естественно, делом долгим, и до сих пор нам хватило времени только на то, чтобы составить связный текст и прочесть примерно половину найденных рукописей…"
Находка литературных текстов, выброшенных целой массой, была сама по себе довольно удивительной, а ведь среди них имелись два ценных поэтических фрагмента из утерянных произведений первоклассных древних авторов. Особый интерес представляли примерно триста строк "Пеанов" Пиндара, о которых до сих пор не было известно ничего существенного. Это было самое большое лирическое произведение, найденное в Египте со времен открытия текстов Вакхилида, и оно отнюдь не уступало по своей ценности всей обширной подборке образцов творчества этого поэта. Менее напыщенные, чем другие произведения Пиндара, "Пеаны" характеризуют его как автора, более приятного для чтения, "более человечного, менее зависимого от мифа и не столь темного в выражениях". С тех пор "Ода Дельфам" стала одним из широко известных образцов классического наследия. Второй важнейшей находкой был достаточно большой отрывок трагедии Еврипида "Гипсипила", давший возможность ученым-классикам определить фабулу трагедии. Кроме этого были найдены фрагменты стихотворения Сапфо и малоизвестных "Мелиамбов" (сатирических стихотворений) Керкида.
В прозаических манускриптах также не было недостатка; в частности, одно новое историческое произведение, подобно "Афинской политии" Аристотеля, произвело неизгладимое впечатление на ученых-классиков и историков. Это был отрывок примерно в шестьсот строк, описывающий период эллинской истории с 396 до 394 г. до н. э. Как изложение исторических фактов он мог быть сопоставлен с Фукидидом, труд которого он, очевидно, был призван продолжить, и Ксенофонтом, с которыми он иногда имеет и расхождения. Это произведение, широко известное под названием "Oxyrhynchia Hellenica", породило горячие дебаты по поводу возможного автора, продолжающиеся по сей день. В настоящее время основным претендентом считается Эфор.
Эти находки отмечают лишь основные вехи одного из плодотворнейших сезонов Гренфелла и Ханта, который Кеньон приравнивал к сезону 1891 г. по важности сделанных открытий. Это сравнение удачно еще и потому, что, как и в 1891 г., в 1905-м ценные папирусы были получены также и из другого источника. Наиболее важной была находка рукописи Менандра, обнаруженной в могиле близ Афродитополиса Густавом Лефебром, французским ученым, сотрудником Каирского музея. Рукопись содержала значительные по размерам отрывки из пяти утраченных комедий Менандра, пьесы которого послужили образцами для Плавта и Теренция, через них — для Мольера и так далее, вплоть до авторов постановок текущего сезона на Бродвее.
Когда в 1906 г. Гренфелл и Хант оставили свою активную деятельность в области полевых исследований, охота за папирусами достигла своего совершеннолетия, а систематическое изучение греческих папирусов превратилось в науку. К тому времени Оксиринх приобрел славу сказочно богатого — в сравнении с ранее известными — источника папирусов.
Благодаря таким первопроходцам, как Петри, Бадж, Гренфелл и Хант, Египет, древняя страна чудес, фараонов, чумы и пирамид, мог теперь добавить к этому списку еще и папирус. Неоценимая важность исписанных клочков, поступавших в научные учреждения в громадных количествах, не подлежала сомнению. Опознание на этих истрепанных комках бумаги строк, составляющих славу мировой литературы, и обилие новых данных о древней цивилизации создавали новую атмосферу в изучении классики. "Папирусы влили свежую кровь в жилы классической науки", — заявил немецкий ученый Адольф Дейссман. Дж. А. Поуэлл, его английский коллега, подчеркнул, что 1891 год не только дал миру громадное количество новых материалов, увеличивших запас наших знаний о классике, но и явился началом "новой эпохи в изучении Греции".
Среди произведений, древнейшие копии которых были найдены в Египте, ничто не могло сравниться по популярности с творениями Гомера, особенно с "Илиадой". Эпос о Троянской войне оставался своего рода греческой библией на протяжении эллинистической, римской и ранневизантийской эпох, и количество найденных списков просто ошеломляло своим изобилием, что заставило кроткого Ханта сделать святотатственное замечание: "Громадная популярность этого барда подвергала терпение археолога одному из наиболее тяжких испытаний. На его глазах извлекается из земли еще один крупный фрагмент литературного текста, и он на какое-то мгновение теряется в догадках, какое же новое сокровище удалось ему обнаружить, но можно ставить десять против одного, что это опять всего-навсего старик Гомер". На ранней стадии исследования папирусов Кеньон отмечал, что вслед за Гомером по количеству найденных текстов шел Демосфен, а за ним Платон. Эсхил и даже Софокл легко уступали Еврипиду, вслед за которыми шел еще и Менандр. Наряду с Демосфеном популярностью пользовались такие ораторы, как Исократ и Лисий, а также Гиперид. Однако произведения Эсхина попадались очень редко. Среди историков ведущее положение занимали Фукидид и Ксенофонт. Геродот, как ни странно, был почти неизвестен. (Более позднее специальное исследование, однако, не подтвердило тезиса о явной непопулярности Геродота.) У лирической поэзии было относительно меньше почитателей, хотя все произведения Пиндара, Вакхилида и Сапфо были, по-видимому, в постоянном обращении.
Согласно приблизительной оценке, сделанной Кеньоном в 1919 г., в Египте к этому моменту было найдено около девятисот двадцати папирусов литературного содержания. Из них около пятисот семидесяти текстов были известны ранее. Если исключить из этого числа около ста библейских и патристических текстов и примерно двести семьдесят гомеровских, то остается только двести папирусов, содержащих известные произведения, против трехсот пятидесяти папирусов с неизвестными текстами.
Фрагмент "Одиссеи" из собрания Британского музея.
I в. н. э.
Вывод о том, что большая часть манускриптов (не считая произведений Гомера и христианских текстов) представляет утраченные тексты, был убедительно подтвержден в ходе более тщательных исследований, проведенных американским ученым Чарлзом Генри Олдфатером в 1922 г., а также в более позднее время (1945,1952) итальянкой Лаурой Джаббани и Роджером А. Пэком из Мичигана. Олдфатер установил, что Египет владел обширнейшим наследством греческой литературы, раза в три превышающим то, что сегодня есть на Западе. Поскольку основная часть найденных папирусов, как, например, ок-сиринхские, относится к первым векам христианства, можно с уверенностью сделать вывод, что каждый из древних (классических) текстов имел хождение на протяжении этого периода. Действительно, в течение всей римской эпохи египтяне располагали практически всеми произведениями греческой литературы. Разрушение основной библиотеки в Александрии во время похода Цезаря, по всей вероятности, не имело решительно никаких последствий, вопреки распространенному мнению, для происшедшей в конце концов утраты большинства классических литературных памятников.
В прошлом часто утверждали, будто практически все, что не дошло до нас, было утеряно уже ко времени первых веков христианства. Когда грамматик того времени цитировал, например, пьесу Еврипида, то он, как принято было думать, заимствовал эти строки скорее из антологии избранных отрывков, а не из оригинала. Подобные неверные представления были опровергнуты открытиями папирусов. Более того, если египетская провинция могла похвастать таким изобилием греческих литературных произведений в сравнительно позднюю эпоху, то насколько же больше этих книг и многих других должно было иметь хождение в крупных городских центрах империи с грекоязычным населением: в Александрии, Эфесе, Антиохии, Афинах, да и в самом Риме?
Возрожденные учеными тексты представляют пока лишь малую долю от огромной массы древнегреческой литературы, бывшей в обращении в Египте эллинской эпохи. Греческая лирическая поэзия, не считая нескольких примечательных исключений, остается в забвении. Из всех жанров более всего посчастливилось драме. Однако, если учесть, что из ста тринадцати предполагаемых пьес Софокла до нас дошло только семь, а из девяноста двух пьес Еврипида — только восемнадцать и не сохранилось ничего достойного упоминания от творчества многих других драматургов, которых древние ценили почти наравне с этими двумя, пробел остается просто огромный.
"Eupolis, atque Cratinus, Aristophanesque poetae Atque alii…" (Евпол, и Кратин, и Аристофан — поэты, а также другие…) — этот латинский стих, перечисляющий мастеров "старой" комедии, напоминает нам, что мы не располагаем почти ничем из их творчества; исключением является, быть может, Аристофан (с одиннадцатью комедиями, да и то, возможно, не самыми лучшими). Равные ему Евпол и Кратин известны нам только по нескольким до обидного скудным фрагментам. А другие? Предполагают, что других было около ста семидесяти, подавляющее большинство которых нам вообще неведомы. То же самое можно сказать о "новой" комедии, досократовской философии, произведениях Демокрита и таких выдающихся историков, как Гекатей (которому многим был обязан Геродот) и Феопомп. От последнего нам остался едва лишь один параграф (если только мы откажемся приписать ему фрагменты исторического содержания, найденные в Оксиринхе).
Потери латинской литературы, по крайней мере в количественном отношении, столь же значительны, хотя они, быть может, и не заслуживают такой глубокой скорби. Тем не менее велись увлеченные поиски недостающих книг Ливия. А кто не дал бы царский выкуп за мемуары Адриана, несмотря на их превосходную "реконструкцию", сделанную Маргерит Юрсенар?
Каковы же, однако, перспективы на будущее? До сих пор ничто не может идти в сравнение с золотым десятилетием Гренфелла и Ханта в Оксиринхе, а с момента начала Первой мировой войны систематические поиски папирусов в значительной мере утратили воодушевлявшую их энергию, если не считать нескольких эпизодических предприятий, принесших весьма скромные результаты. И опять наиболее впечатляющие находки, подобные открытию в Хенобоскионе, были сделаны совершенно случайно. (Никому по сей день не известно происхождение пьесы Менандра "Ворчун", единственного полного драматического произведения из найденных в Египте, которая была приобретена у торговца Мартином Бодмером, швейцарским коллекционером, и впервые опубликована в 1958 г.) И все же количество папирусов, так же как и собрание текстов в университетах Европы и Западного полушария, продолжает расти.
Одно время возможности литературных открытий в Египте представлялись безграничными. Оксиринх показал, что могут дать раскопки: Менандр, Аристотель, Гиперид и Вакхилид были, разумеется, великолепными находками. Мусорные холмы выглядели неисчерпаемыми. Мумифицированные крокодилы, футляры мумий, кувшины, наполненные папирусами, продолжали поставлять ценнейшие отрывки. Но дело тормозили войны, увеличивались ставки местных рабочих, финансирующими организациями овладели сомнения, египетское законодательство блокировало вывоз папирусов из страны, ученым, таким как Гренфелл и Хант, не удалось вырастить достойных преемников, и горстке папирологов не осталось ничего другого, как разбираться в обширных залежах найденных ранее папирусов у себя дома. "Археология камня" снова взяла в Египте верх над "бумажной" и достигла вершины успеха в открытии Картером гробницы Тутан-хамона в 1922 г. Ни одна папирусная находка 20-х годов не могла сравниться с полной сокровищ усыпальницей юного фараона. Однако папирология остается одним из форпостов современной науки, и возрождение интереса к открытиям папирусов, возможно, уже не за горами.
Книга без обложек
Частные письма, написанные очевидцами без специального на то умысла и раскрывающие такие обстоятельства, которые знакомят нас с интимной стороной важных событий, и есть подлинная история; их рассказ намного убедительнее формального повествования с заранее обдуманным замыслом.
Горации Уолпол"Хотя это многим может показаться парадоксальным, но я осмелюсь сказать, что нелитературные папирусы обладают для историка большей ценностью, чем литературные. Мы радуемся… когда земля Египта приносит нам древние книги или их фрагменты, особенно когда книги эти — утраченные литературные сокровища. Но с научной точки зрения подлинным сокровищем, скрытым в песках Египта, является не столько древнее искусство и литература… сколько вся эта древняя жизнь, реальная и осязаемая, ожидающая случая снова быть явленной миру". Человеком, написавшим эти когда-то звучавшие еретически слова, был Адольф Дейссман, немецкий теолог. Именно он сделал больше других для того, чтобы привлечь внимание к нелитературным папирусам, которые в таком изобилии обнаруживались при раскопках и до той поры вызывали у исследователей классической древности в основном раздражение. Новая строка Сапфо или сцена из исчезнувшей комедии Менандра — вот что было целью их устремлений. Грубовато написанное письмо греко-египетского крестьянина-арендатора, выражающее его досаду на сборщика налогов, или выполненный скорописью договор на обучение раба вызывали снисходительное к себе отношение. Литературные фрагменты публиковались, как правило, очень быстро. Мелочи повседневной жизни, составлявшие содержание более девяноста пяти процентов общего числа папирусов, могли подождать.
Адольф Дейссман был молодым преподавателем в небольшом протестантском университете, когда в начале 1890-х годов ему довелось ознакомиться в Гейдельбергской библиотеке с факсимильным изданием Берлинской коллекции папирусов. С внезапностью, типичной для самых простых, но одновременно революционных открытий, беглое чтение греческих документов навело его на мысль о новой оценке нелитературных папирусов. Полное понимание пришло к нему в процессе решения одной из самых загадочных проблем Нового Завета. Теологов и филологов уже давно удивлял греческий язык, которым был написан оригинальный текст Нового Завета. Синтаксис, стиль, значение слов, да и множество самих слов, настолько явно отличались от аттического диалекта, используемого авторами классической литературы и их более поздними подражателями, что, казалось, это едва ли не другой язык. Этот странный, обладающий очевидным своеобразием диалект чаще всего именовался "библейским" или "новозаветным греческим". Некоторые называли его "древнееврейским греческим", вполне правдоподобно объясняя странности языка семитскими корнями христианской религии, а также тем, что Христос и апостолы, слова которых воспроизводит этот священный текст, говорили на арамейском диалекте. В свете этих воззрений язык Нового Завета отражал приспособление другого языка к мышлению и речевым навыкам людей чуждой культуры, никогда не владевших греческим языком достаточно хорошо. Ярким примером пренебрежительного отношения классициста к этому якобы гибридному языку-посреднику является саркастическое высказывание Фридриха Ницше: "Довольно странно, что Бог счел необходимым выучить греческий язык для того, чтобы общаться с человеком, и при этом выучил его так плохо". Другой немецкий ученый более благочестиво нарек греческий язык Нового Завета "языком Святого Духа".
Таково было состояние вопроса в тот момент, когда молодой Дейссман решительно отринул как осмеяние этого языка, так и гипотезу о его боговдохновенности. Он заявил, что не существует такого явления, как библейский греческий язык. Язык апостола Павла и евангелистов, в сущности, идентичен тому, на котором говорило грекоязычное простонародье, населявшее Восточное Средиземноморье. Средством выражения в нелитературных папирусных документах выступал живой, разговорный греческий язык того времени, неизбежно отличавшийся по стилю и словарному составу от формального, величественного языка литературной традиции. Народный язык, с презрением отвергавшийся эллинистическими авторами, был воспринят Священным Писанием как вполне подходящий. Христианство могло стать мировой религией, только выбрав повседневный, разговорный язык цивилизованного мира. Заявление Дейссмана произвело почти такую же сенсацию, как идентификация "линейного Б" с догомеровским греческим, сделанная Майклом Вентрисом [16]примерно пятьюдесятью годами позже.
Обыденным языком нелитературных папирусов и Нового Завета (а в значительной степени и "Септуагинты" [17]) был так называемый койне [18], который, обладая свежестью, выразительностью и теплотой, прекрасно отвечал духу христианской проповеди и скромности быта ранней Церкви. Среди примерно десяти процентов "экзотических" слов в греческом словаре Нового Завета (из общего числа около пяти тысяч) почти все так или иначе имели аналогии в папирусных документах. Прослеживались параллели также в особенностях структуры предложений и грамматики. Это открытие привело к новому пониманию текста подлинника, которому суждено было решающим образом повлиять на все последующие переводы Библии.
Специалисты в области классической филологии могли усматривать в "новозаветном греческом", разумеется, лишь ухудшенный вариант греческого языка Платона и Демосфена. Чтобы произвести решительный переворот в изучении и греческого языка, и Нового Завета, потребовался теолог, являющийся одновременно специалистом по греческой филологии и относящийся с постоянным интересом к исторической обстановке древнего — греко-римско-византийского — христианского мира.
Впрочем, известный "дейссманизм" уже существовал и до того, как на сцене появился молодой немецкий теолог. Даже Carta Borgiana, папирус конца XVIII в., обнаружил перед учеными, разбиравшими его текст, определенные языковые схождения с Новым Заветом. А в 1863 г. английский священнослужитель, епископ Лайтфут, высказал следующую мысль: "Если бы только нам удалось найти письма, которые обыкновенные люди писали друг другу, не заботясь о литературном стиле, мы получили бы величайшее подспорье для понимания языка Нового Завета в целом". Но это были лишь отдельные искры, вылетающие, если можно так выразиться, из филологического подполья. Они не могли в то время воспламенить общественное мнение настолько, чтобы эти идеи начали разрабатываться систематически. Традиционный взгляд на природу "новозаветного греческого" по-прежнему не оспаривался. Даже после заявления Дейссмана любая "секуляризация" Библии рассматривалась многими церковниками как святотатство.
Дейссман, в отличие от своих предшественников, сумел внятно растолковать всем то, что подсказывала ему его блестящая интуиция. Приглашенный вскоре возглавить кафедру в Берлинском университете, он получил всеобщее признание как ведущий немецкий геолог, второй после Гарнака, и остался горячим поборником большой ценности нелитературных папирусов. По этому вопросу он написал много книг, важнейшей из которых является книга "Новые данные о Новом Завете". Английские и американские университеты наперебой приглашали его для чтения лекций. Хотя он не меньше других был потрясен открытием так называемых "Ло-гий" — утерянных высказываний Христа, — а также рукописей Евангелий, более древних, чем все известные до тех пор, а к тому же был культурным европейцем, глубоко понимавшим важность возрождения древних классических текстов, он продолжал настаивать на том, что ни одна из этих эпиграфических жемчужин не может сравниться по своей ценности с нелитературными папирусами. Дейссман был как бы верховным жрецом этой доктрины. Его точка зрения сейчас принята всеми, хотя и с оговорками, признающими наличие в греческом языке Нового Завета отдельных "семитизмов". (Сам Дейссман допускал возможность того, что Евангелие от Матфея первоначально было написано по-арамейски.)
Свидетельство того, что ранние христиане вращались в греко-римском мире и говорили на его вселенском языке, было для Дейссмана едва ли не откровением. Сценой, на которой осуществлялась миссия Христа, был обычный мир простого человека Востока, жившего в эпоху Римской империи. Эти картины, весьма существенные для понимания первоначального христианства, воскрешались нелитературными папирусами, которые, благодаря их обыденности, обрели ценность, идущую много дальше их чисто христианского содержания. То были поистине "краткие и простые летописи бедноты" Древнего мира. Главным достоинством и очарованием этих документов было то, что они писались не для публики. Они были совершенно свободны от аффектации, лицемерия и искусственности, присущих замыслам с более осознанной литературной направленностью. Они звучат искренне, особенно письма, которым, быть может, недостает изысканности и эпистолярного мастерства Плиния Младшего, лорда Честерфилда или Рильке, но которые заслуживают большего доверия и приятно непосредственны. Как собрание документов, свидетельствующих о безымянной истории эпохи, нелитературные папирусы являются пределом мечтаний исследователя. Их многообразие не поддается классификации: они "столь же многосторонни, как и сама жизнь". Стало обычной практикой делить их на официальные и частные документы, хотя между ними не всегда можно провести четкую границу. Официальными бумагами считают различные юридические документы, как, например, квитанции об уплате налогов, земельные описи, акты купли-продажи, договоры аренды, документы о займах, прошения, закладные, договоры о сотрудничестве, брачные контракты, прошения о разводе, свидетельства о смерти, инвентарные списки, обвинительные заключения и правительственные указы. Огромное количество магических текстов и гороскопов образует отдельную группу. Существуют также различные записи для частного или личного употребления, школьные упражнения (некоторые из которых являются копиями утерянных литературных произведений), дневники, записки и самое очаровательное из всего этого — множество писем.
Почти любой обрывок папируса приносит новые данные о стране, эпохе и людях. Вот несколько примеров, демонстрирующих нам страсти, слабости человеческой натуры, ссоры, затруднения, добродетели и шутки мужчин и женщин древности. Один человек сообщает о дурном сне, в котором на него напал беглый раб. Другой рассказывает о мошеннике, который обманом лишил его мать заработанных денег. Судья выносит приговор преступнику: "Мне кажется, что у тебя душа не человека, а зверя или, вернее, даже хуже, чем у зверя". Или в одном из оксиринхских документов некий человек сообщает, будто, вернувшись в Александрию, он обнаружил, что его дом и дом его друга подверглись обыску и имели место массовые аресты высокопоставленных лиц. По-видимому, стук в дверь в предрассветный час не является изобретением современного полицейского государства. Другой вечный мотив звучит в переписанном школьником педагогическом нравоучении: "Старайся, мальчик, если не хочешь, чтобы с тебя спустили шкуру"; еще один — в просьбе солдата о переводе его с места службы — с какого-то богом забытого аванпоста на Красном море.
Частные документы нередко перемешаны с официальными сообщениями. Один папирус из Эль-Хибе может служить источником сведений о превосходно организованной местной почтовой службе, а список бедняков одного городка свидетельствует, что зажиточным горожанам вменялось в обязанность содействовать облегчению участи их менее удачливых собратьев. В одном из многих оксиринхских папирусов, касающихся религиозных вопросов, человек излагает свои условия сделки с божеством: "Знай, что я не намерен вообще обращать на бога внимание, если мне сначала не вернут моего сына". Другой выражает свои "религиозные" взгляды еще откровеннее: "Раз боги меня не пощадили, то и я не пощажу их". В противоположность этому встречаем благочестивое утверждение верующего: "Не кто иной, как Зевс, ниспосылает нам хлеб наш насущный".
Имя "Птолемей" в демотической (скорописной) и иероглифической передаче
Как и последний пример, много отрывков в различных папирусах напомнят нам Евангелия. Даже не будучи связаны с ними идейно, они все же обнаруживают ту же нравственную силу, ту же живость и вводят персонажи, которых мы, казалось, уже встречали: римского префекта, хозяина постоялого двора, мытаря, ростовщика, вора, повесу, а также толпу солдат, крестьян, писцов, ремесленников и рабов. Но эти ассоциации едва ли стоит учитывать при оценке значения египетских документов для изучения раннего христианства. Существует громадное количество фрагментов канонической и неканонической христианской литературы (гимны, проповеди, апокрифы, утерянные Евангелия), и некоторые тексты нелитературного содержания также проливают свет на христианскую традицию как таковую.
Впрочем, одна из наиболее известных крупиц информации, почерпнутой из папирусов, имеет по отношению к христианству характер лишь косвенного свидетельства. Она содержится в юридическом тексте 88 г. н. э., где цитируются слова римского префекта, обращенные к преступнику: "…ты заслужил кару… но я отдам тебя в дар толпе и тем покажу себя более милосердным, чем ты". Это сразу же напоминает нам евангельский эпизод с Вараввой, который был освобожден Пилатом таким же образом. "Выдача осужденного человека народу" была, как выясняется, обычной римской практикой.
Другое косвенное свидетельство содержится в папирусе, в котором говорится о предпринятой в 104 г. н. э. римской переписи населения. В нем приводится указание властей о том, что для переписи люди должны вернуться в города, где они живут постоянно. Мы знаем из Деяний апостолов и Евангелия от Луки, что Мария и Иосиф отправились перед рождением Христа в Вифлеем, подчиняясь требованию властей в связи с приближающейся переписью. Так снова подтверждается историческая достоверность деталей Нового Завета. Кроме того, датированные папирусы позволили установить, что римские переписи проводились каждые четырнадцать лет, и это помогло уточнить предполагаемый год рождения Христа.
Значительное количество документов из различных частей Египта отмечает распространение христианства; определенная сдержанность в некоторых несомненно христианских записях, возможно, свидетельствует о преследованиях. Наиболее наглядным свидетельством римских гонений на христианскую веру, особенно в период правления императора Деция, являются так называемые libelli — удостоверения, выдаваемые имперскими властями каждому из ранее подозревавшихся в принадлежности к Церкви после того, как он принял участие в языческих жертвоприношениях. В одном заявлении, поданном в 250 г. н. э. в Оксиринхе неким Аврелием Гайоном, написано следующее: "Я всегда имел обыкновение приносить жертвы, я совершаю возлияния и почитаю богов в соответствии с божественными установлениями, и сейчас в вашем присутствии я принес жертву и сделал возлияние, а также вкусил жертвенной пищи вместе с Таос, моей женой, Аммонием и Аммонианом, моими сыновьями, и Теклой, моей дочерью, от имени которых я выступаю, и я прошу вас заверить мое заявление…"
Некоторые документы касаются организации и становления Церкви (один ветеран римской армии в IV в., например, завещает половину своего имущества святой Церкви); возникновения монашества; частных дел приверженцев истинной веры в Египте. Все это обогащает наше представление о новой религии.
Одно письмо II в. н. э., найденное в деревне Каранис, в Файюме, было написано блудным сыном, который сообщал своей матери, что из-за постигших его несчастий ему стыдно возвращаться домой: "Я хожу в лохмотьях. Пишу, чтобы сообщить тебе, что я наг. Я прошу тебя, мать, быть снисходительной ко мне. Ведь я понимаю, что все это сделал я сам. Я получил урок, который заслужил. Мне известно, что я согрешил. Я получил весточку от Постума, который видел тебя в арсиноитском номе и рассказал тебе всё без утайки. Разве ты не знаешь: по мне лучше стать калекой, чем сознавать, что я остался должен кому-нибудь хотя бы пару грошей".
Иногда сын, боясь сурового гнева отца, прибегал к известному способу — апеллировал к более нежному материнскому сердцу, как, например, в этом примечательном своим бесстыдством отрывке: "Когда ты получишь мое письмо, будь добра, пришли мне 200 драхм… Я истратил все деньги… Пишу тебе, чтоб ты знала об этом. Пришли мне толстый шерстяной плащ и кошелек, пару обмоток для ног, пару кожаных плащей, немного оливкового масла, умывальный таз, о кагором ты говорила, и пару подушек. И еще, мать, пришли мое месячное содержание, и поскорее… Приходил ко мне отец и не дал мне ни гроша, ни кошелька, ничего. А они все насмехаются надо мной, говоря: "Его отец солдат и ничего не дал ему"… Так что я прошу тебя, мать, пришли мне все, что я просил, не оставляй меня…" В приписках на полях, во всем остальном неразборчивых, без конца повторяется: "Пришли мне… пришли мне…"
Полную противоположность этой плаксивой мольбе составляет письмо человека, до которого дошел слух, что брату его недостает сыновней преданности. Он пишет ему: "Мне сообщили, что все вы доставляете множество хлопот нашей почтенной матушке. Будь добр, мой возлюбленный брат, не огорчай ее ничем и, если кто-нибудь из наших братьев станет перечить ей, надавай им затрещин. Потому что ты остался теперь за отца… И не обижайся на мое письмо за эти упреки: мы должны почитать нашу мать как богиню, особенно такую хорошую мать, как наша. Я написал тебе об этом, брат, так как знаю, как ласковы к нам почтенные наши родители…"
Семейные письма, подобные этим, столь личные и столь непосредственные, как бы возвращают этих людей к жизни через бездну веков. Когда в такую семью приходит смерть, мы глубоко сочувствуем их человеческой драме, их безысходному горю, хотя, разумеется, при смерти близкого родственника характеры людей мот проявляться по-разному. Вот пример сурового выговора, сделанного одним "добрым самаритянином" двум бессердечным братьям: "Я очень удивлен тем, что вы так бесчувственно уехали, не взяв с собой тело своего брата: вы забрали все, что он имел, и после этого уехали. Отсюда я вижу, что вы приезжали не ради покойного, но ради его имущества". Вряд ли что-нибудь может превзойти по силе сопереживания и здравому смыслу следующее письмо: "Ирена к Таоннофису и Филону, с приветом. Я горевала и плакала по благословенному так же, как прежде. — по Дидиму; я совершила все, что подобает в таких случаях, и точно так же поступили все мои домочадцы: Эпафродит, Термуфион, Филион, Аполлоний и Планра. Но разве можем мы что-либо изменить? Поэтому утешьтесь. Желаю вам счастья".
Такой стоической силы духа явно недостает другому письму, которое выражает соболезнования иного рода: "…что ты страдал, как праматерь Ева, как Мария; и, пока жив Бог, о мой господин, ни одной праведной женщине и ни одной грешнице не пришлось выстрадать столько, сколько страдал ты; и, однако, грехи твои суть ничто. Но будем славить Господа нашего, ибо это Он дает и Он берет к себе; но будем молить Бога, чтобы Он дал им упокоение и удостоил тебя блаженства с ними в раю, когда Он станет судить души человеческие, ибо пришли они в лоно Авраама, и Исаака, и Иакова. И вот увещеваю я тебя, мой господин, не держать горя в душе своей и не разрушать своего счастья, но молить Бога о ниспослании тебе Его благословения, ибо у Бога есть много всяких даров и Он может вернуть скорбящим хорошее расположение духа, если они жаждут получить благословение от Него; и мы уповаем, что Господь через это горе ниспошлет радость тебе и господину, твоему брату…"
Сравнение языческого письма и второго, куда более многословного, отражающего появившееся к тому времени христианское мировоззрение, показывает коренные изменения, происшедшие в греко-римском Египте. Поистине конец был уже близок.
Папирусы неизмеримо углубили понимание историками, не говоря уже о палеографах, филологах и теологах, жизни эллинистического и римского Египта. Эпоха эллинизма долгое время оставалась в полном забвении, занимая незавидное положение между сверкнувшей ярким метеором карьерой Александра и появлением римских цезарей. Со времени заката фараонов о Египте было известно мало, за исключением нескольких упоминаний у Геродота (жившего до Александра Великого), а также у Страбона, Диодора Сицилийского и Плутарха. Почти все, что мы сегодня знаем, было собрано нами по крупицам из этих вновь обретенных документов.
Древнейшие книги мира
Современный мир получил наследство от Древнего Египта, как и от Греции, по двум различным каналам. Во-первых, имела место прямая историческая преемственность… Но, во-вторых, осуществлялось своего рода запоздалое усвоение культурного наследия, и здесь Шампольон и его преемники сыграли по отношению к Египту такую же роль, как ученые Возрождения по отношению к Греции.
Алан X. ГардинерПапирусы греко-римского Египта начиная с последней четверти XIX в. вызывали огромный интерес, и уже плохо осознавался тот факт, что эти документы, в конце концов, были оставлены чужеземными пришельцами, причем поздними. В представлении широкой публики папирология с ее профессурой, международными конгрессами, научными журналами, методологическими трактатами и специальными коллекциями занимается почти исключительно текстами на классических языках. Однако папирусы на греческом и латинском языках составляют лишь небольшую часть многоязычных свидетельств культурной жизни Египта на протяжении более пяти тысяч лет. Наряду с греческими и иногда латинскими текстами были найдены папирусы, написанные на арамейском, древнееврейском, пехлеви (среднеперсидском), сирийском, ливийском, многих малоазиатских, коптском, эфиопском и арабском языках. Одной из диковинок были обрывки готских текстов — возможно, самые ранние существующие образцы германской письменности, которые подтверждают предание о том, что римляне использовали на Ниле солдат-варваров с севера, — факт, известный читателям романа Чарлза Кингсли "Ипатия".
Однако к тому времени, когда появились все эти документы, великая цивилизация Египта процветала уже около трех тысячелетий. И в обширном наследии, оставленном Египтом, далеко не последнее место занимает папирус как материал. Использование папируса для письма было египетским нововведением, и папирус изготовлялся из местного египетского растения. Мы не знаем точной даты, когда начали использовать для этой цели папирус, но произошло это еще в эпоху додинастического Египта, примерно в 3100 г. до н. э.
Обитатели берегов Нила были, следовательно, грамотны все это время, гораздо дольше, чем любой другой народ, исключая, может быть, шумеров Месопотамии. В отличие от месопотамской египетская письменная культура оставалась фактически неизменной и в христианскую эпоху и закончилась только с приходом арабов и с постепенным отмиранием древних систем письма, рисуночной иероглифики и ее скорописных разновидностей — иератического и демотического письма. Однако коптский язык, последняя форма коренного египетского языка, просуществовал до XVII в. и все еще используется сегодня в обрядах коптской христианской церкви.
Фрагменты арамейского (справа), сирийского (вверху слева) и древнееврейского (внизу слева) папирусов, найденных в Египте. Таковы многоязычные свидетельства культурного разнообразия и политических судеб Нильской долины, климат которой способствовал сохранению не только египетских по происхождению документов.
Имя "Птолемей" в демотической (скорописной) и иероглифической передаче
Как только копты восприняли модифицированный греческий алфавит, они быстро утратили навык чтения и письма с использованием древней письменности. Сохранились только самые смутные представления о значении этих странных символов. К сожалению, даже и эти представления оказались окончательно запутанными в описаниях классических авторов, которые, начиная с Платона и Фалеса, отражали непомерное уважение греков к почти сверхъестественной, по их представлениям, мудрости египтян. Утерян был ключ к многочисленным надписям на руинах храмов и обелисках. Утрачена была вся, до последнего памятника, древнеегипетская литература. Скептики даже сомневались в том, что египетское письмо, если не принимать во внимание религиозные заклинания, вообще использовалось в каких-либо целях, кроме чисто утилитарных. То, что Египет имел литературу в современном смысле этого слова, литературу удивительной жизненности, духовной силы и разнообразия, казалось немыслимым еще двести лет назад.
В Европе многочисленные предположения о значении пиктограмм высказывались еще со времен немецкого ученого-иезуита Афанасия Кирхера, жившего в XVII в., но проблема казалась неразрешимой. Конечно, полностью исламизированные египтяне смотрели на реликвии своих языческих предков едва ли не с отвращением и бесцеремонно разрушали все творения рук "идолопоклонников", попадавшиеся им на глаза. И мы можем быть уверены, что они не делали различий между отдельными видами папирусов, будь они написаны на греческом или на египетском, иератическим или демотическим письмом. Граф де Вольней, путешествуя по Египту и Сирии перед Великой французской революцией, слышал об аутодафе, совершенном над тремястами "написанными на неизвестном языке" и обнаруженными местными жителями близ Дамьетты свитками, которые местный шейх приказал немедленно уничтожить.
Вряд ли европейцы уделили какое-то внимание египетским папирусам раньше, чем греческим, хотя время от времени некоторые случайные находки могли попадать в частные коллекции, чтобы оказаться забытыми и покрыться пылью. Если судить по отчетам, лишь немногие путешественники в Египте демонстрировали знакомство с чем-либо кроме монументов, расположенных над поверхностью земли: пирамид Гизы, залов Карнака и скальных гробниц Долины царей, В известном смысле новые препятствия были созданы находками в Геркулануме, которые привели к тому, что люди начали отождествлять папирусы с греческими памятниками письменности, — предубеждение, которое с тех пор было характерным для работ по папирологии.
Иероглифические символы, передающие различные понятия (идеограммы)
Три основных вида египетского письма. Сверху вниз: иероглифическое, иератическое и демотическое. Демотическое, наиболее упрощенное и курсивное, появилось, вероятно, только в позднединастическую или птолемеевскую эпоху. Иероглифическое письмо было дешифровано раньше других и создает для ученых значительно меньше трудностей, чем его скорописные варианты.
Однако с приходом Наполеона египетская письменность — на камне, остраконах (черепки и обломки известняка), дереве и не в последнюю очередь на папирусах — стала попадаться на глаза французским ученым на каждом шагу в ходе их исследований. Это было началом потока папирусов с египетскими и другими письменами, хлынувшего в Европу. В последующие десятилетия этот поток значительно усилился благодаря бесцеремонным операциям Бельцони и генеральных консулов западных держав в Александрии, как, например, Бернардо Дроветти, ветерана наполеоновской кампании, который работал в пользу Франции, Генри Солта, агента Англии, Джованни д’Анастази, армянина, работавшего на Швецию, и Жана Франсуа Мимо, действовавшего для Сардинии.
В результате их усилий были заложены основания коллекций в Париже, Лондоне, Риме, Флоренции, Турине, Берлине, Лейдене и в других местах.
Но все чудеса Египта и его забытые тексты, о которых сначала поведали французы в роскошно изданных томах и которые стали явью после прибытия груженных древностями кораблей, скорее сделали еще более волнующей, нежели разрешили, загадку цивилизации, считавшейся древней еще до того, как ахейские воины разграбили Трою.
Все мы достаточно хорошо осведомлены о том, как благодаря главным образом изобретательносги и решимости одного человека, Жана Франсуа Шампольона, завеса была наконец приподнята. Если сравнить "завоевание Египта" Шампольоном с кампанией корсиканского авантюриста, последняя покажется шутовской и нелепой. Его гению археология обязана одним из своих драматических триумфов — броском в прошлое на целое тысячелетие, который стал возможен, поскольку был подобран ключ к жизни, истории, мысли и религии Древнего Египта. Монументальным достижением Шампольона была расшифровка иероглифов, в чем неоценимую помощь оказал Розеттский камень, один из трофеев Наполеона. Решение иероглифической головоломки позволило возродить неизвестные книги и тексты — в сущности, целую литературу — и открыло значительную эпоху в истории человечества. Однако по сей день обнаружена лишь небольшая часть когда-то, по-видимому, обширной литературы.
От расшифровки египетских систем письма к полному овладению языком вела извилистая дорога, которая даже сегодня пройдена еще не полностью. В конце концов египетский язык претерпел огромные изменения за три или четыре тысячи лет, и язык ранних династий начала III тысячелетия до н. э. не так-то легко было понять людям Среднего царства тысячью годами позже, точно так же как письмо этих последних с трудом давалось людям XVIII династии во второй половине II тысячелетия до н. э., не говоря уже об их потомках. Однако был достигнут феноменальный прогресс: ученые составили словари египетского языка, а тексты прочитывались с возрастающей достоверностью.
Шампольон не только дешифровал письменность, но был и первым исследователем египетских текстов. Он издал первую грамматику давно уже мертвого языка, с пророческим рвением служил делу египетских папирусов и в одиночку вел борьбу с позицией, которую представлял, в частности, Франсуа Жомар, пессимистически смотревший на возможность прочтения иероглифов. (Жомар считал также, что фактически все папирусы являются копиями одних и тех же погребальных текстов.) Особенно возмущен был Шампольон, когда Жомар посоветовал французскому правительству воздержаться от дальнейших покупок. Именно из-за Жомара ресурсы папирологии Парижа были превзойдены в других центрах, как, например, Турине и Берлине — в последнем благодаря настоятельным усилиям Александра фон Гумбольдта. До своей преждевременной смерти в возрасте сорока одного года Шампольон изучил все папирусы, к каким он мог получить доступ во Франции и Италии, и совершил открытия, не уступающие по своему значению его первому достижению. В результате то, что прежде относили к числу забавных курьезов, превратилось в ценные документы, на основе которых оказалось возможным реконструировать одну из наиболее древних цивилизаций. Среди этих текстов были литературные произведения, потерю которых никто даже не оплакивал, так как мир ничего не знал об их существовании.
Шампольон предпринимал многочисленные путешествия для того, чтобы скопировать папирусы, как только он узнавал об их существовании. С 1824 по 1826 г. он путешествовал по Италии и по предложению кардинала Анджело Маи привел в порядок в Ватикане быстро растущую египетскую коллекцию. Он посетил также Флоренцию и другие города. В неаполитанской officina dei papiri большую боль причинило ему состояние рукописей из Геркуланума. Он был убежден, что ученые, которым были доверены обуглившиеся свитки, оказались излишне небрежны, потому что считали, как и Жомар, что эти документы прочесть невозможно. "В противоположность этому я утверждаю, — писал он, — что при достаточной настойчивости мы вскоре из этих тысячи семисот манускриптов смогли бы извлечь значительное число литературных сокровищ…" Но он берег свою энергию для египетских папирусов. Наиболее результативные его исследования были проведены в Турине, столице Сардинского королевства, которое незадолго до этого приобрело партию египетских трофеев Дроветти, ранее отвергнутую представителями властей в Париже.
Созерцание таких богатств, по признанию самого Шампольона, привело его в состояние транса. Его понимание египетского языка росло не по дням, а по часам. На каждом шагу папирусы раскрывали ему неизвестные аспекты истории и культуры Египта. Одно из его наиболее замечательных открытий касалось так называемого "погребального ритуала", или "Книги мертвых" (как впоследствии назовет ее немецкий египтолог Рихард Лепсиус), которая не была столь подчинена стандарту, как было принято думать, но существовала в различных версиях разной длины и содержания.
Многие дни он провел, переписывая эти прекрасно сохранившиеся сокровища, а затем, к своему удивлению, услышал, что на чердаке Туринской академии хранится еще больше египетских рукописей, однако из-за их состояния они были "ни на что не годны". Только в результате проявленной настойчивости Шампольону было позволено взглянуть на них. "Войдя в эту комнату, которую я впредь буду называть колумбарием истории, я был ошеломлен. Передо мной был стол длиной метра в три, покрытый во всю ширину слоем фрагментов папирусов толщиной по крайней мере сантиметров в пятнадцать… Я не могу описать все, что чувствовал, когда исследовал эти останки мировой истории. Даже самое уравновешенное воображение было бы возбуждено, ибо кто может сдержать свои чувства, прикасаясь к древнему праху столетий? Я впал в транс. Никакой отрывок из Аристотеля или Платона не является столь красноречивым, как эти папирусные холмы!.. Я мог смаковать даты, о которых история утратила всякие воспоминания, и имена богов, которым не воздвигали алтарей уже более пятнадцати веков…" Примерно в таком духе было выдержано все его письмо к брату Фижаку.
Таблица, характеризующая эволюцию некоторых египетских иероглифов и их скорописных эквивалентов (по Г. Мёллеру, 1919)
Но не все эти пыльные фрагменты освещали серьезные исторические вопросы. Они также показали, по словам ученого, "что от великого до смешного всего один шаг… Рядом с правительственным указом Рамсеса Великого или другого выдающегося руководителя… я видел фрагменты египетских карикатур, изображение кошки, держащей в лапе пастушеский посох, как будто она охраняла уток, или обезьяны, играющей на флейте… Вот погребальный текст, на обороте которого запечатлелась печать мирских забот в виде акта о торговой сделке; там остатки рисунков, чудовищная безнравственность которых несколько поколебала мое представление о безмятежности и мудрости Египта".
После шока, вызванного тем, что египтяне оказались столь же склонными к порнографии или, по крайней мере, к безудержной чувственности, как и более поздние жители Помпей и Геркуланума, Шампольон быстро пришел в себя. Скорее всего, убеждал он себя, в те отдаленные дни щепетильное египетское правительство конфисковало эти "грязные картинки".
Этим Шампольон вернул себе прежний энтузиазм. Теперь он сообщал своему брату о находке, которая с тех пор стала рассматриваться как важнейший источник по египетской истории, — о туринских списках царей, которые он датировал по крайней мере XIX династией: "Я смог извлечь из праха двадцать кусков этого драгоценного манускрипта, каждый из них не более одного-двух пальцев шириной, которые, однако, содержали более или менее усеченные имена семидесяти семи фараонов… Только Египет мог дать нам документы такой удивительной древности. Ты поймешь, что возраст Лагидов (Птолемеев) и даже персов начинает вызывать у меня жалость — все это принадлежит лишь вчерашнему дню в сравнении с тем, что я держал в руках последние восемь дней".
Учитывая тогдашнее неуверенное и отрывочное знание Шампольоном древнеегипетского языка, мы можем считать почти чудом, что он столь много узнал из папирусов за несколько лет жизни, оставшихся ему после первой дешифровки иероглифов. К счастью, Шамиольон мог погрузиться в приливную волну египетских папирусов, как раз в то время поступавших в Европу.
У французского частного коллекционера М. Салье в Эксе (Прованс) оказалось во владении несколько ценных папирусов (позднее приобретенных Британским музеем), среди которых Шампольон опознал восторженную поэму, повествующую о приписываемой Рамсесу II победе при Кадеше над народом, название которого Шампольон прочел как Scheta и в котором увидел скифов. Гораздо позже было установлено, что в действительности это были хетты, о которых ранее почти ничего не было известно. Государство хеттов было одной из величайших империй древнего Ближнего Востока.
Со временем Шампольон наконец ступил на египетскую землю и там обратил внимание на копию поэмы о Рамсесе, высеченную на стене Рамессеума в Фивах. Именно тогда он взялся за лопату и раскопал здание древней храмовой библиотеки в Карнаке.
Поток египетских папирусов, вероятно, никогда уже не был столь обильным, как в первой половине XIX в. Он значительно оскудел после экспедиций грабителей могил в Фиванский некрополь и разграбления руин храмов и во второй половине века был всего лишь струйкой по сравнению с размахом поисков греко-римских папирусов, относящихся к более позднему времени. Залежи иератических и иероглифических документов в мусорных кучах встречались крайне редко. Поэтому раскопки — независимо от того, проводились ли они местными любителями или европейскими профессионалами, — прибавили сравнительно немного. Только демотические тексты, написанные египетской скорописью, которая не могла появиться ранее эры Птолемеев, обнаруживались в довольно больших количествах. Но хотя эти тексты и дополняли греческие источники, в целом они имели небольшое значение для нашего познания доэллинистической египетской цивилизации. Более того, если не принимать во внимание более или менее организованные вылазки, можно сказать, что обнаружение египетских папирусов было полностью предоставлено случаю. В отличие от классических папирусов их не искали сколько-нибудь систематически, и даже сегодня нет каталога множества египетских папирусов, рассеянных в коллекциях по всему земному шару. Большое количество их, хранящихся в различных пользующихся солидной репутацией научных учреждениях, все еще ждет прочтения и опубликования.
Благодаря случайному характеру этих находок, как правило, сделанных местными жителями, мы почти ничего не знаем о местах и обстоятельствах обнаружения большинства даже самых ценных египетских текстов. Говорят, что папирусы М. Салье были приобретены у египетского моряка. Больше не известно ничего. И даже в этом нет полной уверенности. Англичанка миссис Д’Орбиней купила единственную копию знаменитой "Сказки о двух братьях" у какой-то неизвестной личности в Италии примерно в 1850 г.
Только в редких случаях у нас есть конкретные факты, как, например, о папирусе "Большой Харрис", одном из манускриптов, приобретенных в середине XIX в. А. К. Харрисом, английским путешественником и жителем Александрии, удивительную коллекцию которого его дочь продала Британскому музею в 1876 г. "Большой Харрис", или "Харрис I", длиннейший среди известных египетских папирусов (133 фута), был, по заслуживающим доверия сведениям, выкопан феллахами недалеко от Фив. "Большой Харрис", кстати, вполне заслуживает свой эпитет не только благодаря длине, но и из-за превосходной сохранности, прекрасного иератического письма и содержания: это панегирический перечень деяний Рамсеса III, несмотря на тенденциозный характер принесший ценную историческую информацию. Арабы извлекли его из скальной гробницы за храмом Мединет-Абу. Рассказывали, что, когда могилу открыли, она оказалась заполнена мумиями, оскверненными еще в древности. Перечень состоял примерно из двадцати свитков, но Харрис не смог купить их все, и остальные, к несчастью, рассеялись, так что теперь этот перечень неполон.
Происхождение столь же знаменитого папируса "Харрис 500", также находящегося в Британском музее и представляющего собой что-то вроде антологии египетской литературы Нового царства, менее определенно. Больше известно о его дальнейших злоключениях. При покупке его Харрисом он был полным, но часть его погибла в результате какого-то взрыва в Александрии. По слухам, Харрис скопировал весь текст до катастрофы, но местонахождение его списка установить так и не удалось. В результате мы, вероятно, навсегда лишились каких-то сведений о нескольких произведениях египетской литературы.
Судьба была более благосклонна к одному из произведений египетской светской литературы — истории Ун-Амуна, отправившегося в неудачную торговую поездку в Сирию. В 1891 г. несколько феллахов разбили лагерь в Эль-Хибе, где несколько лет спустя производили раскопки Гренфелл и Хант. Ночь была холодной, и они решили разжечь костер. Так как им требовалось топливо, которое, как известно, в пустыне является чуть ли не роскошью, они стали искать случайные куски дерева. К счастью, поблизости из песка торчала прекрасная, сухая, как порох, палка. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это исписанный свиток. В 1890-х годах феллахи хорошо знали цену фрагментам древних текстов, которые можно было обратить в сумму, достаточную для поддержания огня в нескольких кострах.
Так рассказ Ун-Амуна о путешествии попал к торговцу древностями и вскоре после этого был приобретен, несомненно за цену, возросшую на несколько сот процентов, профессором В. С. Голенищевым из Санкт-Петербурга, который к тому времени уже внес ценнейший вклад в дело возрождения египетской литературы.
Среди профессиональных археологов, сделавших важные находки иератических папирусов, заслуживает почетного упоминания молодой, страдавший чахоткой шотландский археолог X. А. Райнд; впрочем, знаменитый математический "Папирус Райнд" был куплен им у торговца. И снова Флиндерс Петри без труда захватывает инициативу. В Кахуне и Гуробе, около файюмских пирамид, он обнаружил папирусы, относящиеся к Среднему и Новому царствам. Папирусы XII династии из Кахуна содержали письма, отчеты, медицинский трактат по гинекологии и величественный гимн Сезострису III (XIX в. до н. э.), написанный при жизни фараона. Он дошел до нас как "самый ранний известный образец поэзии, демонстрирующий твердую строфическую структуру", и обнаруживает "параллелизм элементов" и эффектные метафоры, столь знакомые по библейским стихам. Хвалебные строфы, обращенные к монарху, принадлежали к распространенным формам египетской литературы. Эти, старейшие из дошедших до нас, являются непревзойденными. Читатель может получить представление о гимне по одной из шести составляющих его строф:
О, как велик владыка города своего!
Он — это солнце, а "малые" — лишь тысячи прочих людей!
О, как велик владыка города своего!
Он — как канал, что сдерживает берегами воды во время разлива!
О, как велик владыка города своего!
Он — как прохладная комната, дающая всякому мужу поспать до рассвета!
О, как велик владыка города своего!
Он — как защитная стена из меди Синая!
О, как велик владыка города своего!
Он — как убежище, ибо рука его хватает врагов без промаха!
О, как велик владыка города своего!
Он — как оплот, укрывающий боязливых от врагов его!
О, как велик владыка города своего!
Он — как прохладная осенняя тень летней порой!
О, как велик владыка города своего!
Он — как теплая стена дома в пору зимы!
О, как велик владыка города своего!
Он — как гора, ограждающая от бури в пору ярости небес!
О, как велик владыка города своего!
Он — как богиня Сахме для врагов, преступивших рубежи его! [19]
Несколько схожий с этим панегирик был найден Петри в 1896 г., когда он раскапывал погребальный храм царя XIX династии Меренптаха (Мернептаха), сына и наследника Рамсеса II. На этот раз текст был написан не на папирусе, а высечен на стеле. Памятник получил большую известность, так как содержит первое и единственное упоминание об Израиле ("Израиль опустошен, нет его потомства") в египетских записях времен фараонов.
Старейшими памятниками египетской литературы эпохи Древнего царства являются надписи, высеченные на камне, а не записанные на папирусах, хотя папирус в те времена уже был в ходу. Эти надписи отнюдь не были ограничены по объему, чего можно было ожидать, учитывая способ их исполнения. На самом деле, собранные и изданные, они составляют два огромных тома, насчитывающих в общей сложности более чем тысячу страниц. Собрание это известно под названием "Тексты пирамид", так как эти надписи были скопированы со стен камер шести пирамид V и VI династий (примерно 2450–2250 лет до н. э.). Но, как и многие другие тексты на египетском языке, особенно религиозного или литературного характера, они могут восходить ко времени начала Древнего царства (примерно 2800 лет до н. э.), если не к прото- и додинастическому периоду. Некоторые формулы, найденные на стенах пирамид, отражают гораздо более примитивную ступень культуры, как, например, "каннибальский" гимн Унаса, который описывает ловлю богов арканом. Подобно позднейшим египетским погребальным текстам, надписи состоят из большого числа гимнов, молитв и заклинаний, цель которых — облегчить покойному путешествие в загробный мир. Это делает их прямыми предшественниками текстов на саркофагах (характерных для Среднего царства) и так называемой "Книги мертвых", которая получила распространение в период Нового царства и обычно записывалась на папирусном свитке, вкладываемом в саркофаг вместе с умершим как своего рода passe partout [20]. Расшифровка и перевод архаических текстов пирамид считаются одним из триумфов египтологии.
Эти книги на камне, несмотря на их большие размеры, были полностью погребены в течение почти четырех тысяч лет. Открытие их произошло совершенно неожиданно. Археологи долгое время пренебрегали сильно разрушенными и, казалось, не предвещавшими интересных находок маленькими пирамидами в районе Саккары (около ступенчатой пирамиды Джосера), в которых был отчетливо виден упадок по сравнению с постройками IV династии в Гизе. Но на последнем году своей жизни Огюст Мариэтт, в то время глава египетской Службы древностей, приказал вскрыть их. Работой руководил Масперо, который в январе 1881 г. примчался к постели умирающего Мариэтта, чтобы сообщить ему о необычайной находке: стена за стеной, даже потолки покрыты иероглифами зеленоватого цвета. Сам Мариэтт всю жизнь считал, что существование надписей в пирамидах, что бы ни говорил Геродот о пирамиде Хеопса, совершенно невероятно.
Эти надписи бесценны для изучения эволюции египетской религии. Будучи столь древними, они все же обнаруживают несомненные черты, унаследованные от гораздо более древней эпохи. К тому времени, как эти тексты были высечены в пирамидах, они уже подверглись интенсивной модификации, и, если верить современным ученым, древние копировщики "испытывали затруднения и едва понимали тексты, бывшие у них перед глазами". Хотя многие из них, подобно "Книге мертвых", с нашей точки зрения, почти лишены смысла (возможно, их содержание и в самом деле немногим более чем тарабарщина), встречается довольно много отрывков, обладающих суровой, первобытной силой. Масперо, который обнаружил и опубликовал эти тексты, сказал, что они "отличаются многословием, обилием благочестивых банальностей, неясных намеков на дела мира, но среди всего этого мусора есть несколько отрывков, полных движения и неукротимой энергии, в которых поэтическое вдохновение и религиозное чувство все еще заметны сквозь завесу мифологических выражений". Мы не должны забывать, что эти надписи на стенах являются древнейшим сводом религиозных текстов — в сущности, древнейшей библией мира. Как и сама Библия, они полны туманных мест и не блещут возвышенной этикой.
Среди всех египетских папирусов "Книга мертвых" попадается почти столь же часто, как "Илиада" Гомера среди греческих папирусов. У египтологов это обстоятельство, возможно, точно так же вызывает досаду. Тем не менее в том, что касается искусства каллиграфии, украшений и иллюстрирования, мы не знаем в Египте других столь же прекрасных манускриптов. И они являются гордостью выставок в любом музее, так как, хотя это и звучит парадоксально, гораздо более древние египетские папирусы в целом сохранились лучше и исполнены более мастерски, чем греческие документы. Значительная часть содержания "Книги мертвых", однако, вызывает недоумение. Это суровое суждение нельзя объяснить исключительно тем, что у современного человека отсутствует понимание религиозных чувств древних.
Прежде всего следует помнить, что не существует какой-то конкретной "Книги мертвых", как то представлял себе Шампольон. Тексты эти имеют различный объем и структуру. В них повторяются, конечно, стандартные куски текста, ощутимо использование общих источников (некоторые ученые прослеживают их происхождение до I династии), но едва ли можно говорить о каноне, существующем для других религиозных сочинений Востока. Даже самые прекрасные погребальные свитки выглядят довольно беспорядочными компиляциями, причем некоторые существенные главы в них опущены, а другие отрывки бессмысленно повторяются. Нет ни последовательности, ни единообразия. Встречается очень много ошибок. Большинство этих свитков скорее всего были изготовлены для продажи и написаны беззастенчивыми литературными поденщиками-профессионалами. Мошенники, возможно, могли вносить в текст свежую струю собственного агностицизма, но они явно надували своих клиентов, подвергая их тем самым опасности на пути в мир иной. Вдобавок к этому позднейшая мода роскошно украшать погребальные свитки привела к сокращению текста. В манере современных иллюстрированных журналов рассказ должен был быть безжалостно урезан, чтобы уступить место привлекательным рисункам. Как заметил один современный египтолог: "Чем лучше рисунки в "Книге мертвых", тем хуже текст".
Но даже и текст, добросовестно исполненный, — идеал, о котором заказчики могли лишь мечтать, — оставался в лучшем случае сомнительным по своему смыслу. Перехитрить богов умышленным многословием и нелепыми формулами, чтобы быть допущенным к вечной жизни на прекрасных берегах небесного Нила, — вот цель, которая преследовалась. Как явствует из того, что получило неудачное название "Негативной исповеди" ("Я не сделал зла людям; я не обращался плохо с животными; я не грешил в храме; я не хулил богов; я не заставлял никого плакать; я не убивал"), средний египтянин 1500 г. до н. э. хотел действовать наверняка. Таковы типичные приемы ритуала, обычно встречающиеся там, где к власти пришло сильное жречество. Продажа индульгенций на Западе и использование водяных молитвенных мельниц на Востоке — аналогичные явления.
Следует признать, однако, что "Книга мертвых" отражала глубоко моральное самосознание и представление о вечной справедливости и воздаянии. Весь список грехов, приведенный в "Негативной исповеди", сам по себе является моральным кодексом, который можно сравнить с десятью заповедями и восьмеричным путем Будды, сформулированными гораздо позже. И как Тексты пирамид, от которых она в конечном счете ведет свое происхождение, "Книга мертвых" содержит стихи неподдельной религиозной страсти и поэтической возвышенности, и среди них прежде всего гимны Осирису и другим божествам.
Есть достаточно оснований считать, что Тексты пирамид и их прямые потомки вплоть до "Книги мертвых" являются древнейшими существующими книгами. Египтологи, однако, обычно относят это утверждение к "Папирусу Присс", рукописи Среднего царства, приобретенному в Египте в 1839 г. французским археологом Эмилем Присс д'Авенном. Место находки точно неизвестно, хотя француз считал вероятным, что продавший ему папирус феллах, которого он нанял при раскопках кладбища в Фивах, просто взял его из могилы царя XI династии, которую тогда вскрывали.
По сравнению с "Книгой мертвых" "Папирус Присс" является понятным текстом известного (или приписываемого) авторства. В отличие от Текстов пирамид и саркофагов он написан на папирусе и ближе подходит к нашему обычному представлению о внешнем облике книги. Согласно самому тексту, авторами двух трактатов были люди Древнего царства, III и V династий соответственно, царские советники, которых звали Кагемна (Кагемни) и Птаххотеп. Это исторические личности. Поскольку утверждение это ничем не опровергнуто, то два нравоучительных трактата, содержащиеся в "Папирусе Присс", вполне могут относиться к началу III тысячелетия до н. э., что отделяет их от Аристотеля на столько же времени, сколько отделяет Аристотеля от нас.
Оба трактата — трактат Кагемни гораздо короче второго — типичны для дидактических работ, бывших в моде в течение всей истории Египта. Этим трактатам находятся довольно близкие параллели в Ветхом Завете, особенно в Книге притчей Соломоновых и Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова. Говорят, что эти благоразумные, несколько прозаические советы писались, по обычаю, стареющим отцом (иногда даже царем) в наставление сыну. Относительным обилием дошедших до нас образцов этого жанра мы обязаны тому, что его переписывали школьники — не столько для удовольствия, разумеется, сколько потому, что это было стандартным упражнением.
Нет конца этим здравым отеческим советам: проповедуется уважение к собственности, воздержанность, скромность и другие подобные добродетели. Даются советы не повторять неприличные слова, не доверять удаче, уважать старших, иметь веселое выражение лица на празднествах. Должным образом перечислены положительные стороны женитьбы, но дается строгое предостережение против женщин: "Если ты хочешь делить дружбу свою с каким-либо домом, куда ты вхож как господин, или как брат, или как друг, в какое бы место ты ни входил, остерегайся приближаться к женщинам. Место, где они находятся, дурное. Из-за этого тысячи погибли…" Заключительная часть рисует розовое будущее сына, который последует этим превосходным советам. Он будет преуспевать и приобретать вес в мире. А в должное время он, в свою очередь, передаст поучение отца своим детям. Однако некоторые афоризмы, приписываемые царям, уравновешивают утилитарный темперамент Птаххотепа хорошей дозой зрелого пессимизма в отношении человеческой натуры и "трагического смысла жизни".
Высокого морального звучания достигают произведения более поздних авторов, например трактат Аменемопе, приобретенный Уоллисом Баджем для Британского музея еще в 1888 г., но ждавший публикации около тридцати пяти лет. После опубликования этот египетский трактат привлек к себе большое внимание. Бадж первым заметил его сходство с библейской Книгой Притчей Соломоновых. Однако на точные параллели, которые не могли быть случайными, указал Адольф Эрман: "Почти каждому стиху в Притчах — от стиха 17 главы XXII до стиха 14 главы XXIII — соответствует стих в египетском нравоучительном произведении". Довольно много изречений, по существу, одинаковы в египетском трактате и в его библейском двойнике. Начальный стих соответствующего раздела Притчей в древнееврейском тексте выглядит так: "Приклони ухо свое, внимай словам Моим и обрати сердце свое к почитанию их". У Аменемопе читаем: "Дай уши твои, слушай сказанное Мною, обрати сердце свое, чтобы понять это". Тщательное изучение Аменемопе даже позволило Эрману исправить одно туманное место в Библии. Слово, ранее переводившееся как "превосходные вещи", всегда считалось сомнительным. Предлагаемая древнееврейская альтернатива — "в прошлом" (shilshom) или, как предложили на полях древнееврейские писцы, "офицеры" (shaloshim), но оба прочтения не имеют большого смысла. Это слово, как мы знаем теперь, — "тридцать" (sheloshim), ссылка на количество глав у Аменемопе, которым соответствуют тридцать наставлений в древнееврейском тексте.
Не многие ученые будут отрицать почти полную идентичность древнееврейских и египетских наставлений, но кто кого скопировал? Та точка зрения, что языком оригинала был древнееврейский, подкрепляется сильным проникновением семитских слов в Египет примерно во время написания Аменемопе его трактата, а также этическим и монотеистическим направлением мысли Аменемопе. Параллельно с лингвистическим влиянием, как утверждают, должны были передаваться также представления и идеи. Однако трактат Аменемопе основан на давней традиции дидактической литературы, которая, как мы видели, восходит к Древнему царству и обрела литературную форму задолго до того, как на сцене появились евреи в качестве некоего племени из Аравийской пустыни. Ни один египтолог, как подчеркнул Алан X. Гардинер, не согласится "с подобной точкой зрения, которая недостаточно учитывает постоянно возрастающую тенденцию к монотеизму, явную во всех египетских произведениях послеэхнатоновского времени". Однако этот спор потеряет смысл, как только мы преодолеем националистические заблуждения в нашем понимании древних цивилизаций Ближнего Востока. Египет не развивался в изоляции и сам по себе. Даже Греция является кульминационным моментом тысячелетнего развития, а не уникальной, изолированной фазой средиземноморской культуры. С незапамятных времен страны Восточного Средиземноморья свободно обменивались формами искусства, религиозными представлениями, легендами и божествами, так же как и расово-генетическим и лингвистическим фондами. Средиземноморские народы постоянно и жадно заимствовали друг у друга, и в конечном счете они владеют общим культурным наследием. Нелепо ожидать, что они могут предъявлять друг другу обвинения в плагиате.
Близки по духу назидательной литературе несколько других типов литературных произведений, среди них письма и поучения, поощряющие профессию писца. Эти "пропагандистские" тексты распространялись в период Нового царства и своей сохранностью обязаны тому, что были удобны для копирования школьниками и подающими надежды писцами. Повторяющейся темой является так называемая "Сатира на ремесла", которая имеет параллель в Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова.
В "Поучении Ахтоя" отец, записывающий своего молодого сына в царскую школу писцов ("школу книг"), советует ему максимально использовать представившуюся возможность, которая освободит его от тяжелой работы, характерной для других ремесел: "Смотри, нет должности, свободной от руководителя, кроме (должности) писца, — сам он руководитель!.. (Но) не видел я ваятеля с поручением и золотых дел мастера, чтобы он был послан. Но видел я медника за работой его у отверстия печи его, причем пальцы его как у крокодила, а он более смраден, чем рыбья икра".
В таком же духе далее перечисляется профессия за профессией. Не будь солдатом, крестьянином, земледельцем, мясником или пекарем — они изнуряют себя день и ночь, а их награда — согбенная спина, неурожай, долги и конфискация собственности. "Видел я побои, видел я побои. Обрати же сердце твое к писаниям! Видел я освобожденного от повинностей его. Смотри, нет преизбытка писаний! Да заставлю я тебя полюбить писания более" чем свою мать, и да покажу красоту их перед тобой, ведь она больше красоты должности всякой…" Только писец имеет благородную профессию, сопряженную с минимальным риском для здоровья и комфорта. И как бы ни было скромно его происхождение, профессия поднимает его над его классом и может даже привести на порог могущества. Короче говоря, школьник несет в своем ранце печать визиря, жезл маршала, может быть, даже скипетр. И в Древнем Египте сохранились предания о такой головокружительной карьере. Дорога к власти шла не через меч, но через перо. Писцы командовали армиями, и из века в век появлялись образцовые писцы, достигавшие известности и славы. Высшие чиновники весьма любили, чтобы их изображали в характерной позе писца. Уважение египтян к письменности и учению напоминает нам отношение к ним китайских мандаринов. У обоих древних народов это уважение достигло размеров культа и, вероятно, способствовало развитию менее приятных побочных явлений социального чванства и интеллектуального бесплодия.
Тексты наподобие "Поучения Ахтоя" служили излюбленными учебниками, но все их увещевания и представляемые ими примеры для подражания часто не оказывали должного воздействия. Согласно Эрману, копии, сделанные учениками, нередко были выполнены очень небрежно. О папирусе, содержащем великую поэму о битве при Кадеше, Эрман сказал, что, если бы у нас не было также других копий ее текста, позволивших исправить бесчисленные ошибки, значительная часть поэмы осталась бы не прочитанной из-за полной неразборчивости.
Небольшая поэма эпохи XIX династии дает достаточно убедительное свидетельство того, что некоторые мечтающие о профессии писца (и не обязательно самые неодаренные из них) не добились своего, поддавшись лени и соблазнам большого города. Заблудшему ученику выговаривают:
Мне говорят, что ты забросил книги И отдаешься удовольствию. Ты ходишь с улицы на улицу; Каждый вечер запах пива, Запах пива отпугивает людей от тебя. Это ведет твою душу к гибели…Эта короткая зарисовка легкомысленного поведения дает нам представление о большом жизнелюбии египтян. Древние народы Нила любили жизнь; их несомненно частое обращение к мыслям о смерти не имеет того нездорового или мрачного оттенка, который мы связываем, например, с цивилизацией Месопотамии или древней Мексики. Смерть означала для египтян просто с надеждой ожидаемое продолжение земного существования в вечности. Конечно, время от времени то здесь, то там высказывалась мысль, что радости земной жизни более реальны, чем грядущие. Во всяком случае, мудрый человек стремится к тому, чтобы его короткое существование было полным во всех отношениях. Философия сагре diem — веселись сегодня, так как завтра ты умрешь, — популярная тема египетской литературы.
На долю египтян, живших в стране, где постоянно случались стихийные бедствия, выпало много невзгод. Для большинства жизнь была отнюдь не легкой, о чем ясно говорится в "Сатире на ремесла". Встречаются случайные намеки на социальный протест и даже на классовую борьбу. Во времена национальных кризисов, таких как политический развал Древнего царства, мы слышим голоса муки и отчаяния, например в "Лейденском папирусе I".
Фрагменты стихов указывают на удивительно широкий диапазон египетской литературы, которая, несмотря на сильную религиозную направленность, экспериментировала с новыми светскими формами, включая застольную песню и любовную лирику. Триумфальные песни, прославляющие деяния царей, составляют самостоятельную категорию. Даже религиозные гимны выходят за рамки стандартных формул поклонения, обнаруживают восхищение окружающим реальным миром и его проявлениями. Уже в эпоху XII династии (2000 г. до н. э.) можно услышать жалобу о том, как трудно стало находить новую тему, чтобы писать о ней: "Вот если б смог я найти неизвестные слова, изречения и высказывания на новом языке, в которых не выражалось бы того, что было не раз сказано, — только не изречения, ставшие избитыми, сказанные еще предками!"
Бедно представлены только эпос и драма, но даже в этом случае пробел можно объяснить скорее превратностями передачи текстов, чем изначальной узостью круга произведений в этих жанрах. Сохранилось несколько отрывков из пьес в жанре "страстей"; они регулярно ставились в честь Осириса в Абидосе или Эдфу. А описание битвы Рамсеса при Кадеше, ошибочно называемое "Поэмой Пентаура", по имени переписчика, носит эпический характер, хотя и не может сравниться с Эпосом о Гильгамеше или "Илиадой". Глубина чувства, восхищение красотой и животворными силами природы прекрасно воплощены в большом гимне богу солнца Атону, который приписывается самому царю-отступнику Аменхотепу IV (Эхнатону). Но даже этот, быть может, прекраснейший образец египетского поэтического гения отнюдь не является единственным. Несколько более ранних гимнов, посвященных Амону-Ра, поднимаются почти до равных высот.
По сравнению с этими торжественными, патетическими песнями египетская любовная поэзии является квинтэссенцией легкости, обаяния и нежности. Ничего подобного этому нет в древней литературе вплоть до греков. Библейская Книга Песни Песней Соломона в какой-то степени повторяет присущую этой поэзии восточную чувственность, но лишена ее почти александрийской гибкости и изящества. Хотя буквальные переводы не могут передать настроение и изысканность этих стихов, современные ученые нашли, что они напоминают остроумие и меланхоличность романтических стихов Гейне. Большинство стихотворений было написано, по-видимому, где-то к концу периода Империи, между 1300 и 1100 г. до н. э. Вполне вероятно, что они должны были иметь музыкальное сопровождение, — возможно, это была лютня. Обратите внимание на изящество отрывка из папируса "Харрис 500":
Ласточки я слышу голос: "Брезжит свет, пора в дорогу!" Птица, не сердись, Не брани меня! Милый у себя в опочивальне. Радуется сердце, Говорю я другу: "Не уйду!" — И рука моя в его руке. Для прогулок выбираем оба Уголок уединенный сада. Стала я счастливейшей из женщин. Сердца моего не ранит милый [21].Если египтяне вполне могут считаться создателями лирической любовной поэзии, то литературная летопись становится еще более красноречивой, когда дело доходит до таких форм повествовательных произведений, в которых они наиболее ярко проявили себя, — сказки, короткого рассказа, приключенческого романа. Многие из их фантастических историй напоминают сказки "Тысячи и одной ночи". И несмотря на элемент сверхъестественного в содержании некоторых из этих произведений, они стали важнейшим источником наших знаний о египетской жизни, обществе и политической истории.
Один из великих сюрпризов египтология преподнесла в 1852 г., когда французский ученый виконт Эммануэль де Руже, которому г-жа д’Орбиней доверила свой недавно приобретенный папирус, опубликовал статью, озаглавленную "Заметка о египетском иератическом манускрипте, написанном в правление Меренптаха", в которую была включена народная сказка. Это была первая публикация такого рода, и она открыла новую сторону в замечательно богатой и разнообразной литературе Египта. Что еще удивительнее, этот рассказ отнюдь не бледнел даже при сравнении со сказками братьев Гримм и Ханса Кристиана Андерсена, хотя и написан он был более трех тысячелетий назад. Это была "Сказка о двух братьях", рассказ такой человечности и столь живо обрисовывающий характеры персонажей, что по сей день доставляет наслаждение читателям. Среди величайших его достоинств — осязаемые детали повседневной жизни египетских простолюдинов периода Нового царства.
Один из наиболее поздних известных нам иероглифических текстов, папирус IV в.
Многие элементы сказки напоминают позднейшие истории других народов, отдельные сюжеты и характеры которых явно обнаруживают свое египетское происхождение, Еще одним достоинством рукописи г-жи д’Орбиней является то, что он не поврежден и вышел из мастерской опытного писца, имя которого известно. Несомненно, это один из самых прекрасных из дошедших до нас иератических папирусов. Даже имя владельца папируса удалось восстановить. Согласно колофону на оборотной стороне, труд принадлежал египетскому наследному принцу, который позднее правил под именем Сети II.
Первая часть истории трогает своей простотой, но во второй половине появляется так много мотивов, связанных с магией, что впечатление, по крайней мере с эстетической точки зрения, снижается. Вначале мы знакомимся с двумя братьями, Анупу и Батой, которые живут под одной крышей и вместе обрабатывают землю. Все идет хорошо, пока жена Анупу не становится причиной их ссоры. Почти в стиле жены Потифара она пытается соблазнить Бату. Однажды, когда Бата зашел домой с поля за семенами, она предложила ему: "Идем полежим вместе час. На пользу будет это тебе — я сделаю тебе красивую одежду!" Однако предложение неверной жены было отвергнуто, и она начинает мстить своему свояку, обвиняя его перед Анупу с "женским коварством" в том самом преступлении, в каком была виновата сама. Разъяренный старший брат намеревается убить Бату. Предупрежденный коровами, обладающими даром речи, Бата бежит, преследуемый по пятам Анупу. К счастью, вмешивается бог солнца, сотворив между ними реку, кишащую крокодилами, и таким образом Анупу удержан от братоубийства. В конце концов с безопасной дистанции Бата смог убедить брата в своей невиновности, после чего Анупу возвращается домой и убивает вероломную жену Остаток истории содержит чудо за чудом и ряд волшебных превращений, которые направлены на то, чтобы привести Бату, а вместе с ним и его верного брата к самому трону В конечном счете Бата становится отцом будущего фараона.
"Сказка о двух братьях" ознаменовала только начало открытия египетской беллетристики. Она относится также к наименее древним из такого рода произведений, большая часть которых датируется Средним царством, возможно самым продуктивным периодом египетской светской литературы. Папирус "Харрис 500" содержит два прекрасных произведения. Одно из них рассказывает, как Джхути (Тахути), полководец Тутмоса III, взял Иоппу (древняя Яффа) хитростью, напоминающей одновременно троянского коня и "Али-Бабу и сорок разбойников". Джхути был историческим лицом, и сохранились его меч и подарок от его благодарного царственного властелина. Рассказ о его подвигах вполне может быть основан на подлинном случае.
Совершенно далека от реальности другая сказка в папирусе "Харрис 500" — "Обреченный царевич", действие которой полностью происходит в царстве сверхъестественного, но рассказана она с замечательным искусством и держит читателя в постоянном напряжении.
Флиндерс Петри" который, как и Масперо, Эрман и другие, издал собрание египетских литературных текстов, называет "Обреченного царевича" "историческим словарем элементов повествовательной литературы". Использованы все освященные веками приемы, включая царскую дочь, запертую в замке отцом, но использованы эти приемы с большим искусством и, насколько мы знаем, впервые. Пришел ли царевич к гибельному концу, как было предсказано его родителям до его рождения, и как произошла катастрофа, мы узнать не можем, потому что заключительная часть папируса Харриса разрушена.
"Папирус Салье I" содержит рассказ, также представляющий необычайный исторический интерес, и хотя это довольно фантастическая история, она может содержать элементы правды. Она переносит нас во времена гиксосов — чужеземных азиатских царей, правивших в дельте Нила. Действие рассказа относится ко времени начала египетской войны за освобождение. По-видимому, для Апопи, гиксосского правителя, князь Фив был как бельмо на глазу. Апопи изо всех сил старался спровоцировать князя на войну, которую он, со своей стороны, наверняка хотел представить как чисто оборонительную. Поэтому он направил энергичный протест против гиппопотамов, которые содержались как священные животные в фиванских бассейнах и которые, как он заявил, своим плесканием мешали ему (за 350 миль!) спать по ночам. Умышленное оскорбление, направленное, несомненно, на религиозные чувства фиванцев, достигло цели. Апопи добился войны. Насколько нам известно, он одержал в ней победу: до нас дошел проломленный череп его противника, фиванского князя (череп находится сейчас в Каирском музее). Однако военные действия вспыхнули вновь, и в конце концов наследники фиванца вытеснили гиксосов из Египта. Это событие ознаменовало подъем великой XVIII династии и начало Империи, когда египтяне обрушились на азиатов с местью.
История Ун-Амуна, найденная в Эль-Хибе, звучит столь правдиво, что египтологи еще не решили, является ли она фактом или художественным вымыслом. Предполагают, что это был приукрашенный отчет о путешествии Ун-Амуна, чиновника при храме Амона-Ра в Фивах, совершившего поездку в Сирию, чтобы закупить кедровое дерево для восстановления церемониального барка, и перенесшего настоящую цепную реакцию бедствий. Они описаны с большой правдивостью и юмором. Бедный Ун-Амун, который, как говорит Артур Вейгэлл, "не был путешественником", напоминает требовательного эф-фенди, странствующего по базарам Ближнего Востока. Язык рассказа простой и ясный, видно умение автора описывать события и людей. Есть, например, краткое описание местного властелина в одном сирийском портовом городе, которого посетил Ун-Амун, не превзойденное в литературе этой ранней эпохи: "Я нашел его сидящим в верхней комнате, со спиной, обращенной к окну, в то время как волны великого моря Сирии бушевали за его затылком".
И снова большая ценность рассказа заключается в многочисленных упоминаниях о жизни тех времен. Мы получаем ясное представление о расколе страны в рамсесовском Египте с его автономными князьками на севере и возрастающим могуществом фиванского жречества. Затруднения Ун-Амуна в Сирии, несомненно, объясняются упадком египетского престижа и силы в этих краях. В Сирии — Палестине, около современной Хайфы, мы встречаем только что прибывших захватчиков (вероятно, из Сицилии), что можно поставить в связь с миграционным движением сметавших все на своем пути "народов моря" и филистимлян, занявших палестинское (т. е. филистимлянское) побережье. Из рассказа мы узнаем интересные подробности об экспорте папируса из Египта, когда сирийский правитель требует в качестве уплаты пятьсот листов.
В истории Синухе (Синухета) мы встречаемся с прототипом приключенческого романа. Действие рассказа, который считается прекраснейшим произведением египетской художественной литературы, происходит в эпоху Среднего царства, в реалистической обстановке. Как и история Ун-Амуна, он переносит нас в Сирию, куда добровольно удалился Синухе. Популярность этого рассказа в Древнем Египте подтверждается сравнительно большим числом найденных фрагментов. Некоторые отрывки даже вошли в повседневный язык. Нам известно, например, что моряков, посланных царицей Хатшепсут, приветствовали в иностранном порту точно таким же образом, как некогда варвары приветствовали Синухе; все равно как мы сказали бы шутя путешественнику: "Простите, вы случайно не доктор Ливингстон?" Историю Синухе помещали даже в некоторые могилы для развлечения покойного.
Еще один рассказ в духе Эдгара Аллана По, на этот раз из эпохи Рамессидов, переносит нас прямо в египетскую гробницу. В одной сцене царевич играет в шашки с призраками умерших — классический "леденящий душу" эпизод, которым, однако, далеко не исчерпываются все прелести этого рассказа.
Так за последние полтора века из пыли веков поднялась египетская литература, обнаружив древнюю цивилизацию, питавшую огромное уважение к письменности и литературному творчеству. Несколько произведений религиозного или светского характера в течение веков пользовались общенациональной популярностью. Классическая литература, как и в Древнем Китае, ценилась очень высоко. Более того, египтяне сознательно и постоянно пытались проследить литературные традиции до гораздо более раннего времени и заново переоценить их в духе своеобразного возрождения. Восстанавливались или вновь обнаруживались более древние работы. В самой "Книге мертвых" утверждается, что в нее якобы был включен один текст, "найденный" в эпоху I династии. Другая такая находка была будто бы сделана царевичем Хордедефом, сыном Хуфу (Хеопса), в правление Менкаура, примерно за тысячу пятьсот лет до составления "Книги мертвых".
Поэтому нет ничего удивительного в том, что герой одной древней египетской истории предвосхищает примерно на три тысячелетия наших современных египтологов в своих поисках "утерянного" манускрипта. Эта приключенческая история сохранилась в демотической копии птолемеевских времен, которая сейчас находится в Каирском музее. Она излагает сказание о царевиче Сет-на (Сетме Хамуас), сыне Рамсеса II и жреце Птаха в Мемфисе, который был ревностным исследователем древних свитков. Сетна был прославлен в египетских легендах за свои исследования в оккультных науках. Статуя этого царевича с высеченным на ней его именем находится сейчас в Британском музее.
В сказании говорится о том, что Сетна охотился за книгой по магии, предположительно написанной самим богом Тотом. После долгих поисков он ухитрился найти свиток папируса в склепе в Мемфисе, где он вступил в состязание с духами покойного. Он проиграл, но, несмотря на предостережение, забрал желанный манускрипт и не откладывая в долгий ящик принялся за его изучение. Вскоре, однако, мертвец начал преследовать его, и царевич оказался на грани безумия. В конце концов его царственный отец Рамсес посоветовал ему вернуть книгу мертвецу и искупить свой грех — разграбление могилы. Сетна обещал перенести в гробницу мумии жены и сына покойного из их могил в Коптосе. Итак, охота за рукописями оказалась неблагодарным, если не опасным занятием. Хотя Сетна и должен был сменить Рамсеса на престоле, он умер раньше своего отца, который пережил тринадцать сыновей. В конце концов Меренптах, четырнадцатый в череде сыновей, унаследовал трон.
Современным охотникам за манускриптами и грабителям могил повезло больше, хотя некоторых из них как будто тоже преследовали демоны. Каждый из них, однако, внес свой вклад в осуществление египетского пророчества многовековой давности, содержащегося в одном из обнаруженных папирусов: "Что касается тех ученых писцов, кто жил подобно богам… их имена будут существовать вечно, хотя сами они ушли в небытие… и все их родственники забыты. Они не сделали себе медных пирамид с надгробными плитами из железа… Они сделали папирусный свиток жрецом, творящим (заупокойную?) молитву, письменную доску — любящим сыном; книги поучений были их пирамидами, тростниковое перо — их ребенком, а каменные поверхности — женой… Более полезна книга, чем резная стела или прочная могильная стена… Человек разлагается, тело его — прах, и все его родственники вымерли, но писания заставляют его имя жить на устах чтеца. Книга полезнее, чем дом строителя или погребальная часовня в песках Запада…"
Библия ханаанеян
И ты, сын человеческий, возьми себе кирпичину, и положи ее пред собою, и начерти на ней город, именно Иерусалим.
Иезекииль 4,1Незадачливый Ун-Амун, египетский чиновник, которого мы сопровождали в его рискованной миссии в Сирию, вручил местному князю груз в пятьсот свитков или листов папируса. Эта деталь в полуисторическом рассказе доказывает, что сирийцы II тысячелетия до н. э. умели писать, нуждались в материале для письма и потребляли для этого большое количество папируса. В другом месте рассказа Ун-Амуна правитель Библа (Гебала), известного сирийского города на берегу Средиземного моря, посылает за дворцовыми отчетами, ведущимися на свитках, чтобы проверить сделку, ранее заключенную египтянами с его отцом и дедом. Что случилось с этими сирийскими архивами? Ответ на этот вопрос прост и удручающ. Ни один папирусный свиток почтенного возраста никогда не был обнаружен на неегипетской земле. Должно ли это означать, что вероятность сохранности каких-либо значительных сирийских документов очень мала? Это отнюдь не обязательно. Сирийцы и другие цивилизованные народы Восточного Средиземноморья, очевидно, использовали папирус, но, как и сами египтяне, они писали и на других материалах, включая металл, кожу животных, черепки, дерево и камень. И прежде всего они писали на глине — материале гораздо более прочном, чем папирус, пергамен или бумага.
Долгое время, правда, в Сирии и Палестине вообще не находили ни длинных, ни коротких текстов ни на одном из материалов. Для ориенталистов и ученых-библеистов это было особенно огорчительным, так как длинная полоса земли — место обитания ханаанеян, финикийцев и евреев и одновременно связующее звено между Египтом и Месопотамией — играла существенную роль в истории древнего Ближнего Востока. Ее литература могла бы пролить свет на ту культурную и религиозную среду, с которой столкнулись израильтяне, когда они пришли в Ханаан.
Раннешумерская надпись на глиняной табличке, датируемая примерно 3000 г. до н. э. Форма клинописных знаков выдает их пиктографическое происхождение.
В течение всего XIX в., когда соседние Египет и Месопотамия столь щедро одаривали мир документами и утерянными литературными произведениями на папирусе и глине, фактически ничего не было извлечено из земли Сирии. За отсутствием доказательств некоторые ученые мужи с легкостью сделали вывод, что письменная культура на этой территории в бронзовый век была неизвестна. Были еще экстремисты из немецкой "либеральной" школы библеистики (называемой школой "высшей критики"), как, например, Юлиус Велльгаузен, которые настаивали, что евреи не обладали письменностью по меньшей мере до их "века царей", — тезис, который дол-жен был означать, что все библейские книги были составлены позднее.
Аргументы Велльгаузена и другие, схожие с ними, отчасти потеряли убедительность с появлением тель-эльамарнских табличек, найденных в Верхнем Египте в 1887 г., которые содержали переписку фараонов XVIII династии (около XIV в. до н. э.) с их сирийскими вассалами. Сделанные на аккадском, международном языке того времени, эти клинописные записи показали, что сирийские правители использовали писцов. Папирус Ун-Амуна, найденный в 1890-х годах, добавил новые свидетельства. Однако до 1929 г. из самой Сирии не поступало никаких достойных внимания материалов, которые могли бы существенно поколебать тезис Велльгаузена. В этом году в результате случайной находки на побережье Северной Сирии французские археологи обнаружили ханаанскую храмовую библиотеку из глиняных табличек XIV или XV в. до н. э. Сразу же стало очевидным, что Сирия — Палестина имела развитую литературную традицию задолго до прихода евреев. Из содержания сирийских табличек вскоре стало ясным, что они представляют совершенно новую главу литературы, являются, как сказал Сайрус X. Гордон, один из ведущих американских ученых в этой области, "важнейшим вкладом… со времени расшифровки египетских иероглифов и месопотамской клинописи в прошлом веке".
В марте 1928 г. крестьянин, вспахивавший свое поле вблизи Минет-эль-Бейды (Белой Гавани) в Северной Сирии, наткнулся на каменную плиту. Подняв тяжелое препятствие, он попал в хорошо распланированное подземное помещение. В конце прохода была сводчатая погребальная камера. Следуя освященной веками практике, крестьянин разграбил могилу. Драгоценные изделия, которые он немедленно сбыл на рынке древностей, так никогда и не были обнаружены.
Тем временем новости о находке — с неизбежными приукрашиваниями — распространились со сверхъестественной быстротой. В несколько дней они дошли до французского губернатора территории, который, в свою очередь, известил Службу древностей Сирии и Ливана в Бейруте, тогда возглавляемую Шарлем Виролло, известным востоковедом. Виролло сам посетил место находки, а затем послал помощника для предварительного обследования. Из разграбленной могилы не было извлечено ничего особо интересного. Исполнительный ассистент собрал несколько черепков, а также зарисовал подземный склеп. Этот материал был отослан в Париж на исследование Рене Дюссо, хранителю восточных древностей в Лувре. По случайному стечению обстоятельств Дюссо хорошо знал район Минет-эль-Бейды. За несколько лет до этого он занимался историко-географическим изучением Сирии и был поражен расположением гавани с прекрасным естественным заливом, окаймленным известняковыми скалами, прямо напротив "вытянутого пальца" Кипра. Не был ли это Левкос Лимен, описанный древними греческими географами, чье название было точным эквивалентом нынешнего арабского? Дюссо был почти уверен в том, что Белая Гавань в древности играла важную роль в заморской торговле и навигации Восточного Средиземноморья. Вполне вероятно, что этот порт был также узловым на исторической дороге, связывавшей Малую Азию с Сирией — Палестиной и Египтом, а также с другой дорогой, из Месопотамии, которая соединяла Персидский залив со Средиземноморьем. Здесь сходились три континента. Ее близость к кипрским медным копям вполне могла дать ей своего рода монополию. Как могли искусные мореходы минойского Крита и Финикии обойти такое удобное место?
Подобные мысли не могли не появиться у Дюссо, когда он увидел материал, только что прибывший из Минет-эль-Бейды. Он вспомнил также о случайных находках клинописных печатей на близлежащем холме Рас-Шамра (Головка Фенхеля), названном так в наше время из-за растущих там сильно пахнущих трав. Ходили также упорные слухи, что по соседству местные жители собирали золотые предметы. Виролло и его ассистент уже обратили внимание на сильное сходство гробницы с неазиатскими минойско-кипрскими и микенскими сооружениями. Взгляд на рисунок напомнил Дюссо о могилах, раскопанных Артуром Эвансом в Кноссе, на Крите. Керамические фрагменты выдавали кипрское и микенское происхождение и относились, возможно, к XIII в. до н. э. Все эти данные не оставляли сомнений в том, что какое-то время во II тысячелетии до н. э. Минет-эль-Бейда находилась под сильным микенским влиянием. Ни одно микенское поселение еще не было обнаружено на Азиатском материке, если не считать "ионийского" берега, хотя "эгейские" изделия, найденные Петри в Египте в 1880-х годах среди предметов периода Нового царства, свидетельствовали о широком распространении микенских элементов.
Дюссо был обрадован таким доказательством микенского проникновения на сирийское побережье, и его вовсе не обескуражили скромные результаты пробного раскопа. Он убедил французскую Академию надписей и изящной словесности развернуть широкую кампанию, чтобы поспеть до того, как грабители и торговцы древностями начнут свои частные операции. Дюссо был теперь уверен, что могила не была отдельным случайным погребением, а являлась частью более обширного микенского или эгейского кладбища, связанного с некогда процветавшей метрополией. Если бы только можно было определить местоположение этого приморского города! Он уже надеялся, что холм Рас-Шамра сможет раскрыть секрет.
Парижское начальство действовало быстро. Ровно через год после находки местного жителя полностью снаряженная французская экспедиция начала работу около Белой Гавани, милях в восьми к северо-западу от сирийского города Латакия. Раскопки этого многообещающего места были доверены молодому эльзасскому археологу Клоду Ф.-А. Шефферу из Доисторического музея Страсбурга. Он выбрал своим ассистентом Жоржа Шане, археолога из Аргонны, который, как и Шеффер, до этого специализировался на доистории Западной Европы. Как только отряд Шеффера к концу марта 1929 г. достиг Минет-эль-Бейды и разбил лагерь, началось широкое обследование района. Шеффер не сомневался: здесь был большой некрополь, как и предвидел Дюссо. Но совершенно неожиданно оказалось, что почва насыщена самыми разнообразными остатками материальной культуры. Это было большим сюрпризом: Сирия, как считалось до этого, была полностью обследована археологами. Кроме того, весь район был буквально истоптан пришельцами и завоевателями в течение тысячелетий — условие, явно не благоприятствующее сохранению изделий человеческих рук.
Изобилие предметов, выкопанных теперь французами, наводило на мысль, что этот район имел многочисленные связи с главными ближневосточными цивилизациями последней половины II тысячелетия до н. э., которую американский египтолог Дж. Г. Брэстед однажды удачно назвал эрой "первого интернационализма".
Шеффер и Шане раскопали изящные минойские и микенские вазы, лежавшие бок о бок с огромными местными кувшинами, "достойными собратьями кувшинов из сказки об Али-Бабе". В нескольких местах они наткнулись на большие, "очень натуралистически выполненные" фаллосы. Примерно в центре захоронения, где до сих пор встречались только кости животных, а не человека, французы обнаружили клад статуэток и других драгоценных изделий, исполненных с большим мастерством; среди них были изображения финикийских, египетских и минойских божеств. Когда золотая пластинка с изображением обнаженной богини любви Астарты сверкнула среди окружавших ее изысканных ювелирных изделий, Шеффер телеграфировал в Париж, перефразируя Шлимана: "Сокровище Минет-эль-Бейды найдено".
Хотя и обрадованные неожиданными находками, французские археологи стали в тупик перед задачей идентификации культуры, к которой принадлежал этот сирийский некрополь. Пожалуй, могилы свидетельствовали в основном об эгейском (т. е. неазиатском) влиянии. С другой стороны, обнаружились явные признаки элементов своеобразной местной культуры и черты египетского и хеттско-анатолийского происхождения. Никакое удовлетворительное решение этой загадки не представлялось возможным до тех пор, пока не был раскопан город, которому некрополь должен был принадлежать. Не окажется ли он просто колонией микенских торговцев и моряков? Древний морской порт предстояло еще найти.
Знойное сирийское лето было в разгаре, когда Шеффер решил перенести работы завершающих недель первой кампании в Рас-Шамру, примерно в полумиле от залива, в глубь страны. Это был холм, на который уже обращал внимание Дюссо. Возвышенность высотой в 65 футов образовывала на вершине большой прямоугольник, площадью примерно 3000x1960 футов. Холм очень удобно располагался между двух журчащих ручьев, у места их слияния, но геологически он, казалось, не соответствовал топографии прибрежной равнины. Это мог быть курган или холм, поднявшийся до нынешней высоты в результате длительного обитания людей, время от времени прерываемого разрушением и полной заброшенностью. Это предположение было подтверждено не только почти сразу сделанной находкой довольно крупного города, связанного с некрополем Минет-эль-Бейды, но и впоследствии, когда Шеффер проник в самый нижний слой, который ясно указывал на неолитическое поселение, современное месопотамскому Тель-Хассуну VI–V тысячелетий до н. э. (палеолитические остатки на окружающей равнине свидетельствуют о том, что homo sapiens скитался здесь еще со времени появления первых людей в Сирии).
Всего в холме было пять основных слоев, которые в ходе нескольких раскопок помогли проследить эволюцию города и выявить его политические и культурные особенности. Второй снизу слой (IV), как и самый нижний (V), принадлежал к неолитической эпохе, примерно к 4000–3500 гг. до н. э. Он содержит эльобейдский тип керамики, характерный для месопотамских городищ этого времени. В слое III появляется совершенно новый элемент, возможно обязанный приходу семитической народности аморитов, которым предстояло образовать господствующую этническую группу в Сирии и которые стали известны как ханаанеяне или финикийцы. Не намного позднее, в III тысячелетии до н. э., отмечено египетское проникновение. Есть, например, вотивные статуи, поднесенные фараонами (и, может быть, их сирийскими женами), некоторые с иероглифическими надписями. Картина становится более сложной во II тысячелетии, во время наивысшего расцвета города, когда при "строителях империи" Нового царства, в основном при Тутмосе III, вся Сирия была завоевана Египтом. Борьба за власть, развернувшаяся на Ближнем Востоке с упадком Нового царства, столь точно изображенном в дипломатической переписке из Тель-эль-Амарны, оставила следы в виде хурритских, митаннийских, хеттских и ассирийских набегов. В XIV в. Рас-Шамра, вероятно, на короткое время подчинилась хеттскому правителю Суппилулиуме, после чего вновь утвердился Египет. Окончательный упадок наступил с высадкой "норманнов древности" — загадочного "народа моря", о котором иногда думают, что это были филистимляне, занятые в то время приобретением более прочного плацдарма вдоль побережья Южной Палестины. Возможно также, что последний удар был нанесен ассирийскими завоевателями в XII в. [22]Что касается микенцев и минойцев, то, вероятнее всего, их влияние ограничивалось в основном торговлей и культурой. Эти европейские купцы, по-видимому, основали богатую иностранную колонию в Рас-Шамре II тысячелетия, которая была своего рода древним Шанхаем.
Но историческую судьбу Рас-Шамры предстояло еще выяснять в течение ряда лет. Для первого проникновения в холм, в мае 1929 г., Шеффер избрал самую высокую точку на стороне, выходящей на гавань, где, как он думал, стоял царский дворец. Кроме того, ходили слухи, что именно на полуразмытом склоне, внизу, были найдены печати. Едва землекопы Шеффера сняли тонкий слой почвы, как появились стены большого здания (позднее оно оказалось святилищем). Зола и сажа пристали к разрушенным блокам и теперь пачкали руки землекопов. Бронзовый кинжал и гвозди, изогнутые под воздействием сильного жара, поведали о том, что здание было уничтожено пожаром. Различная утварь и египетские статуи помогли определить возраст — примерно XIII в. На одной гранитной статуе, подаренной фараоном, была иероглифическая надпись, что позволяло отнести ее к периоду египетской имперской экспансии эпохи Нового царства.
Статуя была посвящена богу Сету Цапунскому. Стало очевидным, что крепкие связи с Египтом существовали уже много лет. Позднее французы заметили, что большое число египетских изображений было умышленно изуродовано, что, весьма вероятно, является признаком упадка египетского влияния и международного разлада.
На этой, ранней, стадии раскопок данные о прошлом города были, естественно, неполными. Но можно было быть уверенным, что у Рас-Шамры долгая история и она являлась чем-то большим, чем просто эгейской или микенской колонией. Поскольку в то время не было подтверждающих данных из других источников, недостающие звенья предстояло найти с помощью лопаты. И тут археологам повезло. Шеффер и его люди производили раскопки широким полукругом вокруг так называемого дворца. На восточной стороне они раскопали другое довольно большое здание, по обеим сторонам которого, как потом оказалось, находились большие храмы Баала и Дагона. Внутри здания было много маленьких помещений одинакового размера, сгруппированных вокруг центрального внутреннего двора. Шеффер решил вначале, что эти камеры служили кладовыми. Но 14 мая 1929 г. он нашел в углу одной из камер, среди пепла и камней, глиняную табличку с клинописью. Сомнений не оставалось: здесь была библиотека.
Перед этой находкой бледнели все роскошные погребальные камеры, великолепные ювелирные изделия, статуи, рельефы и предметы искусства. Вот наконец они, дюжины глиняных табличек из древней сирийской земли. Некоторые были сложены одна на другую в определенном порядке; несколько других оказались вмурованы в стены — может быть, как строительный материал. Нужна была особая осторожность при извлечении табличек, так как огонь и другие неблагоприятные условия сделали их крайне хрупкими. После успешного окончания этой деликатной операции французские археологи могли быть уверены, что обнаружили подлинное сокровище Рас-Шамры. До конца сезона извлекли более пятидесяти табличек, значительное число их было выявлено и в последующих экспедициях, ежегодно снаряжаемых до 1939 г, и возобновившихся в 1948 г. В 1953 г. при раскопках царского дворца Шеффер нашел главный дипломатический архив.
Ни Шеффер, ни его ассистент Жорж Шане не были востоковедами, и с дешифровкой табличек приходилось ждать до их прибытия в Париж. К счастью, Шарль Виролло, который собирался уйти в отставку со своего поста в Бейруте, оказался под рукой, чтобы изучить их. С первого взгляда казалось, что все таблички были идентичны табличкам Ассирии и Вавилонии. Однако даже беглый просмотр, сделанный опытным человеком, обнаружил неоспоримые признаки этнического и культурного разнообразия, следы завоеваний, колонизации и космополитической мешанины ведущего заморскую торговлю порта. Идентификация гавани по-прежнему оставалась спорной. Все надеялись, что глиняные таблички помогут разгадать ее историю и в то же время прибавят что-либо к нашим знаниям о критическом периоде, когда сталкивались и гибли великие империи, "морские народы" совершали набеги на побережья, а такие "окраинные" народы, как евреи, финикийцы и арамейцы, на короткое время утвердили свою независимость.
В ходе этого первоначального ознакомления Виролло обнаружил таблички, почти идентичные табличкам из Тель-эль-Амарны. Они относились примерно к тому же времени и, подобно им, содержали дипломатическую переписку. Кроме того, имелись письма официального и частного характера, отчеты о налогах, храмовые записи, трактат по ветеринарии (о лечении лошадей), судовой реестр, напоминающий лондонский Ллойд, записи о торговых сделках и другие самые разнообразные документы. Большая часть этого материала нелитературного характера была на аккадском ("вавилонском") языке и легко могла быть прочитана. Тесные связи с месопотамской цивилизацией еще раз были подчеркнуты шумерскими юридическими и религиозными текстами, столь же почитаемыми и изучаемыми в сирийском городе, как и в Ниневии или Вавилоне, — и это более чем через тысячу лет после того, как шумерский язык перестал быть живым языком. Кроме того, было большое число списков слов (синонимов), двуязычных табличек, словарей и т. п., призванных помогать писцам и способствовать ученикам в изучении литературной композиции и всевозможных художественных средств. Неуклюже написанные упражнения указывали, что "библиотека" была школой писцов, а также высшим учебным заведением для жрецов, наподобие тех, что существовали при египетских и месопотамских храмах.
По мере появления нового материала во время позднейших раскопок не осталось сомнения, что жители средиземноморского прибрежного города были подлинными полиглотами, хотя основные семито-месопотамские корни местной культуры продолжали проявляться со всей энергией. Со временем в библиотеке были обнаружены тексты на хеттском, египетском и хурритском языках, а также несколько записей, выполненных кипрским письмом. Всего насчитали восемь языков. Шарль Виролло, первым оценивший содержание и характер табличек, заметил: "Поистине как будто все цивилизации Востока, а также Запада во II тысячелетии назначили друг другу свидание в этой точке сирийского побережья".
Однако, как бы ни были интересны и богаты сведениями эти разнообразные тексты, их затмил другой вид глиняных табличек, составлявший огромное большинство ежегодных находок. Внешне неотличимые от остальных, эти таблички, казалось, были написаны начисто исчезнувшим письмом, если не на забытом языке. Хотя они тоже состояли из клинообразных знаков, вырезанных на влажной глине слева направо, Виролло вскоре заметил, что сходство с месопотамским письмом было лишь поверхностным. Вместо пятисот с лишним слоговых символов, требуемых для передачи шумерского, вавилонского или ассирийского клинописного текста, количество знаков в этих табличках было сокращено до ничтожно малой величины — примерно двадцать семь при первом подсчете, позднее было установлено, что их тридцать. Ни один из этих весьма простых знаков не имел двойника в традиционной клинописной слоговой азбуке.
Фрагмент из "Законов Хаммурапи" (II тыс. до н. э.), записанных слоговой вавилонской клинописью
Виролло знал основной принцип эпиграфики: любое письмо, которое может обойтись столь немногим числом элементов, должно быть алфавитным. Внезапная встреча с алфавитом столь раннего периода, когда, как предполагалось, он еще не был изобретен, ошеломила. Ни один ученый не подозревал о существовании клинописного алфавита во II тысячелетии. Правда, египтяне ввели псевдоалфавитные ("акрофонические") детали в свою письменность, но они не смогли довести дело до конца и вынуждены были сохранить свои составные, слоговые, идеографические и детерминативные (вспомогательные символы для передачи значения) знаки. Вдобавок существовало еще загадочное синайское письмо, обнаруженное Петри в наскальных надписях Синая.
Клинописный алфавит Рас-Шамры с обозначением фонетических эквивалентов
Некоторые считали, что это было приспособление семитского письма к египетским алфавитным знакам, что в 1930 г. являлось еще недоказанной гипотезой. Только за несколько лет до того другой французский археолог обнаружил в Библе саркофаг с финикийской алфавитной надписью некоего царя Ахирама, о времени правления которого велись долгие споры. Старейшим надежно установленным алфавитным документом, найденным в 1868 г., был Моавский камень с надписью, выполненной древним "еврейским" письмом, воздвигнутый царем Моава Мешей в IX в. до и. э. Долгое время существовало единое мнение, что финикийский алфавит, ставший алфавитом Запада, появился не намного раньше моавской надписи.
Телеграфное сообщение Шеффера в Париж о новом алфавите взволновало ученых всего земного шара и принесло Шефферу, в его сирийский лагерь, поздравления по радио и в письмах из Англии и Америки. Ориенталисты всего мира признали, что таблички, найденные в Рас-Шамре, содержат древнейший из известных алфавитов. Возможно, он был гораздо старше табличек, если судить по совершенству письма и тому факту, вскоре ставшему известным, что писцы Рас-Шамры уже приспособили его к другому, чужеземному, языку — хурритскому. Со времени находок в Рас-Шамре две таблички, написанные справа налево, в палестинском стиле, были выкопаны в Палестине. Занятно, что один такой образчик после этого был обнаружен и в Рас-Шамре. Эти две таблички являются дополнительным доказательством того, что клинописный алфавит не был изобретен в ночных бдениях гением-одиночкой из Рас-Шамры, как считали некоторые эксперты, но вполне мог иметь предшественников по всей ханаанской земле, которая до прихода евреев, по-видимому, отличалась поразительным культурным единством.
Но и гордый титул "древнейшего алфавита" продержался не очень долго. Другие фрагменты с неклиновидными алфавитными письменами, обнаруженные позднее в Сирии — Палестине, оказались еще древнее. В сущности, они, вероятно, предшествуют синайским надписям, которым они как будто родственны. Однако самый ранний список алфавитных букв, известный ныне, пришел из Рас-Шамры и является клинописным. Шеффер нашел его там через двадцать лет после первых раскопок, причем и на этот раз его ожидал сюрприз: последовательность знаков в этом алфавите была практически та же, что и у того, происходящего от финикийского алфавита, которому обучают в наших начальных школах. Следовательно, мы можем предположить, что финикийский и клинописный алфавиты с их соответствующими значениями согласных развивались совместно или взаимосвязанно. Возможно также, что финикийский алфавит появился первым, как склонны утверждать ученые в настоящее время. Вклад ханаанеян состоит не столько в том, что они изобрели то или иное письмо, сколько в том, что где-то во II тысячелетии до н. э. они развили принцип алфавитного письма и довели его до логического завершения. Это, несомненно, является одним из величайших достижений человечества.
Но как было научиться читать это новое письмо? Когда появились таблички с алфавитной письменностью, никто не мог быть уверен, на каком они языке, особенно в связи с тем, что Рас-Шамра была многоязычным прибрежным поселением. Тогда ученым не приходило в голову, что ханаанско-финикийские поселения простирались столь далеко на север, к Анатолии. Первой мыслью Виролло было приписать эти тексты минойцам — киприотам или даже митаннийцам. Загадка вполне могла оказаться неразрешимой. Перед учеными лежали древние тексты, написанные неизвестными знаками. Лишь немногие из них имели, если вообще имели, хотя бы отдаленное сходство с клиновидными слоговыми знаками. Никто не мог сказать, на каком языке они были написаны. Знание языка древних киприотов и минойцев было крайне неопределенным. И не было обнаружено какой-либо билингвы наподобие тех, которые сыграли основную роль в дешифровке других письменностей. Алфавитный список был найден, как мы отмечали, гораздо позже. Была ли вообще какая-нибудь надежда на дешифровку? И если да, то каким путем следовало идти?
Ученые долго утверждали, что неизвестная письменность на неизвестном языке не может быть дешифрована. Однако, будучи высказано в такой неконкретной форме, это утверждение является сомнительным и уязвимым. Многое зависит от значения слова "неизвестный", особенно в термине "неизвестный язык". С семантической точки зрения есть несколько степеней "неизвестного". Это утверждение может просто означать тавтологически, что "неизвестный" язык не может быть известным. "Неизвестный" язык, однако, может быть родствен известному (происходящему из общего корня) языку, либо "неизвестный" язык нерасшифрованного текста может оказаться более или менее знакомым, когда он станет доступным для прочтения. В последнем случае, как еще раз было доказано расшифровкой Вентрисом и Чэдвиком "линейного Б", которое было всего лишь древней формой ахейского греческого, успех в конце концов неминуемо придет. Если количество символов ограниченно, как в алфавите, шансы намного увеличиваются. Другой способ — разгадка секретных кодов криптографами. И действительно, частично используя эти способы, трое ученых, немец и два француза, пришли к разгадке.
В отличие от Артура Эванса, который всю жизнь утаивал критские глиняные таблички, надеясь расшифровать их все самостоятельно, Шарль Виролло тщательно переписал все алфавитные тексты из Рас-Шамры и на благо коллег опубликовал их в апреле 1930 г. в востоковедном журнале "Сирия", издателем которого был Рене Дюссо. Виролло в известном смысле был поставлен в невыгодное положение тем, что можно назвать — в духе Пиквика — слишком большим знанием. Он был в Белой Гавани и в Рас-Шамре, непосредственно изучил археологические памятники и, возможно, был чрезмерно поражен микенско-минойскими чертами, столь заметными в первых находках в некрополе Минет-эль-Бейды. Разумным предположением было связать появление странной письменности с агрессивными гостями, вторгшимися в среду обитания коренного населения Сирии, которое, согласно всем свидетельствам, до этого времени вполне обходилось традиционной клиновидной слоговой азбукой. Кроме того, Виролло, возможно, не примирился с тем, что главное прибрежное поселение в северной части Сирии может быть приписано финикийцам или ханаанеянам. Возможно также, что на него повлияла с энтузиазмом поддерживаемая в то время теория о том, что наш алфавит в конечном счете был эгейского (квазигреческого), а не азиатского финикийского происхождения.
Тем не менее именно Виролло предложил первый ключ, который его коллеги, профессор Ганс Бауэр из университета в Галле и отец Поль (позднее Эдуард) Дорм, успешно применили. Первой ниточкой был алфавитный характер письменности. Затем Виролло заметил в тексте вертикальные линии, которые, весьма вероятно, служили словоразделителями. Очевидно, этот язык состоял из довольно коротких слов, редко превышающих три-четыре буквы. Эта особенность исключала вероятность того, что язык был греческий или "микенский". К этим общим соображениям Виролло добавил одну более конкретную деталь.
По счастливой случайности сразу же после извлечения глиняных табличек Шеффер обнаружил у подножия лестницы в "библиотеке" клад из семидесяти четырех бронзовых орудий и инструментов. Пять бронзовых топоров имели надписи теми же алфавитными символами. Длина надписей менялась, но несколько символов, если не слов, повторялось. Виролло нашел также более длинное слово — из шести букв — в начале таблички, которому предшествовало, по всей вероятности, слово из одной буквы. Последнее, предположил Виролло, соответствует французскому "а" (английскому "to") или аккадскому "ана", видимо использовавшемуся в эпистолярном обращении или в формуле посвящения. Кроме того, более длинное слово, общее для обоих документов, было, возможно, именем лица — быть может, владельца "библиотеки". (Оказалось, что это титул верховного жреца.) Еще одно слово повторялось на двух топорах. Оно состояло из четырех букв, и Виролло решил, что оно обозначает название предмета — "топор", — на каком бы языке это ни было. Виролло правильно понял эти слова. С замечательным предвидением он заявил: "Если бы можно было собрать все слова в различных восточных языках, которые обозначают "топор", несомненно, удалось бы прочитать это слово на топорах из Рас-Шамры. При отсутствии билингвы определения этих четырех букв, возможно, будет достаточно для расшифровки всех остальных текстов".
Пока Виролло спокойно работал в Париже в намеченных им направлениях, Дорм из библейской школы в Иерусалиме, находившейся под руководством французов, и Ганс Бауэр в Галле приняли вызов. Оба они были опытными ориенталистами и филологами и работали также с шифровальными кодами. Дорм, служивший во время Первой мировой войны во французской разведке в Салониках, был награжден за успехи в расшифровке вражеских секретных донесений. Хотя трудно установить приоритет в научных открытиях, когда три человека работали одновременно в схожих направлениях и каждый в какой-то степени использовал успехи других, обычно считается, что Бауэр первым разработал гипотезу, согласно которой неизвестный язык был северо-западным или просто западным семитским диалектом, родственным ханаанскому и тесно связанным с еврейским. Как бы то ни было, он заявил об этом в короткой статье в ежедневной берлинской газете "Фоссише Цайтунг" 4 июня 1930 г.
Расшифровка была сделана Бауэром прямо-таки молниеносно. Он сам с гордостью приводит эти даты: 22 апреля он получил в Галле номер журнала "Сирия". Менее чем через неделю, 27 апреля, дешифровка была в основном закончена, и 28 апреля Бауэр уведомил Рене Дюссо о своем успехе; 15 мая он отослал свое предварительное сообщение в "Фоссише Цайтунг". Ганс Бауэр (1878–1937) был в то время одним из ведущих немецких исследователей восточных языков. Он владел китайским и малайским, но специальностью его была семитская семья языков, включая арамейский, аморитский, аккадский и другие ее разновидности. Он написал несколько грамматик арамейского и древнееврейского языка. По его собственному заявлению, недавнее изучение синайской письменности подготовило его к работе над сделанными Виролло копиями алфавитных документов из Рас-Шамры. Естественно, он склонился к семитскому толкованию.
Бауэр знал, что его предположение о западносемитском характере языка было, по крайней мере, сомнительным, но считал, что эта версия стоит проверки. Краткость слов наводила на мысль о типичной безгласной передаче семитского текста. С первого взгляда у него появилось интуитивное ощущение того, что это был семитский язык. Бауэр занялся анализом частотности употребления некоторых букв, предположив, что это позволит обнаружить семитские особенности языка. Западные семитские языки имеют три существенных признака: префиксы, суффиксы и однобуквенные слова, которые все должны быть представлены определенными согласными (и еврейским "алифом") в различных комбинациях. Бауэр принял допущение о наличии соответствующего свойства в языке Рас-Шамры и на этой основе начал определять и анализировать префиксы, суффиксы и однобуквенные слова в табличках, а также приравнивать уже известные западносемитские фонетические значения к соответствующим клинописно-алфавитным знакам. Второй шаг был решающим и потребовал гораздо больше изобретательности, чем может показаться сейчас, когда мы знаем решение. Прежде всего, хотя выбор и был не так велик, число букв, которые могли встречаться в этих трех категориях, было все еще значительным. Бауэр выписал эти буквы. Префиксы в западносемитском языке использовали "алиф", "й", "м", "н", "т" и иногда "б", "х", "к", "л", "в". Суффиксы включали "х", "к", "м", "н", "т" и, вероятно, "в" и "й". Однобуквенные слова состояли из "л" и "м" и иногда "б", "к" и "в". Сравнение этих категорий показало, что три буквы — "к", "м", "в" — встречаются во всех трех. После этого приравнивание семитских букв и клиновидных знаков Рас-Шамры стало вполне возможным. Задача еще более упростилась, когда три буквы были сведены к двум — "м" и "в", которые использовались чаще других. Наконец, Бауэр получил возможность выбрать из двадцати семи клиновидных знаков (позднее было установлено, что на самом деле их тридцать) два, которые, вероятно, были эквивалентами "м" и "в". Путем нескольких похожих рассуждений он дошел до альтернативы для "н" и "т", которые были общими для префиксов и суффиксов. Но что было делать с ними дальше?
Предположения Виролло пришли на помощь Бауэру. Однобуквенный символ для предлога "к" соответствовал в семитском языке "л". Как только знак "л" был установлен, Бауэр начал действовать в духе алгебраических уравнений, где "икс" — неизвестное — является функцией известных величин. Чтобы определить "м", Бауэр прибег к семитскому слову "млк", означающему "царь". Весьма вероятно, что это слово встречалось часто. С этого времени немецкий филолог начал искать трехбуквенное слово, первая буква которого в клинописном алфавите была бы "м/в", вторая — "л", а третья неизвестна. Метод оказался плодотворным. Бауэр определил "м" (а также "в") и "к". С этого момента дело пошло быстрее, так как угаданные слова помогали определить значение различных букв. Два знака, повторявшиеся в тексте, напоминавшем список следующих друг за другом имен (как в библейской генеалогии), дали ему "бн", означающее "сын". Имя известного семитского бога Баала (семитское "б’л"), которое, как следовало ожидать, должно было упоминаться в текстах, теперь было обнаружено сравнительно легко. И так далее. Через три дня Бауэр был убежден, что расшифровал двадцать букв наверняка и четыре — с большой степенью вероятности. В его статье в "Фоссише Цайтунг" были приведены имена нескольких финикийских божеств и фонетические термины числительных.
Однако он сделал несколько ошибок. Две буквы были определены неправильно из-за приписывания еврейского произношения слова "топор" — "грзн" — четырем символам на бронзовых орудиях, отобранных Виролло. Как было показано позже, на диалекте Рас-Шамры это слово произносилось как "хрсн". Две неправильные буквы легко могли вызвать беспорядок в алфавите, состоящем из столь небольшого числа символов. Фактически Бауэр прочитал правильно семнадцать букв. Это было большим достижением, хотя еще и не позволило прочитать тексты Рас-Шамры.
Летом 1930 г. отчет Бауэра в "Фоссише Цайтунг" привлек внимание человека, которому было предопределено стать одним из крупнейших специалистов века в области библейской археологии. Американец У. Ф. Олбрайт, который тогда, в начале своей карьеры, был занят раскопками в Тель-Бейт-Мирсиме, близ Иерусалима, живо интересовался раскопками в Рас-Шамре и со временем сделал несколько первых английских переводов алфавитных клинописных текстов. Он знал о том, что Дорм работает над копиями Виролло, и сообщил ему о заметке в немецкой газете. На основе открытий Бауэра Дорм исправил одну свою ошибку (он спутал "н" и "т"). Продолжив работу, он правильно истолковал двадцать знаков и великодушно сообщил об этом Бауэру. Бауэр, в свою очередь, включил их в усовершенствованный вариант своей расшифровки — так называемый "Алфавит 5 октября 1930 г.".
С этого момента инициатива опять перешла к Шарлю Виролло. Ставший к тому времени профессором Сорбонны, Виролло, хотя и медленнее, пришел к аналогичным заключениям. Теперь он исправил ошибки, сделанные Дормом и Бауэром (например, две неправильные согласные в слове "топор"), установил три альтернативных значения "алифа" (в древнееврейском языке есть только одно), окончательно установил тридцать знаков в алфавите Рас-Шамры и завершил дешифровку. Виролло также успешно сделал первые полные переводы. Впоследствии он стал официальным издателем документов из Рас-Шамры.
Была ли уверенность в том, что интерпретация алфавита правильна? Когда Виролло начал издавать связные и вразумительные переводы текстов, большинство сомнений рассеялось. Для тех, кто нуждался в более строгом доказательстве, были другие подтверждающие данные. Некоторые таблички, например, содержали имена несемитских хурритских богов, совершенно неожиданные в этом контексте. Отдельные списки городов на месопотамском аккадском языке, с одной стороны, и в новой алфавитной клинописи — с другой, хотя и не идентичные и не в одинаковой последовательности, содержали совпадающие названия. Аккадское слоговое произношение, кстати, также помогло реконструировать возможное произношение языка Рас-Шамры, оставшееся неопределенным из-за манеры писать без гласных. Самое точное доказательство было представлено другим списком, в котором приводилось количество сосудов вина, привезенных в Рас-Шамру несколькими (вассальными?) городами. После каждого названия города шло соответствующее количество, написанное алфавитом Рас-Шамры. Если эти фонетические значения числительных были правильны, они составили бы сумму в сто сорок восемь сосудов. Оказалось, что сумма, записанная на аккадском языке, была "I me’at 48 Dug Gestin" — "148 сосудов вина".
Пока в 1930 г. проводилась работа по дешифровке, Клод Ф.-А. Шеффер и Жорж Шане начали вторую кампанию, в сопровождении жены Шеффера. На этот раз организаторами были Академия надписей, Лувр и французский Департамент просвещения. Дополнительные фонды позволили Шефферу нанять двесги пятьдесят местных рабочих, и он смог выкопать значительное количество клинописных табличек. Объявление о вновь открытом алфавите обратило внимание всего мира на новую экспедицию. Все взоры были устремлены на этот город в Северной Сирии, до сих пор известный под современным арабским названием мыса, на котором он находился, — Рас-Шамра (точнее — Рас аш-Шамра) или под именем близлежащей гавани Минет-эль-Бейда. С самого начала холм Рас-Шамра представлялся Шефферу и его коллегам местом, где когда-то существовал древний город несомненно большого размера и значения — вероятно, центр весьма обширного города-государства.
Шеффер тогда еще не знал, что ученые уже давно интересовались названием одного города, до тех пор не получившим убедительного объяснения, — Угарита. Оно было упомянуто в египетской "Поэме Пентаура" (Пентовера), датируемой временем Рамсеса II, чей сомнительный военный триумф над хеттским войском она восхваляла. Шесть упоминаний об этом городе было в табличках из Тель-эль-Амарны. В одном из амарнских писем царь Тира сообщал Аменхотепу IV: "Угарит, царский город, был разрушен огнем. Половина города была сожжена, другой половины больше нет". Это вполне могло быть ссылкой на разрушительное землетрясение. Другое письмо сообщает, что город подпал под влияние хеттов, заклятых врагов фараона. Дополнительная информация об Угарите была обнаружена в клинописных архивах хеттов в Богазкёе и в письмах Хаммурапи. Через несколько лет записи из Мари, аморитского центра в Северной Месопотамии, принесли новое свидетельство. Все эти данные указывали, что Угарит был влиятельным ханаанским городом, расположенным, вероятно, на побережье Сирии, в районе, горячо оспариваемом хеттской и египетской империями.
В отличие от других ханаанско-финикийских городов, как, например, Библ, Бейрут, Аккра, Тир и Сидон, Угарит, кажется, исчез с арены истории во время смертельной борьбы и упадка двух великих ближневосточных империй и начала набегов "народов моря" около 1200 г. до н. э. Что случилось с ним? Сирия была тщательно исследована археологами и другими учеными, и шансы найти какие-либо следы этого города были весьма малы. Рас-Шамра тогда еще не появилась на сцене. Собственно говоря, во время первой экспедиции Шеффер был уверен, что обнаружил древнее название Рас-Шамры, когда иероглифическая надпись на уже упомянутой египетской вотивной стеле была прочитана как посвящение Баалу Цафона. Казалось вполне очевидным, что статуя была поднесена египтянами богу-покровителю города, называемого Цапуну (или Цафон). Некоторое время авторы французских публикаций придерживались этой точки зрения.
Но У. Ф. Олбрайт, профессор университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, отнюдь не был в этом убежден. Его острая проницательность, которая еще раз драматически проявилась на раннем этапе восстановления свитков Мертвого моря, заставила его усомниться в выводе французских коллег. В 1931 г. в небольшом примечании к научной статье на другую тему он несколько раз подчеркнул тот факт, что Рас-Шамра была, по всем данным, "городом весьма значительным", в то время как город под названием Цафон (в действительности мифологическое название ханаанского Олимпа) нигде ни разу не был упомянут. Как могло быть, чтобы крупный городской центр, подобный этому, не был назван в древних записях? С другой стороны, была местность, игравшая значительную роль во всевозможных документах II тысячелетия, — Угарит, город, местонахождение которого все еще не было определено. Олбрайт заявил: "Идентификация с Угаритом, упоминаемым в клинописных и египетских надписях II тысячелетия, кажется весьма вероятной". Он обещал коснуться этого вопроса в будущей публикации, которая так никогда и не появилась.
Причина этого была проста. Через год в статье о текстах Рас-Шамры Олбрайт заявил, что таблички, недавно расшифрованные Виролло, делают дальнейшие усилия по идентификации Угарита ненужными. Появились новые данные: несколько колофонов, приложенных к алфавитным документам, содержали название "Угарит".
В одном из них имелась дата: 3-й год правления "царя Угарита" по имени NGMD.
С этого времени название Угарит стало еще более известным, чем Рас-Шамра, и употреблявшийся там язык — предположительно западносемитский (место его в более широком понятии семитской группы языков все еще обсуждается) — обычно называли угаритским. Любая хорошо укомплектованная университетская библиотека с тех пор постоянно вносит новые наименования в каталог под рубрикой "Угарит", и к настоящему времени мы видим такие новые области исследования (назовем лишь часть из них), как угаритология, угаритская филология, угаритская мифология, грамматика и эпиграфика. В существующих программах большинства теологических семинарий угаритский язык в значительной степени заменил арабский в качестве лингвистической основы для изучения древнееврейского языка Ветхого Завета.
В каталоге исследований, связанных с Угаритом, угаритская литература вполне может оказаться наиболее значительной темой. Чтобы понять ее значение, следует принять во внимание, что до 1929 г. ученые безоговорочно полагали, будто вся литература высокообразованных ханаанеян и финикийцев была безвозвратно утрачена. Сохранилось несколько фрагментов, приведенных Евсевием [23]в IV в. со слов финикийского историка по имени Филон из Библа. Но приведены они были в полемических целях. Еще менее достоверными были отрывки из произведений полулегендарного финикийского поэта Санхуниатона, приведенные Филоном. Замечательно было то, что глиняные таблички Угарита представляли утерянную литературу, написанную на утерянном языке забытыми письменами, но еще значительнее были те научные выводы, на которые наталкивало ознакомление с их содержанием. Серьезные ученые долгое время сожалели о том, что мы ничего не знали о религиозных представлениях ханаанеян, их культах, ритуалах и поэзии, которые, несомненно, пролили бы свет на происхождение некоторых библейских книг, особенно позднего периода, как, например, Псалтири. Книги Иова и некоторых Книг пророков. До какой степени древние евреи находились под влиянием ханаанских образцов?
С другой стороны, не относились ли более ранние библейские книги к доханаанским, а следовательно, довольно древним еврейским преданиям? Знакомство с ханаанскими текстами, возможно, обнаружило бы заимствования, по крайней мере столь же обширные, как заимствования древних евреев из египетской и месопотамской литературы. Ни одно из этих ожиданий ученых не было обмануто, даже несмотря на то, что в горячке открытия было, по-видимому, провозглашено значительное число сенсационных параллелей и взаимосвязей, которые не удалось потом подтвердить. Эти чрезмерно претенциозные заявления напоминали первую реакцию, вызванную свитками Мертвого моря. Рене Дюссо в своем резюме угаритских находок попытался идентифицировать Фарру, отца Авраама, и возвести раннюю историю израильтян к ханаанским преданиям. Утверждали также, что большая часть угаритских мифов возникла на крайнем юге Палестины, милях в четырехстах от Рас-Шамры, в Негеве. Это также не может быть доказано. Несмотря на такие преувеличения, основанные на неправильном чтении трудных текстов, ханаанские мифологические и религиозные тексты принесли много ценных сведений.
Ханаанские ритуалы и мифы были известны только со слов авторов Ветхого Завета, которые заявляли, что презирают это "идолопоклонство", хотя, однако, давно уже высказывалось предположение, что древние евреи обязаны им больше, чем хотели бы в этом признаться. Теперь, наконец, ханаанеян можно было выслушать непосредственно. То, что они могли сказать, имело существенное значение не только для ученых, изучающих Библию и сравнительную историю религий. Перед людьми предстала впечатляющая мифология, которая вполне могла сравниться с мифологией греков. В некоторых легендах звучали эпические нотки, напоминающие Эпос о Гильгамеше и "Илиаду". Более того, их тематика, система образов и выбор слов пролили свет на неясности в древнееврейской и гомеровской литературе. Мифологические тексты ханаанеян помогли объяснить развитие европейской трагедии и комедии из ритуалов в виде драматического действа, — прославляющих смерть и воскресение бога растительности.
Если судить по безупречной форме, в которой эта давно утерянная литература была написана где-то в первой половине XIV в. до н. э., ее истоки были намного более древними. С точки зрения лингвистики близкое родство языка этой литературы с древнееврейским обещало существенно продвинуть вперед наше знание библейского словаря и прояснить древнееврейские слова, которые были неправильно поняты или имели сомнительное значение. Некоторые отрывки из Ветхого Завета, точный смысл которых ускользал от ученых, оказались дословными заимствованиями у ханаанеян. Это же относилось к метафорам, эпитетам и мифологическим намекам, смысл которых до сих пор был туманным и теперь получил разъяснение с помощью ханаанских соответствий. В случае искажений и замен, сделанных современными критиками и переводчиками Библии, угаритское словоупотребление часто могло быть использовано для контроля. Во многих случаях, когда ученые предложили остроумные изменения в словах и значениях, угаритские источники указали, что традиционный текст был ближе к оригиналу.
Более старое, политеистическое ханаанское учение и монотеистическое, "боговдохновенное" древнееврейское Писание тесно связаны и в то же время в значительной степени противоположны: ханаанская литература оказала существенное влияние на иудаизм и одновременно вызвала ожесточенный антагонизм с его стороны. Древнееврейская религия, какой бы уникальной по духу она ни была, созрела, по крайней мере до некоторой степени, в ханаанском окружении и не может быть до конца понята в отрыве от него. Более того, сам Ветхий Завет достаточно свидетельствует о том, что суровые нормы, установленные его учителями, редко соблюдались большинством израильтян (многие из которых были покоренными прозелитами), в то время как местные, ханаанские, культы находили в их душе живой отклик. Библия полна примеров того, как массы израильтян, а иногда даже их цари принимали ханаанское идолопоклонство в качестве неофициальной магии, существовавшей бок о бок с их национальным культом Яхве. Более того, ханаанская религия могла содержать зачатки монотеизма.
Из угаритских текстов отчетливо видно, что ханаанская религия середины II тысячелетия до н. э. была откровенно натуралистической. Целью ее было объяснить и контролировать великие силы природы: жизнь — смерть — воскресение, дождь, но прежде всего — плодородие. В духе первобытных религий природные явления олицетворялись антропоморфными божествами, и, как и во всех культурах сравнимого уровня, от Китая до древней Европы и Мексики, в изображениях богов и обрядах господствовала откровенная эротика. Каковы бы ни были эстетические достоинства угаритской мифологии — а они были значительны, — угаритская религиозная поэзия первоначально мыслилась не как искусство, но как ритуал для того, чтобы умилостивить богов и обеспечить нормальное течение плодородного цикла (годичною или семилетнего). Религия была в основном функциональной, и человеку отводилось известное мест и доля ответственности в общем порядке вещей. Смертный состоял в задушевном общении с природой и отнюдь не был в ней пассивным чужаком. Ритуалы людей были эффективным средством, помогавшим богам одерживать победы в их битвах. В этом свете мы и должны рассматривать такие религиозные обычаи, как храмовая проституция обоих полов, скотоложество и приношение в жертву детей, бывшие частью многочисленных обрядов в честь плодородия, которые древние евреи находили столь отвратительными, хотя они и сохранили некоторые пережитки их, как, например, "прохождение через огонь", эвфемизм человеческого жертвоприношения, а также почитание изображений и даже в определенной форме храмовую проституцию.
Вера ханаанеян, возможно, вообще не имела этического измерения. В самом деле, боги многочисленного ханаанского пантеона, подобно богам Олимпа (между ними есть и "семейное" сходство), вели себя так же скандально, похотливо, завистливо и даже кровожадно, как и некоторые из их двойников среди людей. Как у Гомера, коварство считалось одной из самых замечательных черт характера. "Девственная" богиня Анат, ханаанская Диана, была кровожадной садисткой и наилучшим образом проявила свое неистовство, защищая своего возлюбленного Баала, молодого выскочку, который был готов занять место верховного бога, даже несмотря на то что это угрожало ее отцу, ханаанскому сверхбогу, кроткому Элу, который, по-видимому, страдал старческим слабоумием:
И дева Анат объявила: "Бык, мой отец, согласится, Ибо я швырну его, как овцу на землю, Пропитаю кровью его седые волосы, Запекшейся кровью — его бороду, Если не даст он Баалу дом, как у богов, Двор, как у сынов Ашеры" [24].Притязания Баала на собственный дом были, как сказал Сайрус Гордон, мифологическим прецедентом строительства храма Яхве в Иерусалиме. "Оба сообщения органически связаны идентичностью мотивов и установок. В обоих случаях претензии бога возрастают до того, что он более не мыслит для себя достойного существования без собственного дома… Времена изменились: пришел Израиль, а раз Израиль высоко поднял голову среди прочих народов, то и культовые требования к богу Израиля соответственно поднялись… Библейские и угаритские указания о строительных материалах (ливанский кедр, покрытый металлом) также связывают мифический и исторический дома соответственно Баала и Яхве". Существует много таких любопытных параллелей между угаритскими и древнееврейскими текстами, начиная с самих имен ханаанских богов: Баал и гораздо чаще Эл, или Элохим, выступают синонимами древнееврейского Яхве, который также разделял многие божественные атрибуты со своими языческими тезками. Некоторые ученые нашли даже упоминание о самом Яхве (в форме YW) как об одном из ханаанских божеств.
Основная тема победа над хаосом, столь отчетливо выраженная в угаритской литературе, является центральной и в Библии. Она обусловила библейский взгляд на историю, моральный порядок и Божественное правление. Торжество Яхве, как и Баала, заключалось в установлении космического равновесия. Как и Баал, Яхве связан с бурей и дает знать о себе сотрясениями земли, темными тучами, молниями и громом. "Тот, кто восседает на облаках" — описание Баала, перенесенное евреями на Яхве. Было отмечено, что, судя по образному стилю и интонациям, 29-й псалом, возможно, первоначально был гимном ханаанскому богу, перенятым почитателями Яхве. Значительная часть 104-го псалма, несомненно, основана на ханаанской мифологии и может быть понята только в ее свете. Кроме того, когда 48-й псалом упоминает, вопреки всякой географической реальности, о святой горе Сион в глубинах Севера (древнееврейское Цафон), становится ясным: Цафон был Олимпом ханаанского пантеона на дальнем Севере, излюбленной резиденцией Баала. Одним из врагов Баала был Левиафан — семиглавая гидра, общая для угаритской и греческой мифологии, — которого Баал убил, как и Яхве в Ветхом Завете.
Существует также сходство в религиозных обрядах, литургии и институтах. В ханаанском Угарите был и свой "первосвященник", и своя "святая святых". Еврейская Пятидесятница имела ханаанский прообраз. Кроме того, близкую аналогию можно усмотреть в древнееврейской системе жертвоприношений и в церемониях очищения. Празднества и святые дни, как, например, Новый год, день искупления и праздники урожая с их сельскохозяйственными ассоциациями (включая поедание незаквашенного хлеба), имели предшественников в ханаанских традициях.
По всем признакам угаритские тексты являются развитием общего сирийского наследия при значительном месопотамском влиянии. Ветхий Завет в роли враждебного критика или беспристрастного наблюдателя отражает те аспекты ханаанской религии и общества, с которыми израильтяне соприкоснулись во время их пребывания в Палестине. Однако тот факт, что Угарит был частью более широкой ханаанской цивилизации, не умаляет местного литературного развития в ее северном аванпосте, которое подняло фольклор до поэтического уровня, невзирая на его ритуальное происхождение или предназначение. Ханаанские тексты, хотя и написанные в виде эпических поэм, напоминают стиль, ритм и систему повторов библейского стиха. Ближе всего к ним триумфальные песни Мириам и Деборы. Тематически некоторые ханаанские легенды и мифы близко совпадают с греческими и римскими, чем подчеркивают связь между древним Ближним Востоком и классическим миром. Наша банальная манера отделять Грецию от ее восточной прародины и сентиментально преувеличивать ее уникальные черты и новшества не позволяет нам открыто взглянуть на очевидные факты. Здесь перед нами широкое поле для исследований. Отнюдь не самой незначительной заслугой литературных находок в Угари-те является то, что они привели к исследованиям в этом направлении.
Общий характер ханаанской религии яснее всего обнаруживается в угаритской версии мифов о великом Баале. Однако из-за фрагментарности имеющихся у нас табличек единство и последовательность мифов остаются спорными. Тем не менее мощная основная тема ясна. Она неизменно описывает восхождение Баала на царство среди богов, его борьбу за власть с соперниками — бесплодными силами Яммом (Посейдоном — Океаном) и Мотом (Гадесом). Временные неудачи и конечная победа драматически воспроизводят цикл смерти и воскресения, увядания и расцвета. Баалу оказывает помощь пылкая Анат, к которой Эл, изгнанный подобно королю Лиру, обращается, и не без оснований, с упреком:
О дочь моя, знаю, что ты необузданна, Ибо нет среди богинь сдержанности.Всего у нас есть около дюжины поврежденных табличек, повествующих о полной превратностей карьере Баала и действенной роли Анат в качестве его подруги и сестры-возлюбленной. Различные эпизоды оживлены жестокими битвами, душераздирающей картиной истребления человечества, интригами, обманом и политикой силы среди богов, буколическими пиршествами (причем вино поглощается в астрономических масштабах), примирениями и снова битвами. Баал может быть убит; милостивый Эл, отец богов, знает, что он снова воскреснет.
Во сне всемилостивого бога милосердия, В видении создателя всех созданий Небеса дождем изливают масло, Речные русла наполнились медом. Всемилостивый бог милосердия ликует, Он ставит ноги на подножку трона. Он улыбается и смеется, Он возвышает голос и восклицает: "Да воссяду я и отдохну, Чтобы душа успокоилась в моей груди. Ибо жив Алийян Баал, Существует правитель, владыка земли.В этих строках звучит надежда: благоговение перед лицом диалектических процессов природы и вера в вечное возвращение искупителя — царя изобилия.
Другим жанром угаритской литературы являются легенды о смертных героях. Были обнаружены два основных фрагмента эпических поэм о Керете и Акхате, которые могли быть историческими персонажами. Но эпосы поглотили так много элементов ханаанской мифологии, что их считают частью религиозной литературы. Они выражают тот же интерес к плодородию и ритуалам, однако в центре внимания стоят земные, точнее — полубо-жественные царственные персонажи. К счастью, эти фрагменты содержат также достоверные картины ханаанской жизни. Доминирующим в обеих поэмах является желание обеспечить себе мужское потомство. Как и в случае с Авраамом, бог объявляет человеку о предстоящем осуществлении его династических устремлений еще до того, как имела место биологическая предпосылка счастливого события. И хотя окончания эпосов не найдены, развязку почти наверняка должно составлять чудесное омоложение или оживление героя.
Легенда о Керете (KRT) записана на трех обломанных табличках с колофоном, упоминающим угаритского царя XIV в. Она рассказывает о подобном Иову сирийском правителе, который потерял свою семью и с тех пор живет в печали. Мы видим, как он удаляется во внутренние покои, проливая, как это свойственно всем эпическим героям Средиземноморья, обильные слезы:
Слезы его падают, Как шекели, на землю. Постель его промокла от слез, И он засыпает, рыдая. Сон овладевает им, и он лежит; Дремота, и он откидывается назад. И во сне его спускается Эл, В видении его отец человека. И он приближается к царю Керету с вопросом: "Чем так мучим Керет, что он рыдает, Возлюбленный сын Эла, что он плачет?.."Затем Эл приказывает Керету искать в далеком Удуме (Эдоме?) прекрасную дочь могущественного царя Пабела, которая родит ему детей. Получив наставление, Керет, чтобы подкрепить свои любовные притязания в глазах будущего тестя, собирает большую армию. По дороге он отдает дань уважения святилищу Ашеры, верховной богини, и обещает ей щедрое подношение, если его миссия увенчается успехом. Прибыв в Удум (для вящей убедительности с армией в несколько миллионов человек), Керет просит выдать за него царевну,
Чистота которой подобна чистоте Анат, Красота которой подобна красоте Ашторет, Белки глаз которой чистота лазурита. Зрачки которой — отблеск черного янтаря.Пабел не хочет отдавать свою дочь, но вынужден уступить под давлением буйного войска Керета, которое угрожает разрушить страну.
Все идет хорошо у Керета. В должное время вырастают у него прекрасные сыновья и дочери. Но он не сдержал обет, данный богине Ашере, и к концу рассказа Керет ослабевает, а одновременно по божественному предопределению страна и ее народ приходят в упадок и беднеют. Собственный сын царя поднимается, как второй Авессалом, против него и приказывает ему отречься от власти. Поврежденная табличка заканчивается сценой, когда Керет призывает на своего мятежного сына проклятие богов. Возможно, была еще одна табличка, в которой гнев богини в конце концов смягчался и к Керету возвращалась прежняя сила, а к его стране — процветание.
В сказании об Акхате боги и люди общаются между собой более свободно. Когда этот текст был найден, его назвали "Эпосом Даниила" (или Дан’эла), отца героя, но одна из начальных строк, расшифрованная позднее, делает первое название более вероятным. Дан’эл вполне может быть отождествлен с тем Даниилом, о котором пророк Иезекииль говорит несколько раз как о мудром и святом человеке и которого он даже упоминает в связи с ханаанским городом Тиром. Угаритский Даниил принадлежит к людям праведным и богобоязненным, подобно Керету в расцвете сил, который "разрешает дело вдовы, выносит решение по делу сироты". Столь же ревностно он исполняет и свои обязанности жертвователя по отношению к богам. Наконец, Баал вступается перед Элом за несчастного человека, "который не имеет сына, как его братья". Итак, Даниилу предстоит получить сына. Когда божественные посланцы приносят ему благую весть, он вне себя от радости. Счастливое событие должно быть отмечено в самом расточительном стиле, с празднествами, продолжающимися семь дней. Еда и вино раздаются свободно, и всем обеспечено развлечение.
Сын Даниила, Акхат, растет, став отцу дороже зеницы ока. Однажды, во время выезда царского двора за пределы города, Даниил видит Кушар-Хасиса (точное соответствие Гефесту — Вулкану), бога ремесел, божественного кузнеца. Даниил приглашает бога в свой дом и приказывает жене приготовить какое-то особое блюдо, получив за это от него могучий лук в качестве подарка для Акхата. Однажды, охотясь со своим новым оружием, Акхат встречает девственную богиню Анат, которая видит чудесный лук и хочет его получить. Но Акхат не поддается уговорам, несмотря на обещания сказочного богатства. Вместо этого он довольно дерзко предлагает, чтобы богиня отправилась к Кушар-Хасису и заставила его сделать для нее другой лук. Анат настаивает и даже обещает юноше вечную жизнь. На такое предложение Акхат реагирует с презрительным недоверием. Как может простой человек получить бессмертие? Здесь поэма отражает пессимистическое отношение к судьбе человека, которое уже было выражено в Эпосе о Гильгамеше. Акхат не принимает всерьез такое абсурдное обещание. Он не сомневается, что старость со временем придет к нему, его волосы побелеют. Он дерзко отвергает предложение богини и, добавляя оскорбление к обиде, спрашивает, зачем женщине оружие, предназначенное для мужчины, для воина. Это было последнее, непростительное оскорбление, переполнившее чашу. Анат изображает на лице вымученную улыбку, тем временем уже планируя свою месть. Она обращается с жалобой прямо к своему отцу Элу и устраивает ему очередную истерику. Как обычно, он уступает ей. Затем она нанимает убийцу для осуществления своего плана. В тексте, носящем следы переделок, есть намек, что она имеет в виду своего рода мнимое убийство и собирается вернуть Акхата к жизни после того, как получит желанный лук. Но ее наемник портит все дело, и убитого героя пожирает гриф, прежде чем он мог быть оживлен.
Смерть Акхата вызывает катастрофическую засуху. Сестра Акхата правильно истолковывает печальный знак и уведомляет своего отца, который отправляется на поиски тела сына, чтобы похоронить его. Он связывает грифов с убийством и просит помощи у Баала. Хищные твари умерщвляются одна за другой, для того чтобы Даниил мог осмотреть их внутренности, но ни в одной нет следов Акхата, и Баал милостиво возвращает птиц к жизни. Наконец подстрелена мать грифов, и — увы! — именно она сожрала плоть и кости Акхата. Даниил берет останки сына и хоронит их. Затем он возвращается во дворец, где проводит семь лет в трауре и плаче.
Пугхат, дочь Даниила, тем временем обнаружила убийцу своего брата, который, будучи под хмельком, похвалялся своим отвратительным преступлением. На этом текст обрывается, но мы можем быть уверены, что убийца получает справедливое возмездие и боги возвращают Акхата его отцу — по крайней мере на время, как Прозерпина была возвращена ее матери Деметре.
Клинописные таблички содержат другие ханаанские мифы и легенды. Одно космогоническое описание рождения богов имеет форму своего рода либретто, дополненного сценическими указаниями. Другое повествование — о влюбленном боге луны Йарихе, вожделеющем к богине Никкаль, — начинается, подобно "Энеиде" и другим западным эпосам, словами: "Я воспеваю Никкаль".
Ханаанская литература на глиняных табличках из холма Рас-Шамра расширила горизонты наших знаний о древнем Ближнем Востоке. В том, что она раскрыла перед нами ханаанские корни Ветхого Завета, состоит лишь один из ее многих выдающихся вкладов. Эти тексты не только ценны для науки как прототипы, но прекрасны и сами по себе как литературные произведения.
Несколько теологов, изучив угаритскую мифологию, признались, что шокированы неистовством и порочностью ханаанской религии. Они сочли ее грубой формой политеизма, "мерзостью язычества", искоренение которой древними евреями в Палестине было благочестивым и богоугодным делом, хотя, к несчастью, и не доведенным до конца. Этот взгляд, кроме того, что он сомнителен морально, игнорирует тот факт, что иудаизм и во время заимствования от этой более примитивной религии, и во время борьбы против нее находился под ее влиянием. Многие прерогативы Яхве были первоначально прерогативами Баала или Эла; Даниил Праведный был ханаанеянином, а не древним евреем. Точно так же дух, если не функции, пророка вполне могли быть знакомы ханаанеянам. Поэтому мы должны относиться к ним с гораздо большим уважением, так как, несмотря на свою незрелость, ханаанское учение является законным предшественником иудейско-христианской традиции. То, что древний народ, изобретший алфавит, теперь может говорить с нами через посредство своей литературы, является достойным основанием для радости.
Тишендорф в поисках подлинного нового завета
И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает.
Исход 3,2
В начале 1930-х годов распространились слухи о том, что советское правительство собирается распродать ценные древности и шедевры искусства. Советская Россия нуждалась в твердой валюте, чтобы покупать на Западе машины и технику. Несколько американских дельцов и коллекционеров начали переговоры с советской торговой организацией — Амторгом. Знаменитый Абрахам С. Вольф Розенбах, король букинистов, почувствовал, что он стоит на пороге самой выгодной в своей жизни сделки. Он мечтал приобрести рукопись, которую даже этот желчный космополит расценивал как "важнейшую, самую сенсационную и дорогую из всех известных миру книг". Привыкший оперировать в своих сделках шестизначными числами, он все же сказал большевикам, что запрошенная ими цена чересчур высока. Но дверь для переговоров оставалась открытой, и Розенбах надеялся, что сможет добиться компромиссного решения. Тем временем колоритный сенатор от штата Техас Гарри Л. Дарвин тоже начал переговоры с русскими. Он хотел приобрести древнюю рукопись для церкви, к которой сам принадлежал, — методистской епископальной церкви Юга.
И тут грянул гром. Через два дня после Рождества 1933 г. Британский музей объявил о том, что приобрел у Советского Союза Синайский кодекс за самую высокую сумму, когда-либо уплаченную за рукопись, — 100 000 фунтов стерлингов, более чем полмиллиона долларов по тогдашнему обменному курсу (но более чем вполовину меньше той суммы, которая была запрошена у Розенбаха, как заявил этот ошеломленный джентльмен корреспонденту "Нью-Йорк Геральд Трибюн").
Так завершилась длительная и тайная торговая операция, считающаяся по сей день величайшей книжной покупкой на протяжении всей мировой истории. Несмотря на разочарование Америки, христиане во всем мире могли теперь утешиться тем, что библейская святыня была вызволена из атеистического государства. Для попечителей Британского музея это приобретение казалось, вероятно, делом богоугодным и одновременно благодетельным для науки. Призыв к сбору средств на покрытие расходов, связанных с этой покупкой, был встречен с таким энтузиазмом, что вскоре затраченная сумма была перекрыта с лихвой, и правительство Макдональда, обязавшееся внести в кассу музея сумму, равную собранной — "один фунт за каждый собранный фунт", — смогло сохранить для казны довольно приличную сумму.
Интерес к древнему кодексу был подогрет потоком статей, появившихся в ежедневных газетах, а также пылких и не всегда достоверных отчетов в воскресных приложениях. Как только манускрипт был выставлен на всеобщее обозрение в музее, мимо застекленной витрины потянулся бесконечный поток людей, желающих взглянуть на него. По словам сэра Фредерика Кеньона, игравшего главную роль в приобретении рукописи, реакция людей "доказала еще раз приверженность англоязычных наций к Библии". С точки зрения такого утонченного литератора, как Олдос Хаксли, этот поток свидетельствовал о свойственном человечеству фетишизме: "Если вы рассматриваете идолопоклонство как благо, тогда вы от всей души должны приветствовать приобретение кодекса. Я склонен рассматривать идолопоклонство как явное зло".
Лейбористская "Дейли Геральд" зашла так далеко, что назвала весь этот бум "самой вульгарной показухой самых вульгарных богачей". Независимый американский "Нейшн" в несколько более ироническом духе нашел, что, вообще говоря, все должны быть удовлетворены: "Кремль… обменявший реликвию "опиума народа" на пятьсот десять тысяч добрых христианских монет — приличную сумму, которая поможет индустриализации России… Рамсей Макдональд, доказавший своим друзьям-консерваторам, что даже лейбористский премьер-министр отнюдь не варвар, и, наконец, коммунисты, для которых козырем явится фигура лейбористского премьера, одной рукой покупающего Библию IV в., а другой урезающего пособия XX".
Однако, если отвлечься от политических страстей, мало кто мог отрицать, что речь идет об одном из великолепнейших образцов каллиграфического искусства IV в. При тогдашних обстоятельствах Британский музей был, несомненно, более подходящим местом хранения, чем ленинградская библиотека. По возрасту и достоверности только хранящийся в Риме Ватиканский кодекс как библейский текст мог сравниться с Синайским. По сути дела, Синайский кодекс был и остается самым полным и самым древним текстом Нового Завета.
Уникальная, малоизвестная романтическая история его открытия до сих пор является одним из самых увлекательных эпизодов в летописи поисков человеком письменных памятников своего прошлого. В Лобеготте Фридрихе Константине фон Тишендорфе, искателе древних истин, романтика обрела поборника, столь же настойчиво идущего к своей цели, как и его соотечественник и несколько более молодой современник Генрих Шлиман. Его карьера, так же как и карьера Шлимана, была весьма яркой и феноменально успешной. Исследования тоже привели его на Восток. В ходе своих приключений он, так же как и Шлиман, на опыте убедился в культурной деградации, административной коррупции, интриганстве и мошенничестве, характерных для Ближнего Востока в период оттоманского правления.
Для Шлимана, раскапывающего холмы, библией был Гомер, тогда как все усилия Тишендорфа, теолога по профессии, были сконцентрированы на собственно Библии, в частности на Новом Завете. В отличие от Шлимана Тишендорф ни в малейшей степени не был склонен к преклонению перед мифами. Он был прежде всего объективным и критически настроенным ученым, который пытался разгадать тайну ранних библейских текстов.
С тех пор как ученый-классик Фридрих Август Вольф сформулировал "гомеровский вопрос" и тем способствовал основанию в конце XVIII в. современной науки филологии, Германия практически захватила монополию в критическом изучении древней литературы. Вольф отрицал существование Гомера и приписывал авторство двух величайших эпосов нескольким поэтам. Его доводы базировались на исключительно точном и, можно сказать, революционном анализе дошедших до нас текстов. Его метод был развит последующими поколениями немецких ученых.
Несомненно, филологические и исторические исследования (эти две науки некоторое время занимались фактически одним и тем же) немецких ученых вошли в число наиболее выдающихся достижений XIX в. и способствовали тому, что слово "Германия" стало неразрывно ассоциироваться с блестящей и скрупулезно добросовестной ученостью. Именно в это время немецкий поэт мог скорбеть по поводу того факта, что его возлюбленная нация столь богата мыслями (gedankenreich), но бедна духом деятельности (tatenarm), — призыв, к которому его соотечественники, к несчастью, не остались глухи.
Однако немецкая наука пожинала лавры тогда, когда инструмент, выкованный и отточенный на поприще филологии, был применен к теологии. Так появились специальные дисциплины по изучению Библии под названием "Высшая критика" и "Низшая критика", занимающиеся тщательным изучением соответственно содержания и текста Священного Писания. Как и всё на свете, эти дисциплины не были созданы на пустом месте, а восходили к Абеляру и Спинозе, может быть даже к Оригену и святому Иерониму.
Критика Библии часто отождествляется с агностицизмом и скептицизмом и рассматривается как смертельная атака на христианские традиции. Действительно, немалое число критиков XIX в. анализировали библейский текст с целью оспорить его традиционно приписываемое авторство, время и место возникновения, пути его передачи, собирания воедино и канонизации. Знаменитое имя Юлиуса Велльгаузена [25]ассоциируется с искусным рассечением в духе Вольфа Ветхого Завета на несколько частей, для каждой из которых предполагались различное авторство и среда создания. Другие зашли так далеко, что объявили причисление апостольских документов к евангельским текстам результатом фальсификации. Для них христианская доктрина была не чем иным, как "синкретической" комбинацией различных эллинистических культов и философских учений, короче, "александрийским винегретом", говоря непочтительными словами Нормана Дугласа.
Молодой Тишендорф с самого начала протестовал против таких тенденций в библейской критике. Но, отвечая рационалистам и позитивистам, он не пошел по пути обскурантизма. Поскольку большинство критических споров в период его студенчества были посвящены текстуальным разночтениям в Новом Завете и содержащимся в нем противоречиям, Тишендорф уже тогда обратил внимание на эти проблемы. Он оставил помыслы о пастырском поприще и, хотя время от времени выступал с проповедями, считал, что гораздо лучше сможет служить Богу, посвятив свою жизнь творческому изучению священных текстов. Еще до посвящения в сан он твердо поставил перед собой цель — доказать подлинность Евангелий и восстановить первоначальную евангельскую редакцию священных текстов.
Выполнение этой задачи отнюдь не превратило его в типичного немецкого профессора, ведущего, подобно Иммануилу Канту, замкнутую, упорядоченную жизнь. Наоборот, в своих поисках он совершил множество поездок в крупные европейские библиотеки и даже пережил в высшей степени рискованные приключения на Ближнем Востоке. Преисполненному серьезности теологу, выходцу из скромной мелкобуржуазной среды, пришлось превратиться во вполне светского находчивого путешественника, заводившего ради успеха своих поисков дружбу с высокопоставленными деятелями Церкви, саксонскими королями и русскими великими князьями. Ему пришлось усвоить все тонкие уловки дипломатии.
Уже к тридцати годам Тишендорф обрел международную известность. Однажды, когда он, будучи еще молодым, был представлен одному из своих зарубежных коллег, тот решил, что существует два Тишендорфа. Стоящий перед ним молодой человек был просто не в состоянии выполнить такую работу, которая легко могла обеспечить прочную репутацию нескольким умудренным годами и опытом зрелым ученым. Король Пруссии на приеме сравнил его с Александром фон Гумбольдтом. Тишендорф, по словам короля, как и Гумбольдт, просто не мог не совершать открытия во всем, за что он брался.
Константин Тишендорф родился в 1815 г. в семье врача в маленьком саксонском городке Ленгенфельде. Будучи одним из лучших учеников своего класса в гимназии близлежащего районного центра, города Плауена, он заложил в себе уже тогда основы отличного знания греческого и латинского языков, а также произведений древних авторов. Когда он приступил к изучению теологии в Лейпцигском университете, ему пришлось к классическим языкам добавить древнееврейский, арамейский, сирийский и коптский. Здесь он вскоре отличился, написав по-латыни удостоенные премий эссе о святом Павле и Христе. В течение года Тишендорф преподавал в одной частной школе под Лейпцигом, возглавляемой человеком, который впоследствии стал его тестем. Уже тогда он был поглощен подготовительными исследованиями для своего критического издания греческого текста Нового Завета, которое ему на протяжении жизни довелось выпускать в восьми различных версиях. Научное предисловие к первому изданию принесло двадцатипятилетнему молодому человеку назначение на теологический факультет Лейпцигского университета.
Но молодой ученый, хотя к этому времени он уже был влюблен и помолвлен, не собирался предаваться безмятежному и респектабельному существованию, как подобало "герру профессору". Скопив некоторую сумму, а также воспользовавшись помощью своего брата и скептически настроенного саксонского правительства, 30 октября 1840 г. он направился в Париж. Ему предстояло провести вдали от родины пять лет.
Непосредственная цель путешествий Тишендорфа была проста и продиктована здравым смыслом, однако она ошеломила почтенных представителей старшего поколения ученых, которые либо просто не задумывались над этим, либо не обладали энергией и самоуверенностью Тишендорфа. Кроме того, они были лишены его палеографической одаренности, ибо он являлся в равной мере знатоком как в поисках ценных документов, так и в расшифровке и датировке их.
Когда Тишендорф начал работу над изданием греческого текста Нового Завета, он понимал, что древнейшие документы IV, V и VI вв. намного превосходят по своему значению более многочисленные манускрипты X в. и последующих веков, которые послужили основой для прославленного греческого текста Нового Завета, составленного Эразмом Роттердамским, а также для переводов его на разговорные языки, как, например, версии Лютера и короля Якова (Джеймса) I. Греческий Новый Завет Эразма (первое издание, 1516 г.) был во многих отношениях сделан довольно небрежно, при полном отсутствии знакомства с элементарными методами критики, выработанными наукой лишь в XIX в. В том, как великий гуманист произвел отбор рукописных источников, не было никакой системы; он не выяснил как следует их происхождение, возраст и степень достоверности, не проверил с должной тщательностью, в какой мере они расходятся и дополняют друг друга, что помогло бы устранить имеющиеся в тексте ошибки. И что уж совсем непростительно, для того чтобы заполнить пробел в греческом оригинале и в то же время поспеть к сроку, установленному его издателем, печатником Иоханнесом Фробеном из Базеля, он сделал обратный перевод одного отрывка с латыни на плохой греческий. К несчастью, Эразм одновременно вызвал к жизни и новую традицию, стремившуюся провозгласить как его греческое издание, так и в еще большей степени сделанные с него прославленные переводы на разговорные языки непогрешимыми.
Однако еще в XVII в. несколько ученых собрали и сопоставили разночтения, обнаруженные ими в рукописях Нового Завета, число которых неуклонно росло, включая уже некоторые тексты на коптском и готском языках. В то же самое время была сделана попытка составить перечень и классифицировать все имеющиеся в европейских странах манускрипты, а также оценить их относительную достоверность. Когда в XIX в. пальма первенства в библейских исследованиях перешла преимущественно к немецким ученым, появилось сомнение в правильности общепринятого мнения, согласно которому сопоставление возможно большего количества рукописей позволит восстановить на их основе первоначальный апостольский текст. Тишендорф всей душой принял эту новую точку зрения. Он счел теперь важнейшей задачей сосредоточить внимание на текстах, относящихся к первым пяти векам христианства. Он убедительно доказывал, что только таким путем можно добраться до текста более раннего, чем официально "утвержденный" византийский Новый Завет, который он считал не более чем производной, фальсифицированной версией. Но когда он приступил к работе над своим вариантом греческого текста, то с удивлением обнаружил, что в области филологического изучения и толкования тех немногих древнейших евангельских документов, которые тогда были известны науке, сделано, за редкими исключениями, ничтожно мало. Что, если изучение этих древнейших евангельских текстов, а также тех, которые еще могут появиться, покажет, что Евангелия создавались при жизни поколения, современного Иисусу и его ученикам, и что сохранившиеся наиболее ранние версии доносят до нас подлинное слово апостолов? Требовалось, во-первых, тщательное изучение небольшого количества имеющихся древних текстов и, во-вторых, поиски новых, быть может еще более древних и более полных рукописей.
Наконец Тишендорф нашел себе задачу по плечу. Его удивительные достижения убедительно доказали, что великие открытия редко являются делом случая, но почти неизменно удаются только подготовленному уму.
Перед тем как в 1840 г. уехать из Лейпцига, он составил перечень древнейших рукописей Нового Завета, имеющихся, по его сведениям, в европейских коллекциях. Первую остановку он сделал в Париже, где находилось несколько из этих редчайших документов, прежде всего Кодекс Ефрема Сирина и Кларомонтанский кодекс. Тишендорф уделил основное внимание Кодексу Ефрема, палимпсесту, то есть рукописной книге, с которой более древний текст был стерт, а вместо него написан новый. Это был трактат жившего в IV в. церковного деятеля Ефрема, скопированный в XII в. поверх более древнего, относящегося к V в. текста Нового Завета. Буквы первоначального текста были соскоблены пемзой, после чего пергамен тщательно вымыли и отмочили. Это была обычная практика средневековых монастырей, поскольку пергамен был дорог и относительно редок. Для того чтобы изготовить приличных размеров книгу-кодекс, требовалось немалое стадо крупного рогатого скота или овец. Поэтому редко используемые или устаревшие тома часто вновь пускались в дело, подобно тому как в наши дни лишние или бракованные книги, а также запрещенные издания превращаются в макулатуру для повторного использования. И так же, как в наше время, новый текст далеко не всегда оказывался более ценным, чем предшествовавший.
В периоды поздней Античности и Средневековья (когда наряду с пергаменом вошел в употребление значительно более дешевый материал — бумага) палимпсесты, как мы видели, были широко распространены. По самой своей природе они нередко таят большие загадки и сюрпризы. Для палеографа-гурмана палимпсесты — подлинные деликатесы среди прочих рукописей. Разумеется, далеко не все они были сразу распознаны как палимпсесты. Вероятно, еще много их лежит неузнанными в подвалах библиотек.
Что касается Кодекса Ефрема Сирина, то на нем сквозь текст XII в. смутно проступали какие-то бесцветные и стертые письмена, что впервые было замечено в XVII столетии. Установить возраст древнего текста по нескольким коротким отрывкам, содержание которых палеографы реконструировали лишь предположительно, было по тем временам делом почти невозможным. Химическая обработка пергамена в 1834 г. практически не дала результатов, и, по единодушному мнению специалистов, Кодекс Ефрема Сирина был признан безнадежным. Прочитать его текст никому никогда не удастся. Именно этим объяснялось то, что саксонское правительство субсидировало честолюбивый проект никому не известного Тишендорфа без всякого энтузиазма, тем более что до него другой лейпцигский профессор, пытавшийся разрешить эту загадку, признал свое поражение. Когда молодой Тишендорф по прибытии в Париж посетил хранителя Национальной библиотеки, чтобы получить разрешение на исследование рукописи, его выслушали с добродушным скептицизмом. Как мог он надеяться на успех в "разрешении одной из важнейших и сложнейших загадок науки", когда здесь потерпели неудачу прославленные специалисты? Однако, просиживая над рукописью день за днем, с утра до позднего вечера, Тишендорф все же добился своего. У него не было каких-либо приспособлений для оптических исследований, доступных сегодня ученым. — ультрафиолетовых лучей, поляризованного света, кварцевых ламп, которые во многих случаях превращают прочтение палимпсеста в детскую игру, если только исследователю знакомы язык и система письма. Но Тишендорф обладал великолепным зрением, превосходным знанием древних унциальных письмен и непобедимым оптимизмом молодости. Он заметил, что, если держать пергамен против света, задача значительно упрощается.
Через два года работа была закончена. Она принесла ему славу одного из величайших светил палеографии. В январе 1843 г. он с удовлетворением держал в руках печатное издание восстановленного им текста. Тишендорф также поработал над Кларомонтанским кодексом — унциальной рукописью новозаветных посланий. Кроме того, он перерыл библиотеки в Утрехте, Лондоне (где хранился замечательный Александрийский кодекс V в.), Оксфорде и Кембридже. После завершения своей работы в Париже, где он пробыл в общей сложности двадцать семь месяцев, Тишендорф продолжил свои скитания, посетив Страсбург, Базель, Лион, Марсель и Северную Италию, где имелись ценнейшие рукописи Нового Завета. Он побывал в библиотеках Венеции, Милана, Турина, Модены и Флоренции. Но основной его целью был Рим, где в папской библиотеке хранился самый древний и самый полный из всех известных тогда библейских кодексов — Ватиканский кодекс, который до того времени не был еще по-настоящему введен в обиход библейской текстологической критики. По мнению Тишендорфа, этот греческий кодекс, написанный прописными буквами, превосходил достоверностью и точностью все исчисляемые сотнями более поздние рукописи, написанные строчными буквами. Возможность изучить и скопировать этот кодекс дала бы ему неоценимое подспорье в его усилиях по восстановлению первоначального греческого текста.
Тишендорф изложил свой план папе Григорию XVI во время личной аудиенции (парижский архиепископ и саксонское правительство снабдили его рекомендательными письмами) и был приятно удивлен, обнаружив, что глава Церкви сочувственно относится к его предприятию. Папа любезно сравнил работу молодого протестанта с трудами святого Иеронима и предупредил его, что он, подобно известному Отцу Церкви, должен философски отнестись к тому, что его усилия могут встретить непонимание и даже подвергнуться нападкам со стороны единоверцев-христиан. При этой же встрече Папа произвел его в кавалеры ордена Северной Звезды, и это было первой из бесчисленных наград, посыпавшихся на Тишендорфа, который, как говорили впоследствии, слишком уж гордился этими знаками отличия, а также чересчур широко использовал свои связи с сильными мира сего — государственными деятелями и членами королевских семей.
Однако вскоре его ватиканский проект столкнулся с непредвиденным препятствием в лице кардинала Анджело Маи, который прежде открыл трактат Цицерона "О государстве", разгадал тайны ряда классических палимпсестов, но был одновременно и ученым-библеистом с немалыми претензиями и весьма сомнительными достижениями. Как раз в это время он готовил собственное издание Ватиканского кодекса. Тишендорфу было дано на ознакомление с кодексом только шесть часов, но он с пользой употребил это время, скопировав несколько наиболее интересных отрывков.
Наконец, исчерпав запасы рукописей в Европе, Тишендорф в марте 1844 г. пустился через Средиземное море в плавание к иным берегам. План, которым он руководствовался, и на этот раз был смел и прост: "Кодекс Ефрема, как и подавляющее большинство древнейших греческих документов, украшающих библиотеки Европы, пришел с Востока, вернее, из тех стран Востока, где впервые расцвела христианская ученость. Разве нельзя допустить, что там, прежде всего в монастырях с их библиотеками и укромными тайниками, до сих пор погребены ценнейшие сокровища литературы? Поскольку мы располагаем лишь очень малым числом древних документов, на которых может быть основано восстановление апостольского текста, я считаю своим долгом убедиться, действительно ли наши возможные источники уже исчерпаны тем материалом, который могут предложить нам европейские библиотеки" [26].
Это смелое предприятие — поиски новозаветных рукописей в монастырях Ближнего Востока — увенчалось исключительным успехом; однако нельзя сказать, чтобы это была первая подобная попытка. Задолго до Тишендорфа перспектива найти предполагаемые эпиграфические сокровища этих мест волновала воображение путешественников и ученых. Порожденные возникшим в эпоху Возрождения интересом к утерянной классике предположения о погребенных на Востоке сокровищах высказывались еще в XV в. Поэтому авантюрные предприятия с исследовательскими целями отнюдь не были редкостью. В Париж, Ватикан и даже в Москву время от времени доставлялись морем разнообразные научные материалы, и надежда на замечательные открытия никогда не угасала. Путешественники, посетившие в XVII и XVIII вв. монастыри горы Афон в подвластной туркам Греции и Святой Марии Дейпары в Египте, пространно рассказывали о больших собраниях христианских текстов, которые они там видели, причем некоторые из их числа "восходили ко временам святого Антония". Но эти сообщения часто сопровождались сетованиями по поводу плачевного состояния манускриптов и их недосягаемости. Даже в это время местные монахи стремились охладить пыл исследователей и неоднократно сознательно наводили их на ложный след. К сожалению, скрытность церковников была обратно пропорциональна их заботе о сохранении собственного наследия.
Джон Ковел, один из первых английских ученых, занявшихся поисками в восточных монастырях, слышал в 1677 г., что в одном греческом монастыре были сожжены "все книги гуманитарного содержания". На горе Афон и повсюду в других местах ему приходилось видеть, писал он, "целые груды рукописей… Отцов Церкви и других ученых авторов… Они были сплошь покрыты пылью и грязью, многие истлели и разрушились". Таких сообщений было вполне достаточно для того, чтобы побудить других взяться за поиски с удвоенной энергией.
Вскоре после этого Роберт Хантингтон, павший впоследствии епископом Рафо, посетил Нитрийскую пустыню в Египте и приобрел там для Бодлеанской библиотеки несколько сирийских текстов среднего достоинства. Хорошо поработали для Ватиканской библиотеки два двоюродных брата — сирийцы Иосиф и Илия Ассемани, которые в начале XVIII в. прочесали Египет, Палестину и Сирию, но своими дерзкими операциями, по-видимому, встревожили монахов.
На протяжении почти столетия неоднократно предпринимавшиеся европейскими эмиссарами усилия большей частью оказывались бесплодными. К концу XVIII в. другой англичанин, Уильям Джордж Браун (1768–1813), странствовавший по Малой Азии, Армении, Египту, Сирии и Персии и убитый на пути в Тегеран, также заинтересовался ставшими теперь легендарными монастырями Нитрийской пустыни, расположенной к северо-западу от Каира. В своих "Путешествиях" (1799) он повествует: "Я все время спрашивал о рукописях и в одном из монастырей увидел несколько книг на коптском, сирийском и арабском языках. На арабском были сочинения святого Григория и Ветхий и Новый Заветы. Настоятель сказал мне, что у них есть около восьмисот томов, но наотрез отказался расстаться хотя бы с одним из них; больше мне ничего не удалось увидеть".
Наконец, в 1801 г. значительное оживление вызвала неожиданная находка Эдварда Даниэля Кларка. Это была великолепная Платонова рукопись с острова Патмос. Угасшие было надежды вспыхнули вновь. С развитием коптской и сирийской филологии основными объектами сделались, естественно, библиотеки египетских монастырей. В этих поисках англичане благодаря своему политическому влиянию имели перед другими значительное преимущество и на протяжении нескольких десятилетий наслаждались лидерством, подкрепленным целым рядом крупных предприятий. Большинство своих усилий они сосредоточили на монастырях Нитрии, где некогда обосновались первые христианские монахи и где из соцветия примерно трехсот шестидесяти процветавших когда-то монастырей горстка уцелела до этих дней.
В числе англичан, посетивших восточные библиотеки в начале XIX в., первым следует назвать Роберта Керзона, впоследствии барона Зуч. Он родился в 1810 г. и впервые ступил на землю Египта, когда ему только исполнилось двадцать три года. Он поставил перед собой конкретную цель — поиски книг, погребенных в монастырях. В его маршруте помимо Египта значились Палестина, Сирия и Греция. Впоследствии он написал одну из самых очаровательных книг путевых заметок — "Посещение монастырей Леванта", — которая часто переиздавалась (в 1916 г. с предисловием Дэвида Дж. Хогарта). Эта книга дает также классическое для всех времен описание злоключений и гибели книг.
Вот Кёрзон, сопровождаемый полуживыми от голода монахами, входит в заброшенную квадратную башню. Здесь, "в большом сводчатом помещении с открытыми, незастекленными окнами, на полу лежали… от сорока до пятидесяти коптских манускриптов. Некоторые из них прочно прилипли к полу, пролежав там, вероятно, много лет…" В монастыре Каракала, на горе Афон, Кёрзон, когда они вошли в полуразвалившуюся келью, собрался с духом и попросил настоятеля подарить ему найденный там отдельный лист пергамена, покрытый древними унциальными буквами.
""Конечно! — воскликнул игумен. — Но зачем он вам?" Мой слуга предположил, что, может быть, он пригодится для того, чтобы накрыть несколько горшков с джемом или ваз с вареньем, имевшихся в моем хозяйстве. "О, — сказал игумен, — возьмите еще" — и, не долго думая, схватил толстый том Деяний и Посланий in quarto и, вытащив нож, отхватил из конца пачку листов толщиной в дюйм прежде, чем я успел остановить его. Это был, как потом оказалось, Апокалипсис, завершавший книгу и очень редко встречавшийся в ранних греческих рукописях Деяний: этот том был написан в XI в. Мне следовало, вероятно, убить книгоубийцу за это ужасающее кощунство, но его великодушие заставило меня простить ему этот грех, так что я завладел Апокалипсисом и спросил, не может ли он продать мне что-нибудь из книг, поскольку увидел, что они не представляют для него особой ценности. "Malista, конечно, — ответил он, — сколько вам нужно? Они мне ни к чему, а я сейчас как раз нуждаюсь в деньгах, чтобы закончить свои постройки, так что буду рад извлечь из них хоть какую-нибудь пользу…""
Проверяя сведения, добытые им в Каире, Кёрзон сумел пробраться через люк в старый погреб для масла при одном из нитрийских монастырей, откуда впоследствии другие путешественники вывезли драгоценный груз. И вот совершенно несправедливо Кёрзон был потом обвинен монахами в том, что он ограбил их, похитив заботливо хранимые рукописи. Такого рода клевета была, очевидно, их излюбленным способом обелять свои собственные грехи. Тишендорфу предстояло столкнуться с аналогичной ситуацией.
По пятам за Керзоном в 1838 г. в Нитрию приехал Генри Тэттем, архидьякон Бедфордский. Действуя от имени Британского музея, он завладел, как потом говорили, львиной долей добычи в виде более чем четырехсот томов. На этот раз целью поисков были не утраченные греческие или латинские произведения, а евангельские и теологические тексты. Кстати, Тэттем был выдающимся специалистом в области арабской и коптской филологии, причем занимала его преимущественно лексикография. Среди груза рукописей, привезенных им в Англию, его преподобие Уильям Кьюртон открыл древний сирийский вариант Евангелия. Названная по его имени "Кьюртоновской сирийской", эта рукопись Британского музея явилась одним из самых значительных открытий библеистики в период, предшествовавший находкам Тишендорфа.
Несомненно, успех английских первооткрывателей добавил Тишендорфу энергии в его стремлении осуществить свои замыслы. Однако, поскольку он был лишен собственных средств, не в пример какому-нибудь английскому аристократу, и не имел мощной поддержки Британского музея, ему пришлось искать себе щедрых единомышленников и покровителей. К счастью, саксонское министерство просвещения, наконец-то осознав значение его достижений, расщедрилось и предоставило ему средства для "набега" на Ближний Восток. Пришли на помощь также банкиры Франкфурта и Женевы и старшие коллеги из Бреслау. Тишендорф принял эти известия "со слезами радости на глазах", как писал он своей невесте из Венеции в ноябре 1843 г.
Путешествие из Ливорно на французском почтовом пароходе "Ликург", во время которого он жестоко страдал от морской болезни, лишь ненадолго выбило его из колеи. Вскоре после прибытия в Александрию — город, особо дорогой сердцу исследователя раннего христианства, хотя он и стал безликим многоязычным портом Средиземноморья (или был таковым до тех пор, пока Кавафи, Форстер и Дюрэл не воскресили его былого очарования), — он продолжил свой путь, отплыв на барке вверх по Нилу, в Каир. Из позднейших описаний деяний Тишендорфа явствует, что с самого начала он наметил себе главной целью монастырь Святой Екатерины на Синайском полуострове. В некоторых популярных рассказах — а часть их исходит от самого Тишендорфа содержится намек на то, что сразу же по высадке в Александрии он верхом на верблюде помчался по стопам Моисея — правда, с большей скоростью — через прибрежные земли Красного моря к подножию святой горы. При этом подразумевается, что им все время владело сверхъестественное предчувствие встречи с сокровищами, ожидавшими его на Синае. Это, однако, не подтверждается фактами. Монастырь той же Святой Екатерины в Каире, но главным образом различные коптские монастыри в Нитрийской пустыне отнюдь не в меньшей мере занимали его воображение, суля надежды на грядущие великие открытия.
Маршрут разведывательной поездки Тишендорфа предусматривал также посещение Мар-Сабы на Мертвом море, Лаодикеи, Патмоса и разных других пунктов в Сирии и Малой Азии, а также горы Афон и, разумеется, Константинополя, где, если верить упорно ходившим слухам, во дворце Серай (Сераль) хранился древнееврейский текст Евангелия от Матфея и другие легендарные и неизвестные документы, — вероятно, остатки сокровищ византийских библиотек и созданного в эпоху Возрождения будапештского собрания Матьяша Корвина. Тишендорфу действительно удалось получить из различных источников множество манускриптов, а также купить у посредников немало рукописей, неизвестно где найденных, но всему этому предстояло поблекнуть перед его неожиданной удачей на Синае.
В Синайском монастыре в Каире в ответ на расспросы о манускриптах ему посоветовали посетить монастырь Святой Екатерины, "где он смог бы найти множество великолепных образцов". Таким образом каирские монахи надеялись избавиться от назойливого иностранца. Одновременно они послали своей братии на полуострове предостережение о ненасытном пристрастии гостя к пергамену. Но этот маневр привел к обратным результатам и оказал Тишендорфу услугу, обратив его внимание на монастырь Святой Екатерины. От Тишендорфа было не так-то просто отделаться, и он убедил каирских монахов открыть деревянный стенной шкаф, случайно попавшийся ему на глаза. Немало времени ушло на то, чтобы подобрать ключ, а когда он был найден, обнаружилось изобилие древних текстов, хотя, как это часто бывало, они оказались в отчаянном беспорядке, брошенными на произвол судьбы. Было ясно, что монахи не имеют ни малейшего представления об их содержании, возрасте и даже о языке, на котором они написаны.
В другом шкафу, на этот раз в часовне каирского женского монастыря, оказалось еще больше пергаменных рукописей, и Тишендорф с удовлетворением отметил, что, какие бы предостережения ни нашептывали ему с самого начала пессимисты на родине, он стоит на пороге волнующих открытий. Кроме того, он уверился в том, что способен перехитрить монахов и священников, которые демонстрировали явное нежелание разрешать чужеземцам просто глянуть на их рукописи. Как беспечные, но ревнивые родители, они не могли спокойно относиться к проявлениям внимания со стороны чужаков к их заброшенным детям. Казалось, эти полуграмотные монахи никогда и не вспоминали о существовании истлевающих древних рукописей, но стоило только иностранному гостю выказать к ним хотя бы малейший интерес, они заявляли, что рукописям этим нет цены. У Тишендорфа это часто вызывало отчаяние и отвращение, иногда он поддавался на обман, но со временем обрел должное самообладание, которое вкупе с совершенно необходимой искушенностью в левантинской дипломатии позволяло ему вывозить рукописи из таких мест, которые его коллеги считали безнадежными или недоступными.
Еще в Каире ему не раз приходилось слышать о том, что где-то здесь за семью печатями утаивается фантастически богатая библиотека. Предполагали, что она находится в ведении коптского архиепископа Александрии (который, как и его предшественники на протяжении ряда столетий, несмотря на свой титул, постоянно проживал в Каире). Тогдашнему коптскому патриарху было уже за девяносто, но при этом он оставался весьма подвижным, обаятельным и легкомысленным человеком. Тишендорф добился приема у старого джентльмена, изящная болтовня которого напомнила посетителю салонные разговоры дам парижского света. Когда наконец Тишендорф упомянул о своем желании ознакомиться с содержимым "секретной" сокровищницы манускриптов, патриарх поинтересовался, зачем ему это понадобилось. Тишендорф объяснил, что он поставил перед собой задачу восстановить первоначальный текст Евангелий и что для этого ему необходимо свериться с древними документами, которые "по возможности максимально точно воспроизводили бы то, что вышло из-под пера самих апостолов". Этот аргумент, однако, не произвел на патриарха впечатления. С каменным лицом он заявил: "В конце концов, у нас есть все, что нам нужно. Есть евангелисты, есть апостолы. Чего еще нам желать?" Тишендорф понял, что идея текстуальной критики Библии за все девяносто с лишним лет, очевидно, даже не приходила ему в голову.
Еще до этого мнение коптского архиепископа о посетителе упало весьма низко, когда он попросил Тишендорфа прочесть отрывок из греческой книги. Произношение Тишендорфа на языке Софокла ужаснуло старца. Как бы там ни было, Тишендорф и его панегиристы, по-видимому, придерживались мнения, что причиной произведенного им ложного впечатления явилось невежество архиепископа в классическом греческом языке. Они нисколько не сомневались в том, что произношение, которому обучали в германских гимназиях и которое сильно отдавало Hochdeutsch (верхненемецким диалектом), звучало совершенно аутентично древнегреческому.
В апреле 1844 г. Тишендорф отправился из Каира в Нитрийскую пустыню, где когда-то существовало несколько сот монастырей — до тех пор, пока приливная волна ислама не поглотила их и христианское рвение коптов не угасло. Тишендорф провел розыски в нескольких таких монастырях. Довольно быстро он понял, что среди многочисленных помещений монастыря нет комнаты, "ограждающей от назойливых визитов монахов лучше, чем библиотека". В некоторых монастырях библиотеки загонялись на чердак какой-нибудь башни. Там манускрипты лежали грудой, или были разбросаны по полу, или напиханы как попало в плетеные корзины. На полу помещения в изобилии валялись обрывки и фрагменты рукописей.
В первых двух монастырях Тишендорфу не удалось найти греческих текстов. Были обнаружены только коптские и арабские рукописи, хотя и почтенного возраста. В третьем монастыре он видел сирийские документы, а также нашел несколько ценных эфиопских фрагментов. Монахи этого нитрийского монастыря, у которых совсем недавно англичане увезли несколько манускриптов, уплатив "весьма скромную сумму", отнеслись к немецкому ученому крайне подозрительно, всячески подчеркивая, что они жестоко уязвлены, как они выразились, "британским плутовством", из-за которого они лишились своих сокровищ. Подозрительность монахов превосходила их алчность, и Тишендорфу не удалось уговорить их продать хоть что-нибудь, несмотря на самые щедрые посулы. Однако в неожиданном приливе восточной щедрости они без всяких возражений позволили ему взять несколько полуистлевших листов пергамена с описанием сбора винограда коптами в VI–VII вв., которые Тишендорф извлек из очередной покрытой пылью груды. Эта удача, однако, не прошла для исследователя даром: у него "несколько дней болело горло от пыли, поднявшейся в знойном воздухе".
В мае 1844 г., после двенадцатидневного нуги с караваном через пустыню, Тишендорф добрался до монастыря Святой Екатерины, расположенного на высоком песчаном плато, среди поистине героического ландшафта, образуемого крутыми гранитными скалами, над которыми возвышается Джебель-Муса — гора, где, согласно спорному преданию, Господь продиктовал Моисею десять заповедей. Монастырь представляет собой крепость, сложенную из громадных валунов. Воздвигнута она в начале VI в. императором Юстинианом для того, чтобы служить убежищем окрестным монахам от грабителей-бедуинов. В то время здесь и образовался единый большой монастырь (имя святой Екатерины закрепилось за ним много позже), поглотивший рассеянные вокруг поселения отшельников и уже существовавший небольшой монастырь при часовне Неопалимой Купины, построенной в IV в. святой Еленой, матерью Константина Великого.
Несмотря на то что географически гора Синай расположена в центре пустынного, чуть ли не лунного ландшафта, она является как бы местом встречи трех величайших монотеистических религий. Она считается Святой землей каждой из них, но особенно иудаизма, поскольку здесь пролегал путь израильтян, скитавшихся в поисках Земли обетованной, и здесь же Моисей принял от Бога заповеди. Мусульмане поклоняются горе, так как на одной скале близ вершины виден след копыта верблюда, который с этого места доставил пророка на небеса.
Монастырь в его теперешнем виде красноречиво свидетельствует о своем многогранном культурном и религиозном наследии. Он назван в честь Екатерины, христианской святой из Александрии, принявшей мученичество во время гонений императора Максимилиана и, по преданию, похороненной в этом месте. Одна из его двадцати двух часовен построена, как гласит легенда, на том месте, где Господь явил себя Моисею в неопалимой купине. Посетителей этой часовни просят снять перед входом обувь.
Только после того как в 1958 г. объединенной экспедиции Принстонского, Мичиганского и Александрийского университетов было разрешено произвести полную опись и сделать цветные фотоснимки, Запад получил некоторое представление об уникальных шедеврах искусства, хранящихся в стенах монастыря Святой Екатерины. Его коллекция икон, насчитывающая более двух тысяч экземпляров, не имеет себе равных. Мозаика VI в. "Преображение Христа" в апсиде базилики превосходит все мозаики Равенны и считается одним из самых выдающихся творений византийского гения.
Тем, что удалось сохранить так много произведений живописи — вопреки константинопольскому императору-иконоборцу Льву III, приказавшему в 728 г. уничтожить все иконы в его империи, — монастырь Святой Екатерины обязан одному из бесчисленных парадоксов истории — происшедшему ранее завоеванию этого района мусульманами. Несмотря на тенденцию европейских историков сделать победоносных солдат Мухаммеда козлами отпущения в деле опустошения христианских центров, начиная с Александрийской библиотеки, надо признать, что ислам часто способствовал сохранению культурных богатств и спасал христиан от их же единоверцев.
Как вскоре заметил Тишендорф, монастырь Святой Екатерины хранил остатки духа веротерпимости: в его стенах нашла приют мечеть, о происхождении которой рассказывают немало противоречащих друг другу историй. Согласно одной версии, она была построена самим пророком; другая, записанная Тишендорфом, гласит, что монахи воздвигли ее, чтобы смягчить гнев завоевателя, султана Оттоманской империи Селима I (1512–1520), когда они не сумели вылечить одного молодого греческого монаха, к которому властелин питал нежные чувства. Но это романтическое объяснение опровергается тем фактом, что о существовании мечети источники упоминают за два столетия до описываемых событий. В равной мере можно сомневаться и в расхожем мнении, что монастырю удалось спастись единственно благодаря уважению арабов к маленькой мечети. Вряд ли ее наличие помешало бы им разрушить или использовать для своих целей остальные постройки. Как бы то ни было, другие монастыри и церкви тоже оставались не тронутыми в течение веков арабского и турецкого владычества, даже без ограждающей близости минаретов. Правда заключается в том, что сосуществование христианских и мусульманских храмов было выражением веротерпимости, гораздо более свойственной средневековой арабской цивилизации, чем западному миру.
Тишендорфу и его людям пришлось довольно долго кричать перед неприступными стенами, чтобы привлечь к себе внимание. Их пустили внутрь только после того, как его рекомендательные письма, переправленные через стену в корзине, привязанной к веревке, были тщательно изучены и признаны действительными. Братия спросила, есть ли у него рекомендация от настоятеля главного отделения монастыря в Каире, но Тишендорф мудро ответил, что забыл взять ее с собой. Он опасался, что, если они заранее узнают о его пристрастии к древностям, это может осложнить поиски. Теперь монах спустил сверху другую корзину, в которую на этот раз сел сам посетитель и был поднят вверх по стене к небольшому отверстию.
"Как удивительно приятно, — писал Тишендорф в своих популярных путевых заметках "Reise in den Orient" ("Путешествие на Восток"), — оказаться внезапно перенесенным из безлюдной пустыни с ее нескончаемым песком и скалами в эти гостеприимные стены, в маленькие опрятные дома, очутиться среди серьезных бородатых людей в черных рясах". Тут же настоятель провел Тишендорфа в уютные комнаты и назначил молодого грека прислуживать ему. Грек был одет в короткую полосатую тунику и с ходу ошеломил Тишендорфа вопросом, не приходилось ли ему во время своих странствий бывать на Солнце и на Луне. Будучи, очевидно, слегка помешанным, этот "синьор Пьетро", как называла его братия, был упрятан в монастырь своими огорченными родственниками. И каждый день он трогательно ждал их приезда. Несмотря на свои причуды, он был необыкновенно смышленым и говорил кроме родного греческого на итальянском, французском, а также немного на английском, немецком и арабском языках. Тишендорф вскоре понял, что этот грек — самый живой и остроумный из восемнадцати обитателей монастыря.
Соседом немецкого ученого был брат Грегориос, величавый, добродушный, библейского вида старец, который за сорок лет до этого был мамлюкским генералом, известным своей жестокостью.
Более всего Тишендорф сблизился здесь с недавно прибывшим библиотекарем Кириллом, который был переведен сюда из монастыря на горе Афон из-за разногласий с патриархом.
В этой, похожей на мираж, религиозной крепости было на что посмотреть. Через некоторое время Тишендорф научился разбираться в лабиринте домов, залов, мастерских, келий, часовен, лестниц, галерей, балконов и балюстрад — в скоплении, образовавшемся за тысячу четыреста лет строительства и приводящем в отчаяние своей запутанностью, подобно настоящему средневековому городу. Он замечал роспись на стенах, резьбу по дереву, мозаичное панно; в сопровождении синьора Пьетро через подземный ход ходил на прогулки в восхитительный, хорошо орошаемый сад вне стен монастыря, где выращивались овощи и сладкие фрукты и ряды стройных темнозеленых кипарисов четко вырисовывались на фоне неба. В саду также находился склеп, оссуарий, где хранились рассортированные кости умерших — ребра с ребрами, руки с руками, черепа с черепами. Трупы сначала высушивались благодаря сухому климату пустыни, а через несколько месяцев разламывались и раскладывались по отдельным кучкам. Только скелет святого Стефана, умершего в 580 г., был оставлен нетронутым и в соответствии с его предсмертным желанием был установлен в полном одеянии, как часовой, у входа.
Но прежде всего гостя интересовали рукописи. Кирилл оказывал Тишендорфу помощь и, по-видимому, доверял ему. Он сам начал борьбу во имя некоторого порядка против торжествующего хаоса, составив первый каталог. При этом он не возражал, если кто-либо пользовался книгами — что и у нынешних библиотекарей вызывает иногда приступы профессиональной нервной болезни, — хотя это и могло временно расстроить порядок, который он навел в библиотеке. Тишендорфу было позволено уносить рукописи к себе, чтобы без помех копировать их и составлять свой собственный перечень. Кириллу все эти хлопоты доставляли даже удовольствие: ведь больше ни один человек в монастыре не выказывал ни малейшего интереса к книгам. Время от времени он преподносил Тишендорфу каллиграфически оформленный листок с каким-нибудь стихотворением на новогреческом языке, сочиненным в его честь.
Путевые заметки Тишендорфа о Востоке, изданные в двух томах вскоре по возвращении в Лейпциг и написанные в обычном, отчасти популярном, отчасти гиперболическом стиле, свойственном заметкам путешественников середины прошлого века, — хотя эти читались интереснее большинства других, — были весьма сдержанными во всем, что касалось его палеографических занятий на Синае; причины этой сдержанности мы вскоре узнаем. Но в частных письмах и записях Тишендорф отводил душу, рассказывая о своем восхищении богатством коллекции и унынии, вызванном плачевным состоянием, в котором он нашел ее, несмотря на первые усилия Кирилла. Он начал испытывать презрение к монахам, беспечно пренебрегавшим своим истинным богатством — христианскими текстами — ради глупых будничных забот и механического, вымученного воспроизведения наполовину непонятной литургии. Он писал своей невесте: "Вот уже семь дней, как я прибыл в монастырь Святой Екатерины. Ты и представить себе не можешь эту свору монахов! Имей я власть и достаточно физической силы, я бы свершил богоугодное дело, вышвырнув всю шайку через стену…"
Когда он начинал наводить справки о каких-нибудь важных рукописях, ответы были обычно уклончивыми, часто заведомо ложными и противоречащими друг другу. Даже от Кирилла было мало толку. Ему ничего не стоило заявить, что он понятия не имеет о существовании тех или иных пергаменных рукописей, которые, по слухам, видели другие монахи.
По счастью, Тишендорф в том сыщицком розыске, который он учинил в книжном и рукописном собраниях, был полностью предоставлен самому себе. В монастыре Святой Екатерины было, собственно, три библиотеки, совершенно не связанные друг с другом и размещавшиеся в трех отдельных помещениях. Меньшая содержала в основном печатные издания, хранящиеся на полках. На дверях собственно монастырской библиотеки, расположенной на первом этаже, красовалась греческая надпись
обозначающая "аптека духа" или "санатории души" (название, начертанное, согласно Страбону, на стене одной древнеегипетской библиотеки в Фивах). Тишендорф сухо прокомментировал этот факт: "Насколько мало остальные обитатели пустыни, люди образцового здоровья, нуждаются в городских аптеках, настолько же мало среди монастырской братии слабых душ, нуждающихся в помощи этой "аптеки духа"".
Третья библиотека служила также складом священнических одеяний, сосудов и тому подобного. Кроме того, она содержала также Библии, литургические и патриотические тексты и пополнялась в прошлом книгами, поступавшими сюда по завещаниям покойных синайских архиепископов. Здесь хранилось также роскошнейшее, великолепно украшенное унциального письма Евангелие VII или VIII в., высоко ценившееся даже монахами и уже привлекавшее внимание путешественников, ранее посещавших монастырь. Хотя его значение с точки зрения текстуальной критики было ничтожным, Тишендорф ценил его эстетические достоинства весьма высоко.
По примерному подсчету Тишендорфа, здесь было около пятисот рукописей, главным образом на греческом, но также некоторое количество на арабском, сирийском, армянском, грузинском и старославянском языках (совместная американо-египетская экспедиция, субсидированная Фондом изучения человека, впоследствии обнаружила примерно три тысячи триста рукописей на двадцати языках, из них более двух третей — на греческом). По содержанию рукописи были почта без исключения теологическими, включая списки Библии, требники, патриотические и литургические тексты. Они свидетельствовали о том, что было время, когда и в монастырских кельях велись серьезные богословские занятия. Некоторые рукописи когда-то принадлежали, по-видимому, соседним монастырям, которые были покинуты или разрушены. Тишендорф содрогался при одной мысли о том, сколько их было безвозвратно утеряно вследствие "постыдного небрежения". Он держал в своих руках манускрипт, буквально "кишевший откормленными белыми клещами". А другой, "прижатый к каменной стене, слипся и затвердел до такой степени, что вполне мог сойти за окаменелость".
Ни один из исследованных до сих пор Тишендорфом томов и отдельных листов не представлял большого интереса для библейских штудий. Здесь не было практически ничего, что помогло бы восстановлению текста Нового Завета времен раннего христианства. И тут, как в хорошем приключенческом романе, случилось непредвиденное. Тишендорф, рассеянно блуждая по главной библиотеке, случайно остановил взгляд на корзине, стоявшей посреди зала. Она была заполнена старыми рукописями на пергамене, и, когда Тишендорф поспешил к ней, чтобы проверить ее содержимое, Кирилл, по случайности оказавшийся здесь, заметил, что две груды подобного материала в такой же стадии разложения уже были преданы огню. Эта партия предназначалась для той же цели. Однако Тишендорф все же решил поближе взглянуть на рукописи. Перед ним были исписанные каллиграфическим унциальным письмом пергаменные страницы, содержащие по четыре колонки текста. Это был список греческого Ветхого Завета — "Септуагинты", который, судя по стилю письма, показался Тишендорфу самым древним из всех, которые ему довелось видеть: "Я изучил все старейшие греческие рукописи в европейских библиотеках, и изучил их тщательнейшим образом, с целью заложить основы новой греческой палеографии. Некоторые из них, например часть Ватиканской Библии, я скопировал собственноручно. Пожалуй, никто не был так знаком с древним написанием греческих букв, как я. И все же мне не приходилось видеть рукопись, которую можно было бы счесть более древней, чем эти синайские листы".
Не было сомнений, что этот манускрипт не уступал по возрасту, а следовательно, и по своему значению для науки перлам среди библейских рукописей Европы унциальным кодексам Рима, Парижа, Лондона и Кембриджа. Тишендорф насчитал сто двадцать девять листов пергамена. Все они были из Ветхого Завета, хотя только из одной его части. Поскольку Тишендорф в основном интересовался греческим Новым Заветом, он, вероятно, испытал кратковременное разочарование. Но это отнюдь не умалило значения его открытия, которое могло привести к находке новых — возможно, даже неизвестных ранее фрагментов "Септуагинты". По уцелевшей части кодекса нельзя было сказать, входил ли в него Новый Завет, хотя все говорило за то, что рукопись прежде была много больше по объему. И какие-то части ее уже были преданы огню.
Учитывая судьбу, уготованную содержимому корзины, Тишендорфу не составило труда получить разрешение на то, чтобы взять себе сорок три листа. К сожалению, он еще не научился держаться с беспристрастностью опытного скупщика. Его восторг по поводу неожиданной находки, часть которой стала теперь его собственностью, недвусмысленно отражался на его лице. Какая великолепная награда за нудное высиживание месяц за месяцем над вычитыванием выцветших палимпсестов; за внесение в списки практически каждого клочка древних библейских рукописей в европейских библиотеках и утомительные поездки через весь континент в поисках этих клочков; за жизнь в дешевых гостиничных номерах вместо женитьбы и спокойной жизни в собственном доме; за выпрашивание средств и обхаживание хитрых чиновников, строгих архивариусов, уклончивых священнослужителей и продажных комиссионеров! Мог ли двадцатидевятилетний ученый, только что совершивший то, что некоторые потом называли "открытием века", скрыть свои эмоции?
Монахи осознали ценность обрывков, которые они намеревались сжечь и часть которых они в своей щедрости от невежества только что отдали иноземцу. Теперь никакие доводы Тишендорфа не могли убедить настоятеля отдать ему оставшиеся восемьдесят шесть листов, хотя, как заметил Тишендорф, почтенный старец не вполне понимал, что он, собственно, оберегает. Однако Тишендорфу разрешили просмотреть оставшиеся листы, и он составил перечень их содержания, а также скопировал одну страницу с тремя колонками Исайи и первой колонкой Иеремии. Он умолял Кирилла получше заботиться о листах, отобранных у него, и быть начеку, если вдруг обнаружится любой подобный материал. Тишендорф также намекнул, что он, возможно, еще вернется в монастырь. В его мозгу уже теснились всевозможные проекты. Каким образом ему овладеть листами, которые в последнюю минуту ускользнули из его рук? Может ли он рассчитывать на поддержку извне? Не обратиться ли к русскому царю, который, как патрон Греческой православной церкви и покровитель христианских учреждений на Ближнем Востоке, пользовался большим почетом у синайских монахов? Под давлением обстоятельств палеограф уже готов был превратиться в изворотливого политика. Одно он решил твердо: никто не должен знать о происхождении страниц "Септуагинты", которые он привезет с собой в Европу. Все, что он скажет, — это что они были найдены "в египетской пустыне или неподалеку оттуда". Это не было ложью, хотя позже его и обвинили во лжи. На самом деле это было правдой… только в соответствии с освященной годами заповедью дипломатии Талейрана: хотя он и говорил правду, и ничего, кроме правды, это была не вся правда.
Синайский кодекс
Тишендорф вернулся в Лейпциг в январе 1846 г. Он приехал в Европу не прямо из Синая, а сперва снарядил в Египте еще один караван и после ряда опаснейших приключений, которые вовлекли его даже в племенную междоусобицу, добрался в конце концов до Святой земли. Мы не последуем за ним в его паломничестве к монастырям Палестины и Сирии и в пространном описании его скитаний, доведших его до самого Константинополя. В некоторых местах повторялась та же история с подозрительностью и скрытностью монахов, и точно в таком же жалком состоянии были монастырские библиотеки, в которые ему удавалось попасть только после многих мытарств и нервотрепки. Тем не менее его настойчивость и инстинкт палеографа позволили ему приобрести несколько ценных рукописей, из которых, впрочем, ничто не шло в сравнение с сорока тремя страницами из Синая. Он прибыл в Лейпциг, тяжело нагруженный греческими, сирийскими, коптскими, арабскими и грузинскими документами, которые передал все без исключения в библиотеку Лейпцигского университета в знак признательности правительству за помощь в его исследованиях. Материал был каталогизирован как "Manuscripta Tischendorfiana". Среди них было три греческих палимпсеста. Уникальные синайские фрагменты были помещены отдельно под тем названием, которое их открыватель дал им в честь саксонского курфюрста, — "Кодекс Фридриха Августа". Тишендорф немедленно приступил к подготовке литографического факсимильного издания кодекса, к которому прилагался комментарий.
По возвращении после более чем четырехлетнего отсутствия тридцатилетний ученый, чья репутация палеографа и текстолога-библеиста теперь окончательно упрочилась, был приглашен на должность адъюнкт-профессора Лейпцигского университета. Теперь Тишендорф мог жениться, обзавестись семьей. Он приступил к регулярному чтению лекций в университете и к изданию открытых им текстов. Новое издание греческого Нового Завета вобрало в себя многое из этих свежих материалов и знаменовало собой новую веху в критике Библии. Поглощенный своей работой и семейными делами, Тишендорф, казалось, покончил со своими странствиями. Но в периоды больших университетских каникул он неизменно оказывался в непосредственной близости от старинных библиотек, в частности в Цюрихе и Санкт-Галлене, в Швейцарии, в местах, равно привлекавших и палеографическими ценностями, и красотами природы. Но где бы он ни был, ему не давала покоя мысль о листах, оставленных им в Синае. Тишендорф никому не говорил о них, так как не хотел, чтобы кто-нибудь другой завладел ими. Он во что бы то ни стало должен найти способ приобрести их! Только как заставить монахов Святой Екатерины изменить свое отношение?
Тишендорф вспомнил о Прунер-бее (Ф. Прунер), враче египетского вице-короля, с которым он подружился в Каире. Прунер-бей занимал высокое положение, имел обширные связи, можно было быть уверенным, что он будет действовать осмотрительно. Тишендорф попросил его связаться с синайскими монахами и предложить им приличную сумму за пергамены "Септуагинты". Но Прунер смог только сообщить о постигшей его неудаче. "Со времени вашего отъезда из монастыря, — писал он, — монахи вполне оценили сокровище, которым владеют. Чем больше им предлагаешь, тем крепче они держатся за рукопись". Было ясно, что Тишендорфу надо ехать самому. Даже если ему не удастся выкупить оставшиеся фрагменты, он мог бы скопировать их, а затем издать, чтобы сделать достоянием западной науки. Тишендорф посвятил в свою тайну саксонского министра просвещения, и тот предоставил ему субсидию для организации поездки.
Тишендорф покинул Европу в середине января 1853 г. и прибыл в монастырь Святой Екатерины в начале февраля. Его приняли по-дружески. Кирилл, все еще заведовавший библиотекой, казалось, был рад встрече. Но все расспросы о греческих пергаменах были безрезультатны. Кирилл категорически заявлял, что понятия не имеет о том, что случилось с фрагментами, которые Тишендорф извлек из мусорной корзины и столь настойчиво вверял его попечению. Тишендорф твердо верил в искренность библиотекаря и поэтому пришел к выводу, что рукописью как-то распорядились без ведома Кирилла. Он подозревал, что она скорее всего уплыла в Англию или в Россию. Однако кое-что случайно прояснилось, когда он просматривал в библиотеке один сборник житий святых. Он обнаружил обрывок листа "не более чем в пол-ладони", использовавшийся в качестве закладки. Листок содержал несколько стихов (одиннадцать строк) из 23-й главы Книги Бытия. Поскольку это была начальная часть Библии — Первая книга Моисеева, тем самым подтверждалось, что этот экземпляр греческого Ветхого Завета первоначально был полным.
Но, как вынужден был с грустью заметить Тишендорф, "большая часть уже давно была уничтожена".
Постигшая его неудача не помешала Тишендорфу сделать во время краткого пребывания на Ближнем Востоке несколько ценных находок. В этот раз он привез домой шестнадцать палимпсестов — старых сирийских и арабских пергаменов, а также значительную коллекцию караимских текстов, принадлежавших иудейской секте времен раннего Средневековья. Кроме того, он приобрел много греческих, коптских, иератических и демотических папирусов. К маю он уже снова был в Лейпциге.
Он был готов в любой момент услышать о появлении большей части спасенной им "Септуагинты" в какой-нибудь европейской библиотеке или частной коллекции. Но годы шли, а ничего подобного не происходило. Тишендорф надеялся, что сможет вынудить предполагаемого владельца восьмидесяти шести листов нарушить молчание, когда в 1854 г. он опубликовал отрывки из Исайи и Иеремии, скопированные им в монастыре со страниц, которые монахи отказались ему отдать. Отрывки появились в его собственной серии — "Monumenta sacra in-edita" ("Неизданные священные памятники"), — которую он основал специально для опубликования открытых им рукописей и любых других иным способом недоступных текстов. В примечании к отрывку из Ветхого Завета он ясно дал понять, что рукопись, послужившая источником, найдена им, а не кем-то другим. Шло время. Очевидно, его предположение было безосновательным: никто не спешил похвастаться обладанием восемьюдесятью шестью страницами. Как узнал Тишендорф несколькими годами позже, русскому церковному деятелю Порфирию Успенскому, посетившему гору Синай, монахи показывали заветную рукопись, но он в тот момент не сумел оценить ее по достоинству и даже не удосужился выяснить, какие тексты в ней содержатся.
В последующие годы Тишендорф был занят обширными исследованиями в связи с седьмым критическим изданием Нового Завета. Но Восток уже жил в его крови, и "мысль о новых путешествиях и исследованиях", признавался он, никогда не оставляла его; он "отказывался рассматривать свои первые две поездки как подводящие какой-либо итог его миссии". Те, кому довелось побывать на Востоке, отмечал он, уже никогда не могли забыть его. Его надежды вновь ожили, когда один английский ученый (Г. О. Кокс), направленный британским правительством в поездку по Ближнему Востоку с целью приобретения памятников древности, намеренно исключил монастырь Святой Екатерины из своего маршрута, заявив: "Что касается горы Синай, то после пребывания там столь выдающегося палеографа и критика, как д-р Тишендорф, не говоря уже о визитах многих других ученых, вряд ли можно рассчитывать найти там что-нибудь стоящее, чего не заметил бы их наметанный глаз".
Но на этот раз Тишендорф хотел предстать перед хитрыми монахами Синая, обладая прочными позициями. Как Лэйярд и Мариэтт, проводившие как раз в это время буквально революционные археологические раскопки в Месопотамии и Египте, он понял, как много значит, учитывая закоснелость турецких чиновников и невежество местного населения, политическая поддержка, дающая иностранным ученым силу и авторитет для успешного проведения их экскурсов в прошлое. Покровительство прусского правительства могло быть очень полезным. В достигшем уже преклонного возраста Александре фон Гумбольдте, обладавшем значительным влиянием при берлинском дворе, он нашел друга и единомышленника. Однако прусский министр просвещения проявлял значительно меньший энтузиазм. Тогда Тишендорф вновь вернулся к мысли заручиться поддержкой русского царя, который имел несравненно большее влияние в Леванте.
К его значительному политическому авторитету присовокуплялся еще и ореол благодетеля, так как он был главою Русской и защитником интересов Греческой церкви. Разве не царь был преемником бывших византийских императоров и властелином Третьего Рима? Кроме того, синайская монашеская община в течение нескольких столетий пользовалась субсидиями царя. Тишендорф знал, как наилучшим образом использовать эти обстоятельства.
Осенью 1856 г. он вручил русскому послу в Дрездене меморандум для министра народного просвещения Авраама Норова. Расписав, не жалея красок, свои достижения в деле открытия утерянных рукописей, Тишендорф далее заявлял: "Это драгоценное наследие тех веков, когда ученость настолько же процветала в монастырских кельях, насколько сейчас не может найти достойных наследников, по моему мнению, является священным достоянием всех образованных людей. Какую духовную жатву уже собрала Европа с заброшенных темных закоулков восточных монастырей благодаря тому, что важнейшие средневековые пергамены, в особенности греческие, удалось переправить в центры европейской культуры и науки! Но еще много этих документов, больше, чем мы себе представляем, по-прежнему ожидают открытия, пребывая в первоначальных своих хранилищах. В особенности это относится к области греческой литературы и византийской истории…"
А. С. Норов был человеком удивительной эрудиции, он сам совершил несколько путешествий на Восток. Он настолько был захвачен проектом Тишендорфа, что приехал в Лейпциг, чтобы обсудить с ним все планы, и даже выразил желание присоединиться к нему на одном из участков маршрута. Достоинства предложения Тишендорфа произвели впечатление и на Императорскую Академию в Санкт-Петербурге, которую попросили высказать по этому поводу свое мнение. Однако консервативное русское духовенство не было склонно возлагать на немца-протестанта представительство перед их единоверцами в Леванте. К тому же А. С. Норов оставил свой пост. Однако бывший министр сохранил доступ к царской семье и склонил на свою сторону брата царя — Константина. Со временем царица Мария Александровна и вдовствующая императрица также были вовлечены в маленький заговор.
Между тем Тишендорф вступил в переговоры и с саксонским правительством, которое выразило готовность взять на себя расходы, если русские откажутся финансировать экспедицию. Получив определенную независимость, Тишендорф мог теперь действовать более смело. Он отправил в Санкт-Петербург фактически ультиматум с просьбой сообщить ему решение по его петиции — либо то, либо иное. Немедленно Норов и еще один приближенный великого князя Константина телеграфировали, что теперь ему не придется долго ждать, что поддержка императора будет обеспечена в самом ближайшем будущем. Вновь обратились к императрице, которая в тот момент собиралась вместе с царем отправиться поездом в Москву. На другой вечер были отданы распоряжения снабдить Тишендорфа необходимыми средствами (куда входила как стоимость дорожных расходов, так и значительная сумма на приобретения). Все это в золотой русской валюте было выдано Тишендорфу императорским посланником в Дрездене. Деньги были переданы без каких-либо письменных обязательств. От Тишендорфа не потребовали даже расписки. "Таким образом, проект был скреплен императорской щедростью как дело, основанное на полном доверии".
По завершении седьмого издания греческого Нового Завета, на что ушло три года непрерывной работы, Тишендорф вновь пустился в плавание к берегам Египта. На этот раз он не задерживался в Нильской долине, а прямиком проследовал в монастырь на горе Синай. Прием, оказанный ему в монастыре, был совершенно непохож на предыдущие. Теперь он прибыл от имени Его Величества императора России, и с ним обращались с должным почтением и уважением. В его честь был поднят русский флаг. На этот раз он попал в монастырь отнюдь не с помощью подъемного приспособления, а был проведен через расположенную на уровне земли небольшую дверь, которая открывалась лишь в редких случаях — для особо почетных гостей. Настоятель, по-видимому хорошо осведомленный о миссии гостя, произнес по случаю его прибытия краткую речь с пожеланиями успеха в поисках новых подтверждений Божественной истины. Как впоследствии заметил Тишендорф, "его сердечное благопожелание сбылось помимо его ожиданий".
Была ли речь настоятеля приправлена драматической иронией, как казалось Тишендорфу и более поздним немецким авторам, или она отражала искреннее желание монахов исполнить любое пожелание гостя, быть может в надежде на соответствующее вознаграждение со стороны русских — у нас слишком мало данных, чтобы уверенно судить об этом. Что бы там ни происходило за сценой — допуская даже возможность того, что монахи играли с Тишендорфом в кошки-мышки, — видимый ход событий нам совершенно ясен. Тишендорф еще раз просмотрел все монастырские собрания рукописей. Через три дня он убедился, что ранее ничто в них не ускользнуло от его внимания. Оставалось разве что скопировать несколько отрывков. Он решил не спрашивать прямо о судьбе рукописи Библии, слишком хорошо зная, каков будет ответ. Раз ему не удалось обнаружить каких-либо ее следов во всех трех библиотеках, он еще больше укрепился в мысли, что она была увезена из монастыря Святой Екатерины. На четвертый день своего пребывания там он решил в конце недели вернуться в Каир.
В этот день Тишендорф, сопровождаемый монастырским экономом, молодым добродушным афинянином и учеником Кирилла, который называл его своим духовным сыном, предпринял восхождение на близлежащий холм и спустился в расположенную за ним долину. На обратном пути зашел разговор о тишендорфовских изданиях греческого текста Ветхого и Нового Завета, копии которых он подарил монастырю. По возвращении, когда день клонился к закату, эконом пригласил Тишендорфа к себе в келью, чтобы немного подкрепиться. Едва они вошли и начали потягивать финиковый ликер, изготавливаемый в монастыре, эконом вернулся к их прежнему разговору. "А я тоже читал "Септуагинту" — греческую Библию, переведенную Семьюдесятью". Сказав это, он пересек комнату, взял с полки громоздкий предмет, завернутый в красную ткань, и положил его перед гостем. Тишендорф развернул ткань — и перед ним предстали те же самые унциальные буквы IV в., те же листы с четырьмя колонками, как и в Кодексе Фридриха Августа. И здесь были не только те самые листы, которые лет пятнадцать назад Тишендорф выудил из корзины, а много, много больше.
Помимо восьмидесяти шести страниц Ветхого Завета, которые он видел ранее, здесь было еще сто двенадцать листов, а также величайшее сокровище, главная цель всех его устремлений — по всей видимости, полный Новый Завет. Столь полного текста не давали ни Александрийский, ни Ватиканский кодекс. Он пересчитал страницы: их было триста сорок шесть. Он просмотрел текст, чтобы убедиться, все ли Евангелия, все ли Послания на месте. То, что он сейчас исследовал, было уникальным текстом Нового Завета, сохранившимся во всей полноте с эпохи, столь близкой действительному времени его создания. Мог ли он поверить своим глазам, когда в конце текста Нового Завета заметил Послание Варнавы? Это было сочинение апостольского ученика, которое впоследствии, при составлении канона, после долгих колебаний исключили из текста Нового Завета. Большая часть его считалась утерянной, и до нас дошли только отдельные фрагменты в скверных латинских переводах. Тишендорф с трудом сдерживал свою радость. Но на этот раз он решил действовать осторожно, чтобы не возбудить подозрения братии и снова не упустить свою добычу. Между тем в келье эконома собрались монахи, и среди них Кирилл. Они могли засвидетельствовать полное бесстрастие, с которым немецкий профессор просматривал объемистый манускрипт. Не зная досконально содержания этих листов пергамена, они просто неспособны были, решил Тишендорф, оценить по достоинству их значение. Он небрежно спросил, можно ли ему взять листы в свою комнату для более детального изучения, и разрешение было дано с легкостью. В более позднем изложении этой истории он попытался отразить чувства, охватившие его, когда он наконец остался один: "Здесь, наедине с самим собой, я мог дать волю своему восторгу. Я знал, что держу в руках самое драгоценное из существующих библейских сокровищ — документ, чей возраст и значение превосходили возраст и значение всех рукописей, с которыми мне доводилось знакомиться за двадцать с лишним лет изучения своего предмета…"
Он начал составлять полную опись содержания этих трехсот сорока шести страниц. Помимо двадцати двух книг из Ветхого Завета, в большинстве своем полных, преимущественно пророческих и поэтических по содержанию, здесь были также и части библейских апокрифов. Новый Завет был вообще без пробелов. Когда он перелистал его и прочел Послание Варнавы, в его мозгу мелькнула мысль: а не может ли здесь оказаться еще один бесследно исчезнувший текст, так называемый "Пастырь" Гермы? Он почти устыдился ненасытности своих надежд перед лицом уже столь щедро дарованной благодати. Затем взгляд его упал на лежащий перед ним довольно выцветший лист. Заголовок гласил: "Пастырь".
Было восемь часов вечера. О том, чтобы лечь спать, не могло быть и речи. Хотя лампа давала только тусклый свет и было довольно прохладно, Тишендорф засел за переписку Послания Варнавы и спасенной части "Пастыря" Гермы.
Рано утром следующего дня он послал за экономом. Дав понять, что располагает изрядным количеством золота, он предложил уступить ему рукопись в обмен на щедрое денежное пожертвование, причем двойное: как монастырю, так и лично эконому. Последний, как вынужден был признать Тишендорф, "поступил благоразумно, отвергнув его предложение". Тогда Тишендорф объяснил, что он просто хотел скопировать рукопись. Против этого эконом не возражал. Но как это было сделать? Манускрипт содержал около ста двадцати тысяч строк, написанных трудным для чтения александрийским письмом. Работа заняла бы по крайней мере год. Тишендорф не был готов к тому, чтобы задержаться в монастыре Святой Екатерины на такой долгий срок. Может быть, монахи позволят взять кодекс в Каир, где ему окажут помощь? Братия согласилась на это практически единодушно, если не считать старца Виталия, хранителя церковной утвари, ведавшего библиотекой, совмещенной со складом, откуда рукопись, по всей вероятности, и была первоначально извлечена. Была и еще одна трудность: настоятель Дионисий — а за ним было последнее слово — незадолго до этого уехал в Каир, чтобы вместе с настоятелями других синайских монастырей избрать нового архиепископа, который должен был сменить недавно умершего столетнего архиепископа Константина.
Тишендорф решил последовать за настоятелем в Каир, взяв с собой письма от Кирилла и эконома, в которых они горячо поддерживали его план. В Каире он поспешил в Синайский монастырь, где собрался синод настоятелей, и к вечеру разрешение на доставку манускрипта в Каир было получено. За рукописью в Синай был отправлен бедуинский шейх. Через десять дней манускрипт с "дромадерским экспрессом", скорости которому значительно прибавили щедрые посулы Тишендорфа, прибыл в Каир. Договорились, что Тишендорф будет брать для копирования каждый раз по одному "кватерниону", то есть по восемь страниц. Ему предстояла необъятная работа, которую, кстати, дальнейшее развитие событий лишило всякого смысла. Два месяца проработал Тишендорф в своей комнатке в "Отель де пирамид", не дающей никакого спасения от нескончаемого шума и гама каирской улицы.
Чтобы ускорить дело, он нанял двух живущих здесь немцев, получивших некоторое классическое образование, — врача и аптекаря. Под его наблюдением они приступили к работе. Но с каждым шагом трудность стоящей перед ними задачи становилась все очевиднее. Помимо того что многие места в рукописи совершенно выцвели, в ней была еще тьма поправок — около четырнадцати тысяч, — внесенных целым рядом "редакторов" уже после того, как текст был полностью записан. Некоторые страницы содержали более сотни таких исправлений. К тому же сам текст был написан несколькими почерками, и каждому были присущи своя манера, свои особенности. Над рукописью поработало по меньшей мере шесть "редакторов", и большинство из них, по-видимому, сделали это не менее тысячи лет назад.
Когда была скопирована почти половина тома, Тишендорф, к своему ужасу, узнал, что из-за неосторожной фразы, сказанной им представителю германского консульства, тайна стала известной только что прибывшему английскому ученому. Более того, англичанин получил доступ в монастырь, где хранился кодекс, и, не тратя времени даром, стал предлагать монахам деньги. Тишендорф, прибывший в монастырь вскоре после англичанина, на какое-то время совершенно потерял самообладание. Однако настоятель успокоил его, сказав: "Мы скорее преподнесем рукопись императору Александру в качестве подарка, чем продадим ее за английское золото".
Столь благородная идея, разумеется, тотчас нашла отклик в душе хитрого Тишендорфа, который, как он сам сознавался, "был в восторге от такого проявления веры и рассчитывал воспользоваться им в будущем". С особой настойчивостью принимается он теперь убеждать синайских монахов в величии этого шага, который отразил бы их преклонение перед царем как заступником православной веры. Раздражение, которое он испытал из-за появления соперника-англичанина и из-за разглашения его тайны, побудило его публично объявить о своих новых открытиях. Как победоносный генерал, он составил коммюнике о своем триумфе, отослал его министру народного просвещения Саксонии, а в середине апреля 1859 г. опубликовал в научном приложении к "Лейгашгер Цайтунг".
Мысль о том, что манускрипт следует преподнести царю, очевидно, показалась синайской братии весьма соблазнительной. Но тут возникли неожиданные осложнения. На преподнесение столь ценного подарка, как библейский кодекс, требовалось разрешение каирского архиепископа, однако митрополит Греческой православной церкви в Иерусалиме был настроен против вновь избранного архиепископа и отказывался посвящать его в сан. Вдобавок к этому избрание должно было быть утверждено турецким правительством и египетским вице-королем. Обе инстанции затягивали решение дела. Следовательно, назначение архиепископа пока не могло рассматриваться как вполне законное, в связи с чем он отказывался взять на себя ответственность за решение судьбы кодекса. Однако он намекнул, что в случае, если его высокие полномочия будут подтверждены, он не будет возражать против передачи кодекса царю.
Тишендорф сумел ловко вмешаться в конфликт по поводу избрания нового архиепископа. Он выступал уже не как простой проситель. На этот раз он дал понять монахам, что, будучи посланником царя, он постарается употребить все свое влияние, чтобы склонить дело в их пользу. Монахи были весьма обеспокоены затянувшимся епископальным междуцарствием, которое внесло в их общину апатию и беспорядок. Когда Тишендорф услышал о прибытии в Иерусалим великого князя Константина, он прервал работу и нанял судно, которое доставило его и еще троих человек в Яффу. С этого момента он стал постоянным компаньоном брата царя во время его пребывания в Святой земле. Позже он отправился в Смирну и на Патмос и по дороге туда приобрел несколько ценных рукописей, которые отправил в качестве подарка царю Александру.
Вернувшись в Каир, Тишендорф узнал, что избрание нового архиепископа так и не было подтверждено из-за упрямого нежелания иерусалимского митрополита. В конце концов все еще не вступивший в должность архиепископ сам пришел просить Тишендорфа, авторитет которого значительно возрос благодаря его отношениям с великим князем, использовать все его возможности в защиту интересов общины. Тишендорф с радостью согласился выполнить возлагаемую на него миссию, учитывая, как он без обиняков отметил, "тесную связь между их и моими собственными интересами". Впрочем, во время пребывания в Константинополе его интересы сразу вышли на первый план.
В лице русского посла в Высокой Порте князя Лобанова Тишендорф нашел преданного союзника, который радушно приютил его в своем загородном доме на берегу Босфора. И здесь Тишендорф стал проявлять все больше беспокойства по поводу своих дел: "Ожидать месяц за месяцем конца монастырской свары — это никоим образом меня не устраивало". И он нашел решение. Он составил искусный документ и убедил русского посла подписать его. В этом документе русское правительство предлагало, учитывая тот факт, что формальное облечение властью архиепископа все еще ожидало подтверждения, отправить библейский кодекс в Санкт-Петербург во временное пользование. Он будет считаться собственностью монастыря вплоть до того момента, когда его официально преподнесут царю. Если в силу каких-либо непредвиденных обстоятельств акт дарения не состоится, манускрипт, безусловно, будет возвращен монастырю. С таким документом на руках Тишендорф вновь отправился морем в Египет. По его возвращении монахи горячо благодарили его за те усилия, которые он предпринял, чтобы решить дело в их пользу, и подписали документ, разрешающий ему забрать кодекс во временное пользование в Санкт-Петербург, "чтобы скопировать там насколько возможно точно".
Наконец он получил возможность вернуться в Европу со своим драгоценным грузом — "богатой коллекцией древних греческих, сирийских, коптских, арабских и других манускриптов, среди которых, как алмаз в короне, сверкала "Синайская Библия"". По пути Тишендорф, который обожал монархов любой национальности, выкроил время, чтобы продемонстрировать свои трофеи императору Францу Иосифу в Вене, а несколькими днями позже и своему собственному повелителю, саксонскому королю Иоганну. Затем он продолжил свой путь и прибыл в Царское Село, царскую резиденцию близ Санкт-Петербурга, где преподнес рукопись Их Величествам. Тишендорф использовал предоставившуюся возможность для того, чтобы внушить императору мысль о необходимости "издания этой Библии, которое было бы достойно как самой книги, так и императора и явилось бы одним из величайших предприятий в области критики и исследования Библии". Кто именно должен стать во главе предприятия, подразумевалось само собой. Тишендорф получил приглашение остаться в Санкт-Петербурге для выполнения этой работы, но он отклонил приглашение, мотивируя отказ личными обстоятельствами, а также тем, что в Лейпциге он будет располагать гораздо большими полиграфическими возможностями.
Подготовка факсимильного издания кодекса в четырех томах заняла три года. Эта работа оказалась одной из труднейших задач, когда-либо поставленных перед собой Тишендорфом, и, по-видимому, в конце концов она подорвала его здоровье. Надо было, например, изготовить адекватные греческие литеры для различных стилей написания унциальных букв, а также для значительно более мелкого шрифта исправлений, сделанных в тексте, которые следовало включить в факсимильное издание. Тишендорф собственноручно измерял расстояние между каждыми двумя буквами, чтобы достичь максимально возможного подобия. Поскольку текст рукописи был нечетким и частично выцветшим, фотокопирование при тогдашнем уровне фототехники было неосуществимым. (Впоследствии, в начале XX в., кодекс был сфотографирован гарвардским профессором Кэрсопом Лейком и его супругой, а затем опубликован издательством Оксфордского университета — Новый Завет в 1911 г. и Ветхий Завет в 1922 г.) Кроме того, следовало разобраться в чтении всех содержащихся в тексте исправлений и включить их в свою копию. Затем нужно было вычитывать корректуры. Когда вся эта работа была проделана, целый вагон тяжелых томов — тридцать один ящик с тысячью двумястами тридцатью двумя фолиантами общим весом около 60 тонн — был отправлен в Санкт-Петербург, где книге предстояло выйти в свет в ознаменование тысячелетнего юбилея русской монархии осенью 1862 г. Издание было озаглавлено следующим образом:
CODEX BIBLIORUM
SINAITICUS PETROPOLITANUS,
Спасенный из мрака под покровительством Его Императорского Величества императора Александра II. доставленный в Европу и изданный к вящему благу и славе христианского учения трудами К. Т.
В посвящении своему блистательному патрону Тишендорф подчеркивал уникальность манускрипта, большое значение которого, "с надеждой провозглашаемое его открывателем с самого начала, было блестяще подтверждено… Нет другого подобного документа, который мог бы представить более веские доказательства своего древнего благородного происхождения. Преподобные Отцы Церкви, жившие в древнейшую пору христианства, свидетельствуют о том, что в их эпоху Церковь черпала слово Божие из документов, весьма сходных с этим".
С этого момента награды и почести посыпались на Тишендорфа дождем. Император России даровал ему и его потомкам дворянство. Папа, получив экземпляр факсимильного издания, лично выразил ему свои поздравления и восхищение.
Однако великий триумф Тишендорфа был омрачен злобными нападками на его честность и на ценность его находки. В определенном смысле приключенческий роман продолжался. Правда, продолжение его носило скорее характер плутовского романа — с появлением на сцене мошенника, изобретательного грека Симонида. Новый акт драмы заключался в схватке между величайшим палеографом века и человеком, который мог бы с полным правом претендовать на не менее высокий титул в своей менее похвальной профессии изготовителя поддельных рукописей. По иронии судьбы и ученый, и плут носили византийское имя Константин.
Страница из тишендорфовского печатного факсимильного издания Синайского кодекса (Евангелие от Марка 1,1–4)
Симонид родился, вероятно, в 1824 или 1819 г. (позже он называл 1815 г.) на небольшом острове Симэ в Эгейском море. В раннем возрасте оставшись сиротой, он был воспитан дядей — настоятелем одного из монастырей на горе Афон. Здесь Симонид овладел искусством каллиграфии и имел возможность копировать различные древние тексты. Он, безусловно, приобрел удивительные познания в области использования разнообразных материалов для письма в древние времена, различных стилей письма и особенностей языка. После смерти своего наставника Симонид появился в Афинах, где продал греческому правительству несколько пергаменов, которые он, очевидно, прихватил в качестве сувениров в гостеприимном монастыре. Он обнаружил, что спрос на рукописи велик, а запасы его иссякают, и решил заняться их пополнением. Вскоре он произвел сенсацию, предъявив рукописи, происходящие якобы из никому дотоле не ведомого центра учености, расположенного не где-нибудь, а на безвестном островке Симэ. По ним можно было составить впечатление, что предки Симонида в XIII в. предвосхитили все технические достижения середины XIX в., включая пароход. Другой манускрипт представлял его предполагаемого автора, греческого монаха из позднего Средневековья, изобретателем фотографии. Эти документы, явно взывавшие к эллинскому патриотизму и ловко преподнесенные их открывателем греческому государственному деятелю Мустоксидису, почти с самого начала вызвали подозрения. Мустоксидис, будучи сам ученым, заявил, что это подделка. Однако комиссия медлила вынести окончательное решение. Каким образом, вопрошали ученые, столь молодой человек, как Симонид, имеющий такие пробелы в образовании, мог создать подобные искусные подделки?
Вид горы Афон на северо-востоке Греции — средоточия православных монастырей, издавна славившихся своими рукописными собраниями
Между тем Симонид благоразумно проследовал в Константинополь. Здесь он получил право на ведение археологических раскопок в районе старого ипподрома. И через необыкновенно короткое время он появился вновь с бутылкой, набитой рукописными страницами. К несчастью для него, кто-то видел, как он во время обеденного перерыва сам же закапывал ее в землю. Симониду пришлось снова пуститься в странствия. Он неожиданно возникал в разных местах Леванта, от Александрии до Одессы. На некоторое время, имея на то веские причины, он вернулся на гору Афон, а затем решил облагодетельствовать плодами своего замечательного таланта Англию и Германию. Почему он избрал эти страны? Потому ли, что считал англичан и немцев наиболее легковерными по части древностей, или они были щедрее других, когда дело доходило до уплаты больших сумм во имя удовлетворения страсти к старым пергаменам? Во всяком случае, эти две страны были наиболее активными центрами палеографических исследований. Они являлись богатейшими рынками сбыта рукописей. То, что среди ученых в этих странах были весьма проницательные люди, Симониду было, по-видимому, тоже известно. Но он был готов рискнуть.
В Германии он предложил палимпсест давно утерянного "Урания" — эллинистической истории египетских царей. Старший коллега Тишендорфа, лейпцигский профессор Вильгельм Диндорф, заявил, что манускрипт подлинный. Одна берлинская ученая коллегия согласилась с его мнением и рекомендовала приобрести рукопись. Единственным, кто отнесся к этому скептически, был Александр Гумбольдт. В последнюю минуту Диндорф показал несколько страниц Тишендорфу. Он тут же распознал подделку и телеграфировал свое мнение в Берлин. Угроза компрометирующего разоблачения и скандала позволила Симониду сохранить свою свободу, но он был глубоко уязвлен вмешательством Тишендорфа. Открытие Синайского кодекса предоставило ему возможность реванша. Но теперь роли переменились. Симонид уже не отказывался, что прежде изготовлял поддельные рукописи. Наоборот, в сентябре 1862 г. он неожиданно признался в том, что изготовил целиком весь кодекс, который Тишендорф привез с Синая. Симонид сочинил запутанную историю, которая должна была объяснить, зачем он изготовил рукопись, не собираясь якобы вводить кого-либо в заблуждение относительно ее возраста.
Потрясающее разоблачение вызвало замешательство, и кое-где, особенно в Англии, ему поверили. Пресса восприняла скандал с восторгом. "Кто же обманщик и кто обманутый?" — гласил заголовок газетной статьи, разоблачающей немецкого ученого. Возможно ли, вопрошал автор статьи, чтобы в Синайском монастыре, где высокообразованным англичанам не удалось обнаружить чего-нибудь стоящего, Тишендорф смог извлечь столь ценные пергамены из груды хлама? И кто он, в конце концов, такой, этот Тишендорф? Кто он в сравнении с его выдающимися соотечественниками Диндорфом и Лепсиусом, которые оба были позорно обмануты Симонидом? Не выглядит ли дело таким образом, что Тишендорф не устоял перед соблазном увидеть свое имя прославляемым по всей Европе, чего бы это ни стоило?
Некоторые из этих мнений были подхвачены врагами Тишендорфа в Германии. Ему же все дело казалось дурной шуткой. То, что Симонид мог написать этот кодекс, выглядело столь же правдоподобно, по словам Тишендорфа, как если бы кто-нибудь заявил: "Это я построил Лондон" или "Я поместил гору Синай на то место в пустыне, где она сейчас находится".
Однако окончательно опровергли выдумку Симонида внутренние свидетельства самого текста. Синайский манускрипт был написан по меньшей мере тремя различными почерками, не считая множества почерков, наличествующих в поправках, которыми были представлены различные стили письма, последовательно датируемые веками с IV по XII. Ни на горе Афон, ни где-либо еще не существовало такого унциального документа или подборки документов, откуда это можно было бы скопировать. Другой греческой версии фрагментов Послания Варнавы вообще не было. Сама рукопись имела пометы, свидетельствующие о том, что она в VII в. находилась в Кесарии (Палестина). Кроме того, как можно было иначе объяснить тот факт, что до нас дошла только половина рукописи, тогда как фрагменты ее появлялись в переплетах, сделанных несколькими веками раньше? Как было отмечено впоследствии в посвященной Синайскому кодексу публикации Британского музея, "невероятность этой истории настолько очевидна, что не нуждается в доказательствах".
Симонид никогда не пытался написать хотя бы одну страницу таким унциальным библейским письмом, каким был написан кодекс. Кроме того, его уличали и во всевозможных противоречиях. Например, он утверждал, что видел весь манускрипт целиком в Синае в 1852 г., забыв о том факте, что Тишендорф заполучил сорок три страницы восемью годами раньше.
Как же обстояло дело с предполагаемым подношением кодекса царю? Архиепископский кризис в синайской общине затянулся на годы и в конце концов вылился во внутреннюю междоусобицу, которая окончилась лишь смещением в 1867 г. выбранного кандидата и единогласным избранием его преемника. Только в 1869 г. передача рукописи русскому монарху была оформлена официально. Предложенные царским правительством 9000 рублей были приняты синайскими монахами, которые поспешили скрепить "дар" подписанным по всей форме документом. Рукопись наконец была водворена в Публичную библиотеку Санкт-Петербурга. С новым архиепископом Тишендорф поддерживал дружескую переписку. 15 июля 1869 г. прелат писал ему: "Как вы знаете, этот прославленный манускрипт с текстом Библии теперь уже преподнесен достойнейшему императору и самодержцу всея Руси в знак нашей и всех синайских монастырей вечной благодарности". Впоследствии, однако, у новых поколений монахов вошло в привычку с горечью говорить об этой сделке Тишендорфа, и почти каждый, кто с той поры побывал в монастыре Святой Екатерины, возвращался домой с рассказами, выставлявшими Тишендорфа в неблагоприятном свете.
Две ученые дамы в Леванте
Велик был ужас наших друзей при одной только мысли о том, что дамы отправились одни в столь продолжительное паломничество. "И вы думаете, им удастся вернуться обратно? Ведь они отправляются к мусульманам и варварам", — говорили некоторые из тех, кто знал о нашем намерении. Но что давало им к этому повод?
Агнес С. ЛьюисАнглийская книготорговля никогда еще не знала такого триумфа, каким ознаменовался выход в свет "Исправленного Нового Завета" — нового английского перевода, выполненного под руководством ведущих специалистов. Издательства Оксфордского и Кембриджского университетов, совместно участвовавшие в предприятии, были буквально завалены письмами. Еще до выхода книги из печати только один из издателей получил уже заказы более чем на миллион экземпляров. За сигнальный экземпляр предлагали до 5000 фунтов. С двенадцатым ударом часов в полночь с 16 на 17 мая 1881 г., во вторник, началась доставка книга на склады. Вскоре лондонская улица Патерностер-роу была запружена повозками, в которых развозили книги, и бурлящей толпой, не могущей сдержать своего любопытства. Между тем партии переплетенных книг уже выгружались в американских портах. В одно и то же время в Нью-Йорке и Филадельфии типографиями было выпущено восемьсот тысяч томов, а две чикагские газеты перепечатали полный текст, часть которого была передана из Англии по телеграфу.
"Исправленный Новый Завет" (за которым через три года последовал "Исправленный Ветхий Завет") был достижением, венчающим целую эпоху в изучении Библии. Работа над ним была стимулирована прежде всего открытиями Тишендорфа. Благодаря ему ученые уверились в том, что восстановление древних текстов Писания стало наконец возможным. Усилия Тишендорфа в этом направлении, казалось, обрели завершение с изданием им греческого Нового Завета (частично основанного на открытом им Синайском кодексе) и уж тем более после знаменитого издания в 1881 г. Нового Завета на греческом языке, подготовленного двумя английскими теологами — епископом Бруком Фоссом Весткоттом и профессором Ф. Дж. А. Хортом. Весткотт и Хорт также играли ведущую роль в подготовке выходящей теперь в свет "Исправленной версии", в которой отразились результаты критического изучения Библии в XIX в. и все сделанные к этому времени рукописные открытия.
Был ли тем самым подведен итог поискам "лучшей" Библии, подлинного Нового Завета? Многие авторитеты, считая, что древний текстовой материал, по всей вероятности, уже исчерпан, утверждали, что дело обстоит именно таким образом: на будущее оставалось уточнить только ряд мелких филологических частностей. Однако "Исправленная версия" сразу же возбудила острую полемику. Одни настаивали на том, что лучшей Библией всех времен является так называемая "Утвержденная версия" короля Якова I, другие же, напротив, заявляли, что имеющийся критический аппарат был использован неудовлетворительно и неполно. Подобные дискуссии разгорались в Германии, да и во всех других странах, где выходили в свет новые переводы Библии. Лишь немногие чувствовали, что библейская текстология стоит на пороге новой эры. Так же как и звучавшим примерно в то же время заявлениям о том, что человечество до конца познало законы физики и математики, этим самодовольным оценкам вскоре предстояло быть опровергнутыми революционными открытиями.
За выходом в свет "Исправленной версии" Библии последовало более чем полвека впечатляющих находок рукописей. В должное время эти открытия нашли отражение в ряде новых переводов, в нескольких изданиях греческого Нового Завета и, наконец, в 1961 г. "Новой английской Библии (Новый Завет)", которая, в свою очередь, в один прекрасный день уступит место другому изданию.
Первое значительное добавление к имеющимся библейским манускриптам со времен открытий Тишендорфа — и это произошло опять на Синае — явилось результатом усилий двух энергичных, много путешествовавших дам из Кембриджа (Англия) — сестер-близнецов Агнес Смит Льюис и Маргарет Данлоп Гибсон. Они входят в когорту других замечательных британских леди, таких как Мэри У. Монтэгю, Эстер Стэнхоуп, Гертруда Белл, Фрейя Старк и Кэтлин Кеньон, внесших свой героический вклад в наши знания о Ближнем Востоке.
Дочери шотландского стряпчего Джона Смита из Ирвина (Эйршир), они потеряли мать через две недели после своего рождения. У них были схожие интересы и способности, но старшая, миссис Льюис, несомненно играла главенствующую роль в их совместных научных трудах. Обе вышли замуж за ученых, и обе уже через несколько лет овдовели. Они получили превосходное образование и не уступали любому тогдашнему ориенталисту с университетской подготовкой. К чести патриархального академического мира той викторианско-эдуардовской поры следует сказать, что эти леди удостоились в нем безоговорочного признания как выдающиеся ученые. В 1915 г. Королевское Азиатское общество наградило их золотой медалью, а А. Льюис стала почетным членом университетов в Галле, Гейдельберге, Дублине, а также Университета Святого Андрея.
В Кембридже, где муж А. Льюис, Сатьюэл Сэвидж Льюис, был библиотекарем колледжа "Корпус Кристи" и пользовался репутацией крупного знатока древностей, сестры имели возможность встречаться с выдающимися местными и приезжими учеными. В своих бесчисленных путешествиях на Кипр, в Грецию, Египет, Сирию и Святую землю они не раз встречали на своем пути многих из современных им археологов, теологов и других специалистов по Древнему Востоку. Они в равной степени были известны дельцам, торговавшим предметами старины, и греческим настоятелям и архиепископам от Афин до Асуана. Превосходное знание современного греческого языка послужило для них ключом, открывшим перед ними двери православных василианских монастырей [27]. В этом отношении сестры обладали явным преимуществом перед Тишендорфом, чья неудача с александрийским епископом запомнилась надолго и чьи грубоватые, тевтонские манеры были, возможно, одной из причин превратностей и разочарований, сопровождавших его затянувшиеся поиски. Женский такт и терпение помогали этим немолодым дамам одинаково успешно вести дела с греками, бедуинами и левантинцами. На суровой земле пустынного монастыря Святой Екатерины они устраивали в саду приемы для посетителей и своих монастырских хозяев. Если непреклонный и уверенный в своей правоте Тишендорф плохо скрывал презрение к явному нежеланию монахов обнаруживать свои сокровища и порицал их подозрительность по отношению к европейцам, разыскивающим утерянные рукописи, то сестры в таких ситуациях проявляли снисходительность и доброту.
Имея в виду предшествующих посетителей монастыря, А. Льюис писала: "По-видимому, некоторые образованные люди, посещавшие восточные монастыри, привыкли думать только о достижении своей выгоды, не считая нужным особенно скрывать это от монахов, которым они не предоставляли никакой информации ни о своей работе, ни о ценности тех или иных рукописей; они обращались с монахами, по существу, так, как если бы те были безнадежно глупыми людьми, каковыми их и считали некоторые путешественники. То, что этот источник осложнений не просто плод фантазии, подтверждает слышанный нами в Каире рассказ о поведении одного молодого англичанина, который пришел в коптскую церковь и угрожал перепуганным священникам страшными карами от имени британского правительства за то, что они отказывались продать понравившееся ему серебряное кадило прекрасной работы.
Меня не оставляет мысль о том, что какой-нибудь из наших соотечественников, получивший в наследство древние монеты и другие предметы, значение которых он в силу своего образования понимал бы весьма смутно и поэтому позволил ознакомиться с ними паре экспертов, повел бы себя точно так же, как эти монахи, если бы вдруг обнаружил, что один из этих джентльменов делает обильные записи для публикации, воспринимая владельца этих богатств лишь как человека, который должен обеспечить его кофе и канцелярскими принадлежностями, и уезжает, не удостоив владельца ни единым словом о результатах своих исследований. Если же он нашел бы, что тот, другой, полон обыкновенной человеческой симпатии и готов сообщить ему все, что представляет для него интерес, чтобы он мог, и не вкусив особой премудрости, все же извлечь из своего достояния подлинное наслаждение, — тогда для него было бы только естественным открыть свои тайные сундуки и явить их содержимое взору своего благородного гостя" [28].
Не удивительно, что при таком подходе с их стороны двери библиотек широко распахивались перед сестрами, не проявлявшими ни малейшего намерения приобрести рукописи или увезти их в Европу, если только они не продавались свободно имеющими на то право торговцами. Когда, например, каирские купцы предложили им как-то великолепные листы древнего кодекса, который, как они заподозрили, являлся собственностью монастыря, они уведомили об этом полицию и законных владельцев рукописи. Поэтому монахи ничего от них не утаивали. Наоборот, они предлагали их вниманию такие сокровища, о существовании которых и не подозревали предыдущие визитеры.
Так начиналась новая эра в охоте за рукописями. Главной целью сестер было сделать эти бесценные документы доступными для современных исследований. Они не придавали особого значения приобретению рукописей и были вполне удовлетворены, если видели, что нынешние владельцы должным образом заботятся об их сохранности. Весьма характерным для такого нового стиля является то, что сестры очень много сделали для восстановления и пополнения синайских библиотек. Они также потратили много времени и энергии на составление каталогов.
Посещение горы Синай было для А. Льюис давней мечтой, которую породили восторженные рассказы ее будущего деверя, путешествовавшего в Синай и Петру еще тогда, когда А. Льюис была совсем молода. Последующая поездка в Грецию и гостеприимство, проявленное деятелями Церкви и монахами, воскресили в ней желание предпринять такое путешествие. Однажды она действительно собралась в дорогу и уже достигла полуострова, но болезнь спутника вынудила ее вернуться. Потом она вышла замуж. После смерти мужа в 1891 г. она решила предпринять, наконец, эту поездку вместе со своей сестрой.
По собственному признанию А. Льюис, ее тогда мало занимали библиотека монастыря Святой Екатерины и тамошние рукописи. Но позже, в том же году, после публикации сирийского текста "Апологии Аристида", открытого молодым кембриджским ориенталистом Дж. Ренделом Харрисом в этом монастыре в 1889 г., она до такой степени заинтересовалась, что решила изучить сирийский язык — разновидность арамейского. Овладела она им быстро благодаря своим знаниям родственных языков — арабского и древнееврейского. Затем в результате случайного знакомства сестер с женой д-ра Харриса он услышал об их предстоящей поездке в Синай и об увлечении миссис Льюис сирийской филологией. Он позвонил им по телефону и поощрил их к поискам сирийских текстов, высказав убеждение, что в числе хранящихся в монастырской библиотеке рукописей, выполненных ранним эстрангело (сирийским письмом), может найтись еще много интересного. Он также взялся обучать их сложному искусству фотографирования рукописных страниц, с тем чтобы они могли привезти домой фотокопии всех значительных находок.
Вот таким образом паломничество в Синай, задуманное как поклонение святым местам, постепенно превратилось, к изумлению сестер, в научную экспедицию. И вместе с этим пришло крепнущее день ото дня понимание того, что им предстоит открыть нечто значительное.
"В течение нескольких недель, — рассказывает А. Льюис, — меня преследовало видение столь живо описанного мне д-ром Харрисом темного чулана, в котором стоят два таинственных сундука, набитых рукописями; в чулан этот можно получить доступ лишь в том случае, если сумеешь умилостивить владеющих им почтенных отшельников". Кстати, существование этого тайника для хранения рукописей, известного Ренделу Харрису, который, правда, не смог ознакомиться с его содержимым, так и осталось тайной для Тишендорфа.
Накануне отъезда сестер, когда друзья собрались, чтобы пожелать им счастливого пути, некоторые из гостей высказывали разного рода шутливые предположения о предметах их будущих открытий. Наибольший восторг вызвало упоминание о "Диатессароне" — давно утерянном собрании четырех Евангелий, относящемся ко II в. На замечание о том, что их, как женщин, могут не допустить в греческий монастырь, сестры отреагировали совершенно спокойно. Во время предыдущего путешествия по Греции им свободно разрешали посещать различные греческие монастыри, и они с очаровательной наивностью писали, что "общение с их обитателями было приятным и забавным". После этого путешествия А. Льюис опубликовала книгу "Картинки жизни и природы Греции" (1883), которая была впоследствии переведена на греческий язык. Это вместе с беглым владением новогреческим языком и теплыми рекомендациями от вице-канцлера Кембриджского университета обеспечило сестрам радушный прием в монастыре Святой Екатерины.
Настоятель и библиотекарь монастыря были рады побеседовать с иностранками, тем более что разговор велся на греческом языке. В ответ на вопрос, что бы они хотели увидеть в монастыре, А. Льюис, удивляясь собственной смелости, сказала: "Все ваши древнейшие сирийские рукописи". Через несколько минут ее желание было удовлетворено. Дам привели в дальний темный чулан, и здесь они увидели ящики, заполненные рукописями. Когда штук шесть или восемь кодексов было извлечено на свет для более тщательного осмотра, внимание миссис Льюис привлек самый невзрачный из них. Дальнейшее лучше всего описано ею самой:
"Рукопись имела отталкивающий вид, поскольку вся была покрыта грязью, и почти все страницы слиплись, так как никто их не перелистывал, вероятно, с тех пор, как в монастыре столетия назад умер последний сирийский монах. Я до этого еще ни разу сама не видела палимпсеста, но отец часто рассказывал нам удивительные истории о том, как старые монахи, когда пергамен стал редкостью, а бумага еще не была изобретена, соскабливали со страниц своих книг написанное ранее и писали что-нибудь другое прямо поверх старого, и как по прошествии веков старые чернила оживали под воздействием обычного воздуха и прежние слова проступали вновь, и как таким вот любопытным образом обнаружился текст Платона.
Я сразу увидела, что рукопись содержит два текста, причем оба записаны тем самым древним письмом эстрангело, которое я прежде изучала; что поверх первого были написаны жития святых великомучениц, снабженные датой, которую я прочла как 1099 г. после Александра, т. е. 697 г. н. э., и что первоначальный текст составляли Евангелия. Они были написаны в две колонки, одна из которых неизменно выступала на поля более позднего текста, так что многие слова без труда можно было прочесть, и каждое из них явно принадлежало священному повествованию. Я обратила на это внимание сестры и для пущей убедительности указала ей также, что на каждой почти странице сверху стоял заголовок — Евангелие или от Марка, или от Луки".
Остальное время сестры провели за фотокопированием трехсот пятидесяти восьми страниц палимпсеста, часть из которых приходилось отделять одну от другой, держа их над кипящим чайником. Среди найденных тогда сестрами арабских и сирийских манускриптов наиболее интересным был палестинско-арамейский сборник библейских текстов для публичного чтения в церкви, написанный на языке Христа и апостолов. Это был второй из открытых документов такого рода; первый и до тех пор единственно известный находился в Ватикане. Третий был найден в Синае Ренделом Харрисом годом позже.
Самой ценной находкой был, безусловно, палимпсест, впоследствии известный под несколькими названиями: "Сирус Синаитикус", "Синайский сирийский" или "Сирийский палимпсест". А. Льюис, по-видимому, сразу осознала уникальность своей находки, иначе она не настаивала бы на фотографировании всей рукописи, несмотря на то что сесгра и библиотекарь Галактеон отговаривали ее от этого. Однако А. Льюис еще не была тем вполне сформировавшимся знатоком древнесирийской письменности, каким она стала впоследствии, и поэтому право окончательного суждения было оставлено за ее кембриджскими друзьями, которым она покажет пленку по возвращении.
В Кембридже поздней весной — время окончания учебного года — две дамы столкнулись с некоторым скептицизмом; вообще, заставить кембриджских светил ознакомиться с фотокопиями оказалось не просто. Некоторые ни о чем, кроме каникул, не думали и собирались в дорогу; другие уже уехали. В конце июля сестрам пришлось пойти на хитрость: они пригласили к ленчу чету Беркитт. Перед поездкой Ф. Беркитт обучал А. Льюис чтению текстов, написанных на эстрангело, и вот теперь она показала гостям привезенные ею фотографии. Он сразу же увлекся ими и попросил разрешения взять около дюжины фотографий домой для более детального изучения. Через два дня от г-жи Беркитт пришло следующее письмо:
Харви-роуд, 12
Дорогая г-жа Льюис!
Фрэнк находится в состоянии сильнейшего возбуждения. Вчера вечером он переписал часть палимпсеста и сейчас ходил с ним к д-ру Бенсли, и они обнаружили, что это копия "Сирийского Кьюртона". Вы ведь знаете, существует только один экземпляр! Можете вообразить ликование Фрэнка! Он заскочил на минутку, чтобы оповестить меня, и снова убежал к Бенсли. Я решила, что это важно для Вас, и тотчас села писать письмо.
Всей душой Ваша А. Персис Беркитт.
Так было открыто древнее сирийское Евангелие, ранее известное лишь частично по кьюртоновской рукописи, которую архидьякон Тэттем нашел в монастыре Святой Марии Дейпары в Нитрийской пустыне в 1842 г.; рукопись была доставлена в Британский музей, где ее идентифицировал д-р Кьюртон, чьим именем она и была названа. Кьюртон, кстати, верил в то, что его рукопись содержит подлинный текст Евангелий, "как он был изречен самим Божественным основателем нашей святой веры, дабы сообщить нам благую весть о спасении". Эта точка зрения никогда не пользовалась широкой поддержкой. Но и в наши дни такое же исключительное значение иногда пытаются придать тексту Матфея из "Синайского сирийского".
Даже будучи переводами, вероятно самыми древними переводами греческого Нового Завета, древние сирийские Евангелия, дошедшие до нас в двух неполных списках, имеют величайшую ценность. Дальнейшие исследования вскоре показали, что эта версия, хотя она скорее всего воспроизводит тот же перевод, что и кьюртоновская, явно превосходит последнюю возрастом и точностью. В силу этого она признана и более авторитетной.
Изучение фотокопий показало, что синайская рукопись содержит куски, отсутствовавшие в кьюртоновской, как, например, значительная часть Евангелия от Марка. На это конкретно указал уже Роберт Л. Бенсли, который вместе с Ф. Беркиттом идентифицировал рукопись. Бенсли был в ту пору ведущим специалистом Кембриджа в этой области и по случайному совпадению планировал новое издание кьюртоновского текста. По словам М. Гибсон, в день, когда он просматривал фотографии синайского манускрипта, он пришел в такое волнение, что забыл об обеде, на который был приглашен. В основном по его настоянию было немедленно принято решение о необходимости произвести полный филологический разбор раннего, "нижнего", текста рукописи. Предстояло снова ехать в Синай. Профессор Бенсли, невзирая на начавшуюся болезнь, с энтузиазмом встал во главе предприятия. (Он умер вскоре после возвращения в Англию.) В Синае с ним работали его более молодые коллеги Ф. Беркитт и Р. Харрис. Бенсли и Беркитта сопровождали их жены; сестры, естественно, тоже входили в состав экспедиции. Для того чтобы мужчины втроем смогли разобрать и набело переписать текст манускрипта, потребовалось сорок дней.
В 1894 г. результаты этого труда были опубликованы издательством Кембриджского университета в книге P. Л. Бенсли, Дж. Р. Харриса и Ф. К. Беркитта "Четвероевангелие по Синайскому палимпсесту"; предисловие написала А. С. Льюис. В книге содержалось примерно четыре пятых "нижнего" текста. Тот факт, что чтение остальной части еще не было установлено, побудил А. Льюис совершить еще одно путешествие в Синай, на этот раз в обществе только своей сестры. Дополнительный материал вместе с переводом всего текста на английский был опубликован А. Льюис в 1896 г. Теперь она сама уже стала вполне сформировавшимся специалистом в области древнесирийской письменности и в 1910 г. осуществила полное издание древнесирийских Евангелий, дополненное вариантами по рукописи Кьюртона. М. Гибсон, неуклонно совершенствуясь в сирийском языке, оказывала ей неоценимую помощь.
Старые сирийские Евангелия принесли много сведений о словоупотреблении и других особенностях исчезнувшего греческого оригинала, на котором они основывались. В этом смысле они вряд ли уступают какому-либо другому переводу, из греческих же унциальных и минускульных [29]рукописей сравниться с ними могут лишь немногие, если, конечно, не принимать во внимание замечательного Арабского кодекса — палимпсеста, найденного в монастыре Святой Екатерины в 1950 г. профессором Азизом Суриалом Атийей, арабским ученым, участвовавшим в организованной американцами экспедиции на гору Синай. Этот палимпсест насчитывает (что является рекордом) два арабских, один греческий и два сирийских слоя, причем древнейший сирийский слой, вне всякого сомнения, представляет еще одну очень древнюю версию Евангелий на сиро-арамейском языке.
Исключительную ценность древней сирийской версии придает, пожалуй, главным образом тот факт, что она теснейшим образом связана с Антиохией, колыбелью апостольского христианства, откуда святой Павел отправился в свое великое паломничество. Представляется весьма вероятным, что потребность в переводе евангельских текстов в антиохийских общинах могла возникнуть довольно рано. Если дело обстояло именно так, возникает вопрос, был ли такой перевод идентичен синайско-кьюртоновскому тексту, полностью отличался от него или, что самое вероятное, являлся его более ранней версией. Кроме того, древние сирийские Евангелия занимают особое место среди всех известных переводов еще и потому, что они написаны на арамейском диалекте, близкородственном галилейской разновидности того же языка, на которой изъяснялся Христос. Тот факт, что до наших дней дошло только два таких текста, из которых синайский является старейшим и более полным, придает открытому А. Льюис кодексу значение одной из величайших находок рукописей Нового Завета.
Во многих частностях "Синайский сирийский" ближе к Синайскому и Ватиканскому кодексам, чем к традиционным "западным" вариантам. Так, например, в стихе 25-м I главы Евангелия от Матфея "Синайский сирийский" опускает слово "первенец". Еще более важным представляется знаменательное отсутствие последних двенадцати стихов Евангелия от Марка; вместо них на той же рукописной странице начинается Евангелие от Луки. В имевшей большое значение статье, написанной в 1894 г., Рендел Харрис указывал, что синайский палимпсест особенно интересен своими лакунами ("не столь уж нелепо будет сказать, что этот текст богат именно тем, что он опускает"). Все опущенные места — это, как правило, те самые куски, о которых критики и раньше говорили, что они скорее всего интерполированы. Фридрих Бласс, немецкий теолог, объявил синайский палимпсест, быть может с несколько преувеличенным энтузиазмом, "почти пробным камнем, на котором можно проверять, что на самом деле принадлежит перу каждого из четырех евангелистов".
Как и Синайский кодекс, рукопись А. Льюис не избежала скрытых подозрений в ереси. Особенно поразительным было то место Евангелия от Матфея (1, 16), где содержались слова: "Иосиф, с кем обручена была Мария-дева, родил Иисуса, называемого Христом". А. Льюис, по ее собственному признанию, "сначала была просто потрясена" и даже чуть было не пожалела, "что обнаружила столь еретический документ". За этим открытием последовала затянувшаяся на несколько месяцев острая дискуссия на страницах почтенного научного журнала "Экэдеми". В конце концов большинство, включая А. Льюис, успокоилось, когда было высказано мнение, что слово "родил" предполагает не порождение в физическом смысле, а просто "официальную фиксацию преемственности". Было признано, что еретические истолкования этого места в конце концов сводятся на нет утверждениями, содержащимися в других местах того же палимпсеста, главным образом следующим: "По обручении Матери Его Марии с Иосифом прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого".
Неуловимый "Дидтессарон"
…И которого лист не вянет.
Псалом 1Нередко случается, что один клочок рукописи, невзирая на свои ничтожные размеры, вызывает бурю восторгов. В одной из предыдущих глав мы упоминали "Логии" — изорванную страницу из папирусной книжки, выкопанной Гренфеллом и Хантом в Оксиринхе и сразу же после ее обнаружения наэлектризовавшей всех исследователей раннего христианства. Нечто подобное произошло с "Папирусом Нэша", который в течение долгого времени оставался самым древним еврейским манускриптом с текстом Ветхого Завета. В один ряд с этими двумя рукописями можно поставить другой фрагмент, по содержанию также относящийся к Священному Писанию, но выполненный на пергамене, а не на папирусе. Он представлял собой отрывок из так называемого "Диатессарона", древней "гармонии", или согласованного единого текста, построенного на материале четырех канонических Евангелий.
Перед тем как ему вновь появиться на свет, "Диатессарон" уже в течение почти столетия был предметом яростных споров. Какова была его форма? На каком языке он был первоначально написан? Может ли он служить свидетельством древности и подлинности Евангелий? Одно только было ясно: если существовал некий "Диатессарон", составленный в середине II в. н. э., то все четыре Евангелия должны были получить свою окончательную форму по меньшей мере несколькими десятилетиями ранее. Открыть столь ранний текст стало теперь важнейшей задачей библеистики. До тех пор, пока в 1933 г. не был найден крохотный фрагмент "Диатессарона", эти поиски несли на себе налет донкихотства. В период своего наибольшего успеха они были связаны с одним из выдающихся археологических предприятий 1920-х годов. И эти поиски снова приводят нас в области, лежащие за пределами Египта.
В ходе событий, явившихся прямым следствием Первой мировой войны, когда союзники оказались вовлеченными в "полицейские акции" против арабов в северных областях Месопотамии и Восточной Сирии, британские войска были размещены в одной пустынной местности в верховьях Евфрата, неподалеку от скопления туземных лачуг, носившего название Салахийя (Са-лихийя). Капитан Мэрфи, командир сипаев, выбрал для размещения покрытый руинами участок, расположенный на легко обороняемом обрывистом мысе, с трех сторон окруженном рекой и пересохшими руслами — вади. Как и многие другие местности Плодородного Полумесяца, участок хранил явные следы обитания в прежние времена. Его покрытые песком руины были окружены производящими внушительное впечатление стенами, которые, учитывая естественное расположение участка, указывали на то, что здесь была крепость. Но древнее наименование ее было неизвестно, и по всему было видно, что ее еще не касалась лопата археолога.
Мэрфи приказал своим людям копать в пределах городской стены траншеи и землянки. Именно тогда он наткнулся на большой зал у северо-западной стены. Мощные ветры пустыни уже частично освободили зал от массы песка, под которым он некогда был погребен. Взглянув на стены, Мэрфи увидел ярко раскрашенные фрески, изображающие диковинное скопище восточных богов и поклонявшихся им людей. Он был удивлен не менее, чем собиратели жевательной смолы в Юкатане, набредшие в глубине тропических джунглей на великолепные расписанные святилища майя. Капитан Мэрфи, исполненный сознания долга, послал рапорт о своем открытии, а также зарисовки британским властям в Багдаде. Как раз в это время американский египтолог Джеймс Г. Брэстед, приехавший на Ближний Восток в научную командировку от Восточного института Чикагского университета, проездом оказался в Багдаде. Гертруда Белл, руководившая тогда археологическими работами в Месопотамии, убедила его исследовать фрески, действуя от имени британского верховного комиссара. Вот таким образом этот древний укрепленный город и стал известен современному миру. Брэстед вскоре сумел идентифицировать его по надписи на одной из больших фресок. Это был Дура-Европос — название, которое ныне в истории искусства и культуры Ближнего Востока окружено магическим ореолом.
Дура никогда не был чем-либо большим, нежели второстепенным пограничным сторожевым постом, и ему далеко до той славы, которой овеяны названия более древних ассирийских, вавилонских и шумерских поселений, расположенных в долине Тигра и Евфрата (как ни странно, популярная литература по археологии уделяла ему пока мало внимания), хотя во многих отношениях он оказался отнюдь не менее замечателен. И не потому, что он как город мог иметь в древности сколько-нибудь существенное значение, но благодаря его поразительной сохранности и сложным, до сих пор недостаточно изученным проявлениям его культуры. Он представил нам достоверное и пока что не имеющее себе равных свидетельство того, как взаимодействовали на Ближнем Востоке многообразные культурные влияния на протяжении шести сотен лет после завоеваний Александра. Этот город достиг расцвета почти тысячу пятьсот лет спустя после падения Угарита в XII или XIII в. до н. э. Но он свидетельствует о своей космополитической эпохе столь же достоверно, как и тот, более древний, сирийский город. Здесь тоже встретились Восток и Запад. Дура, как мы скоро увидим, вполне заслужил свой несколько банальный титул "Помпеи Сирийской пустыни".
Он был основан в 300 г. до н. э. на месте более древнего поселения (отсюда первая часть названия — Дура, ассиро-вавилонское слово, соответствующее европейскому "город", "бург") македонским чиновником Никанором по поручению Селевка Никатора и был назван Европосом в честь родного города Селевка в Македонии, который был, по-видимому, также родиной некоторых из его первых колонистов. Город, вероятно, создавался как звено в цепи военных укрепленных пунктов вдоль стратегической дороги империи Селевкидов. С этой точки зрения он занимал великолепное положение, находясь примерно на полпути между столицей Селевкидов Антиохией в Сирии и Селевкией-на-Тигре (близ современного Багдада), в месте, где была удобная переправа через Евфрат. При Селевкидах город представлял собой в основном поселение-колонию македонских солдат. После завоевания Дура во второй половине II в. до н. э. или в начале I в. до н. э. парфянами, иранскими родичами персов и мидийцев, стало расти значение его как поселения на караванном пути, пограничной крепости и гарнизонного города. С этого времени он становится процветающей перевалочной базой, через которую проходила караванная торговля Пальмиры.
В парфянский период иранцы и особенно представители ряда семитских народностей смешались путем брачных союзов с укоренившимися здесь греко-македонскими семьями. Хотя в городе по-прежнему говорили по-гречески и сохранялась греческая культура, благодаря двум основным этническим компонентам — семитскому и иранскому — происходило неуклонное сближение с Востоком. В I в. н. э. это был процветающий город, и большинство его самых красивых и больших храмов датируется этим периодом. Когда Дура в 164–165 гг. н. э. был завоеван римлянами (до этого он на короткое время был взят Траяном примерно в 117 г.), золотым дням его пришел конец. Оккупированный римскими колониальными войсками, он служил теперь базой для операций против парфян. Во время солдатского бунта в 244 г. н. э. здесь был убит римский император Гордиан III. Вскоре после этого сасанидский царь Шапур, организатор мощного персидского наступления, взял город в ходе своего марша на Антиохию. Несмотря на контрнаступления римлян и победу Аврелия над Зенобией, царицей Пальмиры, римские солдаты, очевидно, уже больше не занимали Дура. В период римского владычества было построено мало зданий, если не считать святилищ новых культов, которые здесь, как и повсюду в военных городках на границах Римской империи, росли как грибы после дождя. Очевидно, город был покинут жителями где-то после середины III в. н. э., поскольку ни одна из тысяч найденных при раскопках монет не датируется позднее чем 256 г. н. э. Все это выяснилось в ходе ряда археологических кампаний, проведенных одна за другой в промежутке между двумя мировыми войнами.
Миссия Брэстеда была недолгой. Собственно говоря, еще по пути в Салахийю он услышал о том, что англичане собираются эвакуировать оттуда свои войска. Так что у него оставался только один день на то, чтобы обследовать развалины и фрески до того, как район будет уступлен арабам. "Это была самая большая по объему работа, когда-либо проделанная археологом за один день", сказал Джотэм Джонсон, американский археолог, принимавший участие в раскопках, проводимых под руководством М. И. Ростовцева в Дура десятью годами позже.
Перед выводом британских войск в распоряжение Брэстеда была предоставлена большая команда солдат под начальством сержанта. В анналах археологических полевых работ это был не первый пример того, как помощь военных во многом способствовала успеху раскопок. С их помощью Брэстед расчистил и сфотографировал несколько больших фресок, делая заметки обо всем, что он обнаруживал. Но даже столь короткое пребывание в Дура раскрыло перед Брэстедом все значение этого города и имело следствием создание им новаторского исследования "Восточные истоки византийской живописи", которое "явилось изысканнейшей археологической сенсацией".
Вернувшись с бурлящего Ближнего Востока, Брэстед выступил с докладом о своем открытии во французской Академии надписей и изящной словесности в Париже. Как раз тогда этот район был намечен к включению во французскую подмандатную территорию в Сирии, и французы решили развернуть в Дура крупную археологическую кампанию. Экспедицию возглавил бельгиец Франц Кюмон, член Академии, известный своими работами по манихейству и другим тайным культам древности. В помощь Кюмону был придан отряд французского Иностранного легиона. За два сезона Кюмон сделал замечательные находки, среди которых наиболее сенсационными были, пожалуй, тексты на пергамене. Хотя прочтение их само по себе дало некоторые интересные данные — это были главным образом деловые записи на арамейском, сирийском, пахлави (пехлеви) и греческом языках, — сама находка документов вызвала переполох в ученом мире по двум веским причинам. Во-первых, давно уже стало фактически догмой, что если не брать в расчет Геркуланум с его герметической изоляцией, то нет больше места за пределами Египта, где могли бы сохраниться древние тексты, написанные на непрочных материалах. Отдельные находки, как, например, куски веллума (вид тонкого пергамена), открытые в Авромане (Курдистан) в 1909 г., обычно не принимались во внимание. Во-вторых, как только было установлено, что один из клочков веллума, найденный в Дура, был покрыт письменами в самом начале II в. до н. э., традиционная версия о том, что первым ввел в употребление пергамен царь Пергама Эвмен II, боровшийся с египетским эмбарго на папирус, утратила всякую достоверность как по хронологическим, так и по географическим соображениям. Впрочем, на протяжении некоторого времени мало что из находок привлекало такое же внимание, как живописные изображения пальмирских богов на стенах храма, которым Дура и обязан своим случайным открытием. К сожалению, вскоре после отъезда Брэстеда роспись возбудила ярость кочевников-арабов, которые, следуя заповеди Корана, безжалостно изуродовали или разрушили лица.
Экономический кризис 20-х годов сделал невозможным ни для французской Академии, ни для сирийского правительства субсидировать какие-либо дальнейшие работы, и Кюмон после двух сезонов был вынужден прекратить раскопки. Когда об этом узнал Ростовцев, он обратился к своим французским коллегам и получил их согласие на то, чтобы привлечь американские фонды с целью возобновления раскопок в Дура. С этого момента Йельский университет, дружески сотрудничая с французской Академией надписей, стал основным организатором десяти последовательных ежегодных экспедиций (1928–1937). Общее руководство было теперь в руках М. И. Ростовцева, которому умело помогали многие французские и американские археологи, особенно профессор К. Хопкинс из Йеля.
"Я взываю (или: "обращаюсь с благодарностью") к Фортуне города Дура". Эта первая надпись, обнаруженная экспедицией Йельского университета на главных воротах Дура, явилась добрым предзнаменованием для группы американских и французских ученых, которую возглавил М. И. Ростовцев.
То, что наметилось уже при первых раскопках Кюмона, было теперь полностью подтверждено в ходе крупных франко-американских работ. Сокровищница найденных здесь предметов ремесла и искусства сочетала в многообразии своих черт элементы македонской, греческой, арабской, парфянской, пальмирской, римской и даже индийской и анатолийской культур. В Дура составилось то сочетание различных творческих сил, которое преобразило Ближний Восток после прихода Александра и подготовило расцвет нового мира — возрожденной сасанидской Персии, Византии и ислама, в свою очередь внесших большой вклад в культуру европейского Средневековья и Возрождения. Нужен был именно такой археолог, как М. И. Ростовцев, с его тонким историческим чутьем, чтобы выявить степень значимости и оттенки всех этих многообразных течений в искусстве, архитектуре и религии Дура. Здесь, указывал М. И. Ростовцев, ученые смогли впервые осознать роль Месопотамии как места встречи трех великих цивилизаций, о которых археология до тех пор почти ничего не могла сказать: греко-иранской цивилизации парфян, греко-семитской — Вавилонии, Сирии и Финикии и греко-анатолийской — Малой Азии.
В начале своей карьеры М. И. Ростовцев увлекся Помпеями (он посвятил им свою студенческую дипломную работу), и этот интерес не угасал на протяжении всей его долгой жизни. Как и в случае с Помпеями, археологическая ценность Дура намного превосходит его политическое или культурное значение в древности. В обоих городах руины и различные предметы, найденные в них, отлично сохранились.
К тому же Дура был настоящим музеем настенной живописи, благодаря которой ученые смогли проследить эволюцию древнего искусства фресковой живописи и развитие ее на Ближнем Востоке. Как и в Помпеях (и Геркулануме), сумма полезной информации здесь резко возрастает за счет многочисленных надписей, вездесущих граффити и дипинти (грубые надписи и рисунки, нацарапанные на стенах), которые проливают свет на образ жизни и мировоззрение человека.
После почти десяти лет раскопок американские ученые были озадачены полным отсутствием в Дура христианских и иудаистских мест поклонения. Это казалось еще более удивительным, если принять во внимание популярность всякого рода религиозных культов в римскую эпоху, распространенность в этот период христианства, рвение, с каким евреи в Сирии и Месопотамии насаждали свою веру, и терпимость, с которой к ним относились. Было выдвинуто несколько сложных объяснений. Но затем ход дальнейших раскопок показал, насколько ложное мнение могут создать аргументы ех silentio (от умолчания). Во время кампании 1931–1932 гг. было обнаружено относящееся к III в. помещение для собраний христианской общины с купелью, которая теперь перевезена в Йельскую галерею изящных искусств. Это помещение считается древнейшей из существующих церквей; по нему ясно видно, что оно развилось из домашнего святилища в резиденции богатого частного лица.
В следующий сезон были сделаны еще более поразительные открытия, в их числе — синагога, перестроенная в 245 г. н. э. на пожертвования богатых членов еврейской общины. Эта находка принесла Дура, пожалуй, больше славы, чем любая из сделанных ранее. Помещение было украшено серией великолепных фресок, иллюстрирующих эпизоды из Ветхого Завета и Талмуда. Не считая мозаик в Палестине и некоторых еврейских украшений на стенах катакомб Рима и в Александрии, эти фрески были, по существу, единственными выдающимися образцами еврейских произведений искусства и древностей того периода. Более того, они находятся в явном противоречии с известным запретом (Исход 20, 4) создавать кумиры и изображения. Очевидно, в эллинистическое и римское время этот иконоборческий тезис получил более либеральную трактовку. Однако спрос на подобную живопись возник никак не ранее III в. н. э.
По меньшей мере столь же замечательной, как и синагога, была другая находка, сделанная в 1933 г. Мы уже упоминали о том, что в Дура, как и в Египте и Геркулануме, сохранились древние письменные документы. Кюмон обнаружил большое количество текстов, нарушив почти полную монополию Египта на эти драгоценнейшие из археологических объектов. Он нашел закладные, контракты, акты и другие документы. На любопытном кожаном щите (так называемый скутум) описаны по-гречески странствия его владельца. Ростовцев питал большие надежды на то, что может быть открыто еще много рукописей, возможно литературного содержания. И он не был разочарован. Ростовцев и его помощники были удивлены тем фактом, что большинство найденных до сих пор документов было обнаружено в одном секторе у западной стены города. Вскоре они откопали первый папирус на одном из участков, уже исследованных Джотэмом Джонсоном, а Кларк Хопкинс, возглавлявший в том году полевые работы, по счастью раскопал помещение, которое оказалось как будто бы канцелярией римского префекта.
А затем, в марте 1933 г., Хопкинс, производя раскопки у крепостного вала к северу от пальмирских ворот, недалеко от еврейской синагоги и христианской церкви, поднялся наверх с фрагментом греческого пергаменного свитка, который один уже обеспечивал Дура археологическое бессмертие. Как оказалось, это был отрывок из Нового Завета III в., выполненный четким некурсивным письмом, "не без некоторого изящества и энергии", и содержащий только пятнадцать строк, четырнадцать из которых можно было свободно прочесть. Основываясь на его состоянии и месте обнаружения, группа исследователей из Йеля смогла реконструировать судьбу этого обрывка: "Его скомкали в руке и выбросили, как клочок ненужной бумаги. Но он сразу упал или был занесен впоследствии в большую насыпь из земли, золы и мусора, которую римский гарнизон соорудил вдоль внутренней стороны западной стены города в ходе подготовки к осаде. Здесь он был огражден от воздействия стихий разными материалами, насыпанными сверху и вокруг него, слоем сырцового кирпича, которым была покрыта насыпь, и песком пустыни, в конце концов засыпавшим весь город". Солдаты Рима в ожидании нападения персов возвели эту громадную насыпь для того, чтобы укрепить западную стену на той единственной стороне города, которая не была достаточно защищена самой природой. Насыпь была сооружена в 254 г. н. э. или позже, но не позднее 257 г. Таким образом, мы располагаем по крайней мере одной достоверной датой, вернее, тем, что логики назвали бы terminus ad quern ("верхний предел", то есть предел, позже которого данный документ никак не мог быть написан). Как то было и со стенами Фемистокла в Афинах, построенное в спешке фортификационное укрепление, для возведения которого без разбору использовались любые подручные материалы, оказалось находкой для археологов.
Что касается происхождения собственно текста на пергамене, то изобретательные йельские ученые отважились сделать весьма вероятное предположение: что он мог происходить из христианского святилища, раскопанного ими в прошлом году. "Вполне вероятно, — писал Карл X. Крелинг, идентифицировавший текст, — что свиток, которому принадлежал наш фрагмент, использовался при богослужениях в святилище. Вероятность этого подкреплялась тем фактом, что участок, на котором был обнаружен фрагмент, находится на расстоянии только двух городских кварталов к северу от церкви, разрушенной, чтобы сделать возможным возведение насыпи, в которой и был обнаружен пергамен. Поэтому дата построения церкви (как было доказано, она, по-видимому, построена между 225 и 235 г. н. э. — Л. Д.) может быть принята в качестве приблизительной даты написания нашего фрагмента, который, вероятно, был частью свитка, заказанного основателем церкви. Если это так, то копия была сделана примерно в 222 г., и, хотя, разумеется, мы не располагаем никакими данными, указывающими на то, где мог находиться ее архетип, очень соблазнительно предположить, что этим местом была Эдесса (ведущий христианский центр того времени в Северной Месопотамии. — Л. Д.)".
На основе первого впечатления было решено, что пергамен из Дура относится к концу главы 15 Евангелия от Марка, к стихам 40–43, включающим и знаменитый эпизод, в котором Иосиф Аримафейский ходатайствует о выдаче тела Христа. Дальнейшее изучение показало, что этот краткий отрывок содержит материал, взятый из всех четырех Евангелий. Другими словами, речь идет о том, что ученые, изучающие Новый Завет, называют "гармонией"; это сводное повествование, по кускам составленное из всех канонических описаний жизни Христа. Предложенная Крелингом идентификация данного фрагмента с Татиановым "Диатессароном" была, каким бы неожиданным и удивительным ни казался этот факт, безоговорочно принята учеными всего мира. Хотя пергамен и был до обидного кратким, его появление оказалось эпохальным событием в изучении Нового Завета — совершенно несоразмерно его малой величине и неказистому виду.
Но все это скорее лишь последняя глава (если только в будущем не будет добавлено новых), а вовсе не полная история загадочного и неуловимого произведения христианской литературы, которому отводится столь значительная роль во всех исследованиях ранней истории Нового Завета.
"Диатессарон" представлял собой сводное жизнеописание Христа, составленное Татианом, творившим во II в., апологетом, ассирийцем по происхождению, долгое время жившим в Риме, где он был учеником Юстина [30]. Вследствие обвинений в ереси он был вынужден уехать из Рима и вернулся на свой родной Восток, где позже склонился к гностицизму. Вероятно, Татиан написал "Диатессарон" по-гречески во время своего пребывания в Риме, а затем сам же перевел его на сирийский. Во всяком случае, "Диатессарон", явившийся на свет где-то в 150–170 гг. н. э., был впоследствии принят как более или менее официальная версия Евангелий сироязычными церквами и скорее всего вытеснил все соперничающие тексты. Затем, в V в., он был осужден Церковью, сурово преследовался и уничтожался и был заменен "Пешиттой" [31]. То, что "Диатессарон" был широко принят, видно из экзегетических писаний сирийских теологов, которые предпочитали основывать свои комментарии на версии Татиана, а не на четырех "отдельных" Евангелиях.
Название книги греческое и означает "На четыре" или "По четырем"; это музыкальный термин, подчеркивающий природу данного произведения как "гармонии", т. е. связного повествования, составленного из наиболее существенных мест в текстах четырех евангелистов своего рода "методом клея и ножниц". Евсевий в IV в. назвал эту книгу "какой-то лоскутной мешаниной из Евангелий".
То, что первые три Евангелия — от Матфея, от Марка и от Луки — являются синоптическими, т. е. обнаруживают значительное сходство и совпадение в содержании, композиции и словесном оформлении, достаточно хорошо известно. Наличие между текстами Евангелий столь близкого сходства и псевдодублирования (даже тройных повторений) объясняется, по-видимому, тем фактом, что трое состоят в определенной генетической связи друг с другом (Марк считается старейшим из них), а также тем, что в ранней Церкви эти евангельские писания наравне с другими, впоследствии утерянными или объявленными неканоническими, циркулировали отдельно друг от друга. Кроме того, последующие списки каждого из Евангелий, включая Евангелие от Марка, заимствовали друг у друга, тем самым уже склоняясь к известной степени "гармонизации". Все это указывает на вероятность того, что ранние поколения христиан мало заботились о буквальной точности евангельских текстов. И в более позднюю эпоху святой Иероним имел основания жаловаться на то, что текстов было столько же, сколько и списков. Следует также иметь в виду, что отдельные Евангелия существовали еще до того, как появился Новый Завет. Христиане в то время знали только одну Библию — Ветхий Завет. Бедные общины, как правило, могли позволить себе иметь лишь одно из Евангелий и, быть может, несколько Посланий апостола Павла. Но когда христианские центры окрепли и стали достаточно богатыми, чтобы приобрести несколько священных текстов, они постепенно начали склоняться к тому, чтобы объединять их в одном томе. В свете этого "Диатессарон" может рассматриваться как сознательная попытка во всей полноте реализовать уже действующие тенденции путем, во-первых, более последовательной "гармонизации" четырех Евангелий и, во-вторых, путем сведения их в одной книге. Параллельная линия развития, впрочем, в течение некоторого времени, вероятно, пользовавшаяся меньшим успехом, представлена двумя сирийскими Евангелиями — Кьюртоновским и Синайским, каждое из которых определяет собственное содержание как "Раздельные Евангелия", тем самым подчеркивая их отличие от синтетического "Диатессарона".
Открытие этих двух Евангелий, и особенно синайского палимпсеста, поставило вопрос об их связи с "Диатессароном", бывшим долгое время самой популярной версией Евангелий в Сирии. Вообще говоря, исследователи Нового Завета давно уже расценивали "Диатессарон" как важнейший источник информации, поскольку он явно был современником евангельских отрывков, которые цитировали такие Отцы Церкви II в., как Юстин Мученик и Ириней. Нет нужды говорить, что сведение воедино евангельских текстов само по себе предполагает, что эти тексты уже являлись вполне доступными источниками. Короче говоря, этим устанавливается приоритет их написания. Это рассуждение приобретает особую значимость в отношении Евангелия от Иоанна, чье апостольское происхождение скептически настроенная часть ученых XIX в. неоднократно пыталась оспорить. Кроме того, "гармония", составленная исключительно на базе четырех Евангелий, служит подтверждением тезиса о том, что к 170 г. н. э. эти четыре текста уже рассматривались как единственно канонические и составляющие нераздельное целое.
По всем этим причинам давно утраченный "Диатессарон" стал одним из самых вожделенных документов библеистики, чем-то вроде царства пресвитера Иоанна в мире христианских рукописей [32]. Даже в 1925 г. Александр Сутер, выдающийся английский специалист в области Нового Завета, еще писал: "Можно с уверенностью сказать, что греческий оригинал книги Татиана явился бы самым желанным приобретением для текстологической критики Евангелий среди любых других не открытых еще текстов; сирийский текст в его первоначальной форме был бы куда менее ценен".
Тем не менее время от времени предпринимались попытки заочно дискредитировать "Диатессарон" или представить его просто как некий призрак. Так, некоторые авторы давали понять, что, по их мнению, целенаправленные поиски его неминуемо обречены на неудачу. Традиционалисты, с другой стороны, продолжали взывать к "гармонии" Татиана как к доказательству того, что четыре Евангелия были известны в более ранний период, чем это допускалось тюбингенской школой, и уже тогда считались "признанными и авторитетными свидетельствами о жизни Христа". В противовес этому радикалы, очарованные Кристианом Бауром, главой тюбингенской школы критики, на которую нападал Тишендорф, считали, что у них есть неотразимый довод. Так, анонимный автор когда-то очень популярной брошюры "Сверхъестественная религия" зашел столь далеко, что категорически заявил в 1876 г., что "гармонии" Евангелий, написанной Татианом, никогда не существовало. Он подчеркивал неопределенность свидетельства Евсевия и утверждал, что любая ссылка на "Диатессарон" в древней христианской литературе на самом деле относилась к Евангелию евреев, которое само восходит к Евангелию Петра. Это, однако, не привело к прекращению ни поисков "Диатессарона", ни споров. Но ни одной из сторон никак не удавалось сказать последнее слово. И в то время как полемика все продолжалась и продолжалась, в таинственную историю этой книги была вписана новая глава, являющаяся, как выразился Фредерик Дж. Кеньон (которому мы в основном и следуем в данном описании), "одним из романтических эпизодов в истории текстологии" [33].
Таинственность во многом основывалась на том парадоксальном факте, что, будучи фактически никому не известной, "гармония" Татиана в некотором смысле никогда и не исчезала. Это любопытный феномен, время от времени вновь повторяющийся в истории идей. Можно вспомнить об "утерянном" "Оправдании Аристида", открытом в сирийском варианте Дж. Ренделом Харрисом в 1889 г. в монастыре Святой Екатерины. После опубликования Армитидж Робинсон узнал в нем вполне доступный все это время текст в виде неидентифицирован-ной вставки в текст средневекового романа "Варлаам и Иоасаф" [34].
В 1836 г. монахи армянского монастыря, находящегося в Венеции, опубликовали на своем языке комментарий с пространными цитатами из "Диатессарона" святого Ефрема, сирийского автора IV в. Некоторые его сочинения были прежде обнаружены на палимпсесте, прочитанном Тишендорфом в Париже. Если требовалось какое-либо доказательство существования утерянного произведения, оно было налицо. Но теологи XIX в. явно не интересовались литературой на армянском языке; армяне же как будто и понятия не имели обо всех дебатах по этой проблеме. То, что последовало за этим, является совсем уже поразительным примером отсутствия взаимных контактов между учеными. Версия сочинения Ефрема, отредактированная неким австрийским ученым, была в 1875 г. издана под эгидой армян. Это также осталось незамеченным, пока в 1880 г. американец Эзра Аббот не привлек внимания своих западных коллег к этому изданию.
Только тогда новость распространилась повсюду, и сразу начало всплывать громадное количество разрозненных фактов. Открытие следовало за открытием. К 1888 г. в распоряжении ученых оказалось два арабских перевода XI в. Один из них мирно лежал все это время в Ватиканской библиотеке и был даже указан в каталоге. Когда этот перевод был показан посетившему Рим высокопоставленному деятелю Коптской церкви, тот вспомнил, что видел другую арабскую рукопись того же содержания в Египте. Был учтен в дополнение к этому и тот факт, что Виктор, епископ Капуанский, в VI в. сообщал об открытии евангельской "гармонии" на латыни, которую он идентифицировал с упоминаемой у Евсевия компиляцией Татиана. Копия его собственной переработки этого текста, основанной на "Вульгате", хранится и по сей день в немецком монастыре в Фульде. Со временем были обнаружены английская, немецкая, французская (а позднее, в 1951 г., даже персидская) "гармонии", которые, как говорят, все можно возвести к Татиану. (Это направление исследований достигло своей высшей точки в 1958 г., когда было объявлено, что найдены две трети сирийского оригинала написанного святым Ефремом комментария к Татианову "Диатессарону". Текст был приобретен по коммерческим каналам одним из самых выдающихся коллекционеров нашего времени — сэром Честером Битти.)
Эти находки раз и навсегда устранили какие бы то ни было сомнения в том, что Татиан действительно составил "гармонию" и что она пользовалась популярностью в древности, но ее оригинальная версия пока что не давалась в руки ученым. Арабская и другие версии вряд ли могли служить полноценной заменой, поскольку их тексты были приспособлены к поздним "официальным" переводам Нового Завета, "Пешитте" и "Вульгате". Большинство жгучих проблем текстологии, возникших в связи с сирийскими Евангелиями, пока оставались неразрешенными.
Перелом наступил, как мы видели, с появлением фрагмента из Дура. По общему признанию, данные, предоставляемые самим этим фрагментом, были прискорбно скудны. Но все же он подарил ученым бесценные откровения и надежды на будущее.
В общем, открытие в Дура следует расценить как драматическое звено в долгой цепи исследований, посвященных загадочному "Диатессарону". Когда Йельская экспедиция вынуждена была прекратить работы в 1937 г. по знакомой причине "недостатка средств", Дура был раскопан только на одну пятую. Поэтому еще велика вероятность того, что это место может принести новые ключи к загадкам прошлого.
Открытие "утерянного" "Диатессарона" является единственным в своем роде не только потому, что поиск велся сразу несколькими путями, включая и полевую, "земляную", археологию, но и потому, что в истории охоты за рукописями оно представляет парадоксальную ситуацию, когда объект, по мнению многих не существовавший вовсе, фактически никогда и не исчезал. Можно сказать, что эпизод с "Диатессароном", пожалуй, более наглядно, чем другие сходные случаи, показывает, насколько относительны такие термины, как "утерянный" или "открытый". Как и во многих сферах человеческой деятельности, в охоте за рукописями также бывают моменты, когда процесс поисков приносит большее удовлетворение, чем достижение цели.
Новые данные о новом завете
Доктрина школы Баура, которая усматривала в ранних книгах христианства сплошное сплетение фальсификаций, относящееся ко II в., — эта доктрина была подорвана… Недавние открытия только подтвердили этот вывод.
Фредерик Дж. КеньонИзобилие рукописей Нового Завета само по себе казалось некоторым ученым-библеистам одним из чудес христианства. Как бы то ни было, и по древности и по богатству традиция новозаветных христианских текстов очень выигрывает при сравнении с произведениями классических авторов, многие из которых дошли до нас в одном-единственном списке или в рукописях, отдаленных от времени создания текста более чем на тысячу лет. И число христианских текстов постоянно растет. Если Эразм Роттердамский располагал не более чем восемью греческими кодексами, на которых основал свое издание, а Стефан (Робер Этьен), напечатавший улучшенный греческий вариант "Истинного текста" в 1550 г., пользовался четырнадцатью, то сегодня мы имеем несколько тысяч греческих пергаменов и папирусов различной длины и ценности, не говоря об изобилии переводных "версий" на других языках. Все эти тексты, включающие в себя множество вариантов, так же как и большое число ошибок, восстают против всякого редакторского диктата и произвола. Они взывают к анализу, сравнению и дальнейшему исследованию.
Основным стимулом погони за наиболее ранними библейскими рукописями всегда было стремление вернуть апостольскому слову его первозданную чистоту. В отношении большинства рукописей, воскрешенных в ходе столетней (или около того) истории новозаветных исследований, сомнительно, чтобы они вообще были бы найдены или стали бы достоянием гласности, не будь ученые движимы этим побуждением. Но в длинном ряду новозаветных рукописных открытий есть такое, которое нельзя считать плодом столь же целенаправленных усилий, хотя оно теперь и связано с именем одного из крупнейших палеографов эпохи.
19 ноября 1931 г. заслуженно может считаться особо памятным днем в эпопее новейших рукописных открытий. В этот день лондонская "Таймс" поместила компактно набранное сообщение, занявшее более двух колонок. В вводном абзаце, содержавшем обзор открытий библеистики, начиная с прибытия в Британский музей кьюртоновской рукописи в 1842 г. и первого успеха Тишендорфа в 1844-м, автор в заключение писал: "В 1897 г. господа Гренфелл и Хант нашли в Оксиринхе фрагмент папируса с "Речениями Иисуса", к которому в 1904 г. был добавлен второй фрагмент. В 1906 г. г-н К. Л. Фрир приобрел в Египте замечательную группу рукописей на веллуме, самой ценной из которых является относящийся к V в. список Евангелий, известный сейчас как "Рукопись W" (величайшее библейское сокровище Соединенных Штатов, она была передана в Институт Смитсона. — Л. Д.) и содержащий апокрифическое дополнение к последней главе "Евангелия от Марка". И сейчас, через двадцать пять лет, я имею честь сделать достоянием гласности открытие библейских рукописей, которые по ценности могут поспорить с любой из вышеназванных и превосходят каждую из них по своей древности". Статья была подписана Фредериком Кеньоном. Находка представляла собой замечательно полное собрание папирусов с текстами из Ветхого и Нового Завета и некоторыми апокрифами; отдельные части собрания датировались II в.
Фредерик Джордж Кеньон был к этому времени патриархом английской текстологической критики и папирологии. В обзоре основных достижений в этой области более чем за полвека мы встречаем его имя на каждом шагу. Кеньон справедливо может быть назван одним из основателей папирологии как самостоятельной дисциплины. Он же в серии исключительно ценных как популярных, так и научных работ наметил в основном и контуры текстологической критики, особенно для Нового Завета. Хотя большую часть своей энергии Кеньон отдавал синтезу сложных и постоянно углубляющихся направлений исследования, собственный его вклад был все же столь велик, что побуждал его к существенным переработкам им же ранее созданных учебных руководств. Благодаря более чем сорокалетней связи с Британским музеем (директором которого он являлся с 1909 по 1930 г.) он имел непосредственный доступ ко всем важнейшим рукописным находкам своего времени. Хотя Кеньон никогда не участвовал в полевых экспедициях и сам не извлек на свет Божий ни в буквальном, ни в фигуральном смысле ни одного утерянного текста, все же его роль в воскрешении рукописей ставит его в число главных героев этой книги. Как сотрудник и впоследствии директор Британского музея, как член руководства Фонда исследования Египта, член Британской академии и других обществ и институтов, он был компетентным свидетелем и выдающимся вдохновителем важнейших литературных открытий на протяжении примерно полувека. Кроме того, он помогал идентифицировать находки и восстанавливать их роль в истории человечества. Когда Кеньон на пороге своего семидесятилетия ушел из Британского музея в отставку, он со всей энергией вернулся к своим исследованиям ранних лет, в частности к текстологической критике Библии. Его критическое дарование и работоспособность ничуть не ослабли. И ведя активную борьбу за приобретение для Британского музея Синайского кодекса, он одновременно занимался собственными исследованиями библейских рукописей.
Папирусные кодексы, об открытии которых Кеньон впервые оповестил мир своей статьей в "Таймс", были, так же как и пергамены Фрира, получены посредниками из оставшихся неизвестными египетских источников. Большая часть рукописей была только что куплена жившим тогда в Лондоне Альфредом Честером Битти, американским горнопромышленником, нажившим миллионы на медных рудниках различных континентов. В 1933 г. он стал британским подданным и позже был возведен в рыцарское достоинство. В английском справочнике "Кто есть кто" за 1961 г. говорится, что он "много лет занимался коллекционированием восточных рукописей, специализируясь на рукописях, отличающихся художественными достоинствами с точки зрения каллиграфии и миниатюр". Библейские папирусы Честера Битти едва ли могут быть отнесены к этой категории, и "Кто есть кто" о них не упоминает. Тем не менее уху всякого библеиста звучание слов "Честер Битти" едва ли не столь же знакомо, как и слов "Вульгата", "Синайский кодекс" или "свитки Мертвого моря". Кодексы в настоящее время помещены в специально построенной библиотеке в Дублине, в котором коллекционер, дважды эмигрант, поселился с 1953 г.
Перед тем как новость о приобретении Битти стала достоянием публики, Кеньон, который только что ушел с должности директора музея, получил предложение ознакомиться с партией папирусов, о которой пока не было широко известно. Он идентифицировал их и произвел предварительное исследование. Выбор его в качестве редактора был вполне естествен, и ему позволили свободно распоряжаться изданием папирусов в любой форме, которая была бы наиболее полезной для ученых. Папирусы представляли собой значительные доли одиннадцати кодексов (иногда ошибочно называют двенадцать), большая часть которых стала собственностью Честера Битти. Меньшие, но значительные по содержанию части попали в Мичиганский университет, Принстон, Вену и к нескольким частным коллекционерам. Поскольку рукописи были и первоначально обнаружены, и сбыты с рук хищническим и, очевидно, незаконным способом, нельзя поручиться за то, что некоторые части не были удержаны посредниками или не перекочевали к лицам, пока остающимся неизвестными. К счастью, основную массу рукописей приобрел Битти. Позже он добавил к этому еще и новые листы Посланий апостола Павла. Благодаря великодушному содействию Мичиганского университета Кеньон смог включить в свое издание также и принадлежавшие ему папирусы.
Действительное происхождение папирусов так и не было установлено: местные жители хорошо хранили свои секреты. Некоторое время ходили слухи, что папирусы происходят из Файюма, а затем Карл Шмидт, немецкий папиролог, заявил, что, как он слышал, источник находился на другом берегу Нила, недалеко от развалин древнего Афродитополя. Никаких подтверждений, однако, не последовало. Говорилось также, что различные манускрипты были найдены в кувшинах на коптском кладбище, — в свете предшествовавших открытий версия вполне правдоподобная. Общепринятым является предположение, подтверждаемое состоянием и характером одиннадцати кодексов, что они когда-то, не позднее чем в IV или начале V столетия, входили в состав библиотеки какой-то церкви или монастыря. Рукописи могли быть спрятаны, когда община распалась, или, согласно другой гипотезе, могли быть преданы земле вместе с последним знавшим греческий язык членом общины.
Разрушительное действие времени, а также алчность и небрежность "спасителей" нанесли рукописям большой урон. Ни один из кодексов не сохранился целиком. За исключением Посланий апостола Павла, во всех них есть огромные пробелы. Тем не менее, учитывая их возраст, обращение, которому они подвергались, и непрочность папируса, довольно много листов сохранилось сравнительно неплохо. (Между прочим, физическое качество материала, на котором были написаны тексты, как и сама манера письма, разнится весьма значительно.) Кодексы включали в себя части девяти книг Ветхого Завета и пятнадцати Нового Завета. Кроме того, здесь были значительные по размерам части апокалиптической Книги Еноха и первая часть утерянной гомилии (проповеди) епископа Мелитона из Сард "О Страстях Господних". Части, относящиеся к Новому Завету, составляли три кодекса. Матфей и Иоанн были представлены слабо, но Марку и Луке повезло больше. Из Деяний апостолов, входивших в тот же кодекс, что и Евангелия, сохранилось около половины. От Откровения Иоанна, представленного отдельным кодексом, что весьма любопытно и свидетельствует об обособленном положении данного апокалиптического сочинения, осталось около трети (десять из тридцати двух листов). К другому отдельному тому, Посланиям Павла, судьба была довольно милостива: из ста четырех сохранилось восемьдесят шесть довольно потрепанных листов (тридцать из них принадлежат Мичиганскому университету). Хотя ни одна из книг Нового или Ветхого Завета в этой партии папирусов, приобретенных Честером Битти, не была полной, здесь имелось много связных, цельных отрывков, в их числе особенно интересны Пятикнижие и Книги пророков из греческой "Септуагинты", а также части практически всего Нового Завета. Эти рукописи предоставили обширный материал для исследования текстуальных проблем и в конечном счете пролили новый свет на истоки Нового Завета.
К счастью, некоторые рукописи были в сравнительно неплохом состоянии и дошли до нас компактной массой. Кроме того, их возраст охватывал промежуток от II до IV в. н. э. Благодаря этому древность источников для изучения греческой Библии была углублена по меньшей мере на столетие. Объемистый кодекс Посланий апостола Павла был написан, по всей видимости, всего лишь лет через сто сорок после смерти апостола. Сто лет, может быть, и немного на фоне тысячелетней иудео-христианской традиции или эпохи существования ближневосточных цивилизаций, но для истории текста Нового Завета, исследователи которой долгое время могли только мечтать о том, чтобы найти связующее звено хотя бы с IV в., это открытие знаменовало громаднейший скачок.
Здесь не место углубляться в специальные вопросы текстологической критики и связанную с ними проблему семейств древних текстов, для решения которой новозаветные папирусы Честера Битти предоставили совершенно неожиданные данные. Кое-что из этого станет понятным, если вспомнить погоню Тишендорфа за "лучшим" Новым Заветом и нашу беглую оценку значения сирийского палимпсеста. Достаточно сказать, что цель критики — "реконструкция". Она стремится приблизиться к предполагаемым оригинальным текстам, так называемым автографам. Если бы у нас были оригиналы, текстологическая критика, конечно же, оказалась бы ненужной. Однако древние произведения неизменно доходят до нас в большом числе вариантов. Проходя через сменяющие друг друга поколения копий (или копий, снятых с копий), в тексте укореняются всякого рода ошибки. О таком тексте говорят, что он подвергся порче. И вот для того чтобы установить правильное чтение, ученые работают не с одним взятым наугад текстом, а учитывают все доступные материалы, соотносят их друг с другом и взвешивают их сравнительную достоверность. Старейшие из числа рукописей — чем ближе по времени к оригиналу, тем лучше — более всего необходимы для такого рода работы. На последующей стадии критического анализа ученые рассортируют различающиеся типы рукописей на отдельные группы, или семейства, в соответствии с их близостью друг к другу и линиями генетической преемственности. Происхождение этих семейств часто может быть отнесено к определенным местностям или районам. Как бы оправдывая свое название, некоторые семейства обнаружат более благородное и достойное доверия происхождение, чем другие, а потому будут требовать к себе и особого внимания. По сути дела, операции, проделываемые учеными, когда они восстанавливают какой-либо текст на базе различных семейств рукописей, могут быть уподоблены методу современных генетиков, которые путем научного "обратного скрещивания" на основе отобранных пород воспроизводят некий вымерший биологический тип.
Папирусы Честера Битти внесли особо значительный вклад именно в проблему текстовых семейств. Первыми в XIX в. выделили среди имевшихся тогда рукописей Нового Завета определенное количество семейств Весткотт и Хорт. Эти ученые отдавали предпочтение "нейтральному семейству", представленному Ватиканским и Синайским кодексами, как наиболее достоверному и наименее искаженному. Однако вскоре их точка зрения была оспорена. Кеньону путем сравнительного анализа удалось показать, что "нейтральный" текст не исходил непосредственно, лишь с небольшими отклонениями, от "автографов", а скорее был "текстом, научно построенным из превосходных материалов". Некоторые чтения в материалах Честера Битти, не совпадающие с "нейтральным" текстом, заслуживают пристального внимания. По сути дела, папирусы Честера Битти отражают период, когда семейства текстов еще полностью не сформировались. Рукописи были достаточно древними для того, чтобы их совершенно не коснулись византийские искажения, вследствие чего они дают редкую возможность получить представление о самом зарождении текстуальных традиций в ту пору, когда, по очень точному выражению Кеньона, "целью было назидание, а не тщательное сохранение точных слов первоначального автора". Более того, тот факт, что пятнадцать книг Нового Завета были распределены по трем кодексам, мог сам по себе быть истолкован как признак того, что единство и цельность Нового Завета еще не были до конца осознаны. С другой стороны, объединение в одной книге четырех Евангелий (с Деяниями апостолов) подкрепляет утверждение святого Иринея от 180 г. о том, что существует только четыре Евангелия, не больше и не меньше, которые гармонично связаны друг с другом. Папирусы Битти еще более определенно, чем "Диатессарон", указывают на вероятность существования установленного канона.
Фрагменты греческого Ветхого Завета, по существу своему не имеющие столь же большого значения, тоже оказались весьма ценны. Второзаконие и Числа, датируемые началом II в. н. э., были провозглашены старейшими копиями ветхозаветного текста на любом языке (за исключением, возможно, таинственного "Папируса Нэша"). Но долго отстаивать это утверждение оказалось невозможным. Пожалуй, наибольший интерес представляло включение в текст Книги Даниила, воспроизводящей версию "Септуагинты", которая ранее была осуждена и заменена переводом Феодотиона. Текст из "Септуагинты" был утерян, если не считать небрежно выполненную копию XI в., хранящуюся в Библиотеке Чиги в Риме.
Особняком от обоих Заветов стоит апокалиптическая и апокрифическая ("псевдоэпиграфическая") Книга Еноха, к которой папирусы Честера Битти добавили обширные недостающие отрывки греческого текста, завершаемые Посланием Еноха. Книга Еноха увязывает между собой несколько выдающихся рукописных находок, сделанных более чем за сто пятьдесят лет. Ее долгое время считали утерянной. Но поскольку она цитировалась в Послании Иуды в Новом Завете, то не была забыта. Затем Джеймс Брюс, шотландский путешественник XVIII в., привез из Абиссинии эфиопскую версию, которая была опубликована лишь на пятьдесят лет позже, в 1821 г. К этому времени в поле зрения теологов попал и церковнославянский перевод. Археология включилась в игру, когда французская археологическая миссия в Каире раскопала в 1886–1887 гг. гробницу в Ахмиме. В ней был найден кодекс на веллуме, состоящий из тридцати трех листов и содержащий среди прочего первые тридцать две главы греческой Книги Еноха. Недостающие одиннадцать глав были восполнены папирусами Честера Битти и частью материала, принадлежащего Мичиганскому университету. Ранее две цитаты из Еноха были обнаружены в Послании Варнавы, открытие которого связано с Синайским кодексом. Это свидетельствует о популярности данного сочинения в среде ранних христиан и делает возможным предположение, что фрагменты и из Ахмима, и из коллекции Честера Битти равно могли входить в состав древних собраний христианской литературы.
Однако по происхождению Книга Еноха является дохристианской и принадлежит, несомненно, к тому же жанру апокалиптических текстов, что и последняя часть Книги пророка Даниила в Ветхом Завете и Вторая книга Ездры из числа второканонических. Новую фазу в возрождении утерянной Книги Еноха открыли свитки Мертвого моря. Со временем кумранским пещерам предстояло явить около восьми рукописей этой книги на арамейском языке, которые, однако, значительно отличались и от греческой, и от эфиопской версии и поставили ученых перед сложными текстуальными проблемами. Но что еще более заманчиво, количество фрагментов Книги Еноха и других близких ей текстов, хорошо известных кумранским сектантам, дало повод предположить, что книга эта впервые была создана в среде именно этой общины.
Осталось упомянуть еще об одном аспекте открытия папирусов Честера Битти. Он широко обсуждался и явился источником жизненно важных данных для истории книги как таковой. И затрагивает он больше внешнюю форму книг, нежели их содержание.
Некоторое время считалось, что кодекс, т. е. книга современного типа, состоящая из листов, собранных в тетради и скрепленных вместе между двумя обложками, стал господствующей формой книги примерно к IV в. Согласно этой точке зрения, он в это время вытеснил более громоздкие свитки, на протяжении трех тысячелетий бывшие в ходу в Египте и на Ближнем Востоке, а также в классической древности. Однако упоминания в латинской литературе заставляют предположить, что кодексом могли пользоваться и в предшествовавшие столетия, в частности в форме записной книжки. Генетически ему предшествовали восковые таблички, связанные или скрепленные на петлях друг с другом, подобно листам книги. Все дошедшие до нас кодексы были изготовлены из пергамена; напрашивалось предположение, что переход от свитка к кодексу сопровождался одновременным переходом к пергамену или веллуму как писчему материалу. Таким образом, по крайней мере до введения в обиход бумаги примерно шестью столетиями позже кодекс неизменно ассоциировался с пергаменом. Принято было думать, что в книжном производстве имела место внезапная революция и что во главе ее стояли христиане. До времени создания Ватиканского и Синайского кодексов, приблизительно синхронного тому моменту, когда император Константин поручил Евсевию изготовить пятьдесят Библий на веллуме и в форме кодекса, христианская литература, по общему мнению, бытовала в виде папирусных свитков.
Как уже упоминалось, в классические времена папирусные свитки редко превышали в длину 35 футов. На одном свитке, следовательно, могло уместиться не более одного Евангелия или одной книги Фукидида. Конечно, эти внешние причины вполне могли обусловливать и длину того или иного христианского текста, и тот факт, что ему приходилось бытовать отдельно от других. Возрастающая у христиан потребность объединить свои священные писания в какой-либо приемлемой форме должна была предрасположить их к идее кодекса, по которому было бы много удобнее дать быструю ссылку на конкретное место в тексте Божественного откровения для нужд проповеди, миссионерской пропаганды или повседневных трудов благочестия. Плюс к этому читатель мог бы всегда иметь под рукой значительно больший объем текста. До этого же "большая книга" в обличье длинного свитка являлась, как говорил апостол Павел, и "большим злом".
Поэтому в начале XX в. некоторые ученые выдвинули интересную теорию, утверждавшую, что инициаторами перехода от папирусного свитка к пергаменному кодексу были в основном ранние христиане. То, что христиане могли осуществить или, по крайней мере, значительно ускорить этот переход, может быть объяснено социально-психологическими факторами: христианство, будучи религией угнетенных и обиженных, не связывало себя литературными условностями и формальными традициями. Христиане не терзались сомнениями, облекая священные писания в "низкую" форму кодекса, в отличие от иудеев, которые и по сей день изготовляют для нужд богослужения рукописные Библии на кожаных свитках. Христиане, которые в патриотический век представляли в подавляющем большинстве самые низшие слои общества, естественным образом предпочли более практичный и, очевидно, более дешевый кодекс. Вполне возможно, что кодекс как таковой первоначально считался книгой для бедняков, отчего богачи и знать, погрязшие в косности и снобизме, надменно сторонились его, точно так же как итальянские аристократы после изобретения книгопечатания отказывались допустить хотя бы одну печатную книгу в свои библиотеки.
Каким же образом эта смесь фактов и предположений согласовывалась с папирусами Честера Битти? Все эти рукописи оказались кодексами, но изготовленными из папируса, а не из пергамена. Это свидетельствовало о том, что примерно за сто лет до появления роскошных кодексов на веллуме христиане уже собирали свои писания в кодексы и материалом, которым они для этой цели пользовались, был папирус. Папирусный кодекс, следовательно, должен был знаменовать собой промежуточную ступень между папирусным свитком и пергаменным кодексом. Вопреки прежнему мнению, писцы и изготовители книг не одновременно сменили как материал, так и форму продуктов своего труда. Это открытие явилось важной вехой в формировании наших представлений об эволюции современной книги. Разрозненные обрывки, как, например, оксиринхские Речения Иисуса, которые оказались листами из папирусного кодекса, уже нельзя было рассматривать как изолированные случаи. Тексты Чисел и Второзакония из собрания Честера Битти, датируемые не позже чем II в. н. э., указывали на весьма раннее использование формы кодекса.
Новые данные показали, что обычай сочетать несколько сочинений, как, например, четыре Евангелия, в одной книге существовал у христиан значительно дольше, чем принято было думать прежде. Дополнительные подтверждения того факта, что христиане отдавали предпочтение кодексу, были теперь практически излишни.
Документы, найденные в Египте, представили статистически убедительное свидетельство того, что папирусный кодекс преимущественно и почти исключительно использовался христианской литературой, в то время как языческие рукописи продолжали появляться в свитках. Папирусы Честера Битти прекрасно иллюстрируют этот промежуточный этап в истории книжного дела, точно так же как их текст и его трехтомная организация знаменуют собой переходную фазу в становлении текста Нового Завета и выработке его канона. Еще одна деталь как бы делает нас свидетелями характерных для переходного периода неуверенных поисков новой формы книги. Послания апостола Павла, хотя и состоят более чем из сотни листов, изготовлены в виде одной только тетради (то есть все листы имели общий сгиб посередине), в то время как Евангелия были скомпонованы из множества тетрадей по два листа в каждой, что и могло послужить причиной их большой фрагментарности. Производство книг, очевидно, все еще пребывало в экспериментальной стадии. Но то обстоятельство, что кодексы были составлены из таких "тетрадей", оказалось чрезвычайно счастливым для ученых. Путем кропотливых расчетов они могли теперь прикидывать длину недостающих отрывков и определять, какие части — канонические или неканонические — были, по всей вероятности учитывая размеры лакун, включены или исключены из текста.
По изорванным папирусам Честера Битти еще нельзя составить полного представления о древнем папирусном кодексе. Открытие библиотеки гностиков в Хенобоскионе, происшедшее пятнадцатью годами позже, принесло гораздо больше данных о его внешнем облике и структуре. Здесь впервые было обнаружено значительное число аккуратно написанных папирусных книг, фактически полных и превосходно сохранившихся. Но христианам, испытывавшим, вероятно, сожаление по поводу того, что эти образцы были в лучшем случае еретическими, недолго оставалось ждать своего часа. В 1956 г. коллекция Мартина Бодмера, швейцарского банкира и высокопоставленного деятеля Красного Креста, который также ознакомил мир с единственной полностью сохранившейся комедией Менандра, сделала достоянием общественности первые четырнадцать глав Евангелия от Иоанна (источник неизвестен) из древнего папирусного кодекса, по меньшей мере столь же раннего, что и евангельские документы Честера Битти, и великолепно их дополняющего. Ведь они принесли нам очень мало данных по тексту Иоанна Богослова, в течение долгого времени особенно бедно представленного в древних рукописях. Теперь Евангелие от Иоанна было обнаружено в старейшем из всех почти неповрежденных христианских текстов. Лишь двумя годами позже, в 1958 г., Библиотека Бодмериана в Колоньи, близ Женевы, объявила о приобретении значительных папирусных фрагментов последних восьми глав четвертого Евангелия, принадлежавших тому же кодексу. Бодмеровское Евангелие от Иоанна, по-видимому, и входило в кодекс, состоявший в свое время из ста пятидесяти четырех страниц.
Бодмеровский "Иоанн" и папирусы Честера Битти ни в коем случае не были единственными крупными открытиями древних текстов Священного Писания. Подобно столичным автобусам, рукописи после длительных пауз редко приходят поодиночке. Вскоре после появления в прессе сообщения Кеньона, когда ветеран-палеограф все еще работал над своим изданием, пришли вести о новых открытиях. В целом они уже не могли внести существенный вклад в текстологическую критику — это были в большинстве своем мелкие находки — или изменить каким-либо радикальным образом взгляды ученых на условия становления Нового Завета (если не принимать в расчет такие неканонические раннехристианские произведения, как фрагменты из "Утерянного Евангелия", приобретенные в это время Британским музеем [35]). Но они все-таки сместили временную границу в еще более ранний период. Папирусы Честера Битти отодвинули Священное Писание почти на сто лет назад по сравнению с Синайским кодексом, а теперь Новый Завет мог быть определенно помещен по меньшей мере в первую половину II в. н. э., если не около 100 г. А фрагмент Второзакония на греческом языке был написан во II в. до н. э., что сближает его по времени с переводом "Септуагинты".
Эти две выдающиеся находки, одна относящаяся к Ветхому, другая — к Новому Завету, были сделаны в европейской библиотеке. Как обычно, рукописи происходили из каких-то неопределенных местностей в Египте и более полутора десятков лет оставались неидентифицированными, будучи упрятаны в фондах Библиотеки Джона Райлендса в Манчестере. Текст Второзакония дошел до нас в виде пелен мумии крокодила и был куплен Дж. Ренделом Харрисом в Египте в 1917 г. Новозаветный фрагмент, также из Египта, был приобретен по поручению библиотеки у торговцев Гренфеллом в 1920 г. Гренфелл был приглашен библиотекой, чтобы рассортировать и каталогизировать эти и многие другие папирусы, но, прежде чем дело сколько-нибудь продвинулось, его сразил очередной приступ болезни. Позднее для продолжения работы был приглашен Хант, но его задерживали другие дела, а затем, в 1934 г., он неожиданно скончался. Завершал составление каталога молодой оксфордский папиролог Колин X. Робертс, помогавший Ханту в издании оксиринхских текстов.
Против всех ожиданий древнейшее новозаветное письменное свидетельство пришло к нам из Евангелия от Иоанна — как предполагали, последнего из четырех Евангелий. Скептики XIX в. надеялись низвести Евангелие от Иоанна до положения "легендарного евангелия", чистого вымысла, сфабрикованного на базе трех других Евангелий лишь в конце II в. Но крошечный фрагмент из папируса Райлендса, размером примерно 2 1/ 2на 3 1/ 2дюйма, содержащий на обеих сторонах несколько стихов из Евангелия от Иоанна (18, 31–33), должен был датироваться на основании палеографических данных не позднее чем 150 г. н. э. Как склонен был считать Дейссман, он мог быть скопирован ближе к 100 г. Рукопись Евангелия Честера Битти была написана на сто пятьдесят лет раньше старейшего из всех текстов на веллуме, а теперь мы обладаем другим отрывком из Евангелия, который был старше еще на сто лет. Он был ни мало ни много на двести пятьдесят лет отдален от Ватиканского и Синайского кодексов, которые для Тишендорфа, Хорта (он называл их "божественными близнецами") и поколения еще живущих ученых-библеистов были так близки к апостолам, как только можно было дерзать к ним приблизиться.
Отрывок из Евангелия от Иоанна был, вероятно, найден в довольно отдаленной части Египта, куда христианство проникло сравнительно поздно. После составления оригинала должно было пройти несколько десятилетий, прежде чем копия могла быть занесена в такую глушь: поэтому кажется правдоподобным предположение, что Евангелие от Иоанна было написано немногим позже 80 г. и почти наверняка ранее 100 г. н. э.
Американский ученый Брюс Метцгер из Принстона следующим образом живо охарактеризовал значение райлендсовского фрагмента из Евангелия от Иоанна: "Хотя протяженность сохранившихся стихов ничтожно мала, в одном отношении этот крошечный клочок папируса обладает столь же большой доказательной ценностью, какую имел бы и целый кодекс. Как Робинзон Крузо, увидев единственный отпечаток ступни на песке, сделал вывод, что на острове вместе с ним присутствует другое человеческое существо о двух ногах, так р52 (международное кодовое название фрагмента) доказывает присутствие и использование четвертого Евангелия в маленьком провинциальном городке на Ниле вдали от его традиционного места создания (Эфес в Малой Азии) в течение первой половины II в.".
Поистине временной разрыв между этими рукописями и веком апостолов был почти ликвидирован. Он сократился до такой, быть может, малости, как тридцать или сорок лет. В истории открытий нового времени, начиная с Синайского кодекса до папирусов Честера Битти и после них, наконец, до фрагмента Райлендса, вряд ли найдется эпизод более драматический, по крайней мере по своим научным последствиям.
Каирская гениза
Камень, который отвергли строители, соделался главою угла.
Псалом 117,2
В большинстве еврейских синагог, по крайней мере со времен раннего Средневековья, имелся чулан или склад, именуемый "гениза". Это древнееврейское слово, имеющее значение "сокрытие" или "погребение" [36]. Гениза служила своего рода моргом, где сваливались и скапливались различные ненужные материалы, содержащие письменный текст.
В течение долгого времени в обычае у евреев было избавляться от истрепавшихся священных книг и свитков. Но поскольку они содержат имена божества, священные "шемот", считалось святотатством просто выбрасывать их и таким образом подвергать возможному осквернению. Гениза признана была служить временным вместилищем для этих материалов. Когда же их скапливалось достаточное количество, материалы с соответствующей религиозной церемонией погребались — часто рядом с могилой мудреца, а иногда и вместе с ним — на еврейском кладбище. Для древних евреев, по утверждению Соломона Шехтера, ученого-раввина, книга была подобна человеку: "Когда отлетает дух, мы прячем тело от глаз человеческих, чтобы избавить его от осквернения. Подобным образом, когда писание истерто временем или выходит из употребления, мы прячем книгу, чтобы сохранить ее от надругательства. Содержание книги отлетает к небесам, как душа". Подобные погребения и по сей день еще совершаются, особенно на Востоке. Зять Тишендорфа, Д. Людвиг Шнеллер, описал одно из них, имевшее место в Иерусалиме в 1894 г. Кроме того, у нас есть живописный рассказ журналиста Рихарда Каца о погребении, совершенном в Праге в 1921 г., впервые за предшествовавшие пятьсот тридцать два года.
Со временем, однако, в генизу стали поступать не только тексты истрепанные и искалеченные, но и такие, которые признавались неправильными, в силу чего изымались из обращения — либо потому, что в них было больше ошибок и исправлений, сделанных писцами, чем то было дозволено законом, либо потому, что их содержание считали за лучшее не предавать гласности, как было с текстами, признанными еретическими, или другими, исключенными из библейского канона. Сам термин "апокрифы" означает "сокровенные книги", что в точности соответствует древнееврейскому "гениза". Очевидно, значительная часть древнееврейской литературы эллинистического и раннехристианского периодов была подобным образом предана забвению. Как только нарождалась какая-нибудь сектантская литература, консервативные раввины принимали меры по изъятию ее из обращения. Едва был утвержден официальный "масоретский" текст ("традиционная" форма Священного Писания), как ко всем прочим типам и редакциям начали относиться со строгой нетерпимостью.
До недавнего времени мы не располагали ни одним уцелевшим древнееврейским текстом из Ветхого Завета, который был бы старше IX в. (да и такие были достаточно редки), чему виной было целенаправленное уничтожение текстов путем проведения их через генизу. Как пишет "Еврейская энциклопедия", гениза преследовала "двоякую цель: все доброе уберечь от вреда, а все злое обезвредить". Но, как правило, и "доброе" и "злое", выходя из генизы, вместе предавалось погребению и погибало. "Уберегать" что-нибудь, по существу, и не собирались. "Люди книги" имеют давнюю репутацию цензоров и истребителей книг.
С течением времени некоторые генизы стали как будто выполнять и дополнительные функции. Они превращались в обширные архивы, хотя документы, хранившиеся в них, не были описаны и не использовались для систематических справок. Буквально все, что имело какое-нибудь значение, — юридические контракты, договоры об аренде, брачные соглашения, судебные решения, даже частные письма и светская поэзия, — все направлялось в генизу и в конечном счете подлежало погребению. Шехтер разъясняет подобную практику, мотивируя ее тем, что, "поскольку иудеи приписывали определенную святость всему, что напоминало Священное Писание (хотя бы просто потому, что текст был написан на древнееврейском языке) по содержанию или по виду, они не были склонны рассматривать даже подобные светские документы просто как мусор… Гениза древней еврейской общины представляет собой, таким образом, сочетание священной кладовой и светского архива". Этим, однако, вряд ли можно объяснить тот факт, что в одной генизе, содержимое которой дошло до нас, был обнаружен целый ряд светских материалов на языках, отличных от древнееврейского, в основном на арабском, а также на сирийском (сиро-арамейском), греческом, коптском, грузинском и даже французском.
Каирская гениза — явление необычное, поскольку значительная часть ее содержимого осталась нетронутой, и не исключено, что о ней вообще не вспоминали на протяжении большей части последнего тысячелетия. То, что эти документы уцелели, явилось делом чистой случайности. Эта гениза принадлежала одной из старейших синагог в одной из старейших еврейских общин диаспоры, и она пережила весь золотой век арабской цивилизации. Хотя время от времени значительная часть материалов предавалась погребению — некоторые из них были позднее выкопаны, — основная их масса осталась в хранилище. Даже при этом условии только сухой климат Египта мог сохранить их столь бережно.
Древняя синагога, по-разному именуемая в честь Ездры, Илии, Иеремии или Моисея, расположена к югу от Каира, в части города, именуемой Фостат или Старый Каир, который в домусульманскую эпоху назывался Вавилоном. На территории египетского Вавилона находилась римская, а еще раньше, в VI в. до н. э., персидская крепость. В этом районе вырос значительный коптский и еврейский культурный центр. Синагога была поначалу христианской церковью, воздвигнутой в честь святого Михаила, которая затем перешла, по некоторым источникам, к иудеям в период непродолжительной повторной персидской оккупации в 616 г. н. э. В летописи отмечена ее продажа иудеям в 882 г. н. э., после арабского завоевания. После этого в генизу синагоги стали поступать самые разнообразные тексты.
Первым путешественником нового времени, по-видимому знавшим о генизе, был двоюродный прадед Генриха Гейне — Симон ван Гельдерн, который посетил ее в середине XVIII столетия и сделал в своем дневнике запись о вероятности захоронения в ней ценных рукописей. Почти столетие спустя генизу посетил Иаков Сафир, исследователь древнееврейской культуры, известный своими полевыми изысканиями в Йемене. Ему пришлось пуститься на уговоры, чтобы получить разрешение взглянуть на нее. Презрев увещевания синагогального служки насчет "змей и драконов", таящихся во мраке закрытого помещения, он бросил вызов нильским чудовищам и два дня провозился среди обломков и мусора, пока вдоволь не наглотался пыли и грязи. Он не обнаружил ничего стоящего, но отметил в своем путевом дневнике: "Кто знает, что все-таки может быть сокрыто там, внизу?"
Примерно в это же время на Ближний Восток прибыл еврей из России, ярый приверженец секты караимов, по имени Авраам Фиркович. Он принадлежал к числу наиболее эксцентричных охотников за рукописями в XIX в. Это благодаря ему ленинградская Публичная библиотека [37]обладает теперь одним из богатейших собраний древнееврейских рукописей во всем мире. Фирковича характеризовали как поразительное сочетание мошенника, ученого и фанатика. Его исследования и приобретения были продиктованы в первую очередь желанием доказать царскому правительству России, что караимы осели в Крыму еще с дохристианских времен и поэтому были непричастны, в отличие от раввинских евреев, как к распятию Христа, так и к созданию ненавистного Талмуда. Несмотря на то что хронологически подобные притязания были весьма сомнительны, усилия Фирковича увенчались успехом. Русское императорское правительство отменило в отношении караимов дискриминационные меры, направленные против евреев. Но для того чтобы подкрепить свои идеи доказательствами, Фирковичу пришлось прибегнуть к фальсификации документов. Он зашел так далеко, что удревнял даты надписей на надгробиях караимских кладбищ в Крыму. Естественно, когда стало известно о подобной практике, то многие из рукописей Фирковича стали вызывать подозрение. По сей день среди специалистов существуют разногласия по поводу того, какие из рукописей подлинные, а какие — подделки. Подобно Симониду, он был фальсификатором, но как будто бы не руководствовался в первую очередь материальными соображениями. Он безжалостно опустошал синагоги и генизы, включая некоторые из тех, что находились в Крыму и Бухаре, но он был, вероятно, в числе первых людей, проникшихся сознанием огромной ценности этих хранилищ. Поскольку Фиркович действовал тайно, никто не был осведомлен наверняка об источниках его поступлений. Более того, представляется сомнительным, был ли он сам когда-нибудь в каирской генизе, откуда, по предположениям, поступили в ленинградскую коллекцию наиболее ценные фрагменты.
В 1888 г. Элкан Натан Адлер, брат английского верховного раввина, впервые посетил синагогу в Старом Каире, но не смог увидеть генизу. Ему сообщили, что ее книги уже захоронены на кладбище. Когда в 1890 г. синагога была заново отделана, о существовании генизы стало известно более широко, и сторожа синагоги начали осознавать склонность каирских торговцев к приобретению этого "мусора веков", за который иноземные чудаки были готовы платить значительные суммы. Вот таким-то образом в течение нескольких лет масса бумажных клочков из генизы просочилась в частные коллекции и в библиотеки Запада — Бодлеанскую, Британский музей, библиотеки Франкфурта, Берлина, Филадельфии, Будапешта и многие другие. В течение определенного времени можно было лишь строить догадки по поводу источника всех этих сокровищ. Но слухи привели в Каир таких страстных коллекционеров и покупателей, как Сейс, Грен-вил Честер и русский архимандрит Антонин. В 1896 г. Э. Н. Адлер вновь посетил каирскую синагогу, и ему было позволено провести три или четыре часа в самой генизе и захватить с собой все, что он смог унести в старом футляре Торы (то есть в чехле для свитков Пятикнижия, используемых в иудейском богослужении), который он позаимствовал специально с этой целью. А. Льюис и М. Гибсон прибыли в Египет в том же году.
В зиму 1895/96 г. две предприимчивые дамы-ориенталистки решили было бросить вызов зябкому английскому климату и остаться дома, в Кембридже. Они уже предвкушали месяцы плодотворной работы над палестинско-сирийскими текстами, ранее сфотографированными ими в Синае. Как раз в разгар этой работы из Египта по "археологическому телеграфу" к ним пришла информация о том, что "там, возможно, и удастся что-нибудь найти". И вот в начале 1896 г. они были снова на Ближнем Востоке в погоне за рукописями, решив добавить к своим египетским исследованиям еще и визит в Иерусалим. Эта поездка, как позднее писала А. Льюис, была единственной, "предпринятой без желания; и все же она оказалась не последней по своей плодотворности".
Пребывание А. Льюис и М. Гибсон в Каире было прервано из-за вспышки эпидемии и опасения, что им придется подчиниться унизительным условиям карантина. Им, впрочем, удалось приобрести там несколько обрывков рукописей. Добравшись до Иерусалима, они купили большой древнееврейский текст Пятикнижия, и, когда пересекали равнину Шарона близ побережья, один торговец предложил им целую связку разрозненных обрывков рукописей, большинство из которых было написано на древнееврейском языке. Собираясь уже сесть в Яффе на корабль, они столкнулись в таможне с непредвиденными осложнениями в связи с эмбарго на вывоз палестинских древностей, особенно книг. Обрывки древнееврейских текстов в первую очередь привлекли к себе внимание чиновников. На выручку дамам пришел их проводник Иосиф, местный житель, который знал, что Библия и Коран не подпадают ни под одну из статей ограничительного законодательства как молитвенные книги личного пользования. Исполненный негодования, он воскликнул, указывая на тщательно исследуемые листки: "Разве вы не видите, что они на древнееврейском? Дамы произносят свои молитвы на древнееврейском языке. Вы что же, хотите лишить их возможности произносить молитвы?" Этим было одновременно спасено и положение, в котором оказались шотландско-пресвитерианские дамы, и интересы науки. Им было позволено выехать со своими рукописями, и в мае они добрались до Англии. Вскоре после возвращения они привели в порядок и систематизировали свои многочисленные приобретения. Те обрывки текстов на древнееврейском языке, которые сестры не могли отнести к Ветхому Завету, они откладывали в сторону, полагая, что тексты эти, возможно, относятся к Талмуду или представляют собой частные еврейские документы. Они решили передать их для дальнейшего изучения своему другу, видному гебраисту Соломону Шехтеру.
Шехтер, читавший курс по Талмуду и заведовавший собранием древнееврейских рукописей при Кембриджском университете, вырос в одном из восточноевропейских гетто. До двадцати с лишним лет он не имел никакого светского образования. Наконец, уже будучи слушателем университетов Вены и Берлина, он впервые столкнулся с западной наукой, но в отличие от большинства одаренных евреев своего времени не оставил своих прежних убеждений и не проникся взамен типичным образом мыслей западной интеллигенции.
Кое-чем религия Шехтера была обязана радостному мистицизму хасидской секты восточного еврейства. На нем как будто совсем не сказывались последствия эмоциональных травм, полученных во время жизни в гетто или нанесенных суровой дисциплиной, сопровождавшей изучение Талмуда, которое он начал в возрасте трех лет. Его мощное телосложение и впечатляющая голова с бородой и косматой гривой темно-рыжих волос привлекали всеобщее внимание. Человек, близкий ему в ранние годы его деятельности, припоминал: "Он обрушился на нас, как начиненная взрывчаткой бомба, и готов был с присущей ему смесью энтузиазма и негодования заглушить любое резонерское или циничное высказывание. Я и сейчас живо представляю себе, как он встает со стула и, словно раненый лев, мечется взад и вперед по комнате, выкрикивая громоподобные возражения".
Древнееврейский фрагмент (№ 51) Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова из каирской генизы, ныне хранящийся в коллекции Тейлора — Шехтера университетской библиотеки Кембриджа (Англия)
Годом рождения Шехтера считают 1847, 1849 или 1850-й. Он родился в маленьком румынском городке Фокшаны, в Карпатских горах, куда выехал из России его отец, занимавший скромный пост ритуального забойщика скота. Несмотря на свою репутацию самого буйного мальчишки в городе, молодой Шехтер был вскоре признан вундеркиндом, необыкновенно одаренным ребенком, проявившим удивительные способности к изучению Талмуда. В возрасте пяти лет он знал Пятикнижие наизусть. Затем потянулись томительные годы обучения в религиозных школах — рутина, которая часто выводила из себя молодого романтика, но все же не отвратила его от той строго логической дисциплины, в овладении которой он достиг таких высот совершенства. Жажда знать больше гнала его сначала в Польшу, затем в Вену и наконец привела в Берлин.
Огромное влияние на Шехтера оказало знакомство с точным аналитическим методом германской исторической школы. Одним из первых он подверг памятники еврейской религиозной литературы тщательному текстологическому исследованию. Одновременно он проникся неослабевающим интересом к древним рукописям, которые составляли основу любой подобной работы. Так было положено начало предприятию, ставшему делом всей его жизни, — работе по изданию некоторых древних текстов Талмуда и Мидраша.
Шехтер, который так никогда и не акклиматизировался в условиях германской культурной среды, неодобрительно смотрел на процветавшую тогда школу "высшей критики" с ее скептическим подходом к изучению Ветхого Завета. Ему претили националистическое высокомерие и воинственность эры Бисмарка, и он был глубоко уязвлен антииудейской позицией, занимаемой германскими исследователями, такими как Гарнак, Вебер и Делич, которые очерняли еврейскую этику и отрицали ветхозаветные корни христианства. Уже во времена Шехтера Поль де Лагард, знаменитый теолог и ориенталист из Гёттингена, переплел все свои книги в свиную кожу, чтобы "уберечь их от прикосновения грязных еврейских рук", а Гуго Винклер, выдающийся семитолог, получавший щедрые пожертвования от попечителей-евреев, позволял себе антисемитские высказывания, одновременно превознося аккадцев, вавилонян и финикийцев как пионеров цивилизации. Академическая Германия, как писал Шехтер, — это заповедник "ученых-зануд, которые со всей серьезностью обсуждают вопрос, имеется ли у семита душа или нет". Он вспоминал, как некогда подвергался травле со стороны мальчишек-христиан, но гораздо большее негодование вызывали в нем слепой фанатизм и высокомерие того, что он именовал "высшим антисемитизмом", который "сжигает душу, хотя и не приносит вреда телу".
К Англии и всему англосаксонскому миру вообще Шехтер в течение всей своей жизни питал самые теплые чувства. Он также был уверен, что в будущем иудаизм обретет для себя центр тяжести в Америке. По этой и по целому ряду других причин он оставил милые его сердцу академические рощи Кембриджа, чтобы провести последние двенадцать лет жизни на посту президента Еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке. Англия привлекала его к себе не только демократическими идеалами ее народа и относительной свободой лидеров ее ученого мира от антисемитских предрассудков, но и чудесными собраниями древнееврейских рукописей. В течение первых лет его жизни там он постоянно работал в Британском музее и Бодлеанской библиотеке. В Англии Шехтер приступил к серьезной научной деятельности, результатом которой явились критические издания ряда древних текстов. В 1890 г. он был назначен преподавателем, а в 1892 г. — руководителем курса по изучению Талмуда при Кембриджском университете. Два года спустя университет направил его в Италию для изучения древнееврейских рукописей. Длительное пребывание в Италии и знакомство с ее архивными материалами стало для него источником постоянного вдохновения. Шехтеру повезло более, чем Ранке и Тишендорфу: ему был предоставлен свободный доступ к ватиканским собраниям рукописей.
В ходе предпринятого им исследования Саадии и подготовки к изданию талмудического сочинения "Абот де рабби Натан" Шехтер заинтересовался второканонической Книгой премудрости Иисуса Бен Сиры (или Бен Сираха, сына Сирахова) — книгой, которая до того времени встречалась лишь в крайне неудовлетворительных переводах. Его длительную и совершенно необычную для исследователя-еврея увлеченность неканонической литературой подтверждает обширная статья в "Джуиш Квотерли Ревью" за 1891 г.; в ней он рассматривает древнееврейские цитаты из Премудрости, встречающиеся в талмудических текстах. Он был теперь полностью подготовлен к тому, что ждало его впереди. Вероятно, никто другой из ученых-гебраистов его времени не был достаточно компетентен, чтобы опознать неожиданно появившийся древнееврейский фрагмент из Премудрости Иисуса Бен Сиры.
Вскоре после того, как А. Льюис и М. Гибсон приняли решение привлечь к работе Шехтера, А. Льюис неожиданно встретила его на королевском параде в Кембридже и сообщила ему о рукописях, которые она хотела ему показать. Затем она продолжила свое хождение по магазинам за покупками, а когда вернулась домой, то застала Шехтера уже за работой, тщательно изучающим фрагменты рукописей, разложенные на ее обеденном столе. Он поднял вверх большой лист пергамена и сказал: "Это часть иерусалимского Талмуда, который очень редок. Могу я взять ее у вас?" Льюис немедленно дала согласие. Затем он стал пристально рассматривать грязный, изорванный клочок бумаги. Бумага как писчий материал с точки зрения палеографии была довольно поздним нововведением, и потому обе дамы относились к ней без особого уважения. "Кто из ученых еще три года назад, — позднее писала А. Льюис, — придавал хоть какое-нибудь значение древнееврейскому тексту на бумаге?"
Шехтер же, напротив, был сразу же поражен отрывком. У него было предчувствие, что отрывок мог оказаться древнееврейским текстом "Премудрости", который в течение почти тысячи лет считался утраченным, но он не мог проверить этого на месте, поскольку в издании Библии, имевшемся дома у А. Льюис, отсутствовали апокрифические книги. Шехтер попросил у нее разрешения захватить документ с собой для идентификации. Не без оттенка скептицизма она выразила свое согласие словами: "Г-жа Гибсон и я будем только счастливы, если вы сочтете его достойным опубликования". Затем он поспешил в Кембриджскую библиотеку и оттуда послал ей записку во второй половине того же дня, 13 мая 1896 г.: "Я полагаю, у нас есть основания поздравить себя. Ибо фрагмент, который я взял с собой, является частью древнееврейского оригинала "Премудрости". Подобная вещь обнаружена впервые. Пожалуйста, не говорите пока об этом — до завтра. Я приду к Вам завтра около одиннадцати пополудни, и мы с Вами всё обсудим, в частности и то, как предать это гласности. В спешке и величайшем волнении, искренне Ваш С. Шехтер".
Агнес Льюис предстояло вскоре узнать, что от возбуждения Шехтер не только перепутал утренние часы с послеполуденными, но и, несмотря на указания, посланные дамам, ошеломлял своей радостной новостью первых попавшихся людей, встреченных им в библиотеке. Затем, вернувшись к своей жене, он едва мог совладать со своим восторженным настроением. Будучи, в сущности, человеком скромным, но порывистым до крайности, он приветствовал ее следующим образом: "Пока живет Библия, не умрет и мое имя. А теперь телеграфируй г-же Льюис и г-же Гибсон, чтобы пришли немедленно". Дамы получили телеграмму раньше письма и немедленно отправились к Шехтеру в его скромный домик в отнюдь не фешенебельной части Кембриджа. Там было решено, что г-жа Льюис оповестит "Атенеум" и Академию о находке, представив сведения о размере листа, стиле письма и прочие подробности.
Госпожа Льюис "с особой радостью и удовлетворением" размышляла о том, что обстоятельствами открытия воздается наконец-то по заслугам Бен Сире, древнееврейскому автору "Премудрости". Он был женоненавистником, и ни одна женщина — ни Дебора, ни Руфь, ни Юдифь — не фигурирует в его прославленном каталоге древнееврейских героев. В широко известных строках он возносил хвалу исключительно "знаменитым мужам". Одно из его изречений, собственно говоря, прямо гласит: "Греховность мужчины лучше, чем добродетель женщины". И вот теперь, с ликованием отмечала Льюис, подлинный текст его труда "попал в руки европейского исследователя, можно сказать исследователя одной с ним нации, благодаря усилиям двух женщин".
Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, сохранившаяся лишь в версиях на других языках, а не в древнееврейском оригинале, была впервые переведена на греческий внуком автора, который в своем предисловии открыто признавал трудность поставленной им перед собой задачи. В течение длительного времени существовало подозрение, что он не был квалифицированным переводчиком, что он неправильно понял и значительно исказил смысл некоторых мест оригинала и что он позволял себе недопустимые вольности в обращении с текстом. В 1895 г., всего за год до открытия Шехтера, когда специалисты, пересматривавшие "Утвержденную версию Библии", опубликовали свой новый перевод второканонических книг, они с сожалением констатировали в предисловии к "Премудрости", что, хотя "тексту было уделено значительное внимание, все же материал для его исправления был недостаточен". Теперь же новое открытие, к счастью, делало эти сожаления безосновательными.
С "Премудростью" произошло то же, что и с "Диатессароном" в исследовании Нового Завета: на нем сфокусировались основные теоретические дискуссии специалистов по Ветхому Завету в последние годы XIX в. Прежде всего это была одна из апокрифических книг, о которой было доподлинно известно, что первоначально она была написана на древнееврейском. Святой Иероним упоминает, что он видел исконный древнееврейский текст этой книги — Hebraicum reperi. И, очевидно, Саадия, глава вавилонской раввинской школы X в., был с ней знаком. Но уже Маймонид о ней не знал.
Кроме того, среди всех ветхозаветных и апокрифических книг это сочинение обладало наиболее достоверно установленным авторством и могло быть вполне надежно датировано. "Премудрость" часто цитировалась в работах тех представителей школы "высшей критики", которые верили, что и большая часть Ветхого Завета была создана примерно в одно с ним время. Теперь, если можно было доказать, что древнееврейский язык этого произведения имеет лишь поверхностное сходство с языком канонических книг, то тезис об эллинистическом происхождении книг Ветхого Завета не выдерживал критики. Далее, если оригинал "Премудрости", написанный примерно в 200 г. до н. э., если не раньше, уже содержал цитаты из Псалмов, то вся гипотеза о маккавейском происхождении Псалмов — где-то после 160 г. до н. э. — улетучилась бы. Именно по этой причине, и в особенности если бы удалось доказать, что многие черты языка Бен Сиры характерны для раввинской литературы, должно было, следовательно, стать ясным, что "между "Премудростью" и книгами Ветхого Завета должны лежать столетия или, лучше сказать, должны лежать, как правило, пучина пленения, могила древнего еврейского языка и старого Израиля, а также колыбель нового еврейского языка и нового Израиля".
С открытием древнееврейского оригинала "Премудрости" суждено было разрешиться множеству текстологических проблем. Были восстановлены отрывки, опущенные или существенно искаженные в переводных версиях. В то же самое время школе "высшей критики" был нанесен еще один удар. Сам Шехтер признался в том, что ранее приписывал Псалмы маккавейскому периоду, но при наличии новых доказательств он с радостью отказался от этой точки зрения. В том, что этот фрагмент представлял древнееврейский оригинал, Шехтер ни на минуту не сомневался, хотя некоторые исследователи не были с ним согласны: они настаивали на том, что это был обратный перевод на древнееврейский. Однако внутренние свидетельства текста, пометки на полях и главным образом недавние находки в пещерах Кумрана (пещера II), явившие точные соответствия списку генизы, — все это в дальнейшем подтвердило точку зрения Шехтера.
Сильно поврежденный клочок бумаги примерно в семнадцать строк, расположенных в две колонки, датируется, вероятно, XI в., но, безусловно, указывает на существование более древнего "архетипа". Опознание столь короткого отрывка (Премудрость Иисуса, сына Сирахова, 39,15–40,8) из произведения, языковые отклонения которого не имели прецедентов во всей доступной тогда древнееврейской литературе (в лингвистическом отношении весь период с 250 г. до н. э. по 150 г. н. э. был сплошным белым пятном), было уже само по себе великим достижением. Один из современников Шехтера, выступив на страницах "Фортнайтли Ревью", приветствовал это открытие и характеризовал его как "увлекательный научный роман". Он отмечал: "Пройдя через многие века и пересекши целый континент, этот неприметный клочок по счастливой из случайностей попал в руки того единственного человека, который был подготовлен к опознанию его всеми предыдущими исследованиями; и это было равноценно тому, как если бы современная наука восстановила утраченную страницу Библии".
Шехтер с полным правом мог заявить, что значение отрывка заключается "не только в том, что он собою представляет, но в том, что он несет нам надежду на новые находки". Далее, отдавая дань галантности, он выразил надежду, что, "быть может, те же самые г-жа Льюис и г-жа Гибсон, энтузиазму которых в отношении всего связанного со Священным Писанием столь много уже обязана семитология, своими новыми находками сделают для нас возможным восстановить полностью "Премудрость"". Этому галантному пожеланию не суждено было сбыться. Но в то же самое время и даже еще до выхода в свет статьи Шехтера было дополнительно обнаружено несколько (точнее, девять) листов из "Премудрости". Сообщение, сделанное А. Льюис в "Атенеуме", подало оксфордскому ориенталисту Адольфу Нойбауэру мысль исследовать документы на древнееврейском языке, которые А. Г. Сейс приобрел в Египте для Бодлеанской библиотеки. Они были выполнены сходным типом древнееврейского письма и также без огласовок (имеется в виду послебиблейская система добавления гласных к консонантной семитской письменности). Эти листы непосредственно примыкали по содержанию к шехтеровскому листку, несомненно, принадлежали той же самой рукописи и происходили из того же источника, затерянного где-то в Египте; Шехтер поставил теперь перед собой задачу установить происхождение текста "Премудрости". Все имевшиеся данные указывали на каиро-фостатскую генизу, которую он со свойственным ему динамизмом решил исследовать лично. Может быть, таким образом удастся спасти еще какие-нибудь листы "Премудрости".
Несмотря на то что Шехтера часто называют открывателем генизы, сам он отказывался относить это открытие на свой счет. Когда автор анонимного письма в "Таймс", позволивший себе несправедливые нападки на Шехтера, заявил, что эта честь должна принадлежать Э. Н. Адлеру, с которым Шехтер был в дружеских отношениях, то Шехтер ответил: "Честь открытия генизы принадлежит многочисленным каирским торговцам древностями, которые вот уже много лет постоянно предлагают ее содержимое различным библиотекам Европы… Г-н Э. Н. Адлер провел в генизе полдня. От него я узнал, что он получил от местного начальства в подарок кое-какие рукописи. Что же касается вопросов приоритета, то они скучны, и я не намерен обременять Ваших читателей их обсуждением".
Предоставим же поиски "первого" изобретателя или открывателя тем, кто не может избавиться от привычки видеть любое человеческое достижение в романтическом свете. Большинство древних археологических объектов Египта и Месопотамии было известно местному населению еще за много столетий до того, как там появились с лопатой и фотоаппаратом европейские археологи. Первыми же их посетили расхитители гробниц, эти дерзкие, вездесущие негодяи, представители "второй древнейшей профессии". Туземные феллахи были знакомы со скальной гробницей фараона Сети гораздо более детально, чем Бельцони, который, как считается, первым ее обследовал. Они даже, по-видимому, знали о тех скрытых помещениях и лестничных ходах, которые исследователи открывают только сейчас. И кто может сказать, на протяжении скольких столетий пещеры Мертвого моря навещали кочевники-бедуины?
Оттого, что кто-то побывал в генизе раньше Шехтера, вклад его отнюдь не преуменьшается. Он стоит выше всех предшественников потому, что именно он усмотрел в каирской генизе источник многочисленных древнееврейских документов, в течение ряда лет появлявшихся на мировом рынке. Именно Шехтер положил конец беспорядочному разбазариванию ценных рукописей неразборчивыми в средствах служителями синагог и торговцами. Его конечной целью было полное освобождение генизы от ее содержимого и вывоз его в Европу. Энтузиасту, человеку большой силы убеждения, Шехтеру достаточно было лишь задумать свой план вывоза содержимого генизы, как он уже имел поддержку некоторых влиятельных лиц в Кембриджском университете. Его основным покровителем был Чарлз Тейлор, глава колледжа Святого Иоанна, видный математик, который помимо этого стал одним из выдающихся исследователей, не евреев по происхождению, изучавших раввинскую литературу. Отпрыск семейства состоятельных лондонских купцов, он обеспечил средства для экспедиции Шехтера. Вся миссия планировалась втайне, хотя Шехтер и не смог сохранить полное молчание, судя по переписке, которую он, прежде чем добраться до Каира, вел с одним своим американским приятелем (пророчившим ему, кстати, выдающиеся успехи).
С такими вот полномочиями, а также с солидным багажом предприимчивости и приветливого обхождения Шехтер отправился в декабре 1896 г. в путешествие в Египет. Орошаемая Нилом страна не могла предложить ему ничего из тех прелестей, которыми он, несколькими годами ранее, так восхищался в Италии. "Теперь, когда к истокам Нила ездят на велосипедах, — писал он в нарочито прозаической манере, — мало что интересного можно сообщить о Каире и Александрии". Особенно Шехтер был разочарован Александрией. Своему американскому другу он доверительно писал: "Провел день в Александрии. О Филоне-иудее (знаменитый иудейско-эллинистический философ) здесь и памяти не осталось. Нынешний еврей больше интересуется хлопком и прочей чепухой, чем логосом и вечной любовью". Нанеся визит главному раввину и рассказав о цели своего путешествия, Шехтер не услышал от него ничего ободряющего. Рабби заверил его, что в Каире он мало что найдет, "разве что несколько потрепанных листков".
Сомнения его усилились, когда он добрался до Каира, о котором писал: "Все в нем, рассчитанном на удовлетворение потребностей европейского туриста, стало уныло современным, и сердце у меня упало, когда я подумал: вот это место, откуда я предполагал вернуться нагруженным добычей, возраст которой внушает уважение даже в наших древних цитаделях наук". Но посещение самого его преподобия великого раввина Каира Рафаила бен Шимона, которому он вручил свои рекомендательные письма, вскоре подняло его дух. Ему была обещана полная поддержка.
Поскольку имущество синагоги находилось на попечении раввина и синагогального начальства, Шехтеру пришлось также заручиться поддержкой светского главы еврейской общины в Каире. Последнее слово было, однако, за раввином, но Шехтер склонил его на свою сторону через его брата, который был при раввине главным советником. Несколько дней спустя Шехтер шутливо писал своей жене: "Раввин очень добр ко мне и лобызает меня в уста, что не слишком приятно". В том же самом письме он также мог сообщить, что уже работает в генизе и только что вынес оттуда два больших мешка с фрагментами рукописей. Шехтер, человек далеко не заурядный, со всеми умел найти общий язык. Неожиданно Каир показался ему чудным городом. Он обнаружил наконец, что в Каире можно насладиться итальянской оперой, мастерством французских танцовщиков, искусством британской администрации и магометанских гурий. "Эти последние крайне безобразны, и я не удивляюсь, что они столь тщательно скрывают свои лица".
Гениза была расположена в дальнем конце галереи для женщин, на западной стороне синагоги. Входом в тайник служило отверстие, проделанное в стене, к которому надо было взбираться по грубо сколоченной лестнице. Г-же Льюис и г-же Гибсон, которые присоединились к Шехтеру в Каире, было позволено заглянуть в каморку, из которой вышло "такое множество растрепанных клочков с письменами, заставивших радостно биться сердца европейских исследователей". Их чувства были оскорблены, когда им пришлось наблюдать, как служка прыгнул в небольшое отверстие, и, стоя внизу, они услышали, "как под его ногами хрустит древний веллум". По мнению Д. Льюис, в Синайском монастыре с рукописями обращались в общем-то более почтительно, но крайней мере складывали их в коробки или корзины, по не расшвыривали где попало и не закапывали под остатками древних стен и под песком, занесенным из пустыни.
В синагогу Шехтера отвел сам верховный раввин. Поначалу огромное количество материала и тот беспорядок, в котором он пребывал, привели его в трепет. Хотя Шехтер и имел право затребовать себе все необходимое, он счел, однако, нужным проявить благоразумие и ограничиться одними лишь рукописями, презрев более поздние печатные тексты, которые за последние четыреста лет во множестве скопились в генизе. Он счел поздний материал заслуживающим меньшего интереса по сравнению со значительно более древними документами, написанными от руки. В этом он был, может быть, и неправ. Позднее исследователи печатных произведений, такие как Э. Н. Адлер и Дж. Л. Тичер, обнаружили ценные тома инкунабул (редких образцов первопечатных книг), которые немало поведали нам о книгопечатании на Ближнем Востоке в XV столетии. Но при сложившихся тогда обстоятельствах у Шехтера не было альтернативы. Ввиду обилия материала необходимо было провести отбор. В статье, опубликованной в "Таймс" по возвращении, 8 августа 1897 г., Шехтер приводит живое описание картины, представшей его взору: "Вряд ли кто-нибудь может представить себе беспорядок, царящий в настоящей старой генизе, пока не увидит ее собственными глазами. Это книжное поле брани, в этой битве участвовали литературные творения многих веков, и повсюду рассеяны их disjecta membra (лат. разъятые члены). Некоторые бойцы уже безвозвратно погибли и буквально истерты в пыль в страшной борьбе за жизненное пространство, в то время как другие, словно бы поддавшись азарту всеобщей давки, смяты в большие, бесформенные кучи, извлечь из которых отдельные составляющие, не причинив им существенного вреда, нельзя уже даже с помощью химических препаратов. В нынешнем их состоянии эти слипшиеся куски подчас создают любопытные и знаменательные сочетания, когда, например, вы натыкаетесь на отрывок сугубо рационалистического труда, где отрицается существование и ангелов и дьяволов и который в схватке за жизнь прильнул к амулету, в котором и тем и другим (большей частью последним) вменяется в обязанность вести себя прилично и не мешать любви мисс Джейр к такому-то лицу. Далее развитие романа еще более осложняется, поскольку последние строки амулета приплюснуты к какой-нибудь долговой расписке или договору об аренде, а тот, в свою очередь, томится, зажатый между листами труда старого моралиста, который взирает с презрением и негодованием на любые проявления внимания к денежным делам. В конце концов все эти противоречивые материалы оказываются плотно прижаты к листам какой-нибудь очень древней Библии. Ей бы, конечно, и следовало быть судьею в их споре, но с содержанием ее вряд ли удастся ознакомиться без того, чтобы не отодрать предварительно с ее поверхности обрывков какого-нибудь печатного издания, липнущего к благородной древности с упорством и навязчивостью парвеню" [38].
Потянулись недели тяжелой, рутинной работы. Изо дня в день, работая в лишенной окон кладовой, Шехтер вдыхал "пыль веков". После этого ему даже пришлось пройти курс лечения. Его биограф Норман Бентвич утверждает, что работа в кладовой генизы превратила физически крепкого ученого в старика и серьезно подорвала его здоровье.
Сам Шехтер писал: "Задача была явно не из легких, поскольку в генизе было темно и в воздух поднимались тучи пыли от прикосновения к хранящимся в ней предметам, будто сама гениза препятствовала тому, чтобы нарушали покой ее обитателей. Подобным протестом никак нельзя пренебречь, поскольку пыль забивается в глотку, грозя удушьем".
Сознавая, что в такой сложной обстановке одному с работой не справиться, Шехтер не без колебаний принял помощь, с готовностью предложенную служителями синагоги и их многочисленными сородичами. В конце концов, хранители синагоги в ходе их прежних предприятий по выносу и сбыту рукописей из генизы накопили уже немалый опыт. (Те, кто вел раскопки в Иудейской пустыне, обыскивая пещеры в поисках свитков, были подобным же образом вынуждены нанимать тех самых бедуинов, которые прежде расхищали эти драгоценные материалы.) Благодаря этому Шехтер познал тонкости восточного этикета, суть которого выражается словом "бакшиш" и который предполагает щедрые подачки и взятки, грубо требуемые, но зато столь изящно принимаемые местными жителями за самые незначительные услуги или вообще невесть за что. Всем своим "прежним образом жизни" Шехтер был отнюдь не подготовлен к этой унизительной малоэффективной практике. Она была сопряжена с необходимостью торговаться и вообще с бессмысленной тратой денег и времени. Шехтер, однако, был способен относиться к этому с юмором. Служители, писал он, "разумеется, уклонялись от того, чтобы получать за услуги по определенной таксе наличными столько-то пиастров в день. Для них это плебейская манера ведения дел, до которой никогда не снизойдет уважающий себя служитель настоящей генизы. Фактически все население на территории, прилегающей к зданию синагоги, постоянно испытывало мою щедрость, мужчины — по праву достойных коллег, занятых той же работой (по отбору), что и я, или в крайнем случае по праву свидетелей нашей работы; женщины — постольку, поскольку они почтительно приветствовали меня при моем появлении или же выражали глубочайшее сочувствие при моих приступах кашля, вызванных пылью. Если же день был праздничным, например новолуние или канун субботы, то от меня ожидали за все эти любезности гораздо более щедрого вознаграждения; считалось естественным, что западный миллионер добавит от щедрот своих великолепия предстоящей трапезе".
Принятие же этой сомнительной помощи было чревато, как Шехтеру вскоре предстояло убедиться, дополнительными проблемами. Он с ужасом обнаружил, что один торговец в Каире предлагал на продажу фрагменты из генизы, и у него не оставалось другого выбора, как выкупить их обратно за непомерную цену. Однако его обращение в еврейскую общину положило конец порочной практике, по крайней мере на время.
Добычу укладывали в большие мешки, количество которых неуклонно возрастало. К концу января их было тридцать. Шехтер писал своему приятелю в Англию: "Работа проделана чисто, прямо как в Писании сказано: "И обобрали они египтян…"" Чтобы избежать неожиданных осложнений в последний момент или кражи, он старался как можно скорее отправить груз в Англию. Посольство Великобритании в Каире оказало ему помощь в получении разрешения на вывоз и ускоренную отправку. Оставалось лишь переправить мешки из синагоги к экспедитору. Но даже и тогда "ухитрились в последний раз выкрасть кое-какие фрагменты", как выяснила А. Льюис, которая купила некоторые из них, увидев их выставленными для свободной продажи в лавках каирских торговцев. Шехтер уже на пути в Палестину, где он собирался навестить своего брата-близнеца, жившего в окрестностях Хайфы, узнал, что его конкуренты — представители Бодлеанской библиотеки — пытались завладеть остатками сокровищ генизы — материалом, захороненным вне синагоги.
Египетские трофеи достигли Англии прежде Шехтера, который провел несколько недель в Палестине, а затем отправился в Марсель на корабле, наскочившем на скалу и едва не затонувшем, не дойдя до порта назначения. Его попутчиком, с которым он познакомился на борту корабля, был еще один "расхититель" богатств Египта — Флиндерс Петри. Для Шехтера теперь только начиналась настоящая работа, и одной человеческой жизни на нее явно не хватало. Предстояло рассортировать, идентифицировать и издать обширнейший материал — по его приблизительным подсчетам, порядка ста тысяч фрагментов. Тем временем рукописи, за которыми с этих пор закрепляется название "коллекции Тейлора — Шехтера", были переданы в библиотеку Кембриджского университета, который в 1898 г. официально объявил об их приобретении, опубликовав список некоторых наиболее примечательных сокровищ с изложением условий, на коих уникальная коллекция была передана университету жертвователями. Выполняя одно из этих условий, университетский совет ублажил каирскую еврейскую общину рукописным адресом на пергамене, цветисто составленным на трех языках и содержащим изъявления признательности "не только за то радушие, с каким Вы принимали нашего талмудиста, но и за поразительную щедрость, с какой Вы позволили ему вернуться домой нагруженным рукописными фрагментами". Далее, с тем чтобы напомнить каирским евреям о всеобщем благе, добытом ценою их личной утраты (если только они вообще ощущали таковую), цитировался стих из Книги притчей Соломоновых: "Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется…" (11,24). Что же касается Шехтера, то он получил от университета степень доктора филологии и удостоился другой удачно выбранной цитаты, на этот раз, как и следовало ожидать, из Книги премудрости: "Исследуй и познавай, ищи и обрящешь, схватив ее, не отпускай!"
В статье Шехтера, напечатанной 8 августа 1897 г. в "Таймс", и в предварительном списке материалов коллекции, выпущенном информационным издательством библиотеки в июне 1898 г., были обнародованы некоторые наиболее поразительные из опознанных к тому времени находок. Хотя это была лишь малая толика в сравнении с тем, чему еще предстояло обнаружиться, находки были действительно сенсационными. В том же выпуске "Таймс", где был помещен живо написанный отчет Шехтера, было также опубликовано письмо его кембриджского коллеги Ф. С. Беркитта, объявлявшего о своем открытии среди фрагментов из генизы, только что доставленных в Англию, листка из перевода древнееврейского Ветхого Завета на греческий, выполненного Аквилой. Этот труд, известный своим буквализмом в переводе оригинала, в свое время вытеснил в среде грекоязычных евреев "Септуагинту" и использовался до тех пор, пока сам греческий язык не вышел из употребления в период арабской экспансии. И тогда книга бесследно исчезла.
Все годы, которые ему оставалось еще провести в Кембридже, Шехтер трудился почти неизменно в большом зале университетской библиотеки, отведенном специально для коллекции, которая поначалу была разложена по ста восьмидесяти четырем ящикам. Имелись в ней и переплетенные тома, и около тысячи восьмисот фрагментов, которые были помещены под стекло. Там, по свидетельству его биографа, он "проводил все дневные часы за работой, одетый в пыльник и специальную защитную маску, предохранявшую нос и рот от пыли. Сквозь его руки прошли и были им самим классифицированы все те сю тысяч фрагментов, которые ему удалось собрать. Вокруг него стоял целый ряд обычных бакалейных ящиков с этикетками "Библия", "Талмуд", "История". "Литература", "Философия", "Раввинизм", "Теология" и т. д. Задачей его было извлечь каждый листок бумаги или пергамена из общей массы, изучить его с помощью лупы и затем поместить в соответствующую коробку "с проворством домохозяйки, сортирующей белье, полученное из прачечной". Из Европы и Америки сюда приезжали ученые, чтобы посмотреть, как он работает".
Вполне понятно, что первоочередной интерес для него представляла "Премудрость", "истинный виновник" всего чуда генизы. И его надеждам обнаружить новые листы из этой же книги недолго уже оставалось ждать своего осуществления. В Каире ему попались листы из другой рукописи, и постепенно он находил еще и еще. Время от времени он помещал в "Таймс" сообщения о подобных счастливых открытиях, и его энтузиазм по поводу ценности доставшегося ему клада неуклонно возрастал. "Нам открывается целый дотоле неизвестный иудейский мир", — написал он однажды. Несколько дней спустя он отмечал свой "самый славный день генизы", когда в течение одного и того же дня он обнаружил один греческий текст, один сирийский палимпсест и к тому же "самую важную часть сочинения Бен Сиры". В дополнение к тем новым листам из "Премудрости", которые продолжали попадаться самому Шехтеру, другие листы из того же труда обнаружились в Британском музее, в Париже и среди рукописей из генизы, принадлежавших Э. Н. Адлеру (позднее завещанных им Еврейской теологической семинарии). Так постепенно были восстановлены две трети текста "Премудрости". Было уже предпринято несколько ее критических изданий, первым из которых было издание Шехтера и Тейлора в 1899 г. За ним последовали другие, пока в 1906–1907 гг. немецкий ученый Рудольф Сменд не издал то, что долгое время признавалось окончательным текстом. Тем не менее остальные листки из Бен Сиры появлялись еще в течение многих лет, а впоследствии их дополнили фрагменты, найденные в пещерах Мертвого моря. Наконец, в 1953 г. сотрудник Еврейского университета М. С. Сегал выпустил в свет почти полное издание текста.
Невозможно было бы даже перечислить несметные богатства этого собрания рукописей, далеко не все из которых идентифицированы и сегодня. Лелеянный Шехте-ром план составления полного каталога всех материалов и издания полного текста (корпуса) всего собрания до сих пор по-прежнему далек от осуществления. В 1959 г. Пауль Е. Кале, автор единственной тогда обширной работы о каирской генизе, который сам на протяжении шестидесяти лет занимался изучением коллекции, писал: "Даже сегодня тщательное изучение фрагментов коллекции приводит к самым выдающимся открытиям. Еще весьма не скоро мы сумеем извлечь из этой величайшей сокровищницы все, что она может нам дать".
А незадолго до смерти Шехтер в своем докладе о генизе упоминал о таких предметах, как "астрономия и астрология, беллетристика и легенды, математика и медицина, Коран и суфизм, — больше предметов, чем букв в алфавите", — по которым документы могут дать весьма ценные данные. И все же сегодня эти богатейшие возможности еще только осваиваются.
В одной только библеистике гениза открыла новую эру, которой пока еще не видно конца, эру, сопоставимую по значимости и многообразным последствиям с эрой, начало которой положило открытие свитков Мертвого моря. Не без оснований гебраисты говорят о существовании в истории их науки "века генизы", предшествовавшего "веку пещер". Сравнения с кумранскими свитками могут показаться натянутыми, но они, как мы убедимся далее, в высшей степени уместны. Хотя ни одна из рукописей генизы не может соперничать с кумранскими материалами по древности, их количество и обширный диапазон обеспечили им тем не менее важнейшую роль в исследованиях Ветхого Завета и в гебраистике, которую они, можно смело сказать, уступили свиткам лишь на время.
Тексты генизы в значительной своей части являются библейскими и восходят к X, а подчас и к IX в. До появления свитков Мертвого моря и ранее того крошечного "Папируса Нэша" вообще не было известно ни одного более древнего еврейского ветхозаветного текста (за исключением, быть может, старой караимской Библии, по сей день остающейся во владении каирской общины). Шехтеру представлялось вероятным, исходя из различных палеографических данных, что некоторые из библейских рукописей были даже древнее, чем Пятикнижие Британского музея. В одном колофоне указывалась дата написания текста, превосходящая древностью знаменитый петербургский Кодекс пророков, происходящий из Крыма [39]и датированный 916 г. На одном из фрагментов Шехтер обнаружил следы позолоченных букв; древнееврейские рукописи, как правило, совершенно свободны от элементов орнаментального искусства, но тем не менее буквы с позолотой вполне могли быть изобретением иудеев, хотя они очень скоро от этой практики отказались.
Библейские рукописи дали нам очень много новых данных о вариантах текста (особенно благодаря указанию разночтений в примечаниях на полях), а также о развитии системы обозначения гласных, что помогло разъяснить до того весьма спорные вопросы древнееврейского вокализма и произношения. Изучая тексты Священного Писания из генизы, Шехтер всегда с интересом читал их колофоны, в которых указывалось, когда и где был сделан список, имя писца или же владельца книги. Зачастую подобные памятные записи включали в себя грозные проклятия в адрес тех, кто осмелился бы продать или унести Псалтирь или Пятикнижие, пожертвованное богобоязненным и щедрым господином таким-то синагоге такой-то. У современного охотника за рукописями набожные заклинания такого рода способны вызвать лишь улыбку. Шехтер по этому поводу замечал: "Эти проклятия удручают, если ты как раз знаешь кое-что об этом самом лице, унесшем рукопись из синагоги; но если вы хотите выяснить историю рукописи, вам приходится мириться с такого рода "благопожеланиями". В конце концов может статься, что мои разыскания посодействуют робким притязаниям благочестивого дарителя на обретение бессмертия, поскольку имя его снова будет явлено миру в каталоге, который когда-нибудь все же будет подготовлен. Пока же рукопись пребывала в куче праха в генизе, шансов у него на это было, безусловно, куда меньше".
Другой диковинкой были образчики библейских текстов, выполненные необычным видом скорописи — так называемым решетчатым письмом, при котором в каждом стихе первое ключевое слово или слова даются полностью, а все остальные представлены только их начальными буквами. По этой системе первый стих Библии можно записать следующим образом: "Вначале с. б. н. и з." (т. е. "Вначале сотворил Бог небо и землю"). Это была скорее памятка, нежели подлинный текст, и, возможно, такой способ записи был каким-то образом связан с первоначальным характером лишенной гласных семитской письменности, которая, как иногда утверждают, основывалась не на подлинном алфавите, а опиралась на скорописную, полусиллабическую систему. Гениза явила первые подобные примеры использования решетчатого письма (старый раввинский термин) для записи текста целиком.
Подобная форма сокращенного письма была рассчитана на искушенного и высокоученою человека, который хорошо знаком со священными текстами. Среди рукописей были также краткие извлечения из Пятикнижия, тщательно выписанные большими буквами для обучения молодежи, — короче говоря, упрощенная Библия.
Наиболее значительную часть коллекции составляют вместе с библейскими литургические тексты. Они дают представление о наиболее древних формах иудейского богослужения и существенно обогащают наши знания об эволюции еврейской молитвенной книги.
Можно было ожидать, что в генизе, в силу самой ее природы, окажется немалая часть апокрифов, псевдоэпиграфов и подобной литературы, которую раввины всеми силами старались убрать с глаз долой. Показательным примером является в данном случае Книга премудрости. К моменту, когда каирская гениза начала функционировать (т. е., скорее всего, к IX в.), многие неканонические работы были уже изъяты из обращения. Однако значительное количество фрагментов помимо рукописных страниц "Премудрости" обрело свое место под сводами, обрекавшими их на забвение. Среди них находилась и значительная часть труда на арамейском языке, который принято считать христианским апокрифом (различие между подобными иудейскими и христианскими сочинениями отнюдь не всегда легко устанавливается и зачастую зависит от количества христианских интерполяций в еврейских текстах), именуемым "Завещаниями двенадцати патриархов". Иудейские сочинения включали "Изречения раввина Елиезера" и "Седер Элийяху", причем авторство последнего текста приписывалось пророку Илии. Шехтер приветствовал эти тексты как важные свидетельства "истории развития иудейской религии в период между двумя Заветами".
Примерно на рубеже XX в. Шехтер уделил более пристальное внимание одному небольшому сочинению, содержавшемуся в Кембриджской коллекции. Этому тексту, предположительно сектантского происхождения, предстояло увлечь его почти на десятилетие, пока в 1910 г. он не обнародовал его вместе со всеми примыкающими к нему материалами. Текст, который Шехтер назвал "Фрагментами цадокитского сочинения", теперь более широко известен под названием "Дамасский документ". Эта публикация вызвала подлинную академическую и догматическую бурю и затяжные, нередко весьма язвительные дебаты, однако широкая публика оставалась почти безучастной.
Тщательное изучение этих сектантских фрагментов убедило Шехтера в том, что в них излагается религиозное учение некой древней еврейской секты. Разнообразные упоминания в тексте как будто бы исторических событий делают весьма вероятным, что данная секта обрекла себя на добровольное изгнание в Дамаск; здесь ее члены, по-видимому, вступили в "Новый Союз" с Богом. Все это было в высшей степени загадочным и, очевидно, беспрецедентным явлением для иудейской религиозной традиции. Кем могли быть эти странные раскольники? Когда процветала их община? Шехтер вначале занялся поисками внутренних свидетельств в самом тексте. Для его опытного глаза было очевидно, что обнаруженные в генизе тексты двух отдельных частей "Дамасского документа" относились примерно к периоду между X и XII в. Но как только он проанализировал древнееврейский язык текста, квазиисторические ссылки и содержание обеих частей, то убедился, что оригинал необходимо было отнести к гораздо более древнему времени, начиная примерно с 100 г. до н. э. Что же касается общего характера раскольнической группы, то Шехтер в предисловии к опубликованной версии текста заявлял: "Одно очевидно: в данном случае мы имеем дело с сектой, решительно враждебной большинству иудеев, представленному фарисеями. Эта секта имела свои законы, свой календарь, причем такой свод законов, который непосредственно отражал различные заповеди Священного Писания".
Тем временем Шехтер уже подбирал другие ключи к разгадке тайны. Он снова не просто обнаружил неизвестную рукопись, но и оказался единственным человеком, вполне подготовленным к ее опознанию и интерпретации содержания. Его анализ по необходимости в большой мере опирался на проделанное им ранее исследование древнееврейского текста "Премудрости". Еще одним подспорьем явилось сделанное в то же время, и опять самим Шехтером, открытие другого утраченного сочинения — значительной части "Наказов" Анана (на арамейском языке), иудейского реформатора, активно действовавшего в VIII в. в Месопотамии. "Дамасский документ", как заметил Шехтер, имел черты сходства и с "Премудростью", и с "Наказами". Все три произведения связаны с деятельностью двух сект — караимов и цадокитов.
Караимы были раскольнической группой иудеев, которая предположительно была основана или, во всяком случае, организована Ананом бен Давидом в Месопотамии в VIII в. Это были антираввинистски настроенные пуритане, отрицающие талмудическую традицию и экзегетику и отстаивающие право индивидуального истолкования Библии. Таким образом, они напоминали протестантов периода христианской реформации. Цадокиты (или саддукеи) были гораздо более древней жреческой группой, жестоко угнетенной и затем вытесненной фарисеями. Однако представляется сомнительным, что цадокитов, упоминаемых в сектантской литературе из генизы, можно прямо отождествить со священниками-саддукеями Иерусалима новозаветного периода.
Шехтер впервые встретил упоминание о цадокитах ("сынах" или "священниках из дома Цадока") на страницах "Премудрости". С самого начала он был озадачен тем, что в переводной версии о цадокитах не было сказано ни слова. В оригинале, например, имелся утраченный гимн, прославлявший дом Цадока. Одна из его строк гласила: "О, воздай благодарение ему, избравшему на священство сынов Цадока". Довольно странно, что всякое упоминание о цадокитах было опущено, очевидно умышленно, внуком автора, переведшим его сочинение на греческий. Шехтер предложил этому правдоподобное объяснение: за время жизни двух поколений, в пору селевкидского и затем хасмонейского правления, под давлением проэллинистически настроенных фарисеев саддукеи были преданы анафеме, и потомок Бен Сиры осторожно "отредактировал" текст, дабы не навлечь на себя беды. Ссылки Бен Сиры на цадокитов делают вероятным предположение, что сам он принадлежал к антифарисейской саддукейской партии.
Изучая каирские рукописи, Шехтер снова и снова сталкивался с цадокитами. Запретное, чернимое и гонимое имя их красной нитью проходит через несколько отреченных в свое время иудейских сочинений. Как можно объяснить тот факт, что вавилонский талмудист Саадия и другие раввинистские вероучители неизменно обличали врагов своих, сектантов-караимов, как цадокитов? Было ли это просто бранной кличкой? Или хулители основывались на чем-то более конкретном? Но разве цадокиты не сошли со сцены еще за столетия до этого? И как вписывался в эту картину "Дамасский документ"?
Так же как и отрывки, исключенные из греческой версии "Премудрости", новооткрытый "Дамасский документ" содержал явные и благоприятные упоминания о священниках-цадокитах. Ядром его содержания, совершенно очевидно, было описание условий существования и обычаев безымянной древней секты, которую Шехтер теперь чувствовал себя вправе отождествить с цадокитами. Соответствие между двумя сектами, цадокитами и караимами, хоть между ними, очевидно, и пролегли столетия, было найдено поразительное. В том, каким образом они могли оказаться связанными между собой, по-прежнему было что-то загадочное. Однако Шехтер твердо придерживался мнения, что "Дамасский документ" на несколько столетий предшествовал выходу на историческую арену секты караимов.
Противоречия, заключавшиеся во взглядах самого Шехтера, вооружали его оппонентов. Некоторые заявляли, что фрагменты сектантского содержания — безусловные подделки. Некоторые выворачивали наизнанку гипотезу Шехтера о том, что цадокиты оказали влияние на караимов, и утверждали вместо этого, что караимы явились авторами "Дамасского документа", ставя тем самым под сомнение древность книги и сам факт существования секты цадокитов, иудейских инакомыслящих из числа иерусалимского жречества, еще в дохристианскую эпоху основавших свое особое братство.
Луис Гинзберг, коллега Шехтера по Еврейской теологической семинарии, доказывал, и довольно правдоподобно, что, хотя и существовала, несомненно, такая сектантская группа, она имела много общего с фарисеями, но практически ничего с историческими саддукеями. Некоторые ученые приветствовали открытие Шехтером сектантских фрагментов как достижение, имеющее даже большее значение, чем его критический анализ древнееврейского текста "Премудрости". Но лишь немногим удалось до конца постичь все многообразие возможных последствий открытия "Дамасского документа", которое жизнь столь убедительно подтвердила примерно пятьдесят лет спустя, с открытием кумранской общины и ее библиотеки. Согласно талантливому резюме Нормана Бентвича, биографа Шехтера, новооткрытые сектантские фрагменты "показали нам новые аспекты жизни и мышления иудеев в тот критический период, который предшествовал рождению христианства". Еще более решительно высказался в 1911 г. в рецензии на страницах "Америкэн Джорнел оф Тиоледжи" Кауфман Колер: "Документ обнаруживает точки соприкосновения со многими течениями в иудейской и иудео-христианской истории".
Но множество вопросов, поставленных открытием сектантских рукописей и возрождением цадокитов в VIII или IX в., продолжало озадачивать исследователей. Если сами по себе эти документы не караимского происхождения, то как объяснить сходство в их содержании с учением этой секты? Как могло случиться, что после многих столетий забвения цадокиты начали — и, по-видимому, совершенно неожиданно — играть столь важную роль в жизни евреев Ближнего Востока? И как, собственно, могли уцелеть раскольничьи цадокитские фрагменты? Если упоминания о непопулярных и подвергаемых поношению "сынах Цадока" были изъяты из греческого текста "Премудрости", то как могло случиться, что они в ничуть не завуалированных контекстах сохранялись в древнееврейском оригинале — и это несмотря на обычай безжалостного изъятия еретических и апокрифических текстов? Правда, списки текста были заточены в каирской генизе, по всей вероятности, где-то около XII в, н. э. Но как, едва ли не чудом, удалось им до этого избежать захоронения в других генизах или могилах? И удалось ли в действительности? Было ли в самом деле сколь-нибудь убедительное доказательство существования секты цадокитов в дохристианскую эпоху? А если да, то как она соотносилась с другими известными сектами, в частности с фарисеями, саддукеями, ессеями? И существуют ли какие-нибудь доказательства, подтверждающие древность происхождения "Дамасского документа"?
Эти вопросы оставались без ответа в течение нескольких десятилетий. Окончательное их решение стало возможным только после сенсационных открытий рукописей, сделанных в Иудейской пустыне в 40-х — начале 50-х гг. XX в.
Соломону Шехтеру уже не было суждено принять участие в этих событиях: он умер в 1915 г., но он, как никто другой, остро ощущал смысл проблем, возникших в связи с находками в генизе. Погруженный в свою работу, Шехтер писал: "Оглядывая это несметное множество фрагментов вокруг меня, разбором и изучением которых я теперь занимаюсь, я не могу отделаться от охватывающего меня грустного ощущения, что мне вряд ли будет дано самому увидеть все те последствия, которые тексты генизы будут иметь для наших знаний об иудеях и иудаизме. Это работа не для одного человека и не для одного поколения. Она будет занимать многих специалистов и в течение времени, значительно более долгого, чем одна жизнь. Однако, как говорится, "это не твой долг — завершить работу, но и не твоя воля — уклониться от нее"".
Пещеры в иудейской пустыне
Заброшен в Стигийской пещере…
Джон МильтонЭто один из наиболее безлюдных районов на земном шаре, большей частью лишенный растительности и непригодный для человеческого обитания. Крутые скалистые известняковые холмы, изрезанные обрывистыми оврагами и изъязвленные пещерами, составляют весь его ландшафт. Скалистая, белесоватая, пустынная страна, покрытый пылью шрам на лике Земли, живо повествует о тектонических сжатиях, конвульсиях, вызванных землетрясениями, и о медленном, но неуклонном действии эрозии. Если бы не его расположение, этот район был бы одним из самых заброшенных во всем мире. Хоть она и бесплодна и кажется безжизненной, Иудейская пустыня все же лежит непосредственно к востоку от Вифлеема и Иерусалима. На северной ее границе стоит древнейший город в мире — Иерихон. Круто поднимаясь от глубокой впадины Мертвого моря, эта древняя земля еврейского племени Иуды не могла полностью изолироваться от хода истории. Здесь гремели битвы, по крайней мере начиная с той поры, когда Саул воевал со своим бывшим придворным менестрелем Давидом. Бунтовщики, грабители и святые искали убежища в ее безлюдье. Но в основном на протяжении веков она была все же приютом для полукочевых племен. Здесь они охотились или перекочевывали со своими стадами в поисках корма. Иногда они заходили в отдаленные вади и взбирались на отвесные скалы. В более близкие нам времена эти никем не охраняемые холмы были раем для контрабандистов, пока те не обратили свое искусство на еще более доходные предприятия.
Как-то раз собака, преследуя какое-то животное, внезапно исчезла на глазах у хозяина. Очевидно, она прыгнула в одну из многих естественных пещер, но внутри отверстие было, вероятно, слишком высоко над землей, и собака попала в ловушку. Чтобы вызволить своего любимца, араб спустился через отверстие в темноту. Когда его глаза привыкли к мраку, он с удивлением заметил странные предметы, в которых опознал испещренные каракулями кожаные свитки. Сообщается, что затем охотник-араб прибыл в Иерусалим и взбудоражил местное еврейское население сообщением, что книги были спрятаны в Иудейских холмах. Евреи из Иерусалима повалили толпами в пустыню и нашли в указанном месте, неподалеку от Иерихона, большое количество как ветхозаветных, так и не библейских по содержанию свитков, которые все были написаны на древнееврейском языке.
Рассказ, не правда ли, звучит весьма знакомо. Мы уже слышали о таких обстоятельствах: бедуин, разыскивая пропавшее животное, случайно попадает в пещеру. Знакомо нам и место происшествия — скалистые холмы к северо-западу от Мертвого моря, и его последствия — открытие древнееврейских рукописей и фрагментов литературных текстов, написанных на кожаных свитках. И только дата может вызвать наше удивление. Это произошло примерно в 800 г. н. э.
В тоне, вполне внушающем доверие, этот эпизод излагается в недатированном письме Тимофея I (726?—819?), несториано-христианского патриарха Селевкии — Ктесифона, города близ Багдада, Сергию, митрополиту Эламскому. Когда немецкий востоковед Оскар Браун в 1901 г. опубликовал это и другие сирийские письма Тимофея в одном немецком журнале, это не вызвало практически никакой реакции. Но половиной столетия позже, в 1949 г., давно забытая статья привлекла внимание другого немецкого ученого, Отто Эйсфельдта, который немедленно переиздал ее. Вот так мир узнал об этом удивительном предвосхищении открытия свитков Мертвого моря примерно на тысячу и сто пятьдесят лет.
Было ли это просто совпадением, любопытным, но в других отношениях несущественным? Имеется ли здесь какая-нибудь связь с современной находкой? Знаем ли мы, что именно за рукописи были найдены в 800 г. и что с ними произошло? Мы не располагаем, к сожалению, ничем, кроме сообщения несторианина, но в этом сообщении можно найти немало важнейших указаний. Тимофей упоминает в своем письме, что ему рассказали об этом открытии новообращенные в христианство евреи из Иерусалима. По их словам, книги были извлечены из "скального жилища" за десять лет до того. Их было "очень много", и они включали, по-видимому, как канонические, так и неканонические тексты. В числе свитков было более двухсот гимнов, определяемых как "Псалмы Давида". Тимофея главным образом интересовало, нет ли в числе библейских текстов таких отрывков из Ветхого Завета, которые цитируются Новым Заветом, но в то же время "нигде в нем (то есть в Ветхом Завете) не встречаются — ни у евреев, ни у христиан". Еврейский информатор патриарха, "писец, хорошо начитанный" в древнееврейской литературе, услужливо (он, должно быть, имел невероятную память и замечательные способности к восприятию) уверял его, что в числе найденных в пещере рукописей такие отрывки действительно есть. Но, вполне естественно, Тимофею хотелось получить более веские подтверждения этого. Как он сообщает своему другу, он писал об этом "благородному Габриэлю, а также Шувалемарану, митрополиту Дамасскому", однако не получил ответа. Он заканчивает свое письмо унылой ногой: "Нет подходящего человека, которого я мог бы послать. Это как огонь в моем сердце, пылающий и пышущий у меня в ребрах".
Интересно отметить, что Тимофей также задумывался над происхождением и временем создания "пещерной библиотеки" и над причинами помещения в ней свитков. Всякий, кто копался в громадной литературе о свитках Мертвого моря, вспомнит, что ведь это один из наиболее волнующих вопросов и в числе порожденных последними открытиями. Тимофей считал, что он знает ответ: книги из пещеры были помещены туда пророком Иеремией либо Барухом, которые, будучи уведомлены "через Божественное Откровение" о предстоящем завоевании и изгнании, спрятали священные писания "в скалах и пещерах… чтобы их не унесли грабители". Когда евреи возвратились из вавилонского плена, тех, кто спрятал свитки, уже не было в живых, и о тайнике забыли. Тимофей приписывает захоронение свитков пророкам, основываясь, вероятно, на упоминании в Книге пророка Иеремии (32,14) о "глиняных сосудах", в которые помещались книги, "чтоб они оставались там многие дни". Будь это так, из этого следовало бы, что эти свитки были найдены помещенными в кувшины, как впоследствии свитки из кумранской пещеры I.
Когда пещерные находки 800 г. привлекли внимание ученых середины XX столетия, они тут же получили подтверждение на основе других (косвенных) данных. Многообразные и до тех пор отчасти загадочные явления в свете этих утерянных текстов получили теперь свое объяснение.
Как мы говорили, еврейская секта караимов возникла в конце VIII в. в Месопотамии. Быстрому росту ее в IX и X вв. ученые прежде не могли найти правдоподобного объяснения. И самое удивительное: каирская гениза явила свидетельства того, что в этот период она стала главенствующей сектой в самом Иерусалиме, несмотря на мощную оппозицию со стороны раввинистского жречества. В IX и X вв. секта явно обогатилась новым арсеналом идей и аргументов, который, вне всякого сомнения, обнаруживает совершенно замечательные сближения с идеологией цадокитских фрагментов, входящих в "Дамасский документ". В караимских текстах этого времени мы наталкиваемся на определенно сектантские взгляды, подобные отраженным в "Дамасском документе" и нигде не засвидетельствованные в более ранней караимской или раввинской литературе. Ни с того ни с сего караимские авторы вдруг начинают открыто обращаться к саддукейским (или цадокитским) сочинениям. И их враги, раввины-талмудисты, нападая на них, прямо называют их цадокитами.
Факты говорят сами за себя. В это время был возрожден старый сектантский календарь с его особым порядком праздничных дней; он был идентичен календарю неканонической "Книги юбилеев" (кстати, это один из текстов, наиболее обильно представленных в числе кум-ранских свитков) и "Дамасского документа". Другие четкие соответствия обнаруживаются в определенных брачных, разводных и очистительных ритуалах, а также в правилах диеты. Эти реформы, о чем с ликованием сообщают караимские авторы, оказали некоторое влияние даже на их противников-раввинистов в Иерусалиме, которые и сами частично их приняли. Возможно, наиболее ярко воздействие древних сектантских концепций демонстрируется упоминанием в караимском тексте IX в. Учителя Праведности — центральной фигуры в эсхатологии Мертвого моря и Дамаска, о которой, как мы теперь знаем, не вспоминали на протяжении многих веков. Свидетельства легко можно было бы умножить. Но они и без того достаточно убедительно говорят о непосредственном воздействии цадокитских текстов на караимское учение и о вероятности того, что новые источники в огромной мере укрепили веру караимов в свои силы и их религиозный авторитет. Но каким образом караимы заполучили эти древние тексты, которые, очевидно, в течение веков оставались недоступными?
Человеком, который всецело посвятил себя этой проблеме и весьма энергично содействовал ее решению, был Пауль Э. Кале, англо-немецкий ученый, специалист по Ветхому Завету, долгое время также ревностно изучавший материалы генизы. Он писал: "Вопрос о том, как они (караимы) достали такие тексты, представляет настоящую проблему. Саддукеи были рассеяны в период разрушения Храма [40], а караимское движение зародилось только в VIII в. Таким образом, передача учения саддукеев должна была осуществиться литературным путем. Но какая при этом могла быть использована литература? Все тексты, относящиеся к литературе саддукеев, были уничтожены раввинами… Недоставало связующего звена". По мнению Кале — а большинство ученых сейчас разделяют эту точку зрения, — не могло быть сомнений в том, что тексты попали в общину караимов Иерусалима из пещерного хранилища, описанного Тимофеем I. Дата открытия, около 800 г. н. э., прекрасно согласуется с данными хронологии о периоде подъема движения караимов.
Кале и его коллеги усердно искали и наконец нашли новые подтверждения в работах нескольких караимских и других писателей того времени. Основным источником их является живший в X в. караим с благозвучным именем Киркисани (Якуб ал-Киркисани), выдающийся писатель, занимавшийся толкованием караимского Закона и написавший историю еврейских сект. В ней он упоминает о так называемых "магарийя" (арабское слово, означающее "люди пещер"), которых он помещает в истории после фарисеев и саддукеев, но перед христианами. Он объясняет, что они получили это имя потому, что их книги были найдены в пещере. (Название, очевидно, было дано им людьми, которые заново их открыли, и не представляет собой их настоящего имени.) Возможность соотнесения этих "людей пещер" с документами, найденными около 800 г. близ Иерихона, становится еще более вероятной благодаря перечислению Киркисани некоторых из их сочинений, среди которых важнейшими являются Книга Цадока и "много необычных комментариев к Священному Писанию". Дополнительная информация о той же секте и о пещерных находках дается караимскими авторами Мирваном и Нахавенди и даже извлекается из переписки еврейского государственного деятеля, жившего в мавританской Испании, с правителем хазар (уйгуро-тюркская народность Южной Руси, обращенная в иудаизм и основавшая могущественное государство).
Мусульманский писатель Шахрастани (1071–1153) также упоминает о "пещерной секте" и в унисон с Киркисани датирует ее начало "четырьмя веками прежде Ария", т. е. примерно I в. до н. э. — временем, если читатель помнит, почти совпадающим со временем, к которому Шехтер относил составление "Дамасского документа". И уже в XIII в. Моисей Таку, восточный раввин, вспоминал, "что еретик Анан (вождь караимов) и его друзья часто записывали ереси и ложь и прятали их в земле. Потом они извлекали их на свет и говорили: "Вот то, что мы нашли в древних книгах". Описание раввина явно представляет собой основанное на предубеждении переиначивание караимского предания, согласно которому некоторыми из своих основных положений они обязаны забытым книгам, "извлеченным из земли".
Отрывок из комментария на Книгу Ханаккука.
Из кумранских пещер
А известно ли нам, из какой пещеры была извлечена эта первая партия рукописей? Хотя все это и может выглядеть как детективный фильм, есть веские основания полагать, что пещера Тимофея есть не что иное, как кумранская пещера I, где бедуинский мальчик-пастух Мухаммад ад-Диб нашел первые одиннадцать [41]свитков Мертвого моря. Эти свитки, вероятно, были только малой долей первоначального захоронения, если судить по обломкам сорока с лишним разбитых кувшинов и по множеству фрагментов, представлявших, возможно, в сумме от ста пятидесяти до двухсот свитков. Разбросанные повсюду фрагменты, несомненно, были остатками извлеченных ранее свитков; сверх того, многие свитки могли быть вынесены из пещеры неповрежденными, в результате чего от них не осталось никаких следов.
Несколько обстоятельств подкрепляют этот довод. Во-первых, из письма Тимофея явствует, что то, первое, извлечение свитков было операцией большого масштаба.
Далее, состояние изломов разбитых кувшинов и рваных краев многочисленных кожаных фрагментов указывает на то, что "ограбление" имело место очень давно. И наконец, тематика рукописей — древнееврейские ветхозаветные тексты, комментарии, гимны и другие неканонические сочинения — вкупе с благоприобретенным сектантским характером некоторых рукописей IX в. предполагает тесную близость, если не общее происхождение кумран-ских свитков и текстов Тимофея. Даже то, что животное попало в пещеру через отверстие в ее своде, а не через вход на уровне земли, вполне соответствует физическому облику пещеры Кумран I.
Впрочем, приходят на ум и несколько доводов против. Как случилось, что не были найдены материальные следы людей, побывавших здесь в IX в.? Кое-кому сегодня кажется странным, что энергичные охотники за рукописями, жившие тысячу сто пятьдесят лет назад, оставили нетронутыми главные свитки, разве что те были спрятаны в каком-нибудь углу и их среди общего возбуждения просто не заметили. Эти моменты, возможно, ослабляют доводы в пользу того, что пещера, открытая в 800 г., есть на самом деле Кумран I, но они ни в коей мере не отвергают вероятность связи между манускриптами 800 г. и содержимым кумранских пещер в целом. Сейчас, когда там же открыто куда больше пещер с манускриптами и в каждой из них были найдены фрагменты подобных текстов, пещера IV или VI, так же как и почти любая другая, может быть идентифицирована как пещера Тимофея. И в этом районе есть, возможно, какое-то число еще не исследованных пещер, которые могут содержать рукописи и одна из которых может оказаться как раз той самой пещерой.
Можем ли мы сказать что-нибудь, хоть в самых общих чертах, о том, что за рукописи были взяты из пещеры во времена Тимофея? Снова мы обладаем лишь косвенными свидетельствами, если не считать весьма туманных указаний, содержащихся у самого Тимофея и у Киркисани. Мы знаем определенно, что, как и в случае с теперешними свитками Мертвого моря, там были и канонические и неканонические тексты. "Более двухсот "Псалмов Давида"", вероятно, близки к кумранским псалмам благодарения, точно так же как слова Киркисани о "необычных комментариях" напоминают о найденном в Кумране I "Комментарии Хаваккука" с его довольно произвольными толкованиями Священного Писания.
Нет сомнения, что среди текстов Тимофея должно было быть много цадокитских сектантских текстов. Киркисани не только ссылается на "Книгу Цадока" как один из пещерных текстов, но в своей собственной "Китаб аль-Анвар", или "Книге светочей", он излагает взгляды секты, воспринятые им, очевидно, из "Книги Цадока". Эти верования и обычаи фактически согласуются с "Дамасским документом".
Теперь мы наконец имеем правдоподобное объяснение таинственного присутствия "Дамасского документа" в каирской генизе. Как впервые предположил Кале, дамасские или цадокитские фрагменты должны представлять собой поздние списки оригиналов из иерихонских пещер. Открытие схизматических текстов около 800 г. н. э. объясняет, почему эта сектантская литература столь внезапно оказала такое влияние, будучи бесплодной и забытой многие столетия. Во времена Тимофея эти тексты обрели новую жизнь: их переписывали, распространяли, комментировали. А после этого они снова были осуждены и изъяты из обращения. Большинство их было вообще уничтожено, но фрагменты "Дамасского документа" уцелели в генизе Старого Каира и дожили до открытия их Шехтером.
Именно открытие свитков Мертвого моря настоятельнее, чем любые ссылки в текстах IX или X в., подвинуло ученых к осознанию связи между цадокитскими фрагментами из генизы и древнееврейской сектантской литературой; оно также устранило все сомнения в подлинности и первичной среде создания "Дамасского документа". Если кто-то еще и нуждался в добавочных вещественных доказательствах, то таковые были представлены многочисленными обрывками старых списков того же самого документа, которые все без исключения были обнаружены в кумранских пещерах III и IV. Тесная связь между цадокитскими фрагментами Шехтера и сектантскими текстами на свитках Мертвого моря была осознана с самого начала, еще до того, как возникла мысль об их общем "пещерном" происхождении. Теперь, собственно говоря, стало правилом включать "Дамасский документ" в большинство изданий или переводов текстов Мертвого моря. Почти во всех бесчисленных книгах, посвященных пещерной литературе Кумрана, "Дамасский документ" использован, чтобы пополнить то немногое, что мы можем заключить о происхождении и историческом фоне создания кумранских текстов. Каждая из этих двух находок, связанных, очевидно, общностью происхождения и содержания, но различающихся по обстоятельствам их передачи и повторного открытия, сама по себе помогала нам лучше понять существо другой.
"Дамасский документ" и свитки Мертвого моря отражают то же самое религиозное течение, те же самые особенности языка (по сути дела, некоторые отрывки совпадают слово в слово), те же доктрины и правила; и оба эти источника содержат много свидетельств о группе, в которой нельзя не усмотреть одну и ту же секту, хотя, возможно, представленную и на различных стадиях своего развития. Тождественность этой секты кумранской общине, средоточием которой был кумранский монастырь Хирбет, сейчас твердо установлена, хотя имя ее пока и не определено. Идентификация секты с эссенами (ессеями), возможно, и правильна, если только допустить, что "эссены" — это общее название для множества различных пуританских групп, которые, подобно зелотам [42]и фарисеям, произошли от более ранних хасидеев и одно время имели больше общего с апокалиптически настроенными фарисеями, чем с саддукеями, известными нам по Новому Завету.
Дохристианская Палестина, подобно, может быть, Англии XVIII в., о которой Вольтер заметил, что в ней существует столь же много вероисповеданий, сколько во Франции известно приправ, была самым настоящим рассадником сект, представляющих умопомрачительное разнообразие. Один раввин, живший в III в., сказал: "Израиль не был рассеян до тех пор, пока он не раскололся на двадцать четыре секты еретиков". Раввинский конформизм и расчетливое уничтожение литературных свидетельств, к сожалению, затуманили картину. Гениза и кумранские тексты показали нам в различных аспектах богатую сектантскую традицию, составляющую часть разнородной иудейской религиозной среды, в недрах которой зародилось христианство. Было бы, однако, неосмотрительным, может быть даже ошибочным, утверждать, что кумранская община предвосхитила христианство в какой-либо из его основных доктринальных или эсхатологических идей.
"Дамасский документ" был не единственным текстом, извлеченным из иудейской пещеры иерусалимскими евреями в 800 г. Что произошло с другими рукописями? Здесь мы можем только делать предположения. По всей вероятности, большинство из них, если не все, рано или поздно были преданы заточению в генизах. Те, что не попали в руки караимов, или те, которые пришлись не по душе даже караимам, были, вероятно, снова вскоре захоронены. Немногие уцелевшие рукописи пропали — должно быть, одновременно с упадком караимской секты.
Даже ветхозаветные рукописи вряд ли встретили хороший прием у раввинов, которые были нетерпимы ко всему, что могло бы вступить в противоречие с твердо установленным каноническим текстом, принятым синодом Ямнии (близ Яффы) около 90 г. н. э. Это вполне согласуется с общей практикой евреев, которые в целом выказывали мало почтения к древним рукописям и выбрасывали документы, как только они оказывались достаточно изношенными, приняв меры, разумеется, чтобы обеспечить точную передачу текста. Примеры подобного пренебрежения к древним книгам являл подчас даже сам Шехтер. Говорят, что от его грубого обращения с рукописями генизы библиотекаря Кембриджского университета бросало в дрожь. Поэтому можно хорошо представить себе судьбу кумранских свитков, попади они только в руки ортодоксальных иудеев.
Несмотря на то что "Дамасский документ" является единственным, о происхождении которого из кумранских пещер мы можем говорить вполне определенно, довольно убедительные доводы можно привести и в отношении древнееврейской версии "Премудрости". Эта рукопись, найденная в генизе, содержит аналогичные ссылки на ца-докитов, и текст ее по списку генизы теперь также прекрасно дополняется рядом фрагментов из пещер Кумрана.
Пещерному братству импонировали в основном апокрифические и псевдоэпиграфические сочинения; возможно также, что некоторые из них были написаны самими его членами. Вероятность того, что после 800 г. подобного рода тексты, извлеченные из пещер, снова попали в обращение, не может быть исключена. Англоеврейский ученый Хью Дж. Шонфилд выдвинул интригующую гипотезу, согласно ей некоторые книги были извлечены из пещер и "в списках либо в переводах достигли в конце концов России, где они, возможно, отчасти представлены такими старославянскими текстами, как "Книга тайн Еноха", "Апокалипсис Авраама", "Заветы двенадцати патриархов", "Видение Исайи", "Жизнь Адама и Евы", и другими" [43].
Не кажется ли удивительным то, что мир должен был ждать более чем тысячу лет после находки 800 г., пока в том же районе совершенно случайно не были открыты новые рукописи? На это можно ответить, что мир на протяжении всего этого времени вовсе и не ограничивался одним ожиданием. Почва Египта отнюдь не начала внезапно являть на свет папирусы именно в XIX в., когда на сцену выступили египтологи и папирологи. Было бы нарушением всех законов вероятности, если бы феллахи в поисках себаха в течение тысяч лет не выкопали бы случайно папирусных отрывков или свитков. Но за отсутствием интереса к ним не было и рынка сбыта. Эти находки не были подлинными открытиями, и драгоценные древности бесцеремонно выбрасывались. Открытие никогда не бывает просто счастливой находкой; оно требует понимания значимости найденного объекта, а также определенной культуры, готовой воспринять все, что способно обогатить ее знаниями.
Племя таамире скиталось по Иудейским холмам начиная с XVII в., а до них здесь были и другие бедуины. Евреи, пришедшие в Ханаан до и во время Исхода во II тысячелетии до н. э., были их отдаленными родичами. Пастухи и козопасы располагались на ночлег в тех самых пещерах, в которых теперь мы находим остатки древних рукописных хранилищ. В некоторых из пещер, скрывавших фрагменты древнееврейских свитков, были обнаружены арабские тексты гораздо более позднего времени (XIV и XV вв.). Связанные с пещерами предания разных районов мира (например, Альтамиры в Испании) повествуют о провалившихся в отверстие пещеры животных и о добром пастухе или любящем хозяине, который, идя на выручку, забирается в пещеру и случайно обнаруживает спрятанные в ней предметы. Собственно говоря, после обнаружения пещеры I некий старик таамире обратил внимание своих соплеменников на одну отдаленную пещеру, в которую он забирался несколькими годами ранее, преследуя раненую куропатку. Это была пещера IV, которая оказалась, быть может, самой богатой из всех и, по мнению ряда специалистов, была главным хранилищем библиотеки кумранской секты.
Известно, что бедуины-таамире, издавна рассматривавшие эти Иудейские холмы как свое личное владение, исследовали и эксплуатировали богатства пещер еще до открытия рукописей Мертвого моря. В начале 1920-х годов они собирали в Вади-Мураббаат веками скапливавшийся здесь помет птиц и летучих мышей, с тем чтобы продавать его еврейским колонистам. Удобрение частично добывалось в тех пещерах, где впоследствии были обнаружены рукописи. Когда позднее бедуинов спрашивали, не попадались ли им на глаза какие-либо исписанные листки или свитки, они ничего подобного припомнить не могли. Главным делом для них в те дни был сбор удобрения, так к чему им было запечатлевать в памяти вид каких-то изгрызенных крысами обрывков текстов, о рыночных возможностях которых они не имели ни малейшего понятия? Вполне вероятно, как предположил Ролан де Во, что цитрусовые плантации евреев близ Вифлеема в то время удобрялись обрывками манускриптов.
Живые и предприимчивые таамире, неустанно рыскавшие в поисках легкого заработка, узнали цену древностям задолго до того, как перед ними забрезжила воз-можностъ выгодного сбыта неприглядных исписанных обрывков. В 1930-40-х годах это племя вело в Вади-эль-Тин, милях в трех к югу от Вифлеема, систематические поиски доисторической бронзы, которую они сбывали торговцам древностями. Только завязав с таамире дружеские отношения, французские археологи смогли в конце концов установить местонахождение этого богатейшего источника предметов искусства бронзовой) века.
И по сей день бедуины рыщут по холмам в поисках пещер, усердно высматривая в них древние изделия, а затем сбывают свои находки на вифлеемском рынке. Ученые-археологи идут лишь по стопам бедуинов, и в целом на их долю остаются, за редкими исключениями, только второстепенные открытия. Все известие пещеры, кроме одной-единственной, оказались прежде вскрытыми и опустошенными бедуинами. Иорданское правительство молчаливо смирилось с этой практикой и даже предоставило таамире своего рода монополию на торговлю рукописями, закрыв доступ в этот район другим бедуинам. Трудно сказать, можно ли было решить проблему каким-либо иным способом, поскольку научным учреждениям недостает средств для проведения длительных и систематических разысканий, и то же можно сказать об иорданском правительстве, которое уже проявило себя достаточно щедрым. Разумеется, европейским ученым не по плечу соперничать в физической выносливости и ловкости с бедуинами-таамире, которые знают холмы как свой собственный дом и которых, поскольку они уже единожды вкусили богатства, никакая сила не заставит воздержаться от подобных "операций".
Естественно, большое количество ценных археологических данных, касающихся стратиграфии, идентификации на месте находки, способа захоронения и т. д., оказывается безнадежно утеряно. Более того, некоторые рукописи бывают повреждены вследствие неосторожного обращения, и их приходится покупать у бедуинов по высоким ценам через сомнительных посредников.
История открытия свитков Мертвого моря была рассказана в нескольких приправленных сенсационностью мелодраматических версиях. Сама по себе волнующая, эта история развертывалась большей частью на фоне кровавой войны в священном городе Иерусалиме, в которой едва ли не воспроизводились события апокалиптической "войны сынов света против сынов тьмы", описанной в одном из свитков.
Многие детали ставшего традиционным описания, в особенности те, которые относятся к открытию первой пещеры, не говоря уже об обстоятельствах продажи свитков, весьма сомнительны. По мнению скептиков, которое наиболее шумно отстаивал профессор Соломон Цейтлин из филадельфийского колледжа Дропси, эта история выглядела чересчур уж гладкой. Например, существуют значительные расхождения между версиями, рассказанными Дж. Ланкестером Хардингом, Джоном М. Аллегро и Милларом Берроузом, хотя все они имели непосредственное отношение к событиям в Палестине. Ученые выявили несколько неправдоподобных деталей и противоречий, а некоторые заявили, что свитки подделаны или изготовлены в Средние века, и, исходя из этого, стремились опровергнуть как можно больше предоставленных свитками данных.
В течение долгого времени ни одному из европейцев не удавалось увидеть Мухаммада ад-Диба, мальчика-первооткрывателя. Да и существовал ли он в действительности? Что он искал — овцу или козу? Зачем он швырнул камень — чтобы потревожить заблудившееся животное или просто от избытка мальчишеской энергии? Может быть, он услышал грохот разбивающихся кувшинов и поразился этому? Зашел ли он в пещеру один и сразу же? Или он вернулся сюда с одним из двух своих товарищей-пастухов? Поделили ли они добычу? И так далее. Путаницу усугубил сирийский митрополит Мар Афанасий Иешуа Самуэль, который однажды заявил, что рукописи, демонстрируемые им иностранным специалистам, долгое время до того покоились в библиотеке его монастыря.
Через несколько лет после этого открытия, в 1956 г., кому-то удалось найти Мухаммада ад-Диба в Вифлееме и заставить подробно рассказать о своем приключении. Его слова были записаны каким-то арабом-писцом, и документ был подписан Дибом, а затем опубликован и переведен на английский знаменитым американским ориенталистом Уильямом X. Браунли, одним из членов той первоначальной группы американских ученых при Американской востоковедной школе в Иерусалиме, которая опубликовала свитки Мертвого моря, являвшиеся собственностью сирийского митрополита. Эта "авторизованная версия", как ничто другое, запутала дело еще больше. Удивительнее всего было то, что Диб теперь объявил, будто находка была сделана в 1945-м, а не в 1947 г., как все до сих пор считали. По его словам, вскрывая сосуды в пещере, он рассчитывал найти в них клад, а увидев всего лишь кожаные свитки, всерьез стал раздумывать, стоит ли вообще их брать. Но он и его товарищи нуждались в новых кожаных ремнях для своих сандалий, так что в конце концов он их взял. Нам остается только гадать, почему материал был — если действительно был — сочтен непригодным для такого употребления. Как бы то ни было, теперь Диб утверждал, что по возвращении он положил свитки в "кожаную сумку и повесил ее в углу". Там они оставались, очевидно, более двух лет, пока его дядя не заметил их и не попросил себе, для того чтобы показать одному вифлеемскому торговцу древностями.
Воспоминания Диба значительно отличаются от более ранних версий и не полностью согласуются с некоторыми достоверно установленными фактами. Скажем, он заявил, что кувшинов было только десять и он все их разбил прежде, чем в последнем обнаружил свитки (вряд ли Шехерезада придумала бы что-либо удачнее). Два кувшина, сказал он, были наполнены красными семенами. Но никаких следов этих семян не было обнаружено. Мы также знаем, что профессор Иерусалимского университета Сукеник приобрел совершенно неповрежденные кувшины из этой же самой пещеры. Хотя на доктора Браунли произвели впечатление "почти библейская прямота и прелесть этого лаконичного описания", он, однако, охотно допускал, что эта история "приобрела ясность и изящество в процессе частого повторения".
И это вновь возвращает нас к вопросу о том, достоверно ли описание обстоятельств этого открытия в целом и были ли свитки действительно взяты из кумранской пещеры I. Однако, несмотря на противоречия в частностях, все серьезные сомнения были рассеяны, когда объединенная экспедиция под руководством Дж. Ланкестера Хардинга, директора иорданского Департамента древностей, и доминиканца, преподобного отца Ролана де Во, директора французской Доминиканской школы библейских и археологических исследований в Иерусалиме, совместно с бельгийским наблюдателем от ООН и представителем Палестинского археологического музея Иордании обнаружила пещеру. Это было в 1949 г. Уже было упущено драгоценное время, в течение которого как бедуины, так и сирийский митрополит вели нелегальные раскопки самым варварским образом. Последний даже прорубил новый вход в пещеру, имевшую естественное отверстие только в своде.
В том, что это была действительно та самая пещера, сомневаться было нельзя. Современные грабители оставили неопровержимые улики. Нашлась здесь, например, случайно оброненная зажигалка, владелец которой был известен. Тут же были недавно разбитые кувшины и множество фрагментов рукописей — путем тщательного просеивания почвы их было собрано около шестисот, — часть которых подходила к свиткам, извлеченным ранее. Ученые нашли также кусочки полотна, в которые были завернуты свитки. Эти кусочки оказались неоценимыми для последующего установления возраста манускриптов с помощью радиоактивного углерода-14.
Это было началом археологии Кумрана. Местонахождение и бесспорная древность пещерной библиотеки были установлены. Следующим шагом были проводившиеся также Л. Хардингом и Р. де Во раскопки расположенных по соседству развалин Хирбет-Кумрана, которые после нескольких пробных раскопов были идентифицированы как монастырский центр сектантской общины, скорее всего ответственной за написание и захоронение пещерных свитков. Что касается возраста свитков, палеография и археология исключали средневековое или более позднее происхождение. Только профессор Цейтлин и несколько его учеников оставались непреклонными. Разнородность содержания пещерных документов, как и отсутствие в текстах шаблонного единообразия, определенно говорит за то, что они должны были быть созданы до конца I в. н. э., то есть до того, как раввины окончательно определили круг текстов и их каноническую форму, а варианты, не укладывающиеся в эти рамки, объявили запретными.
Споры о смысле и значении свитков Мертвого моря продолжают бушевать до сих пор. Они затрагивают такие вопросы, как характер, вероучение и устав кумранской общины; возраст свитков; дата их написания и захоронения; конкретный исторический облик Нечестивого Священника и Учителя Праведности; отношение ессеев к членам кумранской общины; предполагаемое изгнание секты в Дамаск; возможные связи с Иоанном Крестителем, Христом и его братом Иаковом, и самый жгучий из всех вопросов: была ли и в какой мере кумранская секта предшественницей христианства? Имели ли близкое сходство ее мессианские воззрения, ритуал, догма и теология с раннехристианскими? Не оспаривается ли этим уникальность Иисуса? К сожалению, пока эти вопросы ставились либо с излишней сенсационностью ("самые сильные споры в христианском мире со времен Дарвина", "Кумран скорее, чем Вифлеем, колыбель христианства"), либо с неподобающей робостью.
Одна из выдающихся особенностей свитков заключается в том, что это еврейские рукописи, примерно на тысячу лет древнее любых известных ранее. Вполне возможно, это их самый весомый вклад в науку. Они уже пролили много света на историю древнееврейского языка, на древнееврейскую палеографию (науку, только теперь занявшую подобающее ей место), на становление библейского канона и на традицию передачи текстов Ветхого Завета. При первом ознакомлении со свитками было объявлено, что они почти полностью совпадают с официально признанным масоретским текстом Священного Писания. Но теперь этого утверждать уже нельзя. Более детальное изучение вкупе с обнаружением новых фрагментов ясно показало, что масоретский текст, хотя сам по себе и достаточно авторитетный, отражает лишь одну из нескольких традиций. Он не является полноправным наследником некоего единственного "архетипа". Например, некоторые отрывки древнееврейских текстов, найденные в пещерах, заставляют отдать предпочтение скорее греческой "Септуагинте", нежели масоретской форме текста. В сущности, то, что иногда выдвигалось как предположение, теперь твердо установлено, а именно: "Септуагинта" базируется на каком-то надежном и авторитетном варианте древнееврейского текста, который во многих случаях можно предпочесть масоретскому. То же самое можно сказать и в отношении самаритянского "Пятикнижия". Значение этого для новых изданий Ветхого Завета и переводных версий трудно переоценить. Это вполне может породить совершенно новую отрасль текстологической критики, которая завладеет умами будущих поколений ученых, изучающих Ветхий Завет. Собственно говоря, поскольку становятся доступными все новые древние тексты, нам, возможно, придется позаимствовать концепцию семейств рукописей у греческого Нового Завета для того, чтобы систематически проследить взаимоотношения между вариантами текста и прийти к обоснованным редакторским решениям.
Как редакторы масореты, возможно, и отлично справились со своей задачей, но в том, чтобы обеспечить своему ветхозаветному тексту монополию, беспощадно подавляя соперников, они далеко не столь же преуспели. В 1939 г. сэр Фредерик Кеньон писал в третьем издании своей книги "Наша Библия и древние рукописи": "Нет, разумеется, ни малейшей вероятности, что мы найдем когда-нибудь рукописи древнееврейского текста, восходящие к периоду, предшествующему формированию текста, который мы называем масоретским (то есть до II в. н. э.)". Но ни в чем нельзя быть уверенным заранее. Похоже, что и новые данные, до сих пор извлеченные из рукописей Мертвого моря, будут отодвинуты в тень многочисленными дальнейшими открытиями. Даже и материал, добытый ранее, как, например, тексты, взятые из каирской генизы, на протяжении еще многих лет не будет полностью введен в обиход, а затем пройдет еще значительно большее время, прежде чем его усвоит наука. К тому времени интерес широкой публики, вероятно, сойдет на нет, а вместе с тем выведутся и завышенные требования, и чрезмерно рискованные оценки.
Между тем со времени расчистки пещеры I неуклонно совершались новые находки, хотя и не вызывавшие своим появлением такого шума. Выражение "свитки Мертвого моря" теперь утратило свой смысл, если понимать под этим только кожаные свитки из пещеры I, которые почти целиком были приобретены Иерусалимским университетом и израильским правительством. Взамен был предложен новый термин — "свитки Кумрана", — вызванный к жизни ценными находками еще в десяти или одиннадцати пещерах, особенно в пещере IV с ее десятками тысяч фрагментов и в пещере III, где был найден знаменитый медный свиток (фактически две отдельные медные полосы), содержавший опись сказочных кладов драгоценного металла с указанием местонахождения тайников. Предложенным названием подчеркивается также связь всех свитков из этих пещер с сектантским центром в соседнем Хирбет-Кумране.
Но и термин "кумранские свитки" теперь нельзя признать точным. В четырех пещерах Вади-Мураббаат, в 11 милях южнее кумранской пещеры I, были сделаны почти столь же значительные открытия. Документами из этих пещер представлены тексты огромного диапазона: от древнееврейского папирусного палимпсеста VI (а возможно, и VIII) в. до н. э., выполненного древним "финикийским" курсивным письмом, до свитка "малых пророков" и личных писем, по-видимому, самого Шимона бен Косебы, или Бар Кохбы, вождя восстания евреев во II в. н. э. и самозваного мессии. Удивительно, что письма написаны на древнееврейском, о котором думали, что к этому времени он стал уже мертвым языком. В числе документов Мураббаата есть также арамейские, греческие, даже латинские и арабские фрагменты. Систематические раскопки этих пещер, вновь возглавленные Хардингом и де Во, показали, что люди обитали в них еще за четыре тысячи лет до нашей эры. В них было обнаружено много хорошо сохранившихся орудий бронзового века.
Ни одна из рукописей, извлеченных из пещер Мураббаата, не имеет никакой связи ни с кумранской общиной, ни с третьим районом раскопок — Хирбет-Мирдом, развалинами христианского монастыря, также открытого неутомимыми таамире. В ходе раскопок здесь были обнаружены главным образом византийско-христианские документы. В целом они датируются значительно более поздним временем, чем кумранские и основная масса мураббаатских рукописей. Но все же эти находки являются достаточно ценными и включают в себя части греческих унциальных кодексов Ветхого и Нового Завета наряду с греческими и арабскими папирусами нелитературного содержания, а также с одним фрагментом "Андромахи" Еврипида. Между тем в 1960-х гг. израильский археолог генерал И. Ядин открыл новую многообещающую рукописную жилу в Масаде — крепости, возвышающейся над западным берегом Мертвого моря. Помимо этих объектов бедуины как будто бы нащупали и другие источники, местонахождение которых они пока хранят в тайне.
Таким образом, свитки Мертвого моря открыли совершенно новую фазу в палестинской археологии. По своей тематике, датировке и источникам урожай рукописей теперь уже вышел далеко за рамки территории Кумрана и чисто сектантской идеологии. Документы продолжают поступать из источенных пещерами утесов со всех концов Иудейской пустыни. Отдельные находки случаются и на юге, в пустыне Негев.
Молчаливое допущение, что нечего рассчитывать найти рукописи любого возраста и значения в Палестине, "климат и история которой в равной мере неблагоприятны для сохранности документов", оказалось безосновательным. "Величайшее открытие рукописей Нового времени", как назвал его Уильям Ф. Олбрайт, и, кроме того, наиценнейшее в археологии иудейской Библии было сделано именно на палестинской земле. Неожиданно Святая земля была вознесена на один уровень с Египтом как сокровищница пергамена и папирусов.
Трудно решить, какие документы из Иудейской пустыни представляют наибольший интерес: превосходно сохранившийся свиток Исайи, сектантский устав, таинственный медный свиток, рукописи пророка Даниила (только несколькими десятилетиями отделенные от времени создания оригинала), подлинные письма древнееврейского героя Бар Кохбы или, что было самым неожиданным и самым древним, палимпсест из до сих пор не освещенного палеографически и документально периода древнееврейских царей. И все это, может быть, еще только начало.
Загадка Шапиры
Меж истиной и ложью только нить; Где ж тот алиф, которым бы открыть Сумели мы к Сокровищнице путь… [44] Омар Хайям"Покой ученого мира был нарушен спорами по поводу относительной ценности свитков Мертвого моря, один из которых был объявлен подделкой семьдесят лет назад". Такое сообщение передал корреспондент "Нью-Йорк Таймс" с бурно протекавшего 92-го заседания Общества библейской литературы и экзегезы. Около трехсот ученых-библеистов собрались 27 декабря 1956 г. в помещении Объединенной протестантской теологической семинарии в Нью-Йорке. Президент общества доктор Дж. Филип Хайэтт из Вандербилтского университета упомянул в своем обращении о кожаных свитках, которые М. В. Шапира предложил в 1883 г. Британскому музею, и выразил надежду, что "открытия последних лет" помогут удостоверить подлинность некогда дискредитированных иудейских документов. После Хайэтта слово взял профессор Менахем Мансур, заведующий кафедрой гебраистики и семитологии Висконсинского университета и основной поборник реабилитации Шапиры. Доктор Цейтлин, появившийся в зале только тогда, когда Мансур уже заканчивал свой обзор рукописей Шапиры, обрушился на основные положения докладчика, с жаром отрицая подлинность этих текстов, и заседание превратилось в ад кромешный. Председатель был вынужден объявить, что вопрос исчерпан, и закрыть заседание. Тем не менее бурные дебаты по поводу рукописей Шапиры были продолжены в кулуарах и с тех пор ведутся с небывалым жаром и фанатизмом на страницах всевозможных научных журналов. В дискуссии о рукописях Шапиры наглядно выявилась основная проблема, касающаяся практически всех рукописных находок.
Всякий раз, когда появляется сообщение о находке древних рукописей, возникает вопрос: подлинны ли они? Большинство великих археологических находок встречало скептическое отношение со стороны какой-то части представителей ученого мира. Сомнения могут не исчезнуть и на протяжении целых десятилетий. Бывают случаи, когда они, на удивление легковерной публике, из тлеющей искры вдруг разгораются вновь в грозное пламя. На самом ли деле эти хваленые вещицы являются свидетелями немой древности? Или это малозначительные свидетельства гораздо более поздней эпохи? Не есть ли их ложная идентификация и датировка всего-навсего плод экстравагантного воображения увлекающегося антиквара? Не были ли они подкинуты плутоватым ученым, желающим просто привлечь внимание или подкрепить фактами взлелеянную им теорию? Может быть, вызывающий всеобщие восторги экспонат просто подделка, которую неразборчивый в средствах торговец ухитрился всучить богатому музею или частному коллекционеру? А может быть, это мистификация, подстроенная какой-нибудь странной личностью, обладающей незаурядным мастерством и сомнительными моральными качествами, для того, чтобы ввести в заблуждение своих коллег и выставить эти ничтожества на посмешище?
Всякий специалист избегает риска прослыть легковерным невеждой. Поэтому признанный авторитет зачастую может хладнокровно отвергать как подделку всякий новый объект, поскольку тот не укладывается в современные рамки наших знаний. Открытия, сделанные неспециалистами, немедленно вызывают подозрения касты профессионалов. Ко всем исследованиям и утверждениям Шлимана представители германской академической археологии, включая прославленных Курциуса и Фуртвенглера, относились с нескрываемым презрением. Но в то же время ни один специалист не хочет пропустить действительно стоящую находку. Ведь она может дать ему возможность обрести бессмертие в науке. Таким вот образом исследователь древностей, терзаясь противоречивыми опасениями, с одной стороны, проглядеть подлинное открытие, с другой — быть вовлеченным в какую-нибудь аферу, может утратить критическое чутье и налететь на Сциллу, пытаясь избежать Харибды.
С другой стороны, подчас уйма достойной восхищения изобретательности и эрудиции тратится на то, чтобы объявить подлинное произведение подделкой. В 1890-х гг. двое ученых ловко продемонстрировали, что "Анналы" Тацита, которые, как считалось, сохранились в одной только средневековой рукописи, были на самом деле составлены их первооткрывателем — Поджо Браччолини. И проделали они это действительно искусно и впечатляюще. Есть вероятность, впрочем, что они были неправы.
Есть сочинения, подлинность которых так и не была окончательно доказана, например некоторые письма Платона, несколько Посланий апостола Павла или великий классический текст китайской традиции "Дао дэ цзин". В отношении их окончательное суждение, возможно, придется отложить. Но никогда нельзя заранее предвидеть момент, в который произведение искусства или литературы, долгое время до того признававшееся за подлинное творение мастера, будет справедливо или незаслуженно заклеймено как подделка. Как бы они нас ни раздражали, мы все же должны быть благодарны скептикам, не склоняющим голов перед репутациями и авторитетами. Но как все-таки отличить подлинное от фальшивого? Ученые не всегда могут позволить себе тянуть с вынесением суждения. Как только открытие стало достоянием гласности, они должны занять какую-то конкретную позицию, хотя, быть может, позднее им и придется пожалеть об этом. А истина зачастую, мороча головы ученым, остается неявной и неуловимой. С другой стороны, "в сколь благородные обличья рядится ложь", как сказал Шекспир!
По счастью, подделка рукописей, для того чтобы быть успешной, т. е. остаться необнаруженной, требует такого редкого сочетания способностей, что берутся за нее относительно немногие. Более примитивным подделкам никогда не удается вводить в заблуждение специалистов в течение длительного времени, а с прогрессом критики текста, палеографии, методов химического и физического анализа производство подделок может скоро стать вымирающим ремеслом. И все же по отношению ко многим рукописям, найденным прежде, вопрос остается открытым. Имя подделкам литературных произведений — легион. До сих пор широко практикуется обман во имя националистического самовосхваления или религиозного фанатизма. Можно сказать, что систематическое изучение рукописей вообще обязано своим зарождением возникшей в позднее Средневековье потребности установить подложность фальшивых "актов" и других "юридических" документов. Эта потребность решающим образом стимулировала становление палеографии — науки, устанавливающей возраст и происхождение письменных текстов. Огромный вклад в развитие критики текста и филологии, да и научного метода как такового, внесли своим разоблачением подложных церковных документов кардинал Николай Кузанский и папский секретарь Лоренцо Валла.
С фальшивками или с неотвязной тенью подозрений в фальсификации мы уже встречались в этой книге почти на каждом шагу. В XIX в. жили такие колоритные деятели, как Константин Симонид и караимский фанатик Авраам Фиркович. И до них, и после них было множество других. Недавние скандалы подобного рода, в том числе разоблачение ванмегереновских подделок Вермера и фальшивых статуй этрусских воинов в нью-йоркском музее Метрополитен, породили значительную настороженность по поводу фальсификации археологических находок и произведений искусства.
Хотя сейчас свитки Мертвого моря получили всеобщее признание как подлинные, было бы ошибкой полагать, что к ним относились так уже с самого начала. Те люди, которым сирийский митрополит впервые показал рукописи, все как один усомнились в их подлинности. Некоторые из них объявили рукописи не имеющими никакой ценности. Заблуждению их способствовало, к несчастью, и то, что епископ внушил им превратное представление о происхождении документов. Сам митрополит Афанасий был все время твердо убежден, что этим рукописям две тысячи лет, хотя его знание как древнееврейского языка, так и рукописей вообще оставляло желать много лучшего. Его вера была внушена не научным предположением, а скорее надеждой на то, что свитки действительно могут представлять большую ценность. И он отчаянно стремился найти подтверждение своим надеждам.
Удача пришла к митрополиту Афанасию, когда он связался с Американской востоковедной школой в Иерусалиме. По воле случая на месте оказался в то время только один молодой ученый-американец. Быть может, именно его юность и относительная неопытность сослужили службу и спасли его от мучительных колебаний по поводу того, что такая находка попросту невозможна. Как бы то ни было, доктор Джон С. Тревер припомнил историю "Папируса Нэша" и послал фотографии рукописей профессору Университета Джонса Хопкинса Уильяму Ф. Олбрайту, который, не колеблясь, рискнул участвовать в деле. Через несколько дней он авиапочтой прислал Треверу ответ: "Сердечно поздравляю Вас с величайшим рукописным открытием Нового времени. На мой взгляд, несомненно, что мы имеем дело с еще более архаичной манерой письма, чем в "Папирусе Нэша"… Совершенно невероятная находка! И, по счастью, в подлинности рукописи не может быть ни малейших сомнений".
Мнение Олбрайта предопределило исход дела. Но оно отнюдь не приостановило нападок на древность и подлинность свитков. Более других упорствовал в этом профессор Соломон Цейтлин. Он неустанно давал понять, что свитки либо подделка, либо, в лучшем случае, документы средневекового происхождения, написанные "совершенным невеждой"; и он выпускал статью за статьей, причем начиная с 1948 г. — в своем собственном журнале "Джуиш Квортерли Ревью", страницы которого гостеприимно предоставлялись и другим авторам, высказывавшим противоречащие общепринятым взгляды на происхождение, подлинность и истолкование пещерных документов. Снова и снова Цейтлин атаковал своих оппонентов, в недвусмысленных выражениях ставя под сомнение их компетентность. Без конца повторяясь, он опять возвращался к обсуждению "легенды о недавних находках в районе Мертвого моря", "воображаемой древности свитков", "пропаганды иудейских свитков и фальсификации истории" и т. д. В 1950 г. он написал длинную, на пятидесяти восьми страницах, статью под названием "Иудейские свитки: раз и навсегда". Но и после он продолжал писать в том же духе. Не удивительно, что, когда Афанасий прибыл в США с целью продать свои рукописи — говорят, что только за одну из них он запрашивал миллион долларов, — он неожиданно встретил настороженное отношение со стороны тех самых американских учреждений, которые прежде, казалось, жаждали заполучить эти документы. Вероятно, именно уже отчаявшись найти заинтересованного покупателя, в то время как разоблачения Цейтлина все больше овладевали умами, он и поместил в "Уолл-Стрит Джорнэл" объявление о продаже. Профессор Олбрайт считает, что только благодаря влиянию цейтлиновской пропаганды на рыночные цены израильское правительство смогло купить бесценные свитки всего-навсего за двести пятьдесят или триста тысяч долларов. Кстати, по мнению Цейтлина, израильтян еще крупно надули: десяти или пятнадцати тысяч долларов было якобы более чем достаточно.
Мы не собираемся осмеивать Цейтлина. Пусть его аргументацию, подкрепленную всей эрудицией признанного гебраиста, анализируют ученые. Достаточно будет сказать, что большинство палеографов, археологов, текстологов, востоковедов, специалистов по Новому и Ветхому Завету признают древность свитков. Они убедили нас в том, что свитки Мертвого моря не окажутся еще одной "фальшивкой Шапиры". Имя Шапиры, так часто упоминаемое в дискуссиях по поводу свитков Мертвого моря, по-прежнему пользуется сомнительной репутацией. Долгое время оно ассоциировалось с одной из самых дерзких подделок рукописей в XIX в., а для Цейтлина и его последователей свитки Мертвого моря были практически не более чем повторением этой нашумевшей мистификации. Однако и среди тех, кто признавал подлинность иудейских документов, лишь немногие понимали, что новые находки должны повлечь за собой и пересмотр рукописей Шапиры. В самом деле, не погрешили ли современники против Шапиры, который в 1884 г. наложил на себя руки в номере роттердамского отеля?
Верхняя часть Моавского камня — обнаруженной в XIX в. стелы, покрытой знаками скорописи, близкой к той, которую употребляли древние евреи до (а в отдельных случаях много позже) введения ими квадратного письма.
Но каковы же реальные факты?
Летом 1883 г. Лондон был взволнован сообщением об открытии двух отличающихся друг от друга древних иудейских рукописей Второзакония, выполненных древним курсивным финикийско-еврейским (палеоеврейским) письмом, ранее уже знакомым по Моавскому камню и датировавшимся обычно приблизительно IX в. до н. э. Рукописи состояли примерно из пятнадцати или шестнадцати длинных кожаных полос, первоначально, видимо, скорее сложенных наподобие того, как складывались некоторые книги Дальнего Востока и доколумбовой Мексики, нежели свернутых в свиток. Они были доставлены из Палестины М. В. Шапирой, который предложил их Британскому музею за "кругленькую сумму в миллион фунтов". Один современник Шапиры писал в своей автобиографии: "В течение недель "открытие" этих драгоценных рукописей было темой для бесед за обеденным столом во всех слоях общества". Британская пресса ежедневно публиковала статьи, освещающие все подробности и малейший поворот событий. Репортеры осаждали Британский музей, где под стеклом были выставлены отдельные фрагменты рукописей. Вдоль выставочных витрин прошли толпы любознательных лондонцев.
Поспешивший к месту событий из Парижа выдающийся французский специалист в области библейской археологии Шарль Клермон-Ганно отметил, что к моменту его прибытия общественное возбуждение достигло апогея. Выставка получила как бы официальное благословение, когда тогдашний премьер-министр Гладстон, человек, сам в немалой степени интересующийся древностями, посетил музей и имел дружескую беседу с "автором открытия", г-ном Шапирой, а также с доктором Кристианом Гинзбургом, которому Британский музей доверил экспертизу манускриптов. Переводы текстов, выполненные Гинзбургом, публиковались, часть за частью, в "Таймс" и в "Атенеуме". Оттуда их перепечатывали даже провинциальные газеты.
Разумеется, Британский музей не поместил бы рукописей на выставку, а ведущие газеты не печатали бы из них выдержки, если бы хоть кто-то заподозрил подделку. Гинзбург откладывал окончательное решение, но старательно выполненные переводы выдавали обуревавший его энтузиазм. Лондонский корреспондент ливерпульской "Дейли Пост" писал 16 августа 1883 г.: "Д-р Гинзбург по-прежнему занят в Британском музее разбором текста новейшей антикварной находки, сделанной г-ном Шапирой; немногословие и таинственность, которой он окружает свою работу, заставляют многих поверить первоначальному утверждению, что эти кожаные полосы на несколько сот лет старше христианской эры. Эти энтузиасты ссылаются на то, что, будь кожи поддельными, такой проницательный ученый, как д-р Гинзбург, уже давно разоблачил бы обман". Между тем ходили слухи, что единственным препятствием к покупке рукописей является отсутствие у музея в данный момент достаточных средств. Назывались уже имена частных лиц, предположительно готовых внести пожертвования. Некоторые утверждали, что казначейство выделяет Британскому музею огромную сумму из "фонда на непредвиденные общественные нужды".
Моисей Вильгельм Шапира, крещеный польский еврей, женатый на немке, многие годы занимался торговлей древностями и рукописями в Иерусалиме. Он снабжал библиотеки Берлина и Лондона ценными древнееврейскими текстами, происходящими главным образом из Йемена. Он нашел и впоследствии продал Германии комментарий к Мидрашу, принадлежавший перу Май-монида, который продолжали превозносить как выдающийся вклад в науку даже и после разоблачения Шапиры. Репутация его была весьма запятнана продажей Берлинскому музею "моавских идолов" — возмутительно грубой подделки, путь которой Шарль Клермон-Ганно, в то время французский консул в Иерусалиме, сумел проследить до самого места изготовления — мастерской, принадлежавшей одному из приятелей Шапиры.
Некоторые усматривали в Шапире чуть ли не ангела, невинную жертву палестинских фальсификаторов. Другие, главным образом крепкие задним умом сочинители мемуаров, такие как Уолтер Безант или Берта Стаффорд, приписывали ему сознательное распространение самых злокозненных подделок. Как бы то ни было, провал затеи с "моавскими идолами" как будто недолго мешал ему вести дела. Он по-прежнему продавал древности и документы европейским коллекционерам. Несколько его рукописей были куплены Альфредом Сутро, мэром Сан-Франциско, и теперь хранятся в Публичной библиотеке этого города. Считалось, видимо, само собой разумеющимся, что ни один торговец древностями не застрахован от того, чтобы, сам того не зная, не выставить иной раз на продажу какую-нибудь подделку. Нанесенный "моавскими идолами" ущерб Шапира в достаточной мере компенсировал другими, бесспорно подлинными древностями. Кроме того, Палестина в ту пору грандиозных открытий Моавского камня и подземной Силоамской надписи [45], вообще в пору подлинного библейского ренессанса, была буквально наводнена различными подделками, разоблачить которые все сразу было просто невозможно. Клормон-Ганно, искусный изобличитель фальшивых древностей, посвятил этому вопросу замечательную книгу "Археологические подделки в Палестине" (1885), в которой, впрочем, Шапира выведен в роли злодея.
Шапира, согласно его версии, владел рукописями Второзакония несколько лет, прежде чем надумал их продать. Он утверждал, что повез их в Европу только после того, как сам убедился в их подлинности. Обстоятельства открытия были до странности схожи с находкой свитков Мертвого моря. В письме к одному немецкому другу Шапира утверждал, что в июле 1878 г. он посетил дом арабского шейха Махмуда ал-Араката. Там он разговорился с группой бедуинов, которые рассказали ему об арабах, воспользовавшихся как убежищем одной пещерой в Вади-эль-Муджиб, у восточного берега Мертвого моря, на древней земле израильского "колена Рувимова". В одной из пещер им попалось "несколько кип очень старого тряпья". Разворошив хлопковую или полотняную обертку, они обнаружили внутри "колдовские заклинания". Пещеры, согласно описанию, были на удивление сухи, и это навело Шапиру на мысль о благоприятном стечении обстоятельств, которое могло бы способствовать сохранению документов столь же действенно, "как и почва Египта". Теряясь в догадках над тем, что за "колдовские заклинания" это могли быть, Шапира, по его словам, заручился поддержкой шейха и в результате заполучил фрагменты "набальзамированной кожи", в которых он впоследствии опознал пересказ "последней речи Моисея на равнине Моава".
Во время своего пребывания в Лондоне Шапира обратился к Гинзбургу с заявлением, опубликованным 11 августа 1883 г. в "Атенеуме"; здесь он полностью признавал весомость сомнений, возникших в отношении сокровища, которое он теперь предлагал Британскому музею. Он признал, что профессор университета Галле Константин Шлотман, которому в 1878 г. он отправил копии с рукописи Второзакония, объявил манускрипт подделкой и выбранил Шапиру за то, что тот выдавал его за священный текст. Чтобы воспрепятствовать Ша-пире публично объявить о своей находке, Шлотман также поставил в известность об этом германского консула в Иерусалиме барона фон Мюнхаузена. Между прочим, именно Шлотман прежде дал благословение на покупку Германией "моавских идолов", так что мы вполне можем понять его опасение связать свое имя с новой подделкой. Шапира сообщал Гинзбургу, что, получив предостережение Шлотмана, он поместил документы в одном из иерусалимских банков. Он также сообщил об этом неблагоприятном заключении другому ученому, которому ранее послал копию текста для ознакомления.
Но в конце концов Шапира засомневался. "Впоследствии, — писал он, — я стал снова размышлять о возражениях Шлотмана и пришел к выводу, что они в известной мере основывались на ошибках, допущенных мною при чтении текста. Я чувствовал, что теперь сам скорее смогу лучше судить о них, поскольку у меня накопилось больше опыта в работе с рукописями. Накануне Пасхи нынешнего года я подверг их пересмотру и вторично разобрал текст. Профессор Шредер, консул в Бейруте, ознакомился с ними в середине мая 1883 г. и объявил их подлинными. Он хотел приобрести их. В конце июля я повез тексты в Лейпциг, чтобы снять с них фотокопии. Их смотрели тамошние профессора. Доктор Герман Гуте, собирающийся о них писать, вполне в них верит. Первоначально рукописи в качестве бальзамирующего вещества были покрыты битумом. Впоследствии они еще более потемнели в результате обработки их маслом и спиртом. Масло употреблялось арабами, с тем чтобы рукописи не становились ломкими и не страдали от сырости".
Заявление Шапиры вроде бы поражает своей откровенностью, хотя в нем можно усмотреть и тонкий расчет, имеющий целью завоевать доверие, а также предупредить возможные слухи и обвинения. К сожалению, Шапира умолчал здесь об одном существенном обстоятельстве: во время своей предыдущей поездки в Германию он передал свитки на экспертизу в Королевский музей в Берлине, и там 10 июля комиссия под председательством профессора Рихарда Лепсиуса после полуторачасового обсуждения объявила эти рукописи на козьих кожах поддельными. Шапира не хотел заранее вызвать у англичан предубеждение. Сам он верил, что свитки подлинные, в чем его еще больше убеждало положительное мнение Шредера. Он хотел, чтобы суд британских экспертов был абсолютно беспристрастным.
Когда позднее лондонская "Таймс" сделала происшедшее в Берлине достоянием гласности, Шапира заявил в свое оправдание, что берлинцы, невзирая на свое заключение, выразили готовность за незначительную цену приобрести рукописи. Может быть, они только и добивались того, чтобы по дешевке завладеть его текстами? Невозможно было представить себе, чтобы какой бы то ни было музей разбазаривал средства на заведомые фальшивки, и поэтому Шапира увидел в сделанном ему предложении безошибочный знак того, что немцы в действительности считают рукописи подлинными. Тогда он поехал дальше, в Лондон. К числу многих загадочных обстоятельств в истории Шапиры относится и тот факт, что, когда англичане возвещали о сенсационной рукописной находке, немецкие ученые мужи почему-то хранили молчание. "Если немецкие профессора разоблачили подделку, то почему, — вопрошал "Атенеум", — они сделали предложение о покупке фрагментов? Почему, читая в германских и английских газетах сенсационные сообщения из Лондона, они не проронили ни слова? Почему не уведомили Британский музей?"
По прибытии в Лондон Шапира был встречен там, в общем, доброжелательно, хотя его причастность к афере с "моавской" керамикой и не была забыта. Впрочем, было бы ошибкой думать, что в Англии все поголовно верили в подлинность кожаных свитков Второзакония. Скептики нашлись с самого начала. По всей вероятности, первым, к кому обратился Шапира, был популярный в Викторианскую эпоху писатель Уолтер Безант, занимавший тогда пост секретаря Общества палестинских исследований. В своей насыщенной ядовитыми замечаниями автобиографии, изданной посмертно, он описал эту встречу, хотя и отнес в ней весь скандал с Шапирой на шесть лет ранее. В 1877 г. (как писал Безант) ему нанес загадочный визит "один польский еврей, обращенный в христианство, но, увы, не на стезю добродетели. Это был человек с красивой внешностью, высокий, светловолосый и голубоглазый, нисколько не похожий на рядового польского еврея; лежавший на нем отпечаток природной скромности и честности сразу располагал к нему собеседника". Человек этот как будто бы обладал "списком Второзакония, современным его созданию". Он дал возможность Безанту ознакомиться с рукописью. Тот обнаружил, что "она была написана прекрасными черными чернилами, через три тысячи лет все еще столь же свежими, как и в момент написания". Еще более удивительным было то, что, по уверениям еврея, рукопись была захоронена "в некой абсолютно сухой пещере в Моаве".
Именно эти два обстоятельства — превосходная сохранность чернил и находка в пещере — и казались самыми невероятными; они же семью десятилетиями позже смущали ученых, первыми ознакомившихся со свитками Мертвого моря в сирийском монастыре. В свете наших теперешних знаний эти обстоятельства говорят как раз в пользу Шапиры и менее всех прочих заслуживают снисходительных насмешек Безанта. Можно возразить ему, что ведь "компетентный" фальсификатор не использовал бы явно свежих чернил и не стал бы выдумывать невероятных обстоятельств находки, которые неизбежно должны были вызвать подозрение. Анализируя утверждения первооткрывателей о сделанных ими находках, мы убеждаемся, что о подлинности открытия говорят скорее маловероятные, чем банальные подробности. Еще более серьезные сомнения вызвала другая упомянутая Шапирой деталь — то, что рукописи были обернуты в полотно. Лондонская "Таймс" позднее заявляла: "Упоминание о полотне было, видимо, ошибкой, поскольку люди, верящие в долговечность кожи, вряд ли признают способность столь же долго противостоять действию времени за обыкновенным льном". Однако лейпцигский эксперт все же признал древними кусочки льняной ткани, приставшие к рукописям Второзакония. И свитки из кумранской пещеры I тоже были обернуты в полотно.
На следующий день Уолтер Безант организовал заседание коллегии ученых. Шапира согласился продемонстрировать им все имеющиеся фрагменты "Пятикнижия". Безант пишет, что Шапира "развернул свои рукописи в обстановке такого всеобщего возбуждения, какое редко наблюдается в ученой среде". Вся процедура заняла три часа. Один профессор-гебраист будто бы воскликнул: "Это одна из тех немногих вещей, которые никак не могут быть обманом и подделкой!" Безант, впрочем, пытается нас уверить, что сам он, по существу, не заблуждался ни минуты; он также вспоминает, сколь невысокого мнения были о "достопочтенном выкресте Шапире" Уильям Симпсон из "Иллюстрейтед Лондон Ньюс" и капитан Клод Р. Кондер, занимавшийся картографированием Западной Палестины. После заседания Кондер уверил Безанта, что все пещеры Моава глинисты и сыры: "Во всей стране нет ни одной сухой пещеры". И позднее Кондер решительно выступал против всякой мысли о том, что рукописи на подверженной тлению коже способны были более двух тысяч лет пролежать погребенными в стране, где средний уровень осадков достигает 20 дюймов. Для него это было решающим аргументом в пользу того, что документы подделаны. Впрочем, каковы бы ни были мнения скептиков, пока они не выражали их открыто. Даже капитан Кондер проявлял осторожность. Поэтому после частной демонстрации было дано разрешение выставить рукописи в Британском музее, и на протяжении трех недель свитки грелись в лучах славы. Затем мыльный пузырь лопнул, а с ним улетучились и все надежды Шапиры на признание и награду.
О том, что рукописи подделаны, одним из первых в Англии заявил (18 августа) Адольф Нейбауэр, оксфордский гебраист, состоявший в контакте с одним из членов берлинской группы Лепсиуса. Окончательный удар нанес французский археолог Клермон-Ганно, после разоблачения "моавских идолов" ставший злым роком Шапиры. Шапира отказал французу в разрешении ознакомиться с документами, но Гинзбург все же позволил ему мельком взглянуть на некоторые из кожаных полос. Клермон-Ганно влился в поток любопытных, осаждавших застекленные витрины в Британском музее. И в то время как другие целыми днями кропотливо исследовали язык, манеру письма, словоупотребление, форму текста и прочее, ему было достаточно и нескольких беглых взглядов. Один английский коллега с восхищением воздал должное разоблачителю; несмотря на препятствия, помешавшие ему ознакомиться с текстами поближе, он, по словам этого коллеги, мог теперь с гордостью заявить: Veni, non vidi, vici ("Пришел, не видел, победил!").
Первоначальный скептицизм француза еще более возрос, когда он узнал, что Шапира выставляет рукописи на продажу. Клермон-Ганно не стал скрывать своего отношения к этому. В письме, опубликованном в "Таймс" 21 августа 1883 г., он прямо выразил свое мнение, упомянув сначала о своих прежних столкновениях с Шапирой, а также о трудностях и ограничениях, препятствовавших его работе в Британском музее. В заключение он писал: "Фрагменты являются делом рук современного фальсификатора. И мои слова — не просто выражение априорного недоверия, чувства, которое многие ученые испытали, подобно мне, при одном известии о такой удивительной находке. Нет, я могу сказать, держа документы в руках, как именно работал фальсификатор. Он взял один из больших синагогальных кожаных свитков с текстом "Пятикнижия", написанных тем же самым квадратным письмом, возможно, две или три сотни лет назад; свитки этого рода должны быть хорошо знакомы г-ну Шапире, поскольку он торгует ими и ранее продал некоторым публичным библиотекам Англии отдельные их экземпляры, полученные из действующих синагог Иудеи и Йемена. Фальсификатор затем отрезал нижний край свитка, имеющий наиболее широкую поверхность. Таким путем он получил несколько узких полос кожи, на вид довольно древних, причем это впечатление было в дальнейшем усилено с помощью соответствующих химических средств. На этих полосах кожи он написал чернилами, используя алфавит Моавского камня и вводя в текст "разночтения", какие только диктовала ему фантазия, отрывки из Второзакония, которые г-н Гинзбург затем разобрал и перевел с усердием и эрудицией, достойными гораздо лучшего применения".
В этих замечаниях, несомненно, слышатся злобные нотки и содержится косвенный намек на то, что Шапира на деле сам и сфабриковал рукописи. Клермон-Ганно решительно заявил, что ему ничего не стоило бы изготовить идеально сходный документ, который мог бы сойти за продолжение Второзакония г-на Шапиры, но имел бы перед последним "то скромное преимущество, что его не оценивали бы в миллион фунтов". Самоуверенность француза пришлась по душе не всем англичанам. Непосредственной реакцией публики на письмо Клермон-Ганно в "Таймс" была вспышка враждебности по отношению к нему самому, а не к Шапире; очевидно, англичане успели уже проникнуться к рукописям последнего собственнической страстью, которую они меньше всего хотели видеть попранной каким-то заносчивым иностранцем. Некоторые газеты отвергли заключение Клермон-Ганно и утверждали, что кожа рукописей Шапиры значительно толще, чем используемая обычно для синагогальных свитков. Французу вменяли в вину и то, что он был изначально предубежден против Шапиры, и его неприличное предложение изготовить еще один "моавский свиток". Авторы передовиц бичевали то, что у них называлось "галльской страстью к самовосхвалению". "Манчестер Гардиан" 6 сентября обвинила самого Ганно в том, что он "чересчур уж преждевременно выпустил свои критические когти, чтобы это могло согласоваться с британскими понятиями о честной игре".
На специалистов, однако, произвели впечатление и изящные доказательства Клермон-Ганно, и описание им вероятного процесса изготовления подделки. Гинзбург, который некоторое время до того колебался, теперь вдруг буквально на следующий день выступил с безоговорочным осуждением рукописей Шапиры и полностью согласился с внешними свидетельствами, представленными его проницательным французским коллегой. К этому он добавил, вслед за Нейбауэром и Альбертом Лоуи, внушительный перечень внутренних свидетельств самого текста. Именно на этих основаниях фрагменты и были окончательно заклеймены как поддельные.
Защитники Шапиры теперь, как и тогда, обрушиваются главным образом на Клермон-Ганно. Они утверждают, что другие критики только шли по его стопам или без конца повторяли его аргументацию. Ставя под вопрос движущие мотивы и логику француза, они надеются устранить тем самым всякие сомнения в подлинности Второзакония Шапиры. Но они выдают желаемое за действительное. Для того чтобы построить убедительную защиту по делу Шапиры, необходимо прежде разобраться с куда более существенными внутренними свидетельствами текста. Здесь, впрочем, мы вступаем в область чисто техническую, в которой нечего делать неспециалисту. Большинство ученых в 1883 г. сочли факты, представленные Гинзбургом и другими, абсолютно убедительными.
Нет необходимости подробно вдаваться здесь в спорные грамматические, лингвистические, текстологические и теологические проблемы. Стоит, однако, заметить, что преподобный Альберт Лоуи, одним из первых в Англии усомнившийся в подлинности документов Шапиры, использовал метод внутренней критики текста также и для того, чтобы дискредитировать Моавский камень, подлинность которого не вызывает никаких сомнений. Кроме того, некоторым лингвистическим противоречиям и аномалиям в древнееврейском языке документов Шапиры, которые смутили Гинзбурга, могут быть найдены аналогии в различных текстах из иудейских пещер, обнаруженных позже. Гинзбург, Нейбауэр и немецкие ученые полагали, что в ряде случаев ими выявлены слова, принадлежащие позднераввинистской эпохе, но профессор Мансур сумел либо доказать, что они ошиблись, либо установить присутствие тех же слов в таких древних документах, как Силоамская надпись. Наконец, грамматические ошибки и описки, часто встречающиеся и в некоторых фрагментах Мертвого моря, теперь нельзя уже рассматривать как убедительные доказательства подделки.
Гинзбург утверждал, что "составитель древнееврейского текста был польским, русским или немецким евреем, по крайней мере человеком, изучавшим древнееврейский где-то на севере Европы". Доказательством этого он считал определенные примеры неправильного написания слов. Но и в этом случае профессор Мансур наглядно продемонстрировал, что сходная путаница фонетических значений проявляется как обычный источник ошибок в кумранских и ветхозаветных текстах, восточное происхождение которых сомнений не вызывает. Что касается содержания сокращенного текста Второзакония с его оригинальной версией Десяти заповедей и рядом интерполяций, то его можно сравнить с таким, например, кумранским фрагментом, как "Речения Моисея", который также представляет собой компиляцию из различных частей Пятикнижия. Судя по находкам в иудейских пещерах, Второзаконие, вероятно, было в среде кумранских общинников наиболее популярным текстом Священного Писания. Следовательно, тот факт, что документы Шапиры также являются некой переделкой Второзакония, говорит скорее об их подлинности. Есть, наконец, вероятность того, что эти спорные свитки примыкали к тем псевдоэпиграфическим сочинениям, которые во множестве распространялись в течение двух последних столетий до нашей эры. Если это действительно так, то использование в них древнееврейской лексики раввинистского периода не может более смущать ученых.
Монеты Маккавеев (140–135 гг. до н. э.) с надписями, выполненными древним финикийско-еврейским письмом
В одном из своих более ранних писем в "Атенеум" Гинзбург заявлял: "Совершенно ясно, что, какова бы ни была древность кожи, письмо должно датироваться либо примерно 800 г. до н. э., либо 1880 г. н. э. Никакая датировка в промежутке невозможна". Это была довольно жесткая альтернатива, с которой соглашались не все его коллеги. Клеймя как подделку любую рукопись, не относящуюся к периоду около IX в. до н. э., она воздвигала совершенно ничем не оправданный барьер. Финикийско-еврейское курсивное письмо, как мы знаем теперь по кумранским свиткам, оставалось в употреблении и в значительно более позднюю эпоху, возможно даже в христианский период. Более объективно перечисляя возможные точки зрения, лондонская газета "Стэндэрд" 14 августа 1883 г., через десять дней после догматического заявления Гинзбурга, сообщала: "Среди тех, кто считает рукописи подлинными… одни склонны датировать их VIII в. до н. э., другие — периодом Пленения, в то время как третьи относят документы даже ко времени Маккавеев".
Все это не значит, однако, что существуют какие-нибудь конкретные палеографические аналогии между текстами Кумрана и моавского Пятикнижия. Никто пока еще не устранил всех препятствий, мешающих признать кожаные свитки Шапиры подлинными. Но они заслуживают, как того настоятельно требовал профессор Мансур, самого тщательного пересмотра. Если говорить о внутренних свидетельствах текста, то чашу весов не в пользу Шапиры склоняют, пожалуй, не те факты, которые прежде считались ключевыми, но скорее масса нехарактерных и противоречивых деталей.
Профессор Мансур, который, по его словам, провел немало бессонных ночей после того, как впервые услышал о трагедии Шапиры, благоразумно воздержался от того, чтобы открыто объявить себя сторонником подлинности шапировских документов. Вместо этого он настаивал на том, что "ни внутренние, ни внешние данные, насколько они преданы гласности, не подкрепляют идею о фальсификации". Более определенно высказался в пользу Шапиры английский гебраист Дж. Л. Тейхер, статья которого под названием "Подлинность рукописей Шапиры" появилась в литературном приложении к "Таймс" 22 марта 1957 г. Он утверждает, что "по пересмотре всех данных, давших повод провозгласить рукописи поддельными, с удивлением вдруг осознаёшь, что этот приговор совершенно необоснован и что рукописи в действительности были древними и подлинными". К сожалению, Тейхер опровергает лишь некоторые из числа слабейших доводов, выдвинутых оппонентами Шапиры, а все остальные отметает без разбору как логически непоследовательные. "Текст свитков Шапиры, — признаёт он сам, — это подлинный камень преткновения". Но стоит только усмотреть в этом тексте перелицовку Второзакония "для нужд литургии и катехизиса иудео-христианской общины", как все неясности и трудности устраняются, как ему кажется, словно по волшебству. Следует помнить, что Тейхер являлся единственным поборником идеи отождествления кумранской секты с иудео-христианами — эбионитами. Нельзя сказать, чтобы он сильно помог делу реабилитации документов Шапиры тем, что увязал их со своей заветной теорией. Насколько мне известно, никто из авторитетных ученых не поддержал его точку зрения на свитки Мертвого моря, и можно смело предсказать, что в своем донкихотском стремлении утвердить подлинность текстов Шапиры Тейхер не обретет много последователей.
Согласно О. К. Рабиновичу, никакой "тайны библейских свитков", вызванной к жизни осужденной рукописью, не существует. Вся эта тайна была раскрыта еще в августе 1883 г. В своей статье в "Джуиш Квортерли Ревью", опубликованной в 1957 г., Рабинович дает исчерпывающее резюме истории фрагментов и убедительной аргументации, предложенной Ганно и Гинзбургом, но к этому он может добавить мало нового. Только в самом конце он приходит к заключению, не менее странному, чем тейхеровское: открытие среди свитков Мертвого моря отрывка, идентичного какому-либо из фрагментов Шапиры, автоматически доказало бы, что свитки Мертвого моря также являются подделкой.
В литературе, посвященной делу Шапиры, нередко упоминается автобиографический роман "Юная дочь Иерусалима" (1914), написанный по-французски дочерью Шапиры под псевдонимом Мириам Харри. К настоящему времени принято за аксиому, что и сама дочь была убеждена в виновности отца. Например, "Пэли-стайн Эсплорейшн Квортерли" в 1957 г. писал в редакционной статье, посвященной ожившему интересу к рукописям Шапиры: "Однако доказательством, значительно укрепляющим позицию противной стороны, является тот факт, что дочь Шапиры… как будто бы ничуть не сомневалась в правоте Клермон-Ганно, уличавшего Шапиру в подделке". И в научном издании столь нелепое заявление делается без каких-либо доказательств! Тем не менее оно выдвигается как веский довод против попыток профессора Мансура добиться пересмотра дела. Всякий, прочитавший книгу г-жи Харри, может убедиться, что она боготворила своего отца — человека не от мира сего, романтика, выведенного в романе под именем Бенедиктус. И нигде, ни единым словом она не дает повода для сомнений в его честности.
Другой критик, М. X. Гошен-Готштейн, сумел вычитать очень многое из следующего отрывка в автобиографии г-жи Харри: "…она любила наблюдать за отцом, когда он тщательно переносил каждую надпись на большие белые листы, порой переписывая одно и то же слово по двадцать и даже по сто раз, пробуя располагать знаки в различных комбинациях". Но это описание относится к работе антиквара по разбору надписей на древней керамике. Шапира никогда не скрывал, что он был более или менее знаком с древним финикийским и набатейским письмом. Он серьезно увлекался древностями. Но ничто не говорит о том, что свое знание древнего финикийско-еврейского письма он использовал для изготовления фальшивых документов. Поскольку сам Шапира утверждал, что он посвятил много времени разбору текста фрагментов Второзакония, нет ничего странного и подозрительного в свидетельстве его дочери о том, что так оно и было.
Сколь подозрительным ни казалось бы ученым знакомство Шапиры с древними системами письма, все же нелепо приписывать его дочери обвинение собственного отца в фальсификации. Гошен-Готштейн, который пытался обосновать свои подозрения еще некоторыми выдержками из "Юной дочери Иерусалима", в конце концов заключает: "Возможно, что на участие в подделке его толкнуло желание показать свою образованность и одновременно улучшить материальное положение, с тем чтобы удачно выдать замуж дочь". Следует заметить, что дочерью на выданье была не Мириам Харри, в то время еще совсем ребенок, а ее старшая сестра. Все эти легковесные, искусственные доводы ничего не добавляют к прежнему обвинительному заключению. Даже Гошен-Готштейн вынужден признать, что "изготовить такую подделку было не под силу одному человеку".
Несмотря на все доводы за и против, несмотря на приобщение данных дела Шапиры к дискуссии по поводу свитков Мертвого моря, мы по-прежнему еще очень далеки от решения проблемы. И ведь рядом существует еще одна тайна. Никто не знает, где находятся рукописи в настоящее время. Полагали, что они скрыты в подвалах Британского музея, но руководство музея это отрицает. Однако они были там и подвергались повторному обследованию в 1884 г., после смерти Шапиры, а потому, хотя сотрудники Британского музея и О. К. Рабинович считают это вероятным, они никак не могли быть возвращены Шапире и сгинуть вместе с ним в Голландии. В архиве Британского музея хранится письмо вдовы Шапиры с запросом о судьбе рукописей, но остается неизвестным, каков был ответ и был ли он вообще, а также принимались ли по этому письму какие-нибудь меры.
Бывший редактор журнала "Искусство за год" А. С. Р. Картер в своих мемуарах "Вот моя повесть…" (1940) утверждает, что "после разоблачения он (Шапира) прислал жалобное письмо, полное извинений за доставленные неприятности и беспокойство, и с благодарностью принял от Британского музея несколько фунтов за свою некогда "бесценную" рукопись, которую предполагалось сохранить в назидание потомству. С этой скромной суммой он выехал в Амстердам (sic!) и там, в какой-то убогой гостинице, покончил с собой" [46]. Этим показанием как будто бы устанавливается тот факт, что Британский музей приобрел юридическое право на данную рукопись, но вопрос в том, стал бы музей хранить объект, заведомо признанный лишенным какой-либо ценности. С другой стороны, можно усомниться и в достоверности этого воспоминания Картера, который посвятил "Шапире, фальсификатору Библии", целую главу. Если Шапира в самом деле заключил подобную сделку, признав при этом сам, что документы были поддельными, то вряд ли он стал бы обращаться из Голландии к директору библиотеки Британского музея с последней, отчаянной мольбой созвать комиссию непредубежденных ученых для повторной экспертизы свитков.
Доведется ли нам когда-нибудь увидеть перед собой вещественные свидетельства, которые, возможно, раз и навсегда покончили бы с этой тайной? До профессора Мансура дошли сведения о том, что известный лондонский книготорговец Бернард Куоритч продал кому-то несколько фрагментов рукописей Шапиры, однако проследить их дальнейшую судьбу ему не удалось. Можно предположить, что это были другие рукописи, которые Шапира привез с собой во время своего последнего визита в Лондон. Есть еще одно направление, поиски в котором, насколько мне известно, пока не предпринимались. Г-жа Шапира упоминает в своем письме о двух фрагментах из Второзакония, которые она нашла в бумагах мужа и отослала профессору Константину Шлотману в Галле. Вероятность того, что эти фрагменты остались в Университете Галле, не может быть исключена и, пожалуй, заслуживает проверки. Есть еще один возможный источник: трансиорданское Вади-эль-Муджиб на "другом берегу Мертвого моря". Действительно ли так сыро в этих пещерах, как утверждал капитан Кондер? Не сохранились ли там какие-нибудь остатки рукописей? И если да, то не окажутся ли они по внешнему облику, манере письма, языку и содержанию сходны со свитками Шапиры?
Представляется вполне очевидным, что те обстоятельства, которые Шапира описал в связи с находкой текстов из Второзакония, не могут быть лишь плодом фантазии. Как сам важнейший факт захоронения свитков в пещерах, так и некоторые детали, например полотняные обертки, а внутри них не сразу распознанные "колдовские заклинания", представляют слишком разительные аналогии кумранским находкам, чтобы это можно было считать случайным, лишенным какого-либо прецедента или материального основания предвосхищением будущего на семь десятилетий. Даже если документы Шапиры подделка, все же кажется неизбежным вывод, что фабрикаторы знали или слышали о прежних находках рукописей в "моавских" или других "пещерах Мертвого моря".
Эпилог
Каждое открытие давно забытого текста, будь он выдающимся или же будничным по своему содержанию, помогало отодвинуть дальше в глубь времен ту завесу, за которой вся человеческая деятельность представляется нам тусклой и непонятной. Каждое открытие сообщает нам нечто новое о нашем прошлом, о том, как мы стали тем, что мы есть. Вот почему поиски ученых-романтиков были столь целеустремленными и почему они будут продолжаться: ведь предстоит сделать еще так много!
Завтрашний день может принести нам новые неожиданные находки, хотя никто заранее не предскажет, откуда именно их следует ожидать. Явятся ли они из заброшенных раннехристианских монастырей на Синае, из песчаных пустынь Северной Африки, из переплета какой-нибудь средневековой рукописи в европейском собрании или из потаенной библиотеки русского царя Ивана? Мы можем быть уверены только в том, что впереди нас ждет еще множество открытий. Опыт свидетельствует, что и почва Геркуланума, и тем более древние земли Египта, Палестины, Сирии и Месопотамии раскрыли перед нами далеко не все погребенные в них документы. У нас нет причины категорически исключать вероятность находок в будущем где бы то ни было — даже в местах с самым неподходящим для их сохранения климатом, как, скажем, в джунглях Центральной Америки, — новых письменных текстов.
Таким образом, перспектива на будущее остается благоприятной. Размышляя над судьбой библиотек Александрии, английский историк Эдуард Гиббон писал: "Когда я объективно суммирую всю безмерность прошедших столетий, весь ущерб, причиненный невежеством, и все печальные последствия войн, то поражаюсь не нашим потерям, а скорее тому, что мы все же обладаем такими сокровищами".
Но ведь Гиббон в конце XVIII в. мог знать лишь о малой доле удивительных находок, описанных в этой книге. С тоской о прошлом взирая на византийцев той поры, когда на них еще не обрушились с запада их крестоносные христианские собратья, он замечал: "Наслаждаемся мы или пренебрегаем нашими нынешними богатствами — все равно мы можем только позавидовать тому поколению, которое еще могло читать историю Феопомпа, речи Гиперида, комедии Менандра и оды Алкея и Сапфо". Во времена Гиббона знали лишь имена этих писателей; и все же, каким бы чудом это ни казалось, ученым и археологам нового времени удалось обнаружить те или иные сочинения, принадлежащие практически каждому из них.
Что же говорить о целых литературах, исчезнувших с лица земли, например литературе этрусков, или кхмеров Камбоджи, или финикийцев Тира и Сидона? Что говорить о карфагенянах, книги которых были отданы римлянами своим нумидийским союзникам и сгинули вместе с ними? Народ, из среды которого римляне взяли молодого раба, ставшего прославленным Теренцием, превосходным латинским драматургом, — этот народ должен был обладать незаурядным литературным талантом. И кто знает, может быть, мы найдем когда-нибудь сочинения карфагенян? Ведь полтора столетия назад литература египтян и жителей Месопотамии казалась нам в такой же мере недосягаемой. И все же теперь у нас есть и "Гильгамеш", и "Папирус Райнд", и гимн Эхнатона, не говоря о бесценных документах юридического, социального и исторического содержания, найденных на Ближнем Востоке.
Разумеется, если бы ученые расстались с надеждой добавить что-нибудь к скудным остаткам древней литературы, они, возможно, никогда и не устремились бы навстречу приключениям, а нам остались бы неведомы волнения и триумфы, сопровождающие непрестанный поиск завещанного временем.
Примечания
1
Перевод Л. Васильева.
(обратно)2
Эмиль Людвиг(1881–1948) — немецкий писатель, автор ряда биографических романов (о Наполеоне, Бетховене, Гёте и др.).
(обратно)3
1 фут = 0.3048 м.
(обратно)4
1 дюйм = 2, 54 см.
(обратно)5
Розеттский камень— базальтовая плита с параллельным текстом 196 г. до н. э. на греческом и древнеегипетском языках. Найдена близ г. Розетта (ныне г. Рашид, АРЕ) в 1799 г. Дешифровка Ф. Шампольоном иероглифического текста Розеттского камня положила начало чтению древнеегипетских иероглифов.
(обратно)6
Иератическое письмо— скорописные знаки, соответствующие иероглифическим символам.
(обратно)7
Коптский язык— последний этап развития египетского языка. В X–XI вв. отмирает, вытесняемый арабским. Сохранился как культовый у коптов (египтян-христиан).
(обратно)8
Petrie W. М, F.Seventy Years in Archeology. London, 1931.
(обратно)9
Унциальное письмо(от лат. uncialis — равный по длине одной унции) — особый вид почерка средневековых греческих и латинских рукописей, характеризующийся крупными, ровными буквами.
(обратно)10
Budge Е. A. W.By Nile and Tigris. London, 1920.
(обратно)11
1 миля (сухопутная) = 1,609 км.
(обратно)12
Имеется в виду концепция "двух источников", согласно которой Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки основываются на Евангелии от Марка и источнике Q (вероятно, сборник речей Иисуса на греческом языке).
(обратно)13
Гностицизм— религиозное движение поздней Античности, вылившееся в ряд раннехристианских ересей (расцвет во II в.). Гностицизм притязал на знание особого, таинственного смысла Библии.
(обратно)14
"Логии" рассматриваются как греческая версия апокрифического Евангелия от Фомы, обнаруженного в числе гностических книг Наг-Хаммади.
(обратно)15
Перевод В. Вересаева.
(обратно)16
Майкл Вентрис(1922–1956) — выдающийся английский дешифровщик, разработавший метод чтения крито-микенского письма ("линейного Б").
(обратно)17
" Септуагинта" — греческий перевод Библии, выполненный "семьюдесятью толковниками" (согласно христианской традиции — семьюдесятью двумя) в Александрии в III в. н. э.
(обратно)18
Койне— общегреческий язык, сложившийся в IV–III вв. до н. э. на базе аттического с элементами ионического диалекта.
(обратно)19
Перевод основывается на прочтении гимна, сообщенном Е. С. Богословским.
(обратно)20
Букв.проходи всюду ( франц.); ключ к любым знакам.
(обратно)21
Перевод В. Потаповой.
(обратно)22
По последним данным, город погиб в результате землетрясения и пожара. "Народ моря" обошел его стороной, а при ассирийцах города уже не существовало.
(обратно)23
Евсевий Кесарийский (265–338) — римский церковный писатель, епископ Кесарии (Палестина) с 311 г.
(обратно)24
Здесь и далее — переводы В. А. Якобсона (Мифология Древнего мира. М… 1977).
(обратно)25
Юлиус Велльгаузен(1844–1918) — немецкий ориенталист и библеист, автор "Истории Израиля" (1878).
(обратно)26
Tischendorf С., von. Die Sinaibibel. Ihre Entdeckung, Herausgabe und Erwerbung. Leipzig, 1871.
(обратно)27
Имеются в виду монастыри, следующие монашеским правилам, установленным Василием Кесарийским (ок. 330–379), ранневизантийским церковным деятелем.
(обратно)28
Lewis A. S. In the Shadow of Sinai. A Story of travel and Research from 1895 1897. Cambridge. 1898.
(обратно)29
Минускульное письмо— в древних латинских и греческих рукописях письмо, использующее только минускулы (от лат. minusculus — маленький) — буквы, имеющие упрощенное строчное написание.
(обратно)30
Юстин Мугеник(умер ок. 165 г.) — раннехристианский философ и писатель, уроженец Палестины.
(обратно)31
" Пешитта" — сирийский текст Нового Завета (V в.).
(обратно)32
Пресвитер Иоанн— по средневековым легендам, мифический царь-первосвященник, правивший христианским государством где-то в глубинах Азии.
(обратно)33
Kenyon F. G.Our Bible and the Ancient Manuscripts… London, 1958.
(обратно)34
" Варлаам и Иоасаф" — памятник византийской литературы, повествующий об обращении язычников в христианство.
(обратно)35
Имеется в виду так называемый "Папирус Эджертона" (первая половина II в.).
(обратно)36
Первоначальное значение слова "гениза" — сокровищница.
(обратно)37
Ныне Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург.
(обратно)38
Schechter S.Studies in Judaism. London, 1908.
(обратно)39
Кодекс пророков был найден А. С. Фирковичем не в Крыму, а в окрестностях Дербента.
(обратно)40
Иерусалимский храм— национальная святыня Иудеи — был разрушен римлянами после подавления антиримского восстания в 70 г. н. э.
(обратно)41
Мухаммад ад-Диб нашел семь свитков.
(обратно)42
Зелоты— социально-политическое и религиозное течение, возникшее в Иудее во второй половине I в. до н. э.
(обратно)43
Schonfield H.J. Secrets of the Dead Sea Scrolls. New York, 1960.
(обратно)44
Перевод О. Румера.
(обратно)45
Силоамская надпись— открыта в 1880 г. и датируется концом VIII — началом VII в. до н. э.
(обратно)46
Carter А. С. R.Let Me Tell You. London. 1940.
(обратно)
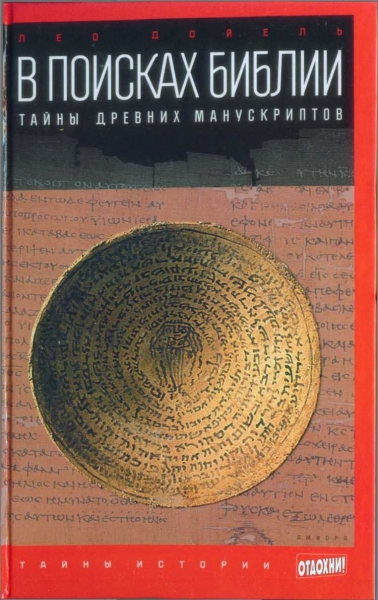

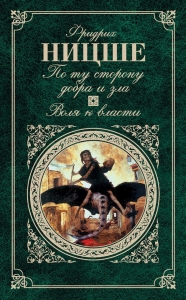
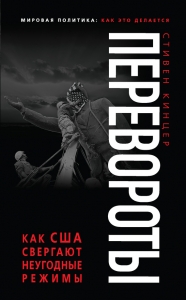
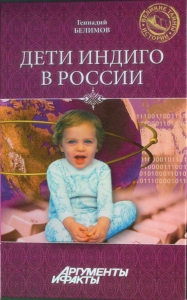




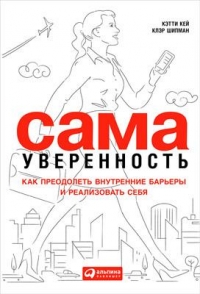

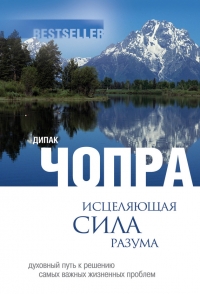
Комментарии к книге «В поисках Библии: Тайны древних манускриптов», Лео Дойель
Всего 0 комментариев