Фриц Штеге Музыка, магия, мистика
© Текст. Reichl Verlag
Der Leuchter St. Goar, 1961
© Перевод, верстка. Reichl Verlag Der Leuchter St. Goar, 2012
© Оформление обложки. ООО «Амрита», 2012
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Musica capitur omne, quod vivit,
Quia anima coeli est!
Marcus Tullius CiceroВсе живое охвачено музыкой,
потому что музыка —
это душа небес!
Марк Туллий ЦицеронМоим дочерям
Хельге и Сильвии
Гармония сотворения мира. Факсимиле из «Musurgia»[1] A. Кирхера
Предисловие
Сменилось уже целое поколение с тех пор, как я представил на суд общественности свое первое сочинение под названием «Оккультное в музыке» (Издательство музыкальной литературы Эрнста Биспинга, Мюнстер, ныне Кёльн). Благожелательное отношение к этой книге как в научной, так и в «оккультной» прессе было для меня в некоторой степени неожиданным. Более обстоятельные рассуждения профессора Мюллера-Блаттау в «Журнале музыковедения», где он высказывается о ней с похвалой, одобрительные отзывы в «Центральном журнале оккультизма», статьи в австрийской и английской прессе продемонстрировали живой интерес широких кругов специалистов к этой книжной новинке, написанной с чрезмерным юношеским рвением.
Между тем книга распродана, остатки ее уничтожены войной, иногда вдруг появляющиеся экземпляры высоко ценятся в букинистических магазинах. Сама эта тема занимала меня всю мою жизнь и нашла свое отражение в многочисленных статьях (см. список литературы[2]) и докладах: в висбаденском Обществе Гёте, в гессенских народных университетах (Висбаден, Гросс Герау, Лимбург), в особенности на тринадцатом годовом заседании Общества свободной философии им. Германа Кейзерлинга в висбаденском курзале[3] при участии отечественных и зарубежных ученых. Моя тема, подхваченная также в иностранной прессе, звучала так: «Трансцендентность музыкального искусства и человек».
Настоящее сочинение к моему вышеупомянутому произведению никакого отношения не имеет, за исключением нескольких заимствованных источников. «Музыка. Магия. Мистика» написана полностью заново, включает в себя новые источники и развивает ранее изложенные идеи. Кроме того, я отказался от превратно понятого названия «Оккультное в музыке», давшего повод журналу «The Musical Times» выразить мнение о «талантливой и в целом очень понятно» написанной книге, «что книга доктора Штеге проливает больше света на оккультизм, чем на музыку». Тем не менее моя цель состояла все же не в том, чтобы увеличить количество иной раз сомнительной оккультной литературы, напротив, я старался употреблять это одиозное словцо только в буквальном смысле как «скрытый, тайный». Эта точка зрения, отстаиваемая мною еще и сегодня, может, пожалуй, служить объяснением того, почему данная книга не представляет собой сочинения по новой музыкальной эстетике, а наоборот, стремится изобразить те скрытые, тайные отношения души с магией и мистикой, которые музыкальный эстетик имеет обыкновение боязливо обходить стороной.
Мне остается еще выполнить приятную задачу – поблагодарить тех, кто поддерживал меня доброжелательными замечаниями: баронессу Элеонору фон Дунгерн (Висбаден), первого председателя Общества свободной философии им. Германа Кейзерлинга, баронессу У. Гейр фон Швеппенбург, урожденную баронессу фон Рейнбабен (Франкфурт), члена правления Вилли Шрёдера (Монтабаур), неустанно снабжавшего меня литературой, но в особенности господина Г. фон Гийома (Ремаген), с которым я чувствую глубокую эмоциональную связь.
Пусть этой книге будет благоприятствовать положение планет и она принесет чуть больше света в мир предубеждений и материализма!
Висбаден, весна 1961 г.Первая часть Музыка жизни
Звуки разносятся по древнему космосу. Бесконечность становится звоном, Вселенная зовет.
Силы Протосолнца бросают звук на раскаленное полотно сотворения мира. Туманные кипящие моря упиваются им в огненных глубинах, укладывают его в пожар пылающей страсти творения.
Вселенная зовет – первозданная мощь становления принимает форму, совершенствуется в пространстве шара. Звучное пламя с шумом вырывается из чадных печей.
Небесные светила соединяются друг с другом, разрушение порождает жизнь. Кружащийся хоровод огненных космических шаров упорядочивается в звуке. Из первозданных глубин солнечный танец скользит в братском хоре планет. Поющие души мира парят и исчезают, осуществив свою тайную миссию. Вселенная – орган, воплощение гармонии.
И вот блекнет поющий глянец, все тише звучат бесконечные напевы хорала[4] творения. Вяло колеблется свет, утомленно вращаются сферы, к которым, словно золотые нотные знаки, липнут звезды. На невидимых держателях мировых струн цепочка небесных светил раскачивается над корпусом вселенской скрипки. Неслышимые звуки космического музыкального инструмента начинают появляться, когда в резонаторе Земли уплотняется звук. Вот из бесконечности протягивается рука и хватается за колок[5] мистической скрипки. Вот натягиваются усталые струны, вот бурлят небесные светила в ликующем хоре, вновь объявляя вечный закон Божественной гармонии[6].
В пылающей жаром глубине земных недр покоится звук. Он бодрствует в пекле вулканов, в изначальной борьбе элементов, соединяющихся в гудящем движении. Он во внутреннем звоне камней, в нежном голосе песка, в жизненных соках первых растений. Его напевала Земля в хороводе планет – своих сестер и братьев. Он слышится, в тысячу крат более тонкий, из каждого атома творения. Леса, важные и благородные, разрастаются до небес и обращаются в прах; их становление и исчезновение – это звук. Благодарный шелест трав белому свету – это звук. Ледники медленно движутся по поверхности земли; волны уничтожения катит Всемирный потоп, бури хлещут над землей; их могущество – звук.
Громом наделены голоса гигантских ящеров; светлым звуком, раздающимся из хищного клюва, археоптерикс приветствует солнце. Человек и животное борются за господство; в сердцах обоих – ритм природы.
Стремящийся к завершенности, звук направляется в царство людей. Их врожденная набожность прокладывает ему путь, в покорности они приветствуют посланника небесной гармонии. Один звук они слышат в раковине улитки и совсем другой – в гудении первого рожка. Звук скрывается в камыше, бамбуке, флейте, голос которой похож на щебетание птиц. Дрожащую струну лука облагораживает он; тех, кто талантлив, учит игре на арфе. Земля поет; сотворение мира отражается в звуке; музыка вступает в брачный союз с ликующим хором планет.
Тысячелетие за тысячелетием звучащий день с благодарностью благословляет движение Солнца. Города растут, стенами заслоняясь от природы. Каменным ограждениям звук жалуется на свое одиночество. Рассказывает о чудесном органе ветров и лесов, о журчащих источниках, о нежном звоне падающих капель дождя – люди его уже не понимают. Идолопоклонством они умерщвляют свое божество, они порабощают его, эксплуатируют в угоду своему бессердечному корыстолюбию, высмеивают законы природы. Они тащат его на свет рамп любоваться своим стыдом. Вставляют его в художественные постановки, в которых нет никакого искусства. Душа звука плачет, громко жалуется она на свои муки Небу, величественному и гармоничному своему отцу.
И вот из бесконечности снова протягивается огненная рука, в гневе сжимается вокруг «шеи» вселенской скрипки. Колок хрустит, первозданная сила натягивает колышущиеся струны, грозно гремят небесные светила в созвучии с мировым ритмом. Стены городов рушатся, в шуме пламени исчезает музыка; громыхая, в звенящую ночь лесов, на родину, возвращается звук.
Смолкает песня, пустеет «зал», инструменты утратили свою душу. Люди разучились петь, пусто сердце, тускл взгляд. Звук, отнявший у них счастье и утешение, – его они стараются примирить с собой.
Шутовскими костюмами обматывают они чахлые тела, шутовскими бубенцами украшают одежду, в шутовском танце желают задобрить звук. Дребезжание – звон их колокольчиков, крики – их смех, топот и буйство – их веселье.
Вериги надевают они, бичом терзают свои тела; молебны должны заклинаниями вызвать звук. Из хриплых, разучившихся петь глоток вырывается вой, как у волков, жалующихся ночи. В ужасе разрывают они свои одежды, снова запирают они себя в каменной тюрьме.
Дети, выросшие в бедности своей тишины, призывают к последнему крестному ходу. Крепко сомкнуты губы, не знавшие никогда очарования песни, уныние угнетает души, не находившие никогда утешения в звуке. Молча, в святой простоте сердец, белые ряды шагают из каменной пустыни навстречу лесу, его музыке, шелесту его деревьев. Дыхание природы развязывает языки, из тихих глубин течет песня, сперва робко и недоверчиво, а затем ликуя, в восторженной благодарности. Слезы радости извещают о возвращении в царство звуков.
Взрослые и пожилые люди следовали тайком за крестным ходом и стали свидетелями примирения. Из запертых сундуков вытаскивают они запыленные инструменты – лютни и скрипки, флейты и арфы, поднимают их к свету солнца. Их также благословляет звук. В веселом хороводе скользят юные ноги по усеянным цветами лугам, дорожные песни расцветают на серых улицах, музыка пробуждает эхо замков и гор, домов и дворов, в которых юное поколение объединяется в песне. Песнь приветствует смену дня и ночи, времен года. В звоне колокола звук заключает союз с верующим сердцем; поет он гимн природе – в мелодичной гармонии объединяются земля и небо. Вселенская рука, держащая настроенный инструмент миров, может отдохнуть от тяжелой работы.
✽
Поэтическая фантазия? Несомненно – даже лихорадочный бред смертельно больного музыканта, заимствованный из моего романа «А в стороне, кто там?». Но тот, кто после ознакомления с данной работой еще раз перелистает первые страницы, едва ли сможет усомниться в наличии истины в этих фантазиях. Даже если это граничит с неправдоподобностью – персонифицировать звук, приписывать ему власть над человеческой жизнью, над духом и материей, надо всем созданным творческой силой. Это означало бы, что все наше существование наполняется первозвуком, что наш образ жизни определяется законами звука, задача которых состоит в объединении человечества и достижении им полнозвучной гармонии.
У Эйхендорфа есть удивительные строки:
Дивный лад во всех созданиях Дремлет, строен и певуч, Мир зальется в ликовании, Лишь отыщешь тайный ключ.И не менее странное признание Фридриха Шлегеля – эпиграф к музыкальной фантазии для фортепьяно Роберта Шумана:
Во сне земного бытия Звучит, скрываясь в каждом шуме, Таинственный и тихий звук, Лишь чуткому доступный слуху.Снова мы сталкиваемся здесь с верой в изначальный звук, пронизывающий все остальные звуки, звучащий «во сне земного бытия», дремлющий во всех созданиях и дожидающийся только того, чтобы кто-нибудь его пробудил тайным ключом познания, но звук этот – «лишь чуткому доступный слуху».
Христиан Моргенштерн посвятил первозданному звуку такие строки: «Игрой форм, красок, звуков неустанно правит пугающий и непонятный глубокий первозданный звук». Что ж, для того, кто не склонен рассматривать поэтические произведения как сгусток познания и считает, что может возразить Иоганну Георгу Хаману, назвавшему поэзию естественным видом пророчества, доказательной силы они не имеют. Но эта вера в первозданный звук, в «основной тон жизни», для которого граф Герман Кейзерлинг нашел ценные слова [1][7], или в «абстрактный звук», пронизывающий всю нашу жизнь, отнюдь не является озарением немецкого романтизма. Он упоминается уже в индийских Ведах и называется «анахат», что означает «безграничный звук». Проповедник суфизма, мистического течения в исламе, Инайят Хан посвятил «абстрактному звуку» целую главу [2]. Пожалуй, на его мыслях стоит остановиться немного подробнее.
«Абстрактный звук называется у суфи[8] „сауте“ сурмад, вся Вселенная наполнена им. Колебания этого звука слишком тонки, чтобы быть видимыми или слышимыми материальными глазами или ушами… Именно этот „сауте сурмад“, звук абстрактного, и слышал Мохаммед в пещере Гаре-Хира, когда он достиг божественного идеала. Коран говорит этим звуком: „Да будет…“ Моисей слышал этот же звук на горе Синай при общении с Богом, и то же самое слово открылось Иисусу Христу, когда Он соединился со Своим Небесным Отцом во время молитвы. Шива слышал этот же анахат нада, пребывая в самадхи в гималайской пещере. Флейта Кришны – знак этого звука, представленный символически. Этот звук – источник всего откровения, который дается мастерам изнутри… Кто знает тайну звуков, тот знает таинство всей Вселенной» [Там же, с. 84].
Затем Инайят Хан останавливается на этическом значении «абстрактного звука», который всех, кто слышит его и над ним медитирует, избавляет от бед, болезней и страхов. Чтобы его услышать и пробудить в своей душе, йоги и аскеты дуют в «сингх», рог, или в «шанку», раковину. Этой же цели служат колокола и гонги, кроме того, двойные флейты дервишей. «Чем больше суфи внимает звуку абстрактного, тем больше его сознание освобождается от всех ограничений жизни. Душа парит в мире и спокойствии как над физической, так и над духовной равниной…»
Не важно, признают или отвергают звук, наполняющий звучанием наш «цветной земной сон», понимают его как реальность или как символ, видят в нем первопричину или осуществление всех музыкальных явлений, – в любом случает он заставляет нас обратиться на нашем пути к высшему познанию, которое восходит к абстрактной, трансцендентной области звуков за пределами акустически воспринимаемой земной действительности. Он будет нашим спутником и «звучать» на всех последующих страницах наших рассуждений, когда мы будем исследовать «musica humana», музыкальные пропорции человеческой реальности, и их связь с пронизанным музыкой миром природы, когда переместимся в космические сферы «musica mundana», мировой музыки, и в конце концов вернемся к земному миру звуков, чтобы еще раз поставить вопрос о реальном существовании «абстрактного звука» (см. иллюстрацию).
Мы опять с ним встречаемся уже при обсуждении проблемы звучащей первопричины, из которой проистекает вся жизнь. Об «основных тонах жизни» остроумный и богатый идеями Герман Кейзерлинг произнес, пожалуй, самое разумное из того, что можно сказать на эту тему [1]:
«Осознанно высекать основные тоны жизни как таковые – историческая задача, которая сегодня стоит перед человечеством. Как бы ни менялись мелодии, эти тоны во все времена были теми же самыми. Но еще никогда их не удавалось услышать сами по себе, проявляясь, они непременно были связаны с определенной мелодией. Сегодня люди, отвергшие все преемственное, вообще их уже не слышат. Их слух нарушен хаосом диссонирующих уличных песенок. Поэтому они должны сперва научиться слышать основные тоны. Это предпосылка каждой новой гармонизации, ибо если изменчивое во времени не настраивается на вечное, то из хаоса никогда снова не появится космоса. Но если люди научатся слышать их непосредственно, то в конце концов они услышат те звуки, бездонная глубина которых до сих пор заставляла пропускать их мимо ушей, тогда у них впереди будет будущее, полное неслыханных обещаний и исполнений. Прекратить заклинаниями бури этих диких времен неподвластно ни одному отдельному человеку, ни одной общности. Но может произойти нечто другое, и этого будет достаточно: посреди бури из года в год мы можем добиваться того, чтобы в могучих, чистых ударах колокола звучали основные тона, которые нельзя исказить никаким визгом и воем. Затем, когда буря будет постепенно стихать, зов из глубин станет звучать все громче и проникновеннее. То, что вначале было слышно только вблизи, в конце концов услышат и вдалеке. Он будет отдаваться все более сильным эхом в душах и в конце концов непременно станет их личным основным тоном. Но тогда новые мелодии, которые будут возникать в огромном количестве, естественным образом начнут настраиваться на вечное – осознанное и осмысленное».
В последних словах, возможно, содержится ключ к переориентации земной музыкальной жизни, к которой так убедительно взывает Кейзерлинг, когда душа настраивается на «вечное – осознанное и осмысленное». Это означает: осознать потерянную связь между конечным и вечным, настраивать восприимчивую арфу души на гармонию космоса. Тогда «в мелодичной гармонии объединяются земля и небо», как говорилось до этого в предварявшей раздел небольшой «фантазии». Осознать означает – получить обратно знание о музыке жизни, связать интуицию и предчувствие с силой разума, каким бы трудным ни казалось порой разъяснение до конца этих вопросов, какими бы расплывчатыми и нечеткими ни были границы между посюсторонним, реальным миром музыки и потусторонним, ирреальным, трансцендентным царством звука.
Но чем все же является «личный основной тон», который Кейзерлинг, очевидно, в переносном смысле понимает как «зов из глубин», – реальностью или символом? Этим вопросом занимался доктор Гюнтер Вахсмут [3, с. 204 и далее]. Он указывает на то, что каждое тело представляет собой, так сказать, сконденсированный звук, «что оно сверхчувственно издает совершенно определенный звук, возникающий вследствие своего внутреннего напряжения сил и структуры». Это и есть «личный основной тон», или «индивидуальная прима[9]». По его мнению, человек настроен на определенный основной звук, по отношению к которому образует интервал каждый звук внешнего мира. Отношение «собственного звука» к многозвучию внешнего мира определяет наше отношение к людям, животным, растениям как гармонию или дисгармонию. Доктор Вахсмут высказывает немало умных мыслей: «Чем больше индивидуализируется человек, тем меньше на него влияет объективная „мировая душа“, тем больше гармония выступает в качестве единственного основного тона, в качестве единственной примы его индивидуальной души – особенного звука, который отдельный человек образует сам по себе. В этом смысле животные, растения, минералы „рецептивно[10] образуют аккорд“…» Но, пожалуй, автор делает ошибочный вывод, отказывая немузыкальному человеку с «основным тоном, колеблющимся вверх и вниз по высоте», в способности чувствовать гармонию музыкальных людей. Нет ни одного человека, которого не затронуло бы какое-нибудь, пусть даже самое примитивное, переживание звука, что доказывает «музыкальность» всех людей. Действительно, не воспринимающий музыку, немузыкальный человек – это ненормальное, патологическое явление. Разве только «музыкальный» человек способен проявлять себя «создающим аккорды» в своем отношении к внешнему миру? Это все же было бы весьма поверхностным пониманием «основного тона» жизни, который зависит не только от музыкальных задатков человека в привычном, земном словоупотреблении. Уже здесь возникает опасность смешения реального и трансцендентного звуковых миров. Равно как и в вопросе об озвучивании «индивидуального основного тона». Доктор Вахсмут ссылается на Рудольфа Штайнера [Там же, с. 205], который «совершенно тривиальным образом» хочет услышать «собственный тон», поднеся к одному уху напряженную мышцу плеча и сильно прижав к другому уху большой палец. «Мы пронизаны музыкой во всей полноте в наших мышечных движениях». Вспомним все же о «музыке тишины», которая доносится до нас из глубины души, когда мы храним полное молчание. Абсолютной тишины не бывает – и если вокруг нас все умолкает, то начинает звучать голос крови – наши «собственные тона». Е.П. Блаватская [4, с. 509] связывает его с нервами: «Нервную систему человека в целом можно рассматривать как эолову арфу… Если эти нервные колебания становятся достаточно сильными и отвечают резонансом на астральный элемент, то в результате появляется звук». А так называемый звон в ушах, которому, само собой разумеется, нетрудно найти физиологическое объяснение через спонтанные раздражения в слуховом органе, не обосновывая этим более глубокие причины его появления? Это светлый, лишь субъективно воспринимаемый «собственный звук» различной высоты, неожиданный в своем проявлении. В народе верят в телепатию: «Если у меня звон в ушах, значит, кто-то обо мне думает». Звон в правом или левом ухе позволяет узнать, хорошо о тебе думают или плохо. Согласно другому обычаю, при появлении звона надо медленно перечислять буквы алфавита. Он умолкнет, как только появится начальная буква имени того, кто посылает данному человеку свое мысленное приветствие. Это суеверие – достаточное доказательство того, насколько народное сознание занимает проблема «собственных звуков» людей. Но раскрыта ли этим тайна «личного основного тона» – это еще вопрос.
С «собственным звуком» – настройкой индивидуальной души на адекватный ей звук окружения, образующий по отношению к нему правильный, «гармоничный» интервал, – возможно, связана также следующая глубокая по смыслу армянская народная басня. Она опубликована в «Уроке чтения», журнале Немецкого объединения книголюбов (Дармштадт, вып. 2, май 1960 г.).
«Жили муж с женой. У мужа была виолончель с одной струной, по которой он часами водил смычком, всегда держа палец на одном и том же месте. Его жена семь месяцев выносила весь этот шум, терпеливо дожидаясь того, что муж либо умрет со скуки, либо разобьет инструмент. Но ни то, ни другое желанное событие не случилось, и поэтому однажды вечером она очень мягким, тоном, чтобы муж ей поверил, произнесла: „Я заметила, что этот чудесный инструмент, когда на нем играют другие, имеет четыре струны, по которым водят смычком, и что музыканты постоянно двигают туда и сюда свои пальцы“.
Муж на мгновение перестал играть, мудрым взглядом окинул свою жену, встряхнул головой и сказал: „Ты – женщина. Волосы твои длинные, а ум твой короткий. Конечно, другие постоянно двигают туда и сюда свои пальцы. Они ищут нужное место. Но я-то его нашел“».
Относительно «основной мелодии души» Йозеф фон Эйхендорф также нашел богатые смыслом слова в своем романе «Предчувствие и настоящее». Двое друзей, Фридрих и Леонтин, издали наблюдают за танцами и беседуют друг с другом. Леонтин видит в них «ужасное и смешное зрелище», когда музыканты играют, а люди танцуют, не слыша звучания музыки. «А нет ли у тебя самого, в сущности, каждый день такого же зрелища? – возразил Фридрих. – Разве не все люди жестикулируют, мучаются и стараются придать внешнюю форму собственной основной мелодии, которая в самых глубинах души дана каждому и которую один может выразить в большей степени, другой – в меньшей, но никто не способен целиком выразить ее именно так, как она ему слышится? Как мало же мы понимаем дела и даже слова человека!» «Да, если бы только у них была музыка в теле! – со смехом перебил его Леонтин. – Но большинство, и в самом деле, совершенно всерьез перебирают пальцами по деревяшке без струн, потому что так заведено и лежащий перед ними лист с нотами нужно сыграть; но что, по сути, должно представлять собой все это занятие, саму музыку и значение жизни, свихнувшиеся музыканты забыли и потеряли».
В поисках загадочных «собственных звуков» к поэту присоединяется также ученый. Речь идет о французском физике Жозефе Совье (1653–1716), который, разрабатывая свой метод косвенного определения абсолютной высоты звука, коснулся этой пока еще неисследованной тайны: «Он [метод] доказывает, что посредством точного определения высоты звука колоколов можно вывести их относительный и абсолютный вес, что из этого точно так же можно сделать вывод о количестве колебаний голосовых связок при пении и количестве движений губ при игре на духовых инструментах и насвистывании. Кроме того, таким образом можно распознать все собственные звуки одновременно звучащих резонаторов – инструментов, ваз, полостей человеческого тела – и даже едва различимые звуки птичьего пения». К этому Совье добавляет следующие выводы: «Знание собственных звуков всего существующего на земле и их изменений облегчило бы познание не только человека и его изменчивых состояний, но и состояний животных и всех остальных земных явлений. Если бы еще в древности удалось зафиксировать все собственные звуки, то сегодня мы знали бы, какими были древние люди и важнейшие события». Герман Шерхен, цитирующий теории Совье наряду с другими суждениями выдающихся французских энциклопедистов, например Фонтенеля: «Рассмотрение числовых соотношений представляет и выражает всю и единственную музыку, которую поставляет нам сама природа», находит такие достойные внимания слова: «Исследовать сущность музыки означает по-новому объяснять сущность человека!» и «Музыка освобождает человека от страха перед бренностью, она „заполняет время“, привнося в нас тайну всего живого» [150, с. 215].
Является ли только что упомянутая «музыка тишины», выступающая предпосылкой звучания собственного звука, только фантомом и мифом? Вальтер Ф. Отто пишет [156, с. 11]: «Тишина природы не есть пустое молчание, точно так же как спокойствие не есть неподвижность. Тишина имеет свой собственный чудный голос: это музыка. Когда Пан дует в флейту, звучит первобытное молчание. „Напевая красивые мелодии“, по горам бродят нимфы. Они бродят, их поступь и танец – музыка, беззвучные звуки членов в движении». Пение и говорение Вальтер Ф. Отто считает «изъяснением с бытием самих вещей» – «сверхчувственным голосом, слышимым одному только внутреннему уху». Последовательности звуков и гармония – это «врожденный голос, принадлежащий сущности мира» [156, с. 84 и далее].
Даже если эти глубокомысленные высказывания не относятся к нерешенной пока проблеме «собственных звуков» людей, тем не менее они кажутся нам достаточно ценными, чтобы привести их здесь и сделать связующим звеном для последующих выводов, которые возникнут из дальнейших рассуждений.
Нам представляется важным вопрос о скрытых фактах, связанных с музыкой, на которых основывается вся наша жизнь. Философская литература изобилует доказательствами непосредственного влияния музыки на человека. Натурализм ХVIII столетия, продолжающий жить в эстетике Й.Г. фон Кирхмана и Фридриха фон Хаусэггера, требует возобновления, поскольку в своих верных выводах основывается на первопричинах, первозданных звуках; и корректировки, так как удаляется от них в своих слишком рассудочных выводах. Главные элементы, определяющие внутреннюю взаимосвязь жизни и музыки, – напряжение и ритм. Эти музыкальные понятия соответствуют человеческой природе. Ритм не выражается в шаге, как полагал Хаусэггер, поскольку у него отсутствует элемент напряжения. Напряжение присутствует в процессе дыхания, в наполнении легких и в расслабляющем выдохе – процессе, приведшем к первому мелодичному крику радости, ликованию и последующему пению с переливами. Ритм проявляется в напряженном биении сердца с его разнообразными колебаниями – например, диастола в три-четыре раза длиннее систолы[11]. Напряжение и ритм – это процессы движения как в музыке, так и в жизни. Изобразительные силы музыки – это движущие силы жизни, они скрываются за музыкальным ритмом. Их возрастающие интенсивность и сложность отражаются в полиритмии[12] искусства (например, в джазе), развитие движущих сил человека и музыки протекает пропорционально. Гармония – это связующая сила жизни, которая сглаживает противоречия и объединяет общее. Установление гармоничных связей является смыслом и целью как человечества, так и музыки. Мелодия, третий основной элемент музыки, – это сила субъективного выражения в жизни, она представляет собой воплощение и проявление индивидуальности. Если бы философия натурализма придерживалась этих определений, то в своих последующих выводах она сумела бы избежать некоторых заблуждений. Наша философия музыкальной трансцендентности усматривает во всех этих признаках взаимосвязи жизни и музыки не причины и не первичные факты, приведшие к возникновению земной музыки, а воздействия высших духовных порядков. Речь об этом пойдет в последующих разделах. Для наглядности попробуем это изобразить в виде схемы.
Только что упомянутое дыхание как природный процесс во взаимосвязи с музыкальным ритмом требует еще дополнительного рассмотрения – то дыхание, мистику которого так глубоко поэтически постиг Райнер Мария Рильке в своих «Сонетах к Орфею»: «Вдох-выдох, ты – незримый стих! / Дыханье – движенье, равновесье. / Живу я в ритме этом, / Потоками обмениваясь с мирозданьем». В анонимном произведении, посвященном радиэстезии (чувствительности к невидимым излучениям, которые воспринимаются при помощи маятника), обнаруживаются странные отношения между дыханием, звуком и числом 25 920. Таково количество лет, которые требуются Солнцу, чтобы в своем круговом движении по зодиакам снова достичь точки весеннего равноденствия, – так называемое число прецессии. Оно получается в результате умножения 360 на 72. Число 360 соответствует делению круга на градусы и укороченному году с 360 днями. Число 72 – это количество сердцебиений у обычного человека в минуту, за которую он делает 18 вдохов и выдохов. Если 18 умножить на 1440 минут, составляющие один день, то в результате опять получается число 25 920. Число 1440 появляется снова, если 4 минуты – 1/15 градуса окружности – умножить на 360. Следовательно, количество градусов окружности соотносится с числом дней в году, равно как число вдохов и выдохов – с частотой сердцебиения. Упомянутое число 72 у индусов считается символом человеческой жизни, среднее значение которой составляет 72 года. Сколько же это дней? Опять ровно 25 920. А как обстоит дело с укороченным годом из 360 дней? Через какое время нужно добавить год, чтобы прийти к числу 365 дней? Через 72 года. Кроме того, имеется связь между числом 25 920 и обычным звуком ля. «Если определенное ля звучит 1 секунду, то инструмент, производящий звук, вибрирует 432 раза (индийская таттва[13] = 432 вдоха), если 1 минуту, то 25 920 раз. Более низкий (примерно на две октавы) звук ля за 4 минуты будет вибрировать 25 920 раз (4 минуты = 1 градус вращения Земли). Таким образом, между дыханием и звуком существует взаимосвязь» [81, с. 92 и далее].
Было бы опрометчиво не долго думая отмахнуться от этих и других числовых соотношений, к которым мы еще вернемся позднее, как от результатов праздных умозрительных рассуждений. Музыкант как посредник (медиум), передающий звуковые колебания, поддающиеся количественному измерению, первым делом должен противиться такому ошибочному пониманию и признавать законную частную жизнь числа. Как здесь не согласиться с утверждением наставника суфи Инайята Хана: «Кто знает тайну звуков, тот знает таинство всей Вселенной»?
Не менее важный общий принцип – закон полярности в музыке и в жизни. Противоположность мажора и минора часто сравнивают с мужским и женским началами (всегда ли правомерно – оставим вопрос открытым), а естественные для них «размолвка» и «примирение» в музыкальной области выражается в смене диссонанса и консонанса. Уже Шопенгауэр в основу метафизики музыки[14] кладет утверждение: «Последовательность одних только консонантных аккордов была бы перенасыщенной, утомительной и пустой, подобно апатии, к которой приводит удовлетворение всех желаний. Поэтому необходимо вводить диссонансы, хотя они порождают тревогу и неприятны, но лишь для того, чтобы при надлежащей подготовке снова их разрешить в консонансах». «Чем больше человек художественно совершенствует свое ощущение жизни, тем больше интересует его также и дисгармония – чтобы ее устранить», – говорится во «Фрагментах» Новалиса. Без сомнения, в музыкальной философии жизни Герман Кейзерлинг во многом опирается на Шопенгауэра, но он расширяет и углубляет его выводы, особенно с этической стороны. В своем труде «Возрождение» [5] Кейзерлинг усматривает гармонию в том, что связывает между собой разные события на протяжении всего развития человечества, в мелодии – осуществление единства во времени. Судьба – это мелодия жизни, событие – отдельный такт в мелодии жизни. «Но каждая отдельная жизнь представляет собой отдельный такт в мелодиях и симфониях более высокого порядка, и так может продолжаться до бесконечности». Кейзерлинг сравнивает временную последовательность событий жизни с соответствующим процессом при звучании мелодии. Но тот, чье сознание остается централизованным в основном мотиве музыки, никогда не разочаруется. Ведь если даже человеку неведома мелодичная связь жизни, всякую неожиданность он все равно переживает спокойно, считая ее наполненной смыслом. Кейзерлинг продолжает: «Здесь коренится счастье тех, кто знает о Боге и верит в его провидение». Что означает: кто верит в гармоничность мелодии жизни со всеми ее тематическими вариантами, тот в результате обретает уверенность в том, что неожиданные благозвучия и яркие диссонансы – тоже необходимый компонент музыки жизни, но нам недостает способности видеть их во взаимосвязи целого, которой обладает только Творец мелодии жизни. Для людей к этому добавляется еще и задача изменить себя в пределах той мелодии, которая воплощается ими, потому что стремление выйти за рамки всякого достигнутого состояния составляет часть их существа. И еще одна параллель: «Каждая мелодия конечна, ее завершение одновременно означает ее конец, и за апогеем могут последовать только постепенное затихание и тишина. Так, например, у многих живых существ любовь и смерть совпадают во времени».
Воззрения Кейзерлинга, по-видимому, разделяет также и Рихард Бенц: «Если мир – музыка, то ему необходим не диссонанс, а гармония: диссонанс – это всего лишь переход к гармонии. Если отклонение от основного тона указывает на бесконечно разнообразное стремление воли, находящей удовлетворение в достижении новой гармоничной ступени, то человеческая жизнь и человеческое стремление как таковое, если оно соответствует музыкальной мелодии, непременно должны нести в себе счастье и удовлетворение, а не вечно неудовлетворенное желание и страдание. Иными словами, сущностью жизни и мира предстает нечто иное, нежели то, что распознают органы чувств и разум: в переживании художественного мгновения проявляется звучание гармонии мира, которая, будучи однажды узнанной, будет приветствоваться… Того, кто слышал лишь звук гармонии мира, должно вдохновлять другое: жить, следуя примеру этой гармонии, и стремиться к ней также и в недоступной жизни явлений; насколько это возможно, добиваться ее даже в борьбе с тысячами земных неблагозвучий, в земном диссонансе слышать возвышенную музыку небес и утверждать ее вопреки всему якобы настоящему, героически снова и снова воздействовать на духовный звук вечной радости, замаскированный под кратковременное земное явление» [164, с. 72 и далее].
Связи между жизнью и музыкой столь многочисленны, что едва ли можно усомниться в их общей основе, в их происхождении из одних и тех же высших духовных сфер. Музыка возникла вместе с жизнью, а жизнь – вместе с музыкой. Было бы заманчиво разработать учение о музыкальной гармонии на духовно-биологической основе[15], если мы будем иметь в виду музыкально-человеческую двусмысленность понятий «подражание» (канон – canere – означает не только «петь», но и «предвещать»), «фуга» («бегство», «повторение» – в фуге присутствует несколько голосов, каждый из которых в соответствии со строгими правилами повторяет, в основном или измененном виде, тему – короткую мелодию, проходящую через всю фугу. Вспомним также арию da capo, состоящую из трех частей, причем третья часть мелодически повторяет первую) и «основной тон» (к которому должна возвращаться каждая мелодия), подобно «основному тону» жизни. А «наполненная звуками» сама персона (по латыни per-sonare)?
А хорошо знакомые музыкальные понятия – не являются ли они отражениями повседневной жизни? Не кажутся ли они нам непосредственно перенесенными из жизни на высокий уровень музыкального искусства? Фермата[16] как знак остановки или задержки, требующий от нас приостановиться посреди жизненного движения для спокойного и недолгого созерцания; синкопа[17], склоняющая нас к тому, чтобы однажды внутренне воспротивиться привычному ритму жизни; ключ[18], «открывающий» нам доступ к нашему жизненному пути; гармоничная каденция[19], ставящая перед нами цель в жизни; ложное заключение, модуляция[20], заставляющие нас порой избирать отдаленные пути; и многое другое, не в последнюю очередь пауза в музыке и в жизни. Ценность музыки и жизни в том, что они дают простор для творчества. Как это понимать? Как можно вплоть до малейших деталей доказать идентичность музыки и жизни, скажем, на примере паузы?
Празднично одетые толпы поклонников искусства расхаживают в буфетах театров и концертных залов. Им хочется на других посмотреть и себя показать – они обмениваются приветствиями и делятся впечатлениями со знакомыми. После духовных и душевных услад тело тоже требует подкрепления. Есть время на то, чтобы пережить услышанное и настроиться на предстоящее.
Эта неподвижная «пауза» в художественном действе – большой перерыв или антракт.
Можно ли было бы в той же степени ощутить ценность этого перерыва, если бы ему не предшествовало духовное и душевное напряжение? Не эта ли «пауза» возвращает нас обратно к себе, после того как в беззаветном переживании музыкального произведения, сценического действия наше собственное «я» было элиминировано («выключено»)? Снимающий напряжение перерыв является созидательным, потому что позволяет скопить новые силы для достижения поставленных целей. Но он обладает ценностью только тогда, когда в основе его лежит высокий смысл.
Понять смысл перерыва и тем самым отличить его от безделья – задача, которую ставит нам не только искусство, но и жизнь. Во время антракта мысленно еще раз обратимся к только что услышанной симфонии или увертюре. Спросим себя, нужны ли паузы, вставленные между отдельными частями мелодии, и каково их значение. Замолкающий звук инструментов в «раздробленной» вступительной теме увертюры Бетховена «Эгмонт» имеет собственный язык и придает образу народного героя истинную силу и величие. Или же пауза при гибели Эгмонта перед заключительной частью… Или цезуры[21] в увертюре «Леонора» или в увертюрах Вебера перед усилением напряжения, например в «Вольном стрелке», увертюре, которую Фуртвенглер предпочел разделить на три части с помощью длительных пауз. Дело обстоит так, словно все инструменты задерживают дыхание, чтобы своим молчанием усилить в нас напряжение. Такая пауза в музыкальном произведении не только созидательная, но и драматическая.
Нет ни одного подлинного художника, кому была бы неизвестна эта «пауза» в жизни, в которой созидательная энергия убывает и возникает тревожный вопрос, хватит ли таланта еще и для земной жизни, где сомнение и нетерпение отнимают последние творческие силы. Драма таких жизненных пауз нередко переходит в трагедию, в лучшем случае в добровольный отказ, безропотное смирение. В 37 лет, когда впереди была долгая жизнь, Россини отказался от своего творчества, сознавая, что стиль его устарел и противоречил веяниям времени: «Кто рано начинает, тот, по законам природы, должен и рано закончить». Великий французский поэт Поль Валери с 25 до 46 лет не опубликовал ни одной поэтической строчки. Верди считал, что «счет оплачен», уединившись в Санта Агате. Но именно этому перерыву обязаны своим появлением «Отелло» и «Фальстаф». Потрясенный ужасами войны, Райнер Мария Рильке замолк на долгие годы. А затем появилось его главное произведение – «Дунайские элегии». Таким образом, жизненная пауза тоже становится творческой, если терпение преодолевает сомнения. Рильке прекрасно выразил это в «Письмах к молодому поэту»: «Родиться может лишь то, что выношено… Нужно смиренно и терпеливо дождаться часа, когда тебя осенит новая ясность: только это и значит – жить, как должен художник: все равно в творчестве или в понимании… Быть художником это значит: отказаться от расчета и счета… Я учусь этому ежедневно, учусь в страданиях, которым я благодарен: терпение – это всё!» «Пауза» может иметь разную продолжительность – от небольшой «передышки», которую позволяешь сделать себе, наслаждаясь искусством, или в часы напряженной работы, или во время отпуска, до длительных перерывов в духовном и художественном творчестве. Если они приобретают собственный смысл, гармонично включаясь в ритм жизни, если они приводят к тому, что человек начинает вновь размышлять о внутренней «музыке» бытия и, переживая творческий подъем, стремится преобразовать саму жизнь в произведение искусства, то это значит, что и «пауза» выполнила свою важную – созидательную – задачу.
Если хотя бы в главном мы будем руководствоваться убежденностью в том, что в тождестве человеческой и музыкальной жизни таится глубокий смысл, и на следующей ступени нашего познания к своим рассуждениям привлечем других людей, то наш кругозор снова расширится. У нас отнюдь нет заранее намеченной цели не долго думая называть отныне природу источником музыки по причине того, что она обладает «музыкальностью». Нас интересуют исключительно констатации латентных, т. е. скрытых, в окружающем мире музыкальных качеств, которые позволяют нам сделать вывод, что вся наша жизнь буквально пронизана музыкальными потоками, что и в самом деле «дивный лад во всех созданиях дремлет», а звуки наполняют «цветной земной сон». Пожалуй, никто не выразил глубокий смысл этих мыслей точнее, чем Рихард Вагнер, в 1857 г. в письме к принцессе Витгенштейн назвавший музыку формой проявления мелодичного звучания, скрытого во всех реалиях жизни. Благодаря этой форме действительно звучащая музыка раскрывает себя в качестве «глубочайшей ценности мира». Тем самым мы вновь отправляемся в наш трансцендентный, ирреальный мир звуков, который мы за акустической реальностью открываем внутренним взором как духовное царство звуков более высокого уровня.
Но прежде всего природа предоставляет нам достаточно музыкальных реалий, которые наше ухо воспринимает без особых усилий. Отчасти это выражено уже в небольшой «фантазии» в начале главы. Музыка лесов, растений, водоемов! Голоса животного мира! «Все, что звучит в природе, является музыкой, – сказал Гердер, – оно заключает в себе свои элементы и нуждается только в руке, которая сумеет их выманить, в ухе, которое услышит их, и сочувствии, которое будет проявлено к ним. Ни один художник не изобрел звук или не придал ему силу, которая бы не имелась в природе или в его инструменте. Но он его нашел и наделил сладкой властью» [6]. К нему присоединяется Новалис: «О, если бы человек понимал внутреннюю музыку природы и чувствовал внешнюю гармонию!» Герхарт Гауптман говорил о темном могущественном ритме в природе: «Мы больше не слышим его! Кто его слышит, тот прорывается к танцующему бытию и ясновидению, к дифирамбу Вселенной».
Музыка природы начинается уже с шума. Это не что иное, как звуковой спектр, который вместо различимых звуков представляет собой непрерывную неупорядоченную и несбалансированную последовательность звуков. И тем не менее не будь звуков не было бы и шума. Границы расплывчаты, поэтому психолог Карл Штумпф пришел к выводу: «Шумы имеют также и музыкальные свойства».
В своей нынешней эстетической установке мы, без сомнения, прикладываем более строгий масштаб различения, чем наши предки. Непрерывное звучание [getn] для нас равносильно шуму, но, согласно Гримму, со средневерхненемецким gedon связывались музыкальные представления (воззрения, взгляды). Моря, леса, ветры обладали своим «звуком», который персонифицировался как характерное проявление сирен, Дикого охотника, водяного, русалок и других мифологических персонажей. Мы больше не употребляем такое понятие, как «звук ветра» [windeston]. Однако в сказании о Лоэнгрине еще встречается словосочетание «von windes done». (Быть может, отсюда происходит понятие «gedhns» [ «говорить впустую, бросать слова на ветер»] в нашей народной речи?) Также и шум обладал ценностью переживания, в которой мы в общем и целом сегодня ему отказываем за исключением устрашающего воздействия при его неожиданном появлении. Действительно ли надо считать достижением то, что первоначальное, наивное чувство музыки природы у нас пропало, что в колыбельной песне волн, в вечернем шепоте ветра, во всем хоре творения мы видим лишь в той или иной степени приближенные к шуму акустические явления?
То, что даже шум движущейся воды обладает музыкальными свойствами, подтвердил цюрихский геолог профессор Альберт Хайм [7, 8]. Он пишет: «Во время экскурсии в Альпах я задал вопрос путешествовавшему вместе со мной музыканту из Цюриха господину Г. Нордману, может ли он в шуме водопадов и горных потоков назвать определенные звуки. Он мне ответил, что слышит две негармонирующие группы звуков, из которых одна звучит как до мажор, а другая скорее как фа. Позднее, когда я находился в горах с моим братом Эрнстом Хаймом, музыкантом, тоже обладающим острым слухом, мы слушали звуки бурлящей воды. При продолжительном пребывании возле нее мы всегда слышали очень ясное и красивое трезвучие до мажор, но к нему примешивалось не входящее в аккорд низкое фа, которое обычно воспринимается как нижняя квинта до. Тождественность звуков всех водопадов настолько нас поразила, что мы решили больше не полагаться на свои наблюдения. В разных местах мы просили людей с музыкальным слухом прислушаться к звучанию водопадов и бурных горных ручьев, к которым мы их приводили, и напеть нам услышанное, заранее не сообщая им о своем результате. То, что они напевали, с помощью специального прибора переводилось в ноты, и оказалось, что все они слышали те же самые звуки, что и мы. Если течение очень бурное, то проще всего различить фа, а если оно более слабое – до».
Как ни странно, эти наблюдения не нашли отклика среди специалистов, хотя они могли бы обогатить наши знания о происхождении музыки и стать поводом к пересмотру общепринятых представлений о том, что природа не способна производить фиксируемые звуки или что трезвучие якобы не может считаться народным наследием, потому что терция была признана в музыке только примерно в 1300 г. в качестве поначалу еще «несовершенного» консонанса. В связи с этим Альберт Хайм отмечает: «Если на берегу шумного водоема попытаться спеть песню в иной тональности, нежели до мажор, то возникают очень неприятные диссонансы с шумом воды. Не отдавая себе в том отчета, никто не будет петь, находясь рядом с шумящей водой, иначе, чем в тональности до мажор, или, если поток очень громкий, в тональности фа мажор, – петь в другой тональности можно только намеренно. Естественно, здесь напрашивается правомерный вопрос: не сделал ли человек ноту до отправной точкой собственной музыки из-за того, что он слышал ее в шуме воды?»
Хайм записал множество гармоний[22] воды, в том числе звучание Переднего Рейна возле моста ниже Тронса:
Если сыграть этот аккорд на пианино в тремоло[23], то это действительно напоминает нам шум водопада.
Если сохранить гармонию баса и слегка видоизменить высокие звуки, то получится следующий мотив:
Человек, который разбирается в музыке, сразу узнает, что это – так называемая «Пастушья песня» после грозы в «Пасторальной симфонии» Бетховена. До потери слуха Бетховен часто приходил к журчащему ручью возле Хайлигенштадта. Воспоминания о жизни в этом небольшом городке вдохновляли его творческую фантазию. Да и остальные части этой симфонии природы звучат в фа мажоре!
Но это фа все-таки покажется нам слишком странным, если ему не уделить особого внимания. Уже в древнейшей китайской философии музыки оно играет важную роль в качестве основного тона. Оно имело название «желтый колокольчик» и, согласно Тимусу [10], считалось «произошедшим от земли», т. е. звуком земли. Независимо от изменений высоты звука на протяжении тысячелетий ноте фа вплоть до сегодняшнего дня присуще внешнее свойство земного, связанности с природой. Бетховен не был единственным, кто выразил голоса природы в тональности фа мажор (ср. многочисленные примеры у Дубицкого). И почему в начале второго акта «Тристана» рожки с их символикой леса звучно вступают в тональности фа? Что это – случайность или мы обнаруживаем здесь взаимосвязь, которую, благодаря предшествующим рассуждениям, теперь нам понять чуть проще? Является ли фа «основным тоном» природы, с которым должен образовывать «гармоничный» интервал «собственный звук» человека, его «индивидуальный тон»? Является ли нота фа «звуком, звучащим сквозь все звуки», «дремлющим во всех созданиях», быть может, и вовсе «абстрактным звуком»?
Обратимся наряду со всем прочим и к тайным учениям. В музыкальной эзотерике фа означает откровение Христа как Сына Божьего, тогда как Сам Бог обнаруживает Себя в до. Земная миссия Христа перенеслась на звук фа в качестве «основного тона» земли [11].
Что говорит нам теософия? «Творческая энергия в своей беспрерывной преобразующей работе порождает цвета, звуки и числа в форме колебаний-мелодий, которые соединяют и разделяют атомы и молекулы. Хотя по отдельности мы этого не видим и не слышим, то, что объединяется в целое, становится для нас слышимым на материальном уровне. Это и есть то, что китайцы называют великим звуком. По признанию науки, это еще и действительный основной тон природы, который музыкантами принимается за среднее фа на клавиатуре пианино. Мы отчетливо его слышим в голосах природы – в шуме океана, в шелесте листвы леса, в гуле большого города, в ветре, в грозе и в буре – словом, во всем том, что обладает в природе голосом или производит звук. Для слуха каждого, кто внимает, это достигает кульминации в одном-единственном, определенном звуке бесценной эталонной настройки, которая, как уже говорилось, представляет собой ноту фа диатонической шкалы» [4, с. 463 и далее].
Много лет тому назад я опубликовал газетную статью на эту тему и получил множество писем от читателей, которые, как они утверждали, повсюду в природе обнаруживали таинственный звук фа: в полете насекомых, в жужжании пчелиного роя, в скрипе деревьев и прочих шумах. Будет ли когда-нибудь без остатка разгадана тайна «основного тона» природы?
Здесь небезынтересно сравнение с антропософической точкой зрения. Уже упомянутая Анни фон Ланге в первом томе своего «Учения об интервалах» [23, с. 148] с позиции гуманитарных наук дает любопытное объяснение звука фа и его присхождения:
«В звуке фа всегда угадываются два аспекта: с одной стороны, прекрасное внутреннее тепло, но оно скрыто своего рода кристаллическим затвердением. Треугольник с вершиной внизу или сворачивающаяся спираль с ярко выраженным центром (sic!)[24] – таковы основные обнаруженные формы движения при переживании этого звука. Здесь возникает догадка о жертве, которая заключает в себе одновременно величайшую любовь и прохождение смерти. Это несомненный захват земли (sic!), но также и прохождение через мир твердой материи. С позиции последней это означает завершение, состояние покоя, в которое выливается любое движение. Но с позиции жертвы там скрыто живет последний духовный принцип. Наверное, это было также причиной того, почему в Средневековье звук фа считался звуком Голгофы, звуком Христа (sic!)».
Безусловно, отношения между человеком и «водной гармонией» этими сведениями далеко не исчерпываются. Насколько позволяют судить скудные источники, их можно проследить до глубокой древности. Доктор Йозеф Эннемозер [152, с. 721] ссылается на сведения римского писателя Помпония о британском острове Сене (но, может быть, все же имелось в виду античное поселение Сена Галлика в Анконе!). «Этот остров был очень знаменит тем, что на нем находился оракул галльского бога. Его девять настоятельниц, давших обет вечного целомудрия, зовутся галлицийками. Считается, что они обладают особыми умениями, а именно своим пением волнуют море и порождают ветры…» И дальше, о способах предсказания у кимвров[25], «самое удивительное из которых – когда они приходят в экстаз от шума и завихрений воды и пророчествуют. Таким образом, глаза и уши, да и нервы вообще реагируют и настроены (!) на таинственную мелодию, что наводит на мысль об обворожительных нереидах, нимфах и русалках. Это, возможно, могло бы быть даже средством лечения многих нервных болезней и превосходным способом привести склоняющихся к дремоте людей в состояние большей ясности ума, что, и в самом деле, подтверждают некоторые опыты» [152, с. 725].
Завершим размышления о звуках, происходящих из водной стихии, замечанием Рихарда Поля [12]:
«Элементарные голоса неорганической природы таинственны по своему происхождению, загадочны в своем проявлении. Не порожденные человеком и недоступные для него, они возникают внешне случайно и исчезают, как призраки. Они существовали с самого начала и вместе с Божьим Духом парили над водой, громко провозглашая власть природы согласно вечному закону: „Двигайся“». (Можно ли мне по этому случаю еще раз напомнить о моей «фантазии» в начале этой главы?)
В нашем исследовании чудесных звуков природы мы еще познакомимся с несколькими таинственными «элементарными голосами» оккультного характера. Но сейчас все-таки мы обратимся, пожалуй, к наиболее важным музыкальным звукам природы, к голосам птиц.
Задолго до того как приходит весна, приветственным кличем, состоящим из трех тонов, одна небольшая птичка сообщает о ее наступлении. Это лазоревка, которая, к сожалению, все реже встречается в городах. Ее ликующее «цициби» Антон Брукнер включил в качестве побочной темы в первую часть своей четвертой симфонии и сам спел те три слога, которые в народной речи приписываются весеннему пению синиц. Издавна – с древнейшего «Летнего канона» ХIII в., где слышится крик кукушки, и «Соловья» Жаннекена (около 1600 г.) – и до современных композиторов, таких как Герман Цильхер, Хайнц Тиссен, Армин Кнаб, сочинивших немало произведений благодаря «песням» черного дрозда, пение птиц стимулировало творческую фантазию людей.
«Здесь я написал сцену у ручья, – сказал Бетховен своему другу Шиндлеру при посещении Хайлигенштадта, где он сочинил пасторальную симфонию, – и там, в вышине, овсянки, перепела, соловьи и кукушки сочиняли музыку вместе со мной». В «Лесной птице» из оперы Вагнера «Зигфрид» мы узнаем овсянку, иволгу, жаворонков, соловья и прежде всего черного дрозда, который ранее вдохновил Байройтера на создание «Лесной птицы». Соловей встречается в опере и симфоническом сочинении Стравинского, а итальянский импрессионист Отторино Респиги не побоялся включить в свою симфонию «Пинии Рима» звуковую запись с пением соловьев, сопровождавшую партию скрипок.
Действительно ли птицы, как выразился Бетховен, «сочиняли вместе с ним»? Можно ли допустить наличие у них музыкального чувства, более того, творческих способностей? Даже если принять во внимание, что певчим птицам «темперированное[26] настроение» неведомо и что человек зачастую вкладывает в пение птиц больше смысла и чувств, чем слышит, тем не менее их необыкновенная способность создавать самый настоящий мотив на основе двух и трех тональностей снова и снова нас озадачивает. В этом отношении самой одаренной птицей является черный дрозд. Количество его мотивов исчисляется тысячами, многие исследователи, в частности профессор Бернхард Гофман, и композиторы, например Хайнц Тиссен, записали сотни переливов черного дрозда, имеющих бесчисленное множество разных форм. Кроме того, можно считать, что черный дрозд изобрел додекафоническую музыку задолго до того, как это стилевое направление было подхвачено современными композиторами. Но нередко в песне дрозда можно услышать и абсолютно чистые трезвучия. Он способен точно выводить звуковые скачки диапазоном в полторы октавы. В песнях черного дрозда Тиссен узнал не только мотивы музыки Моцарта, но и, вне всяких сомнений, первую тему из финальной части Концерта для скрипки Бетховена. Однако пернатый композитор позволил себе улучшить сочинение своего великого «коллеги» и встроить в тонический регистр доминантное воздействие.
С незапамятных времен черный дрозд пел свои песни, прежде чем человек обратил внимание на его мелодии и в той или иной степени неосознанно стал пользоваться его творческими изысканиями. Многие утверждали, что собственная звуковая система человека ограничена и материал звуков рано или поздно будет исчерпан. Но когда мы слушаем голоса природы, становится ясно, что музыкальная фантазия не знает преград. Размышляя над «концертным» даром дрозда, который совершенствуется в беспрерывном упражнении, Тиссен делает еще один вывод: «Его несомненная слуховая способность и умение отдаться чувству служат укором для иных молодых людей, избирающих профессию музыканта, но уже при простом восприятии и напевании предложенной мелодии уступающих в музыкальности черному дрозду, который не ограничивается этим стимулом, а продолжает сочинять самостоятельно».
К этому можно добавить некоторые наблюдения музыковеда доктора Карла Шторка [20]:
«Еще важнее, что отдельная птица не только имеет в своем арсенале различные мелодии, но и напевает эти мелодии по-разному. Например, соловей все время создает новые вариации, и даже, казалось бы, всегда одинаковый крик кукушки колеблется в диапазоне около пяти полутонов. С понятием обучения искусству согласуется также влияние хороших учителей. В любом саду каждой весной можно услышать, как молодые черные дрозды, которые с трудом, да и то фальшиво, извлекают лишь один такт, учатся на примере лучших певцов. Однако наряду с истинными художниками, такими как благородный зяблик, жаворонок, малиновка, соловей обыкновенный, певчий дрозд, черный дрозд и деряба, имеются также и мастера подражания. Общеизвестно, что некоторые птицы учатся мелодиям у человека. Но скворец подражает также голосам других птиц, в заимствовании фраз и мелодий сорокопут-жулан может посостязаться с любым современным опереточным композитором, а веселый дрозд-пересмешник умеет настолько точно имитировать пение других птиц, что может ввести в заблуждение даже опытного орнитолога. На пение птиц оказывают влияние окружающая обстановка и время года: та же самая птица в горах поет иначе, чем на равнине, в безлюдном лесу по-иному, чем в саду вблизи человека, на свободе иначе, чем в неволе, осенью по-иному, чем весной. Это противоречит представлению о механическом поведении птиц и скорее свидетельствует о художественном характере их пения. Можно ли пение птиц соотнести с нашей нынешней музыкальной системой звуков, особого значения не имеет. Неоднократно сообщалось о совершенно удивительных случаях, например, Заппер установил использование мажорного трезвучия у 30 птиц из 87 в девственных лесах Гватемалы».
Опять же представляется опрометчивым полагать вместе с Дарвином, что непосредственным предшественником человеческой музыки явилось пение птиц. Несомненно, они послужили стимулом, пробудив естественную потребность человека – стремление подражать. Однако музыка зародилась в совершенно другой, более высокой, области. Водные же гармонии, птичьи голоса и многочисленные необычные акустические явления на нашей земле – это явления высших духовных порядков из космических сфер.
Чувствительные люди, которые, по словам Фридриха Шлегеля, умеют «тайно внимать», воспринимают природу как музыку, подобно всемирно известному скрипачу Фрицу Крейслеру. Он пишет:
«Я услаждаю мой слух музыкой леса, и она придает мне новые силы, когда все прочие звуки утратили надо мной свою власть. Вот средство, которое всегда исцеляет. Ветер – основной тон для многих музыкальных звуков природы. Можно даже различить разные звуки, которые он порождает в различных злаках. Глубокий голос пшеницы, к примеру, может показаться нам басом певца, более высокий звук ячменя – сопрано певицы, а более резкий, но приятный звук овса – иногда тенором, иногда светлым голосом мальчика, поющего на клиросе. Но бывают также периоды, когда ни одна музыка в мире не кажется столь прекрасной, как полная тишина. Когда вокруг тишина, пробуждается внутренняя гармония, и в такие мгновения ты способен постичь гармонию сфер» (газета «Dresdner Nachrichten» от 29.12.1924).
Жорж Кастнер обращает внимание на своеобразный звук камышей на Зюльте, который при легком дуновении воздуха позволяет услышать шуршание, которое в прежние времена своим сходством со звуком дудок обращало в бегство суеверных мореплавателей [12]. Кастнер и другие авторы сообщают о необъяснимых звуках, которые «скитаются» по Пиренеям и напоминают звуки эоловой арфы. Путешественники рассказывают о странных звуках барабанного боя в Персии. Возможно, речь идет об акустическом явлении, сходном с «перекатывающимся песком» на горе Синай, который издает звук, или «поющей горой» Рег-Раван в Кабуле. В горах Алтая, в совершенно пустынных и безжизненных местностях, Марко Поло слышал своеобразные приятные звуки, которые словно доносились с неба. Загадочные голоса можно услышать на некоторых шведских озерах – явление, известное под названием «феномен погоды у озера».
Не менее важными создателями звуков, являются поющие камни – фонолиты. В середине ХIХ столетия один английский гранильщик наблюдал, что отдельные виды горной породы издавали отчетливый звук при проковке молотом. При этом высота звука изменялась с увеличением размера камней. Поскольку гранильщик немного разбирался в музыке, он расставил их по порядку по образцу клавиатуры и мог правильно сыграть мелодию, выстукивая по своей «каменной гармонике» молоточками. В 1841 г. изобретатель Ричардсон продемонстрировал в Королевской музыкальной библиотеке в Лондоне новый инструмент из камней. Фонолиты – это изверженная горная порода третичного периода. Для музицирования особенно подходят базальтовые соединения. Еще много тысячелетий тому назад в Китае использовались каменные гонги, так называемые «кинги». А «из самого благородного камня йю делали нио-кинг, на котором имел право играть лишь император» [13]. Музыкальный инструмент, сделанный из камней, называющийся «кромог», еще и сегодня встречается на Борнео. О поющих скалах на берегу реки Ориноко сообщал в свое время Александр фон Гумбольдт. Сто лет назад, как пишет Кастнер, при ударе по каменному блоку во дворе Парижской консерватории раздавалось полное трезвучие фа мажор (опять фа!). Практического значения, несмотря на самые разные попытки популяризировать ее, каменная гармоника не приобрела. В 1837 г. Франц Вебер продемонстрировал в Вене музыкальный инструмент, сделанный из алебастровых[27] дисков, получивший несколько неблагозвучное название «литокимбалон». В 1833 г. на Амстердамской выставке Будре представил кремниевое пианино. В конце ХIХ в. в варьете пять братьев Боцца музицировали на булыжниках. Затем этот странный инструмент навсегда исчез. Но самый яркий пример звучащих камней – колоссы Мемнона в Египте. Каждое утро огромный колосс приветствовал первый луч солнца вибрирующим звуком, похожим на колебание струны арфы, который возникал из-за резкой разницы температур на рассвете. Колосс Мемнона давно умолк. Мы не знаем, ни как возникали ее звуки, ни причину того, почему она замолчала. «Поющие камни» относятся к числу многочисленных неразгаданных тайн в необъяснимой книге природы.
В 1880 г. один охотник во время прогулки обнаружил «поющую долину». В небольшом очерке [14] он подробно описывает, как в совершенно безлюдной местности поблизости от Тронек-кена рядом с ним настолько отчетливо раздавались «компактные» звуки органа и арфы, что, казалось, он мог схватить их рукой. Это всегда были одни и те же звуки, одинаковые по высоте: «Ощущение, будто по воздуху что-то движется, что-то невидимое, непостижимое, что-то иллюзорное и вместе с тем реальное. Описать это словами невозможно. В призрачных, едва заметно вибрирующих волнах между мной и мистической стеной непрерывно перемещались стонущие звуки, и я с удивлением ощущал полную их независимость. Каждый звук придерживался своего собственного пути, и каждый раз я мог подтвердить это рукой. Местоположение звука – его расстояние по горизонтали и вертикали – можно было легко определить. Я полностью убежден, что при благоприятных условиях под таким звуком можно было бы пройти!» Насколько я знаю, этот феномен объяснения не нашел.
В 1783 г. голландец Хаафнер отправился в пешее путешествие по непроходимым лесам Цейлона. Он заночевал в гроте, но спать ему помешали голоса, обрушившиеся на него одновременно со всех сторон: «Больше ста голосов кричали, ревели вокруг него, такие ужасно странные и необычные, что бедный голландец закрыл уши руками… Позднее он слышал от туземцев, что голоса принадлежат злым духам, изгнанным в эти места» [12, с. 26 и далее].
В 1740 г. гамбургский музыковед Иоганн Маттесон, друг Генделя, внесший большой вклад в историю музыки, написал труд «Нечто новое под солнцем! Или Подземный концерт утесов в Норвегии, подтвержденный достоверными свидетельствами очевидцев». Это произведение опубликовано в «Музыкальной библиотеке» Лоренца Мицлера (т. II, Лейпциг, 1743). Свидетелем произошедшего стал городской музыкант Генрих Мейер из Христиании, которой управлял, согласно поставленной подписи, «генерал и комендант Бертух». А среди оригинальных манускриптов под грифом «Совершенно секретно (музыка) [Mus. ms. theor.]. 1215», которыми владела тогдашняя Берлинская государственная библиотека, я обнаружил запись, сделанную от имени генерала, «который собственноручно подтвердил это своей подписью».
В ней сообщается, что некие крестьянин, кантор[28] и органист слышали в полночь странный концерт, который доносился до них из подземных глубин утеса. Сначала было вступление на органе, а затем заиграл весь оркестр. Образец оригинального стиля Генриха Мейера: «После того как мы там пробыли очень долго, / органист стал возмущаться этими невидимыми музыкантами и подземными виртуозами, / и у него вырвались слова: „Эй! Если вы от БОГА, / то дайте на вас посмотреть, но если от дьявола, / то прекратите“. Сразу же стало тихо, / органист упал навзничь, / словно его свалил удар, / его нос и рот были в пене. В таком состоянии мы отнесли его в дом крестьянина… То, что я здесь написал, – чистая правда, / а мелодию в утесе, / рядом с городом Берген в Норвегии, / я слышал собственными ушами, / да и у других она тоже прочно засела в памяти: удостоверяю моей рукой».
К этому же относится и второе письмо, в котором многочисленные свидетели сообщают о поведении подземных существ на одном из островов в провинции Бергенхуус. Их описывают как маленьких проворных человечков, или карликов: «Их свечи и фонари совсем синие / и горят очень ярко. Обычное их жилище – в горах, / больших каменных расщелинах, / подземных гротах / и им подобных местах. Я также слышал / вместе со многими другими людьми / их музыку, / которая состояла из игры на губных гармошках / лангелёке [по-видимому, ланглейке, норвежском щипковом инструменте со стальными струнами], скрипках и особого пения человеческим голосом, / но это пение нельзя было разобрать, / и оно доносилось до ушей как бормотание, сопровождавшее пастуший танец». Письмо подписано майором и комендантом крепости Аггерхуус К. Бартом и уже упомянутым генералом Бертухом, который дополняет: «Но самое удивительное – что большинство этих концертов слышат в ночь перед Рождеством люди, / живущие вблизи здешней скалистой местности / и, так сказать, под утесами, / где никого не видать / и где не найдешь ни дома, / ни дверей, / ни дымовой трубы». И по поводу обоих писем: «Все, что там говорится, / чистая правда. Вы, господа мировые ученые, / исследуйте это чудо…»
Пожалуй, никто не смог бы откликнуться на данное приглашение, ибо, несмотря на все свидетельства, «мировой ученый» все же не принимает всерьез подобные сообщения, а «лишь прозаически над ними смеется», как добавляет издатель этих документов Иоганн Маттесон. Однако слушатели запомнили и записали подземную музыку, услышанную в утесах, а впоследствии она была обнародована. Вот эта мелодия подземных музыкантов:
Мелодия, имеющая тональность ля мажор, очевидно, несколько по-дилетантски записана в ре мажоре. Она целиком основывается на доминанте, которая при исполнении могла бы звучать как верхняя нота органа. Обращают на себя внимание четыре четверти ми, выпадающие из рамок. Не развеял ли ветер у слушателя промежуточные звуки? В остальном мелодия каких-либо сверхъестественных признаков не имеет, она представлена в безупречной мажорной тональности, и, особенно принимая во внимание заключительные такты, ее можно было бы считать народным норвежским спрингдансом[29]. Но оба такта, повторяющиеся в форте и пиано, соответствуют тогдашней художественной моде. Это «эхо» довольно часто встречается у Глюка, Генделя, Рейттера, учителя Гайдна. Каким образом «подземные люди» узнали о современном музыкальном стиле?! Если попытаться дать этому объяснение, то, пожалуй, здесь пригодится часто высказываемое в данной книге предположение, что такие мелодии создавались в душе самих слушателей и для их возникновения требовался лишь внешний повод со стороны высших духовных сил, таинственным образом вторгающихся в жизнь человека.
Это же, вероятно, относится и к странному переживанию шведского поэта Вернера фон Хейденштама. Непонятно лишь то, как несколько человек, находившихся в разных комнатах, одновременно слышали необычную музыку, которая раздавалась из угла комнаты, перемещалась по кабинету художника и, видимо, производилась неизвестным старинным инструментом, похожим на арфу. Чуть ли не каждую ночь эта музыка «растекалась» по комнате, а затем исчезала сквозь стену. Поэт послал записанную им мелодию композитору Гёсте Гейеру. Тот установил, что она основывалась на старинной церковной тональности, миксолидийской, о которой ни Хейденштам, ни члены его семьи не имели ни малейшего представления. Это происшествие Гёста Гейер описал в своей книге о «музыкальных проблемах». Впервые ноты этой мелодии были опубликованы Вильгельмом Вирховом в австрийском музыкальном журнале «Меркер» (вып. 5, с. 331), затем в «Новом музыкальном журнале» (1914, № 25), и наконец, Людвиг Розенбергер включил их в свой сборник [15]. Вирхов опубликовал также письмо Хейденштама, в котором удостоверялась правдивость событий и содержалось следующее замечание: «Хочу особо отметить, что я совершенно не верю в привидения. Я полагаю, что мертвые, и в самом деле, действительно мертвы. Слышимые (sic!) природные звуки, не принадлежащие человеку, например, во время грозы или шум моря, все до единого следуют определенной логике, как в примитивной гамме. Также и звуки, которые можно услышать при лихорадке, обладают своей музыкальной логикой, подобно старинной мессе. Но, пожалуй, это вряд ли что-нибудь объясняет, потому что ни один человек не был болен, буря не бушевала, а источник звуков установить было невозможно».
Не следует ли признать правоту Андреаса Веркмейстера, одного из самых образованных людей своего времени, который в 1707 г. писал: «По моему мнению, / своей цели музыка тоже пока не достигла / и в ней скрываются еще многие тайны, / какие БОГ полностью откроет своим детям в свое время, / потом, / в вечной жизни».
В своем «путешествии» по царству реальных звуков природы мы подошли к одной из границ, где человеческий разум обычно терпит фиаско. Как уже говорилось, границы миров расплывчаты, и у нас еще не раз будет возможность убедиться в том, что от ирреального, абстрактного мира звуков нас, в сущности, отделяет лишь тонкая, прозрачная стена. Чтобы попасть в эту область – в царство неслышимой, по словам Вагнера, «латентной» музыки, «с чьей помощью впервые открывается глубинное значение мира», – на нашем пути познания нам требуется сделать лишь один шаг. И «мир начинает петь, надо только найти волшебное слово». И нельзя сказать, что это волшебное слово нам совсем неизвестно. Им может быть только число.
Представим себе, что мы держим в руках неизвестный музыкальный инструмент. Он не звучит, да и не может звучать, потому что для этого у него нет акустических предпосылок – резонатора и струн. И все же мы не сомневаемся, что это действительно музыкальный инструмент. Мы узнаем это по определенным пропорциям грифа, на котором натянуты струны, или по расположению высверленных звуковых отверстий в стволе духового инструмента. Иными словами, если бы он был предназначен для извлечения звука и снабжен струнами, то мы сразу могли бы рассчитать, что целая струна способна издавать основной тон, половина струны – октаву от основного тона, струна, укороченная на одну треть, – квинту и т. д. Нам не составило бы труда перенести свой опыт, приобретенный при игре на привычных музыкальных инструментах, на этот неизвестный инструмент, звучания которого мы не слышали. И если мы положим в основу своих рассуждений известный ряд отношений 1:2:3:4 и т. д., равный основному тону, октаве, квинте, кварте и т. д., то мы могли бы представить себе, как может звучать этот инструмент, и знатоку музыки это представление могло бы даже заменить настоящую игру на нем. Но разве знаток музыки не способен с помощью музыкального воображения «услышать» звучание несуществующего инструмента? Ведь ему достаточно иметь сведения о натуральном строе, чтобы знать: 2:3 – это квинта, 4:5 – терция, 8:9 – целый тон. Иначе говоря, все, что в пространственных пропорциях упорядочено в соответствии с этим строем, для него начинает звучать, ибо музыкант может в уме сразу образовать последовательность звуков квинты, терции и секунды. Для него «дивный лад во всех созданиях дремлет». Числа дают ему также сведения о том, гармоничен ли лад или он диссонирует.
Между числом и звуком существует «психический» контакт. Тон, который воспринимает наше ухо, – это воздействие колебаний, воспринимаемых нами как звук, которые можно посчитать. Последовательность звуков – это доступное измерению соотношение различных коэффициентов колебаний. Лейбниц объяснял музыку как бессознательный счет души (exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi). Шопенгауэр признает за ним – если отрешиться от эстетической стороны – правоту. Эдуард фон Гартман ввел понятие «математически привлекательного». Таким образом, единство разнообразного, регулярность, единообразие, симметрия – это понятия, принадлежащие как искусству, так и жизни, как миру идеальному, так и миру материальному. Правда, симметричный предмет еще не есть «музыка», но, пожалуй, он таит в себе духовные предпосылки для музыкального воплощения. Многочисленные отмеченные нами связи между музыкой и природой позволяют сделать вывод, что в этих сферах действуют одни и те же или, по меньшей мере, аналогичные законы. Генрих Фрилинг призывает «видеть повсюду законы музыки» [16]. «Таким образом, тайна творческого замысла раскрывается не как некая числовая схема, а как музыка! Если бы мы от природы не были зависимы от нашего зрения, от видения мира, то, вероятно, мы всюду бы слышали звук» [Там же, с. 140].
Стоит напомнить богатые смыслом слова Э.Т.A. Гофмана: «Музыканта, т. е. того, чья душа и сознание отчетливо и ясно воспринимают музыку, повсюду омывают мелодия и гармония. Когда музыкант говорит, что цвета, запахи, лучи являются ему в виде звуков, а в их переплетении он видит чудесный концерт, – это не просто образное сравнение, не аллегория. Подобно тому как слух, по выражению одного остроумного физика, – это „зрение изнутри“, точно так же для музыканта зрение становится слухом изнутри, т. е. самым сокровенным сознанием музыки, которая, вибрируя в унисон с его душой, звучит из всего, что видят его глаза» [145, с. 46].
Теперь, чтобы показать «музыкальную» структуру картины мира, подтвердить наличие повсюду гармоничных отношений и привести в «созвучие» законы музыки с планом творения, потребуются знания математики, физики, биологии и философии. Систематизацией и интеграцией этих знаний мы обязаны прежде всего, пожалуй, Гансу Кайзеру. Его многочисленные работы в этой области распроданы, и приобрести их едва ли возможно. Кто незнаком с истоками его идей, тот будет, наверное, удивлен отдельными результатами его исследований, которые изложены в завоевавшей большую популярность книге «Слушание» («Akroasis») [17]. Например, вывод о том, что «в первых структурных элементах материи содержатся и воздействуют на них душевные формы, которые присутствуют в глубинах нашего подсознания и позволяют нам переживать мир звуков в горе и в радости». Кайзер говорит о «психическом резонансе человека с материей» при образовании кристаллов, в которых он обнаруживает типичный тройной шаг музыкальной каденции. Радиусы различных зон в недрах земли создают отношение трезвучия – «Земли могучий аккорд!» Цифра пять как видообразующая константа царства растений в соотношении с цифрой три (лепестки цветка имеют пять частей, пестики – три) позволяет распознать формы «терция – квинта». Числовые пропорции звука, по-видимому, также имеют важное сходство с пропорциями форменных элементов фигуры человека. Знатоку музыки мир, и в самом деле, представляется музыкой. «Но у того, кому выпадет милость увидеть божественное и услышать мелодию творения, сперва должно гореть сердце от любви и восторга». Фрилинг, часто ссылающийся на Кайзера, делает вывод [16, с. 140]:
«Тогда музыка была бы чудесной кристаллической формой со всеми ее вариациями, музыкой были бы узоры на ирисах и алоэ, на крыльях бабочки и перьях птиц, музыкой была бы чистая, как кристалл, форма диатомовых водорослей и простейших, и наконец, музыкой был бы даже план строения животных и растений. Разве что, обращаясь к этим богатым формами группам, мы всегда должны иметь в виду первообраз, который в них проявляется и который также необходим для художественного творчества, потому что искусство должно объяснять мир, позволяя нам переживать первообраз…»
Завершим обсуждение этой темы еще одним особенно интересным примером. Музыкой являются произведения архитектуры – у них есть собственные мелодии!
Романтик Фридрих Шлегель сказал, что архитектура – это застывшая музыка. Гёте подхватил эту мысль в своих «Максимах и рефлексиях», назвав архитектуру замолкшей музыкой. А затем приходит прекрасное видение Орфея: скалы следуют за звуками лиры, оформляются «в ритмичных слоях» – «звуки затихают, но гармония остается». А во второй части астролог говорит о поющих колоннах: «И дивный храм как будто весь поет». Имеем ли мы здесь дело лишь с поэтическими фантазиями или же великие сооружения античности действительно основываются на пропорциях музыкальной гармонии?
То, что античные архитекторы не только знали натуральный строй (возникший из пифагорейского строя), но и использовали его в качестве строительной меры, следует из таких древних трудов, как «Десять книг об архитектуре» римлянина Витрувия, жившего в I столетии н. э. В первых же строках он требует от архитектора: «…Он должен понимать музыку, тем самым он будет владеть знанием канонического исчисления звуков и их математических соотношений» [19].
Число ученых, исследовавших взаимосвязь музыки и архитектуры, весьма велико. Готфрид Земпер предполагает, что в творческий период VI в. до н. э. в Греции под влиянием учения о гармонии (имевшего как музыкальное, так и космическое обоснование) произошло преобразование архитектурного стиля, приведшее к появлению дорического стиля. Подлинные документы до нас не дошли, но согласно легендам и мифам, фронтоны Парфенона в Афинах и Пантеона в Риме представляли собой музыкальные обращения к богам. Софисты утверждали, что архитектура – это не что иное, как гармоничное сообщение восприимчивому разуму, если она, верная самой себе, имеет божественное происхождение.
Музицирующие здания, сооружения, в основе которых лежит собственная мелодия… Не абсурдна ли эта мысль? Но факты говорят сами за себя. Пожалуй, самым необычным в этом отношении является музыкальный секрет обходной галереи вокруг монастырского двора в Сан-Кугате (Каталония), о котором рассказывает Альфонс Кирхгасснер [19]. В день весеннего равноденствия солнечные лучи в определенной последовательности касаются колонн, капители[30] которых украшены фигурами животных. Нужно иметь в виду, что в средневековой мистике каждое животное соответствовало тому или иному музыкальному понятию: павлин – основному тону, бык – второму, коза – третьему, страус – четвертому тону и т. д. Если теперь музыкальные символы капителей перенести в нотную грамоту в той последовательности, в какой на колонны попадает солнце, то получится мелодия гимна, запись которого хранится в библиотеке монастыря. А соединительные детали капителей соответствуют указаниям ритма в рукописи [90].
В книге «Конструктивные формы музыки» Вейдле (которого Эрнст Бюккен цитирует в труде «Дух и форма в музыкальном произведении») установил соответствие между строением дома-резиденции эпохи Возрождения и формой сонат. И только в недавнее время ученые стали заниматься исследованием «музыки» античных сооружений. В первую очередь я имею в виду Ганса Кайзера, написавшего объемный труд, посвященный строениям храма в Пестуме [19]. Если, к примеру, исследователи тщетно задавались вопросом, почему базилика имеет девять колонн на одной стороне и восемнадцать на другой, то Кайзер, ссылаясь на музыкальные пропорции, дает ответ: девять – это число целого звука, восемнадцать – удвоение в октаве, которая в греческой символике включает в себя космос в целом. Это соотношение 1:2, согласно Платону в «Филебе», порождает красоту и силу. Многочисленные изображения, таблицы и нотные примеры доказывают «музыкальную» гармонию трех строений храма в Пестуме.
Эти отнюдь не случайные связи между музыкой и архитектурой убеждают нас в том, что музыкальное искусство не ограничивается исключительно художественным изображением слышимых звуков – скорее, оно далеко простирается в повседневную жизнь и скрыто оказывает на нее свое влияние, хотя этому до сих пор не уделяется достаточного внимания.
Однако такое выявление музыкальных пропорций в архитектуре вовсе не является чем-то новым. Еще в 1702 г. в труде «Harmonologia musica» Андреас Веркмейстер исследовал, что говорится о proportiones[31] в Ветхом Завете, и при этом установил, что монастырские хижины «и все здания, как велел Бог в Священном Писании, были гармонично построены». В частности, он ссылается на соотношения размеров Ноева ковчега, который насчитывал 300 локтей в длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в высоту. Если мы перенесем эти числа в уменьшенном масштабе на монохорд и применим к музыке, то будем иметь «совершенную гармонию» (т. е. мажорное трезвучие!!!) в ключе C[32] g1 e2. Могло ли случиться подобное без участия Бога? Я так не считаю. Итак, мы видим, что порядок Бога – это нечто исключительно гармоничное и красивое. От него происходит и наша музыка. Теперь мы можем также отчасти понять, почему музыка приносит человеку радость. Музыка представляет собой нечто упорядоченное и явное, и, таким образом, она есть не что иное, как воплощение Божьей мудрости и порядка. Поэтому, когда через такие многочисленные гармоничные звонкие звуки до слуха человека «доносятся» порядок и мудрость Бога, его Всемилостивого Создателя, а затем они наполняют его сердце и душу, музыка может легко приводить его в состояние радости». В этой связи Веркмейстер указывает, что благодаря нашим собственным музыкальным отношениям (proportiones) мы знаем, как достигается «гармония небесного тела». «Если так устроен большой мир, макрокосм, то человек как микрокосм тоже должен иметь родство с ним. Поэтому Пифагор и Платон говорили: „Душа людей – гармония“ – это подтверждают и доказывают не только многочисленные философы. Установлено также, что человек, имеющий правильные пропорции тела и его членов, чувствует музыкальные пропорции…»
Продолжая наш путь по звучащему и готовому звучать внешнему миру, мы можем задать вопрос: действительно ли наш слух в настоящее время характеризуется теми же возможностями, как и тысячи лет назад? Вдруг, наши предки были все-таки более чувствительными, более восприимчивыми к едва заметным ритмическим колебаниям природы, к гармоничным связям, которые мы сегодня, прилагая большие усилия, стремимся вновь установить при помощи вычислений? Быть может, по этой причине на протяжении многих поколений они получали от природы гораздо более мощные импульсы, чем современные люди? Эту гипотезу отстаивает Карл Шторк [20]:
«Теперь мы каждый день узнаем, что у первобытных народов или у цыган осязание или обоняние бесконечно тоньше, чем наше. Почему бы тогда и не слух? Почему бы и этому органу не быть способным воспринимать те стимулы, которые мы, полностью отвыкшие от постоянного контакта с природой, уже не чувствуем? Недавно было доказано, что слепой Гомер был куда более проницательным наблюдателем, созерцавшим природу, чем тысяча филологов, написавших к нему комментарии. Почему наши предки, которым в шуме рощи слышались голоса их богов, не могли воспринимать звуки животных гораздо тоньше, чем кабинетный ученый-музыковед нашего «бумажного» века? Было время, когда человек наивно верил, доверчиво внимал, проникновенно сопереживал, когда детским глазам фантазирующего человечества повсюду виделись существа, исполнявшие эту музыку природы. Там был свирепый Тор, взмахом молота заставлявший содрогаться небо; там в озере сидел водяной и пел песню, которая заставляла смеяться и плакать; там были прелестные русалки, напевавшие у журчащего ручья ласковые песни; там приторным голосом манила к себе морская фея; там в бурном море ревели тритоны, там в полуденной тишине, наводя ужас, смеялся Пан; там, хихикая, сквозь заросли могли прошмыгнуть кикиморы; там в дремучем лесу ревел Рюбецаль[33]. Нет, тишины не бывает в природе. Для Бёклина даже молчание леса оказывается существом, безмятежно едущим верхом на единороге посреди высоких деревьев. Таким образом, вся природа тоже полна звучащей жизнью, музыкой. Неужели эта музыка могла отставить человека равнодушным? Мы верим поэту Новалису, который тоже очень тонко чувствовал природу, когда он говорит: „Природа – это эолова арфа, музыкальный инструмент, звуки которого в свою очередь являются клавишами еще более высоких струн внутри нас“».
И здесь тоже возникает поучительное сравнение между музыковедением и гуманитарными науками. В своей своеобразной манере доктор Рудольф Штайнер в работе «Мир ощущений и мир духа» [23, с. 130] заявляет:
«Чтобы понять сущность человека, необычайно важно проследить за развитием слуха. Ибо в своем нынешнем состоянии этот слуховой аппарат человека на самом деле является только тенью того, чем он был когда-то. Сегодня этот слуховой аппарат человека воспринимает лишь звуки или выражающиеся в звуках слова. Это в какой-то мере – последний остаток того, что влилось в человека через слух, ибо когда-то через этот аппарат вливались могущественные проявления всей Вселенной. Сегодня мы слышим ухом только земную музыку, а в давние времена в человека вливалась музыка мира, музыка сфер. Сегодня мы облачаем в звуки слова, а когда-то в музыку сфер облачалось божественное слово мира, то слово, о котором в Евангелии от Иоанна говорится как о божественном слове мира, о логосе».
Надо полностью согласиться с Карлом Шторком, выражающим мнение, что музыка природы не могла не оказать влияния на человечество. Более того, человечество пронизано музыкой – оно живет в музыке, а музыка живет в нем. Наверное, мы вправе сделать подобные заключения, основываясь на напрашивающемся выводе по аналогии, который, пожалуй, не покажется слишком смелым, если систематизировать и обобщить все ранее приведенные факты, установленные путем наблюдения.
Так что же мы ранее установили?
Человеческая жизнь подчиняется законам музыки.
В природе действуют такие же музыкальные правила, как и в жизни человека.
Музыка – это жизнь, а жизнь – это музыка.
Таким образом, звук тоже был свидетелем сотворения мира – он существовал изначально, задолго до того как появились люди, способные его воспринимать. Он «наблюдал в горящем слое вулканов, в борьбе первозданных элементов, соединявшихся в звучном желании». Звук еще не был музыкой, а представлял собой разве что «rudis indigestaque moles» («сырую и неупорядоченную массу» первичной материи), как говорил Гораций. Она уже с самого начала присоединялась к гармоничному порядку. То, что он ощущался как музыка, было не действием слышимых и неслышимых голосов природы, а актом зачатия человеческого духа, который осознанно воспринимал и перерабатывал стимулы непрерывно омывающих его музыкальных потоков, исходивших от него самого и от внешнего мира. То, что он был на это способен, – милость высших сфер. Первые музицирующие люди, которые находились в гармонии с природой, одухотворяли ее и слышали в ней голос Бога, создавали священную, сегодня прерванную, связь между небом и землей. В сказках, легендах и мифах всех народов еще живо воспоминание о Божественном происхождении музыки.
Когда храброму портняжке в сказке братьев Гримм пришлось провести ночь в обществе медведя, он вынул скрипку и стал так красиво играть, что зверь забыл о своем желании лишить его жизни и стал приплясывать. В сказках всех народов музыка – это символ избавления от земных тягот и символ влияния высших сил на земную жизнь.
Легенды о возникновении музыки подтверждают ее Божественное происхождение. Согласно китайскому сказанию, к Линг Люну прилетели две птицы – посланницы Бога – и попросили его, подражая птичьему пению, сыграть на бамбуковой флейте двенадцать основных тонов, «лю». В индийском мифе бог солнца Кришна изображается с флейтой; Деваяни, дочери Шукры, Вечерней звезды (Венеры), назначено богом служить в храме танцевального искусства и пения. В Персии покровительницей Вечерней звезды является лютнистка Анахит, которая, играя на лире со струнами из солнечных лучей, водит хоровод небесных светил. Согласно греческой мифологии, лира изобретена Гермесом, тем не менее богом солнца считается Аполлон, а «солнце ударяет по струнам мировым плектром[34]» [22].
«Избавление от тяжести земли» с помощью танца предстает в сказке самой давней и первоочередной задачей музыки. Вместе с тем принуждение к танцу позволяет отогнать беду и искупить вину, как в сказке «Волшебная скрипка», которую композитор Вернер Эгк положил в основу либретто своей одноименной оперы. Этот же мотив повторяется в русской народной сказке «Черт и флейта», в которой странствующий комедиант на виселице просит о позволении последний раз сыграть на скрипке, а затем вводит всех присутствующих в танцевальный раж. Это похоже на чудодейственную силу колокольного звона Папагено в «Волшебной флейте», типичный сюжет даже встречается в западно-африканских негритянских сказках.
В сказках всегда используются совершенно определенные музыкальные инструменты: скрипка, арфа, но особенно флейта, которая обладает магической силой (вспомним крысолова из Гамельна!), и упоминание о них позволяет сделать вывод об их почтенном возрасте. Музыкальные инструменты не раз выступали как средство для выражения народной души, например арфа в северных странах. Она изображена даже на гербе Ирландии как символ матери-природы, чьи волосы в смертельной борьбе после распятия связываются на Древе жизни в семь струн ирландской арфы. В шотландской балладе струны арфы, сделанные из волос убитой девушки, зазвенев, уничтожают убийцу. Золотистые волосы в сказках о деве Маркен, Рапунцель или Спящей красавице всегда символизируют древние силы сознания и просветленность души [21]. В ирландской народной сказке «Сватовство Фреха за Финнабир» упоминаются арфисты, которых зовут Уйдиплач, Светлосмех и Сладкосон, которые в соответствии со своими именами утоляют печаль и приносят покой, тогда как в «Волынке O'Донахью» этот почтенный инструмент заставляет бессердечного арендодателя и сборщика долгов смеяться и танцевать.
Ни одному жанру искусства не приписывают в сказке подобного рода сверхчувственную, неземную власть, как музыке. Ее происхождение и воздействие объясняют небесным влиянием, и в этой вере народная душа хранит вечную мудрость.
Неужели ощущение небесного происхождения музыки, которое отражается в преданиях всех народов, только «сказочное», «мифическое»? По сравнению со звуком менее привилегированное положение в других видах искусства занимают образ и слово, и это должно нас заставить задуматься. Происхождение музыки обнаруживает космическую природу, ее воздействие сродни магии, в которой, похоже, по-прежнему действуют силы потустороннего мира (см. об этом подробнее в третьей части «Магическая музыка»). Не присутствуют ли все же в душе человека атавистические элементы, которые напоминают о первоначальной связанности земной и небесной музыки? (Этому посвящена вторая часть «Космическая музыка».) Не может ли человек, слыша звук, ощущать параллельность акустически воспринимаемых и неслышимых – трансцендентных – потоков? Не могут ли эти непрерывные влияния «музыкально ориентированной» природной жизни и гармонично устроенного, наполненного музыкальными «излучениями», внешнего мира быть естественными предпосылками того, что в земном существовании мы вообще способны воспринимать и чувствовать музыку как таковую? Если бы первопричины этого мы обнаружили в бессознательной области психики, то не способствовало ли бы это тогда прояснению этих столь важных вопросов?
Гёте в беседе с Эккерманом выразил мысль, что человек должен обладать продуктивным умом, чтобы «воспринимать простые первофеномены, распознавать их в высоких явлениях и затем творить», хотя он также считал, что «непосредственное обнаружение первофеноменов вызывает у нас тревогу, потому что мы чувствуем свою неполноценность» («Максимы и рефлексии»). Но «в естественных науках об иных проблемах нельзя говорить надлежащим образом, не призвав на помощь метафизику, но не ту школьную и словесную премудрость: это то, что было, есть и будет до физики, вместе с ней и после нее» (Там же). «Всегда смотреть на первообраз», – требовал Генрих Фрилинг. «Душевные формы мы носим в глубине своего подсознания», – утверждал Ганс Кайзер. Но существуют ли способы и возможности приблизиться к музыкальным первофеноменам?
Ключ к пониманию музыкальных первичных представлений нам дает речь. Причина и следствие, тональный звук и понятие тона слились, звук был напряжением воздуха во время грозы, производящим гром. В лингвистическом отношении «звук» [ton] и «гром» [donner] связаны между собой: средневерхненемецкое donen – «напрягать», doner – «гром», древневерхненемецкое don, ton, а также melodie (!), по-латыни tonus (тон, звук, удар грома). «Напряженным» стал также лук, струна которого, посылая стрелы, дрожала и издавала звук. А почему в мифологии лучники Геракл, Аполлон, Парис умел еще и играть на лире?! Арнольд Шеринг был убежден в наличии своего рода первичной музыкальной символики, истолкование которой было известно во все времена. Но звук – это еще и свет. С высотой связана «светлота» (маленького ребенка всегда надо спрашивать, не какой звук выше, а какой «светлее»!). Еще и сегодня языковые связи обнаруживаются в тождественности значений слов «светлый» [hell] и «отзвук» [hall]. В немецком языке прилагательное «громкий» произошло от «ярко-светлый», синонимичного с «высокий», «сильный», «резкий», тогда как «тихий» характеризуется как «темный», «глубокий», «слабый», «притупленный». Свет – это природное явление, и таким образом, речь идет о качественном понятии, таком же как звук, который, подобно солнечному свету, достигает Земли из космоса.
С давних времен считается, что звук и свет, который, проходя через призму, разделяется на основные цвета спектра, неразрывно связаны между собой. В алхимии каждой планете соответствует определенный цвет. Согласно каббалистическим представлениям, лестница Иакова в Ветхом Завете – это символ алхимических сил, радуга или «призматическая лестница» [24], семь ступеней которой опять-таки идентичны семи звукам. Еще и сегодня обнаруживаются отголоски этого единства звука и света, присутствовавшего в сознании первобытного человека, которые выражаются в «цветовом слухе» (синестезии, «audition coloree»), в индивидуально различающейся способности людей воспринимать звуки как обладающие тем или иным цветом. Аншюц [25], Шрёдер [26], Райнер [27], Аргеландер [28] и другие исследователи в многочисленных работах, посвященных этой теме, тщетно пытаются выявить закономерности в отношениях между цветом и звуком. Начиная с труда Г.Ф. Телемана «Глазной оргaн» (1739) и заканчивая показом Ласло цветомузыки постоянно предпринимались попытки найти соответствие между цветами и звуками. Большого успеха они не имели. На школьных занятиях, чтобы облегчить детям восприятие звуков, иногда используется цветовая гамма [29].
Тем не менее цветовой звук имеет внутренние закономерности, которые, наверное, проще понять чувством, нежели разумом. Когда музыкальное произведение с хроматическими[35] последовательностями аккордов кажется нам «цветным» в противоположность «одноцветной» диатонике[36], – это не просто образное восприятие. Ощущение звуков как цветов индивидуально варьируется, что затрудняет нахождение и выведение универсальных принципов. «Характеристика тональностей», к которой обращается, например, Даниэль Шубарт, больше подходит для древнегреческих тональностей с их по-разному транспонированными[37] полутонами и целыми тонами, чем для современных гамм с их одинаковыми интервалами. Кто из обычных слушателей, не наделенных абсолютным слухом, обратит внимание на то, что какой-то музыкальный фрагмент транспонируется на один тон?
В последнее время никто, пожалуй, не осмеливался так далеко углубиться в эту сложную проблему, как Август Эппли [78]. Даже если на его попытку разделить все слышимые звуки на цвета видимого спектра возразить, что границы слуха и зрения отнюдь не являются константами, с которыми можно оперировать как с математическими величинами, рассуждения Эппли нельзя не признать весьма убедительными. По его мнению, цвет и звук можно определить через отношение длины окружности к радиусу (π = 3,1416). Установленный им основной закон гласит: «Число звуковых колебаний в секунду, умноженное на π, в результате дает число колебаний в секунду (биллионы) волны соответствующего цвета». В его цветозвуковой шкале самое низкое до с шестнадцатью колебаниями имеет красный цвет, фа, наш таинственный «основной тон» природы, имеет зеленый цвет ландшафта, что соответствует результатам исследования Георга Аншюца (согласно Шуберту, фа выражает «обходительность и спокойствие»). Мы слишком удалились бы от нашей темы, если бы решили детально остановиться на многочисленных важных выводах Эппли, сделанных им на основе установленных фактов: что ми («дорический солнечный звук», см. с. 99–100) соответствует самому яркому – желтому – цвету спектра, что в трезвучии до мажор (красно-желто-сине-зеленого цвета) находит свое музыкальное выражение триединство «тело – душа – дух (разум)», что минорные тональности символизируют «ночную сторону» светлого как день мажора и что в таком случает музыка оказывается «зеркалом жизни, зеркалом души человечества». Благодаря пониманию отношений между цветом и звуком музыковеды могут открыть для себя важные неожиданные факты и по-новому взглянуть на взаимосвязь музыкального творчества и изобразительного искусства со скрытыми силами души и творческими первопорядками [78, с. 348]. Особую ценность имеют этические выводы Эппли: «Эта более высокая этика, выражающаяся через искусство, тождественна этике, которую можно выявить благодаря системе цветов и звуков и высшей гармонии… Она абсолютно необходима, поскольку привносит порядок, ведь подобно тому как следствием любого отказа от гармоничных законов становятся нарушения, точно так же в результате отказа от этой высшей этики возникают расстройства душевной и духовной жизни» [Там же, с. 350]. Этот объемный труд вносит важный вклад в прояснение внутренних отношений между жизнью и музыкой.
В современной музыке речи мы по-прежнему можем обнаружить взаимосвязь между звуком и светом. Основываясь на внутреннем чувстве, мы упорядочиваем гласные звуки в соответствии с лучом солнца, который падает сверху вниз, – от светлого звука «и» через нейтральное «а» переходим к темному «у». Попробуйте произнести вслух эту вокальную последовательность в обратном порядке, например: «Ру-ра-рич» – и вы тут же отчетливо ощутите, что совершили насилие над «природой». Нет, в простонародной речи встречается: «Ри-ра-руч», «Бим-бам-бум», «Пиф-паф-пуф» – наряду со многими другими оборотами речи, которые позволяют распознать согласованность чувства музыки с представлением о свете.
К музыкальным первофеноменам причисляется круг – символ орбит планет. В нем, согласно учению Пифагора [23, с. 74], обнаруживает себя «духовный орган „я“», и он служил ученикам для медитаций. Расположение группы людей в кругу, «когда благодаря равной удаленности от общего центра присутствующие ощущают себя непосредственной частью единого целого, надличного организма» [30], наверное, соответствует древнейшему обычаю, возникшему еще в доисторические времена. Адама ван Схелтема [31] указывает на то, что расположение вокруг центра отображает картину живого организма, душа которого локализована в центре круга и оттуда в течение всего времени строго регулирует совместно совершаемое движение периферических членов и совместное пение. В центре располагался монумент, могильный холм, алтарный камень, глашатай как олицетворение согласия в народном собрании, именно туда по сей день помещают майское деревце и пасхальный огонь. Община – это распространение центрального, священного принципа, окружность и центр обусловливают друг друга [31, с. 117]. С древнейших времен круг считается религиозным символом [67, с. 243].
Можно только предполагать, какое значение имеет здесь влияние космоса с Солнцем в качестве центра. Но в бессознательном детей по-прежнему живы мифы о Солнце, когда они, образуя круг, водят хоровод и напевают, возможно, самую древнюю мелодию человечества в пентатонической (пятитональной) шкале дохристианских кочевнических культур (по Данкерту) с текстами «Хоровод-колечко», или «Фокус-покус бузина», или «Солнце, Луна и звезды» или «Майский жук, улетай!». «Содержание любой пентатоники напоминает космическую шкалу, не придуманную людьми, а подслушанную у богов» [23, с. 246]. Танцевальные игры детей коренятся в культе природы у наших предков. Люди забыли, что в игре в «Спящую красавицу» изображается «символически осуществленная в культе мифическая свадьба между Землей и Солнцем» [31, с. 121].
Среди около 140 примеров, составивших, по всей видимости, полную коллекцию детских игр, частично очень старых, встречается около 30 мелодий, т. е. мелодия есть почти в каждой пятой игре, и они, несомненно, испытали на себе влияние пентатоники [79]. Любопытно проследить, как благодаря добавлению переходных нот первоначально пентатонический характер этих мелодий приближается к сегодняшнему мажору. Чистое пятизвучие содержится в хороводной песне из Саксонии, сходной по тексту с песней германских норн[38]:
«Измененную» пентатонику с нехарактерной проходящей нотой фа можно обнаружить в следующей мелодии[39]:
Без сомнения, здесь мы имеем дело со своего рода первичной мелодией человечества – зародышевой клеткой всех более поздних произведений искусства. (Другие важные сведения о пентатонике, «близкой к космически-неземному», содержатся в работе Анни Ланге [23, т. II].)
Именно круг определил самую древнюю форму исполнения музыки. Запевала, стоял в центре круга людей, которые вначале отвечали ему неизменными возгласами, а затем повторяющимися фрагментами мелодии. Это послужило образцом для постоянно повторяющейся рифмы, рефрена[40], пения по очереди, а в дальнейшем для рондо (= rund, круглый). Таким образом, в центре – тема, которая «окружается» различными «музыкальными мыслями», подобно Солнцу и планетам. «Повторение – это также копирование космического движения времени суток, времени года, орбиты небесного тела; чередование вдоха и выдоха, сна и бодрствования, рождения и смерти. Интенсивное начало должно всегда возвращаться, чтобы начать новый цикл. Что касается музыки, то примерами принципа повторения являются реприза в сонате, пассакалья, рондо, фуга, канон, ричеркар, секвенция… Также и по этой особенности можно понять, что искусство представляет собой отражение и „подобие“ космоса, который как в пространственном, так и во временном отношении строится на ритмичных повторениях» [18, с. 447]. Хорошим примером здесь служит ария da capo, в которой «интенсивное начало всегда возвращается». В средневековом мензуральном нотном письме наглядно выражается отношение между кругом и Божественностью. Круг в начале нотной строки означал такт три четверти. Только он был «совершенен» как символ Божественного триединства. Из полукруга, знака «несовершенного» прямого такта, возникла наша alla breve[41]. А «окружность» квинт (которая, собственно, является не кругом, а спиралью)? Иоганн Кеплер также придавал кругу особое значение в его связи с душевной жизнью: «Понятие великого учения, представленное в виде круга, имеет в душе совершенно иное значение: здесь он является не просто прообразом внешнего мира, а в известном смысле выражением первичной способности самой души вступать в отношения» [54, с. 38]. См. также цитаты Кеплера в конце второй части «Музыка космоса».
Пожалуй, круг является самым важным древнейшим «музыкальным представлением» человечества – первообразом в значении архетипов по К.Г. Юнгу. «Мир архетипов, понимает его человек или нет, должен для него оставаться осознанным, ибо в нем он по-прежнему связан с природой и со своими корнями. Если первообразы в той или иной форме остаются осознанными, то присущая им энергия может передаться человеку» [32].
Не было бы достойной задачей глубинной психологии выявить первообразы коллективного бессознательного также и в музыкальной области? Но здесь мы по-прежнему стоим у истоков, и для исследователей сохраняется широкое поле деятельности. Музыкальными архетипами рабочая группа К.Г. Юнга (согласно письменному сообщению) пока не занимается, а потому современному человеку находить способы распознавания первофеноменов приходится, основываясь исключительно на своем чутье.
Возврат к осознанию первофеноменов указывает путь в новое будущее. Это убедительно показал Хуго Кюкельхаус в своем труде, который я рекомендую прочесть, где он рассматривает значение для мировоззрения величин и числовых соотношений: «Будущая картина мира появится благодаря ясному видению эталонов и норм. Человек спасается от погружения в бессознательность, воплощением которой является механизация жизненных процессов, через понимание и осмысление первообразов… Ясное видение первообразов дает человеку чувство меры. Жизнь основывается на соблюдении меры. Жизнь и соблюдение меры составляют одно целое. Первообразы – это первочисла: они сами являют собой жизненный дух человека» [165, с. 165 и далее]. «Первообразы стояли у колыбели каждой эпохи расцвета. Лишь до тех пор, пока народы видят первообразы, они процветают. Если же представление о них блекнет, а затем исчезает вовсе, то в жизни народов начинает царить произвол. Первочисла суть первообразы. Простейшие символы, язык знаков, которые большей частью опираются на солнце и его движение по небу, являются не первообразами как таковыми, а их «защитной оболочкой». Они предполагают наличие знания, позволяющее найти первообраз, который действует сам по себе… Новая действительность может возникнуть только из ядра увиденного первообраза, из покоящегося в Боге „я“. Но сумеют ли люди осуществить такой поворот? Если сумеют, то тогда это будет самая настоящая благодать. Поскольку итогом всякого размышления оказывается сомнение, мы, обращаясь исключительно к разуму, можем лишь обреченно опустить руки. Но если людям удастся сделать этот кажущийся невозможным поворот, то они на собственном опыте узнают, сколь верно слово о Царствии Божьем, столь же крошечное, как горчичное семя» [Там же, с. 248].
Таинственная темнота распространяется над первоначалами искусства в доисторические времена. Некоторое представление об истоках культуры мы можем получить благодаря раскопкам, в ходе которых были обнаружены украшения и художественные произведения, доисторические монументы и пещерные рисунки. Однако найденные на сей день сорок лир и бронзовых рожков, возраст которых составляет более 3000 лет, остаются безмолвными, и никому также неизвестно, какие мелодии издавали музыкальные тарелки с причудливыми выгравированными рисунками. Тем не менее исследователю снова и снова хочется рассеять эту тьму, даже если за недостатком исторических сведений он вынужден пользоваться таким ненадежным вспомогательным средством, как выводы по аналогии. Такая аналогия основывается на сравнении между собой исторического развития человечества и отдельного человека.
Через одно поколение после смерти Гёте Эрнст Геккель сформулировал «основной биогенетический закон», наметки которого появились еще при жизни Гёте благодаря работам его современников Меккеля и Карла Эрнста фон Баера. Этот закон гласит, что развитие рода (филогенез) отражается в развитии отдельного индивида (онтогенез) и, следовательно, онтогенез представляет собой наследственно обусловленное и модифицированное процессами приспособления повторение филогенеза. Попытки приложить этот закон ко всем сферам жизни оказались неудовлетворительными, особенно в искусстве. Объемный труд Ф.A. ван Схелтема под названием «Духовное повторение», в котором устанавливается «основной психогенетический закон», пожалуй, остается единственным исключением из правил.
В музыковедении основной биогенетический закон практически не применялся, хотя ценные замечания на этот счет содержатся в работе Г. Янке [33]. Он постулирует наличие в человеческой душе филогенетических остатков и спрашивает: «Не могли ли эти остатки быть активированы ассоциацией или резонансом, вызванными музыкальным воздействием? В таком случае оказались бы верными слова Ницше, что человечество переживает в музыке волнующие воспоминания о радостях своей юности». Важный вопрос, на который пока еще нет ответа и который мог бы «пролить новый свет» на происхождение музыки, звучит теперь так: соответствует ли, если исходить из нашего прежнего опыта, музыкальное развитие ребенка историческому становлению музыки? И если соответствует, то вправе ли мы тогда, основываясь на музыкальном поведении ребенка, делать выводы о возникновении музыки в доисторическую эпоху, которая по-прежнему от нас скрыта?
Здесь для психогенетического музыкального исследования, без сомнения, имеются многообещающие отправные точки. Изучая «повторное развитие» («палингенез» по Геккелю), можно было бы определить, существуют ли аналогии между пристрастием маленького ребенка к ритмичным звукам, ритмизированным шумом у примитивных первобытных народов и музыкальным хлопанием в ладони групп людей в Древнем Египте и Древней Индии. Можно было бы показать, что ощущение ритма предшествует чувству мелодии, что первичную форму всей песенной музыки, согласно профессору Георгу Шюнеманну [35], следует искать в нисходящей звуковой кривой кричащего ребенка, что пение развивается из разговора на высоких тонах, что танец и игра впоследствии объединяются в единое целое. И только под самый конец, в более зрелые годы, появляется возможность воспринимать гармоничные созвучия, аналогично музыкальному развитию нашей цивилизации, где понимание гармонии в современном значении появляется только на рубеже ХV и XVI вв.
Эти теоретические рассуждения побудили меня провести собственный практический эксперимент. При поддержке высших учебных заведений Висбадена, за которую я искренне их благодарю, я поставил перед детьми (средний возраст 11–12 лет) задачу: «Нарисуйте, что такое музыка!»[42] В нескольких случаях мне было позволено самому провести урок рисования в пятых классах лицея для девочек и в гуманитарной гимназии. Я почти не давал объяснений, а ограничивался намеком на свободные отношения между звуком и цветом и избегал какого-либо влияния на детскую фантазию.
Гёте в беседе с советником посольства Фальком сказал: «Душа музицирует, когда изображает часть своей самой глубинной сущности, и, собственно говоря, это и есть величайшая тайна творения, которая, что касается ее основ, целиком покоится на рисовании и на пластике и которую она таким способом разглашает». Между музыкой и рисованием существуют многочисленные связи: колоритность музыки, пространственные движения восходящей и нисходящей мелодии, светлота высоких, темнота низких звуков, кроме того, закономерность и ритмический порядок музыки, «центральный полюс» основного тона и многое другое. Дети, которые пока еще обладают первоначальной, если не сказать «первозданной» фантазией, не отягощенной слишком большими умственными и психическими нагрузками, довольно легко обнаруживают подобные сходства. Когда они приступили к выполнению задания – преобразовать звуковые представления в образные, – их разум был задействован лишь в незначительной степени. Дети не «знали», что они делали, – они просто следовали за неопределенными эмоциональными импульсами, отдаленными ассоциациями, чьи корни простираются глубоко в бессознательное.
Более двухсот рисунков дают этому подтверждение. В большинстве случаев главным признаком музыки считается первое цветовое изображение при отказе от формы. Здесь в связи с беспредметностью музыки приобретает смысл абстрактная живопись. Мы получили два вида изображений: слияние цветов при отсутствии контура и композиции с небольшим количеством образов, резкими контрастами и причудливыми формами. Отнюдь не всегда цвета распределяются произвольно, а фантазия, которая при этом проявляется у десяти – двенадцатилетних детей, вызывает изумление. В их рисунках можно встретить все изобразительные формы, которые только можно придумать, – от светло-нежных, словно воздушных, картин до темных, тяжелых, «объемных» цветных изображений. В различии между ясной ритмичной структурой и свободным течением многоцветных «голосов» просматривается параллель с музыкой.
Рисунки, сделанные без предварительных музыкальных знаний, часто позволяют выявить стремление подняться из темных глубин к свету. Здесь проявляются уже известные нам атавистические признаки: сравнение ослабевающего звукового ряда с падающим лучом света. В изображениях песенной темы из струнного квартета Шуберта «Смерть и девочка» в соответствии с незначительным мелодическим движением преобладают темные цвета и однообразные линии, и, к удивлению, на них довольно много могильных символов, крестов и даже «мертвых» ландшафтов («После войны»). При этом надо иметь в виду, что пятиклассникам не было сделано ни малейшего намека на смысл музыкального произведения! Это является доказательством того, что у чувствительных натур «переживаются» не звуки и звуковые связи, а духовные творческие импульсы, принадлежащие трансцендентному миру ощущений Творца.
Здесь можно уже говорить о разных типах понимания у маленьких поклонников искусства. Те, кто довольствуется беспорядочным смешением цветов, по-видимому, содержание музыки ставят выше формы. Иногда у них возникают и конкретные ассоциации: например, одной девочке вспомнился хаос звуков на ярмарке. Те, кого в первую очередь привлекает форма, представляют музыку в виде геометрических образов. В результате опроса выяснилось, что эти ученики – к тому же еще и хорошие математики. А представители третьего типа пытаются подобрать символы чувства, соответствующие миру ощущений, например, сердце, из которого вырываются цветные лучи.
Два самых важных средства детского изобразительного творчества – орнамент и символ. Они являются первичными понятиями человечества, сыгравшими решающую роль в возникновении языка и доисторического искусства. В них, как и в данных рисунках, обнаруживает себя бессознательное чувство музыкальной гармонии, тысячелетиями передававшееся по наследству. В современной музыке орнамент утратил свое значение, которым он обладал в различных видах мелизма[43], но оно сохраняется в подсознании. Рисуночный орнамент, зачастую тесно связанный с символом, имеет разнообразное выражение в прямой и извилистой линии, спирали, круге. Иногда в нем используются музыкальные знаки, например скрипичный ключ, но он обнаруживает также и связь с природой, когда нотный знак постепенно переходит во вьющееся растение, из которого звуки кругами уносятся вверх к свету.
Интересно, насколько разнообразно в детских рисунках символизируется музыка. То, что в них пробуждается и развивается понимание символического содержания музыки, представляется важным не только в художественном, но и в этическом отношении. Как, например, выражается символ мелодии? По большей части – в цветных, переплетающихся, проведенных одна над другой линиях, в разветвлениях, напоминающих дерево, в расположенных группами лучах. Нередко образом мелодии оказываются сами нотные линии, изображенные в форме волны. Чаще всего символом музыки выступает нота, но в таком случае – видоизмененная благодаря богатому воображению, оторванная от нотных линий, многоцветная и образная, способная «самостоятельно двигаться». Наконец, символом музыки могут быть инструменты: скрипка, из которой вырываются цветные лучи, саксофон как неотъемлемый атрибут джазовой музыки. Возникают интересные ассоциации: диезы как знаки альтерации[44] становятся решетками, гамма изображается в виде лестницы. Но и конкретных представлений тоже оказывается недостаточно: звуки поднимаются из бушующей воды, музыка сравнивается с восходом солнца на море или с окруженным деревьями участком пути. По сравнению с мальчиками девочки более склонны использовать образы человека, например композитора, танцовщицы.
Результаты этих рисуночных экспериментов подтверждают оспариваемый основной биогенетический закон. Выявляются первообразы, позволяющие провести параллель с доисторическими временами. Пробуждаются представления, происходящие из глубин подсознания. Почему, скажем, у детей возникает идея каждую нотную линию рисовать другим цветом, как это было принято в монашеских рукописях готического периода, к примеру в «Кидрихском сборнике церковных гимнов» ХIII столетия? Изображение того, что собой представляет музыка, нельзя считать забавой – оно открывает специалисту гораздо больше психических взаимосвязей, чем кажется на первый взгляд, и их истолкование невозможно выразить несколькими словами. Пусть эти опыты еще не дают ответ на вопрос о происхождении музыки, но при систематическом их проведении и точной научной оценке они открывают перспективный путь к первоисточникам музыкального творчества, лежащим в глубинах человеческой души, и тем самым позволяют сделать выводы о возникновении музыки в целом.
Особое практическое значение для воспитания могут иметь сведения о связи музыки, природы и жизни, если детей знакомить с основами музыкального искусства как жизненного явления и на практических примерах показывать соответствие закона звука закону жизни. Это могло бы стать благодарной задачей для гимназий с музыкальным уклоном, для передовых в этой области вальдорфских школ, для вновь создаваемых и все еще не забытых музыкальных гимназий. Учреждений, действующих в этом направлении, несомненно, существует гораздо больше, чем известно общественности. Хуго Кюкельхаус сообщает о школе дыхания и пения Шлаффхорст-Андерсен, расположенной в сосновом бору неподалеку от Селле [165, с. 240 и далее]. В ней тело и душу учеников приводят в состояние расслабления с помощью специального упражнения, «благодаря которому решение, полученное на основе первообраза числа, непосредственно связывается с дыханием и пением. Иначе говоря, отыскиваются, так сказать, ажурные орнаменты производства звука… Напевая последовательности звуков, учащийся получает представление об определенных геометрических фигурах. Возникающей снизу „схеме крови“, земного явления, соответствует возникающая сверху „схема Духа“. Та и другая проникают друг в друга и совместно образуют семантическое поле. Ученики цветным мелом рисуют фигуры с ажурным орнаментом, обычно в квадратах, но также в шестиугольниках, которые заключены в окружности. В направлении их линий и в точках соединения верхние и нижние звуки заменяются более подходящими для группового исполнения и сохраняющими гармоничную последовательность звуков. В результате этого этического упражнения появляется ощущение соразмерности, проникающее из внешних форм через все слои сознания в самые глубины нашей души».
Была измерена широкая область ирреального, трансцендентного мира звуков – человек в его отношении к «настроенной на музыку» жизни и к «гармонично упорядоченному» внешнему миру. Он сам, если верить Вальтеру Блюме [34], предстает «музыкальным инструментом», созданным по правилам золотого сечения: предплечье как средняя пропорциональная величина между плечом и рукой, соответствуя большой терции в таком же соотношении между малой терцией и квинтой, наглядно изображено в пентаграмме как знаке изгнания дьявола.
В завершение этой части следует привести еще один интересный пример «латентной» музыки человеческого организма. В «Институте гармонических исследований – Германская секция» (основывающемся на идеях Ганса Кайзера) «был проведен гармонический анализ профилей черепов» [69]. Автор, Рудольф Хаазе, используя рентгенограммы и опираясь на соответствующие работы В. Бергенхоффа и В. Хоблера, рассматривает закономерности в строении черепов. Указанные в этих работах точки измерения были соединены линиями, и эти линии подверглись гармоническому анализу. Оказалось, что из пропорций, полученных в результате сравнения различных длин, чаще всего встречается соотношение квинты (2:3). На втором месте стоит большая секунда, которая в современной музыке тесно связана с квинтой (V + II = квинтсекстаккорд). При сопоставлении тех же величин, полученных при измерении черепа мужчины и женщины, было установлено, что у женского пола «преобладают» малые терции и малые сексты, у мужского – наоборот, соответствующие большие интервалы. Автор заключает: «Таким образом, самый удивительный и самый важный результат проведенного нами анализа состоит в том, что известный на протяжении многих столетий способ обозначения обеих тональностей в западноевропейской музыке – минорная (мягкая, женская) и мажорная (резкая, мужская) – пригоден и для обозначения признаков, установленных чисто медицинским и естественнонаучным путем, т. е. половых различий в профиле черепа».
Удивление этим результатом представляется преждевременным, пока не получено доказательство того, что у примитивных народов, у которых отсутствует западноевропейское понимание музыки, другой профиль черепа, и, стало быть, он имеет другие точки измерения. Изменился ли музыкальный вкус в связи с модификацией профиля черепа и, как следствие, предпочтением других интервалов? Относятся ли результаты гармонического анализа исключительно к профилям черепа человека или же распространяются также и на животных (человекообразных обезьян)? И кто осмелится утверждать, что если бы удалось установить размеры черепа первобытного человека, жившего в доисторическую эпоху, то это позволило бы определить, как он воспринимал интервалы? Какими бы ценными ни казались эти исследования, все же, наверное, предстоит еще пройти долгий путь, прежде чем гипотеза превратится в безупречный в научном отношении постулат.
Мы увидели, что человек подвергается музыкальному воздействию со стороны окружающего мира, которое мы трактуем как первичные импульсы к возникновению нашей музыки. Эти первичные импульсы повсюду на земле одинаковы, даже если они получили разное звуковое выражение у разных людей и народов в зависимости от форм и условий их жизни.
Но и эти многочисленные первофеномены «латентной» музыки, существующие в рамках земного пространства, – не причины, а следствия более высоких духовных явлений, истоки которых скрываются в космосе, в тайне гармонии сфер.
Вторая часть Музыка космоса
Интермеццо I
Гармония сфер
Врач держит в вытянутой руке скрипку, и его взгляд, тусклый и опустошенный, скользит по ней так, словно он видит инструмент впервые. Она похоже на тело женщины. Вот стройная, гибкая шея, вот туловище, разделенное слишком сильно затянутым поясом на две половины – и зачем только старые мастера увенчивали свое произведение искусства львиной головой?
– Когда я поднимаю смычок, жалуется и поет пойманная душа чужой женщины. Ее звуки веселят и возвышают, очаровывают в глубинах блаженства и отталкивают слушателей – быть может, они тоже умеют убивать, – быть может…
– Почему ты не играешь дальше?
Врач безвольно двигает головой в такт звучанию слов, глаза едва ли видят погруженного в свои мысли музыканта, друга – там у рояля. Короткие неуклюжие пальцы упрямо впиваются ногтями в клавиши, бесформенная голова склонилась, прислушиваясь, лежащие прядями локоны спадают на лоб, а широкий рот раскрывается в улыбке, которая могла означать как насмешку, так и веселое настроение. Но глубоко посаженные темные глаза излучают тепло.
Тот отворачивается, словно устыдившись своей слабости, кладет пальцы правой руки на утомленные веки и, извиняясь, говорит:
– Это просто… Знаешь, его сегодня задержала полиция и доставила сюда – для наблюдения…
Он смотрит в окно, и его взгляд непроизвольно блуждает по высоко вздымающимся стенам, ограничивающим двор.
Резким рывком музыкант разворачивается на стуле, попадая под свет лампы, и неправильность его подвижного лица становится еще заметней.
– Так-так – наверное, ты первый день работаешь тюремным врачом? Разве ты не служишь уже добрую дюжину лет? Никогда еще не встречался с тем, что безумец убивает свою возлюбленную?
Тяжело вздыхая, врач кладет скрипку на подоконник.
– Если знал человека, был с ним связан, его уважал… Ты уже не помнишь, как мы навестили его в уединенной обсерватории, далеко за городом, – как он показывал нам свою великолепную трубу, свои инструменты, богатую библиотеку, комнату для занятий музыкой, имевшую несколько необычно интерьер – странные знаки на стенах, роза на кресте, таинственные партитуры, вместо нот звезды…
– Понятно. Многолетнее одиночество, его некоторая отгороженность от людей – удивительно ли, что он помутился рассудком?
Резким движением музыкант снова придвигает кресло к пианино, его пальцы равнодушно танцуют на клавишах. Но его друг не обращает на него никакого внимания.
– Мне нужно с тобой поговорить. Пожалуй, мне впервые требуется твоя помощь, чтобы разобраться в случае. Я часто удивлялся твоим богатым, необычным для органиста знаниям. Твой музыкальный опыт, твое знание неизвестных средневековых писаний… Ладно, перехожу к делу. Ты считаешь… ты думаешь… я имею в виду некое сверхъестественное влияние музыки на человека, возможно, магическое по природе…
Музыкант не может сдержать добродушной иронии:
– Так-так – господин врач ищет спасения в оккультизме. Странное заблуждение для ученого. Но если серьезно, вся музыка изначально имеет магическую природу, ведь под словом «магия» понимают сознательное влияние на человеческую психику для достижения особого, возможно, сверхъестественного воздействия. Разве музыка – не волшебное искусство необычайной силы? Я должен прочесть тебе лекцию о методах колдовства первобытных народов, о средневековых пениях-проклятиях и заклятиях…
– Ты меня не понимаешь. Может ли звук навредить человеку, склонить к противоестественным поступкам, быть может, даже его убить?
– Высшие, неслышимые звуки – так называемые ультразвуковые волны, наверное, способны убивать бактерий. Но какое отношение это имеет к нашему астроному?
– Может ли звук действовать на большом расстоянии? Может ли он делать людей безвольными, магическим образом настолько их привлекать, что они вопреки воле следуют за ним, куда заблагорассудится их создателю?
– Дорогой друг, род крысоловов вымер, а секрет их ремесла неизвестен до сих пор. И все же мне приходит на ум… У меня есть трактат одного английского мистика по имени Робертус де Флуктибус, жившего в XVI в. Он называет себя предводителем английских розенкрейцеров и утверждает, что братьям известно гармоничное соответствие человеческого организма музыке мира, что своеобразными сочетаниями звуков, если говорить дословно – октавной квинтой Юпитера и двойной октавой Солнца, – они привлекали к себе князей и влиятельных особ…
Два-три быстрых шага врача, и его дыхание становится прерывистым.
– То, что ты говоришь – квинта и октава Юпитера, – это… да ведь это же… звездные ноты сумасшедшего… Если так…
Стук в дверь. Больничная медсестра держит несколько сильно исписанных листов бумаги. Врач перелистывает страницу за страницей со множеством изогнутых, «растерянных» линий. А вверху заголовок: «Гармония сфер».
– Пациент завершил свои записи. Теперь он лежит недвижимый и обессиленный…
– Благодарю вас, сестра.
Дверь бесшумно закрывается. Слабый звук удаляющихся шагов постепенно стихает. В помещении стоит напряженная тишина. Мерцает свет. На стенах мелькают тени. Гром, далекий и неопределенный, извещает о приближении ночной грозы. Зловеще взирает «магический глаз» включенного радио.
Врач сложил исписанные листки в синюю папку и механически бросил взгляд на давно прочитанные протоколы.
Вот сообщение комиссара уголовной полиции. В десять часов утра он входит в дом астронома профессора Гельмута Хегевальда по вызову его экономки. Находит совершенно растерянного обвиняемого на полу его кабинета. Рядом с ним обнаженное бездыханное тело неизвестной женщины в возрасте около тридцати лет. Внешние повреждения не установлены. Хегевальд прижимается ухом к груди покойной, прислушивается, качает головой, в ответ на вопрос, недоуменно улыбаясь, говорит: «Я потерял ее звук. Никто ее звук не слышал?» Его силой оттаскивают от трупа, он кричит, бьется в истерике, буйствует. Наконец его уводят.
Вот показания экономки. Работает у обвиняемого уже восемь лет. Жизненными привычками астронома никогда не интересовалась. Но считает, что его характер за последние месяцы странным образом изменился. Слышит, как он целыми днями напевает и мурлычет себе под нос мелодии, особенно когда сидит у телескопа. Однажды застает его, пребывающего в полном восторге, у окуляра[45], видит на коленях у него лист бумаги со странными пятью линиями и удивляется его словам: «Вы слышите, как звучат звезды? Какая великолепная музыка!»
Накануне вечером она должна была разослать в несколько обсерваторий телеграммы, извещающие об открытии комет. Профессор по своему обыкновению мурлычет мелодию и утверждает, что это мелодия звезды. И он дал мелодии название по имени этой звезды.
Была страшная буря, и когда экономка открыла дверь, снаружи, прислонившись к стене, стояла молодая женщина в дорожной одежде, растерянная, мокрая от дождя и обессиленная. Просит приютить ее на ночь. Вздрагивает при виде профессора: «Гельмут?», а он: «Ты ко мне?» – и заботливо ведет ее наверх.
Дальше свидетельница указывает, что поздно ночью она услышала странные звуки, доносившиеся из его кабинета, и она стала с любопытством шпионить под лестницей. Вдруг из темноты возникла фигура женщины – в длинной ночной рубашке, волосы распущены, глаза закрыты, лицо белое, как снег. Она ступает – скользит, словно сомнамбула, по ковровому покрытию так, что едва можно заметить движение, парит, как привидение.
Экономка насмерть перепугалась, убежала к себе и затаилась в кровати, ничего не хотела видеть, слышать и знать о том, что дальше происходило ночью.
Врач чувствует любопытный взгляд друга и закрывает папку.
– Не хочешь ли ты мне, наконец, сказать, что тобой движет?
Ученый медленно поднимает руку и, терзаемый сомнениями и обескураженный, опускает ее.
– Объясни мне только: что такое гармония сфер?
– Гармония сфер? Странный вопрос. Древним людям казалось, что звезды прикреплены к звучащим сферам, которые в вечном вращении посылали в космическое пространство звуковые приветствия.
– И никто не слышал их звуки?
– Как сферы могут звучать, если они не существуют вовсе?
– Но любой снаряд, который мчится по воздуху, оставляет шум в виде свиста. «Из братских сфер доносится напев старинный солнца, а путь, начертанный ему, увенчан звуком грома».
– Гёте был поэт.
– Поэты – провидцы.
– Дорогой друг, ты хочешь отменить законы физики? В космическом пространстве нет никакого воздуха, поэтому и твои звездные снаряды звучать не могут.
Музыкант видит перед собой беспомощно склонившуюся фигуру врача и едва слышно добавляет:
– И все же в этом почтенном предании заключена самая глубокая и самая прекрасная тайна космического происхождения музыкального искусства. Если бы мы когда-нибудь услышали самую прелестную из всех небесных гармоний, – говорит Филон Александрийский, – то она пробудила бы необузданные чувства удовольствия и довела бы нас до безумия[46].
– Ты говоришь: чувства удовольствия? До безумия?
Комнату озаряет сверкнувшая молния – двор на миг погрузился в огонь. Глухо, зловеще громыхает гром.
Врач хватает друга дрожащей рукой.
– Еще один вопрос, последний! Не считай меня еще за одного сумасшедшего! Было ли это чудо? Скажи мне, ты когда-нибудь слышал такое – в час смерти – загадочные звуки, без видимой причины, как с неба…
Органист спокойно отстраняется от руки врача.
– Ты знаешь, как умер Гаутама Будда? Знаешь ли ты жизнеописание Зойсе, мистика? Четвертый диалог Грегора Великого? Тюбингенскую речь канцлера о смерти герцогини Магдалены Сибиллы фон Вюртемберг?[47]
– И в этих случаях смерти…
– …Слышались голоса – звуки, которые «проходили над чувствами людей», как поведали благочестивые монахини.
Врач бросается к столу. Листы дела открываются, словно сами собой. Глаза блуждают по исповеди больного. Пристально вглядываются, впиваются в недописанные строки.
Теперь он читает вполголоса монотонным, объятым ужасом голосом:
– «…Могу ли я спать, если вижу ее под моей крышей? Ее – которую никогда не забыть, никогда не завоевать, надеясь из года в год, страстно желая, призывая в крике бреда, в…
Ее звук – я знаю, как узнаю с чуткостью обостренных органов чувств каждого человека по собственному звуку его сердца – это звук комет на невидимой партитуре неба. Блуждающая звезда, тебя нужно держать, тобой обладать? Но нет, она не может меня любить – никогда не полюбит – нет – нет…
Я одинок. Темнота ночи терзает мое сердце. Мое „я“ безотрадное, пустое, угасшее. Я ничего не знаю, ничего не чувствую.
Ничего?
„Кто обладает знанием о настоящих звуках Феба, или Солнца, для того не будет и ничего невозможного в том, чтобы выманить все изначально созданные ими мелодии и привлечь их к себе“[48].
Этот голос… что… кто здесь в этом помещении?
Ах… я… я разговаривал вслух. Разговаривал? Читал. Читал? Здесь из этой книги? Из письма Робертуса де Флуктибуса?
Я вижу, как вхожу в музыкальную комнату. Чувствую руки на клавишах домашнего органа, сохраняю на пюпитре ее образ, лежащий в ярком свете. Представляю себе задумчивые терции ее жизненного звука, поддержанные октавной квинтой солнечного интервала. Едва слышно голоса органа начинают свой звучный призыв.
Стены для меня словно становятся стеклянными, и я смотрю сквозь них в ее спальню. Она лежит неподвижно, и только ее дыхание подстраивается под ритм звуков Феба. Теперь я усиливаю ее жизненный мотив средними регистрами.
Вот она вздрагивает в резком движении, вот на пол соскальзывают ее ступни, вот она встает на ноги, вот направляется к выходу…
…Стоит уже на лестничной площадке – подошвой проверяет первую ступеньку, вторую, третью… Не раскачивается ли дверь в петлях? Или все это иллюзия? Безумие? Лихорадочный бред?
Я отрываю пальцы от клавиш… вот она… смертельно бледная… безжизненная… веки закрыты.
Я лечу к ней, перетаскиваю на мою постель, зарываюсь в ее тело, осыпаю его поцелуями…
Вздрагиваю… прислушиваюсь… прикладываю ухо к ее сердцу… застываю.
Ее звук умолк. Она…»
Сильный удар грома прерывает врача. Дом дрожит. Тучи извергают огонь. Буря вихрем уносит вверх облако пыли. Занавески развеваются так, словно их комкает невидимая рука.
Вдруг едва слышно помещение заполняет тихое, слабое пение, звучание. Глубокие октавы, квинты звенят, дрожат, звенят, дрожат, поверх них раздается мягкий, шелковистый звук нежнейшего пения…[49]
Музыкант вскакивает, ударяется о радио. Изумленный, он хватает звучащую скрипку, которая по-прежнему лежит под полуоткрытым окном.
Звучит незнакомый голос:
«То, что когда-то там, наверху, прозвучало в великой музыке сфер всемогущего композитора, не затихнет вовеки. Струна, дрожащая здесь, там уже дрожать не будет, и, избавленная от земного шума, который она еще несла в себе от держателя струн земли, будет продолжать там звучать безмятежно во все времена. Аминь»[50].
«Вы прослушали фрагмент из книги Карла Марии фон Вебера. Передача…»
Пронзительно звенит телефон.
«Выключи радио! Что? Несчастный случай? Хегевальд? Выезжаю!»
Музыкант стоит у окна. Факелы молний освещают друга, который, раздираемый сомнениями, нетвердой, неуклюжей походкой пересекает двор.
Звук «эоловой скрипки» умолкает.
Последний выдохнутый звук поднимается вверх, направляясь к вечной родине всей гармонии[51].
✽
«Звезды – сплошь целые ноты. Небо – партитура, человек – инструмент».
Это изречение поэта и прорицателя Христиана Моргенштерна (и вместе с тем основная идея предшествующего рассказа) носит, правда, символический характер. Но символ – это реальность, которая остается закрытой лишь для чересчур приземленного разума. Символ – ключ к миру в целом, еще Ямбихус утверждал: «Необъяснимая власть символа обеспечивает нам доступ к божественным вещам». А Гёте свидетельствует: «Все сущее – символ, который, полностью представляя себя самого, указывает на остальное». Поэт говорит о «настоящей символике, где частное репрезентирует общее в качестве жизненно-сиюминутного проявления необъяснимого». Согласно Альфонсу Кирхгесснеру, символ является «словом истины человека. Он, говоря метафизически, предшествует слову и дискурсивному мышлению… В художественном произведении физические процессы – это знаки надфизического, а в исключительно личном выражении человека содержится нечто такое, что его превосходит» [18, с. 81, 84]. На все большее обеднение символами указывает К.Г. Юнг: «Кто утратил исторические символы и не может довольствоваться „заменой, несомненно“, сегодня находится в затруднительном положении: перед ним зияет пропасть Ничто, перед которой человек с ужасом отворачивается» [36, с. 23].
Прежде чем мы направимся по пути музыкального познания высших сфер, сначала нам нужно уяснять для самих себя значение понятия «символ». Представляют ли собой звезды, как утверждает Христиан Моргенштерн, целые ноты, их половины или четверти, – это несущественное «частное». Куда важнее то общее, которое репрезентируется частным, а именно существующая уже многие тысячелетия вера в звуковой мир звезд. Как люди вообще пришли к этому представлению? Есть ли все-таки что-нибудь общее у звезд с музыкой?
Ответ: число.
Теперь нам уже известно, что все органические и неорганические объекты нашей земной Родины основываются на числовых соотношениях, следовательно, им присуща «латентная» музыка. Составляет ли тут исключение – если использовать метод умозаключения от обратного – космос? Быть может, небесные тела музыкально-закономерному порядку не подчиняются?
Напротив. С высших точек зрения, число имеет еще большее значение, чем в земных отношениях. Оно даже становится монадой, неделимой единицей, исходным пунктом всего бытия. Еще до монадологии Лейбница это понятие встречается у Платона, а пифагореец Филолай (500 г. до н. э.) называет цифру один (единицу) «началом всех вещей» [37, т. I, с. 410]. Это также подтверждает греческий математик, толкователь Платона Теон Александрийский, живший во II в. н. э. [38, прим.]. Единица, по его мнению, «не составлена из частей, не меняется при умножении на саму себя» и поэтому является «постоянной величиной, тождеством, разумом, идеей, субстанцией». Единица открывает хоровод чисел, которые нужно расценивать как «пифагорейские первофеномены» [43, с. 46]. Согласно Теону, цифра два возникает в результате «выхода единицы из себя», двойка – это «единица, добавляющая себя саму»; «то, что стало, – движение». Из единицы и двойки появляется число три, имеющее начало, середину и конец, первое нечетное число, обозначение круга, плоскости.
Числа, которые этим и аналогичным способом оснащаются жизненными функциями, не только обращаются к нашему математически-понятийному мышлению, но и имеют ценность переживания, которая сегодня нами утрачена. Мы можем разве что с немалым трудом мысленно перенестись в пифагорейское время, когда деления струн на монохорде (однострунном измерительном инструменте) превращали числа в звуки и пробуждали их к жизни. Филолай указывает: все, что можно познать, «имеет число» [Там же]. Без него постичь что-либо мыслью было бы нельзя. Он характеризует число как по своей природе дарующее знание, ведущее и обучающее. Если бы не было числа и «его сущности», то никому не было бы дано понять вещи и их отношения между собой. А теперь следует очень важное утверждение: число приводит «в душе все вещи в созвучие с восприятием и тем самым делает их познаваемыми и соответствующими друг другу… так как оно придает им телесность». И природа, и сила числа действенны всюду – во всех человеческих словах и делах, во всех технических изобретениях и в музыке.
Число перестало быть исключительно количественным понятием, оно представляет собой качественную ценность. Оно даже стремится обрести религиозное выражение на основе трех мотивов, установленных Штенцелем [43, с. 157] в «Тимее» Платона: «чувственного созерцания блеска и красоты неба, теоретического знания о точном в количественном отношении порядке орбит небесных светил и религиозном чувстве зависимости от воплощенных там божественных сил». Речь идет о едином переживании связанных между собой видения, знания числового порядка и религиозного чувства. Но это означает возможность того, что число и звуковое ощущение находились в причинно-следственных отношениях друг с другом – число считалось звуком, звук, в свою очередь, вызывал представление о числе! «На основе этого переживания звучащих чисел начал звучать мир», – констатирует Ганс Кайзер [17, с. 13]. «Материя получила психическую архитектонику (психическую структуру), а духовное, царство идей, – конкретную опору в гармоничных фигурах и формах: мост между бытием и ценностью, миром и душой, материей и духом был найден». Кайзер с полным основанием сожалеет, что духовная сторона пифагорейства вскоре пропала и качественное свойство числа отступило перед количественным. Нам снова нужно «углубиться в себя, внутренне погрузиться в медитативные силы нашей души».
О возможности переживать числовые соотношения как «звучащие» пишет в своем содержательном труде «Исцеление музыкой» Алекс Понтвик [70]. Ссылаясь на Августина, при рассмотрении музыкального воздействия он приходит «к выводу, что речь здесь идет в первую очередь о проблеме структуры, что воздействие музыки отнюдь не основывается на случайности, а соответствует закономерным отношениям, которые указывают на охватываемый числом порядок». Понтвик говорит о «постоянном бессознательном обнаружении того, что влияет на нас, как проявлении универсальной гармонии». Он обращается к Кеплеру: «Один из самых важных его выводов основывается на предположении, что психическое реагирование вызывается процессом, который он обозначает как „узнавание“ и который сегодня можно было бы описать, например, как реактивацию ассоциативными элементами бессознательного содержания первообразов. Кеплер исходил из того, что человеческой душе от природы должно быть присуще чувство музыкальных пропорций, – точка зрения, напоминающая архетипы коллективного бессознательного по К.Г. Юнгу. Кеплер считал, что в силу своих врожденных первообразных соотношений душа спонтанно реагирует на гармоничные внешние проявления. Если бы душа уже не носила в себе эти образы как латентные предрасположения, то ей было бы не дано переживать их как таковые» [Там же, с. 60].
Разве не может быть так, что после прямо-таки революционных открытий наличия в монохорде пропорций пифагорейские ученики были осознанно подготовлены к пробуждению этих «латентных предрасположений»? Что их приучали связывать музыкальные интервалы с числами и, наоборот, превращать гармоничные отношения в природе в звуковые образы? Слияние слуха и зрения было известно уже в Древнем Китае и называлось „слуховым светом“ [80, с. 10].
Тимий говорит о слушании мировой гармонии следующие слова: «Только посредством мысли и только внутренним ухом освещенного богом смысла можно смутно осознать неописуемое благозвучие этой гармонии, возвышающейся – в силу своей проникновенности и красоты – над всякой человеческой земной музыкой. Во всем совершенстве ее может увидеть и узнать только сам Творец и объединившиеся с ним блаженные души. Ее звуки рождаются из противоположности и градации сил, сталкивающихся и гармонично объединяющихся в более высоком согласовании, а также из разнообразно пестрого и тем не менее четко упорядоченного, более быстрого или более медленного, шумного или тихого, более спокойного или уносящего в бескрайнюю даль, движения, формирующегося по закону музыкального числа благодаря воздействию и противодействию этих сил» [10, т. II, с. 190].
Но числа, которые приводят «в душе все вещи в созвучие с восприятием», пребывают в качестве одушевленных звучащих живых существ в бесплодной изолированности до тех пор, пока они не повинуются связующей силе всей жизни, гармонии. Это понятие достаточно важно, чтобы оправдать наше желание внимательно его рассмотреть, прежде чем обратиться к космическим сферам и их гармонии.
В греческой мифологии Гармония был дочерью Ареса и Афродиты. Таким образом, ее родителями были бог войны и ласковая богиня мира. Чтобы возникла гармония, сначала в любви друг с другом должны были объединиться война и мир. Стало быть, гармония – это единство, возникшее из противоположностей. Филолай выражает эту идею следующим образом:
«С природой и гармонией дело обстоит так: сущность вещей, которая вечна, и сама природа требуют божественного, а не человеческого познания, при этом, разумеется, для нас было бы совершенно невозможно познать что-либо из имеющихся вещей, если бы в основе не лежала сущность вещей, из которых сложился мировой порядок, – как образующих границы, так и безграничных. Но поскольку эти главные принципы [имеются в виду числа один и два] были неравными и неродственными, создать на их основе мировой порядок, очевидно, было бы невозможно, если бы не присоединилась гармония, каким бы образом она ни возникла. Одинаковое и родственное не нуждались бы в гармонии вовсе; и наоборот, неодинаковое, неродственное и неравномерно упорядоченное обязательно должны быть объединены такой гармонией, благодаря которой они способны сохраняться в мировом порядке» [Там же].
Первоначально «гармония» была не множеством, а октавой как таковой в виде простейшего соотношения 1:2. «Именно в этом заключается разъяснение представления пифагорейцев о гармоничном мире и прежде всего того, каким образом они объясняли себе происхождение из противоположных первопричин космоса, имеющего границы и безграничного. Единство – ограничено, безграничное же – неопределенное двуединство, которое, когда мера единства в него привносится дважды, становится определенным двуединством. Поэтому ограничение задается измерением двуединства посредством единства, т. е. через введение соотношения 1:2, которое представляет собой математическое соотношение октавы. Следовательно, октава и есть сама гармония, которой связываются противоположные первопричины, и чтобы быть справедливым, надо признать, что в этом заключено глубокое мировоззрение, поскольку математической символикой выражено единство одного и различие многих» [40, с. 65].
Эзотерическое толкование понятия гармонии отнюдь не является исключительным достоянием греческого духа. Оно встречается и в Китае. Примерно в 600 г. до Р. Х. Лао-Цзы в трактате «Дао-дэ-цзин» («Тао-те-кинг») сказал, что единица – основа всего бытия, из которой произошло множество с его противоположностью прямого и непрямого (принцип мужского и женского). Один из толкователей по этому поводу замечает: «То и другое соединились, и из их союза возникла гармония. А дыхание гармонии, становясь все более тяжелым, произвело всех существ» [10, с. 80]. В китайской философии музыки причиной всех вещей является единица, которая создает два, а именно небо и землю. В древнейшем каббалистическом документе иудеев, в «Сефер Ецира» («Книге Творения» [45] можно прочесть: «Один: Дух Повелителя Жизни, благословенно и благословляемо имя Живущего Вечно, голос, дух, речь и Он, Дух Святой». Тимус распознает в трех этих последних понятиях прежде всего символ мира звуков, звучания, чью причину характеризует второй символ (дух) и чье содержание образует третье понятие (слово) [10, т. II, с. 140]. Итак, дух передает звуку слово! Не мог ли быть голос первичным, повинующимся духу, ибо в «Сефер Ецира» говорится о «двадцати основных буквах», которые «впечатаны в голос, вырублены в духе, уставлены в устах»? Буквах, которыми иудейская астрономия обозначала также планеты, затем числа и сами созвездия – «в этих комбинациях учение мудрости из самой ранней древности находило музыкальное отображение всех сил и всех упорядоченных движений гармонии мира» [Там же, с. 142].
Еще несколько толкований понятия гармонии из древнегреческого мира идей. В конце тринадцатой книги «Законов» Платон пишет: «Каждая фигура, и расположение в ряд чисел, и соединение гармоничных звуков, и согласование в круговых движениях небесных тел – и то одно как аналогичное для всего себя преподносящего – должны стать явственно ясными для того, кто исследует правильным методом. Но раскроется то, что мы говорим, если кто-то, правильно глядя на одно, стремится изучить все. Вот тогда-то и высветится связующая „тесьма“ упомянутого „все“». Это соединение «одного» со «всем» благодаря связующей силе гармонии едва ли еще нуждается в разъяснении.
Другой мыслитель, Гераклит Темный, называл гармонию «произведением судьбы или внутренне образованной в правильных соотношениях сущностью души» [46, III, с. 13]. А Ксенократ из школы Платона обозначает душу как само по себе движущееся число!
Из приведенных формулировок, которые представляют собой лишь небольшую часть многочисленных и разнообразных преданий, мы можем заключить, что в древности к числу относились иначе, чем в наше время. Многое, также и отрицательное, писали о «спекулятивной мистике» древнейших теорий чисел. Но при этом оставляют без внимания то, что сегодня число обесценено до мертвых форм понятийного мышления, в то время как когда-то оно считалось живым, полным значения организмом, приводившим человечество во внутренние психические отношения со Вселенной, с космосом. Есть ли у нас повод хвалиться своей «прогрессивностью», которая ставит ум выше души и которая заставила нас забыть о возвышенном символизме мира чисел? Ведь символы были тем, что наделяло число тайной жизнью. Мы будем «нищими» до тех пор, пока снова не осознаем эти некогда само собой разумеющиеся взаимосвязи и пока не станем, смутно догадываясь, «медитативно» ощущать, что «особое» в числе лишь репрезентирует «общее», по словам Гёте, «как жизненно-сиюминутное проявление необъяснимого».
И это «особое», отступающее перед «общим», мы обнаруживаем также в понятии сфер, в представлении о том, что звезды прикреплены к «кругам» (сферам), которые при вращении производили звуки, т. е. «звучащие числа». Даже если в случае орбит планет речь идет не об окружностях, а об эллипсах, то при вращении Земли неподвижное звездное небо все равно совершает мнимый круг. Форму круга имеет и горизонт. И если ранее мы познакомились с кругом как музыкальным первофеноменом человечества, то здесь на небе мы получаем первообраз той формы, который переняли земные музыканты, – первообраз неосознаваемых взаимосвязей между теллурической (земной) и космической музыкой. «Двадцать две основные буквы» в «Сефер Ецира» «установлены колесом, и вращается оно вперед и назад». Первопричина и родина звука – «мировая душа» платоновского «Тимея». Но если мир одушевлен, то причинно-следственные связи между Божественным и земным образуются посредством гармонично упорядоченных чисел. Материальное и идеальное, Божественное и светское, единичное и целостное, Земля и космос – это уже не изолированные понятия, благодаря чуду числа они становятся «созвучными» друг с другом. То, что мы больше не сознаем эти явления, уже не рассматриваем их как полные жизни взаимосвязи природы и, быть может, понимаем их лишь как чисто «случайные», чревато серьезными последствиями для всего развития западноевропейской музыки вплоть до полного отчуждения в последнее время от религиозных первоисточников. Но эти причинно-следственные связи между Богом, музыкой и природой имеют огромное значение для всей музыкальной системы мира. В следующей части, посвященной магической музыке, мы увидим, что с древнейших времен и до сих пор звук всегда в той или иной степени связывался с верой в Бога, хотя вследствие недостатков Священного предания культовая мысль иной раз перерождается в мистику, миф и суеверие и тем самым мельчает. Когда мы связываем друг с другом основополагающие понятия Бога, музыки и природы, происходит не односторонний, а обоюдный обмен духовными течениями, о чем говорили разные мыслители. Например, Аристид Квинтилиан, считавший, что музыка учит всему «вплоть до природы и сущности человека и души Вселенной», или Панакмус, который высказал мнение: «Музыка не должна ограничиваться тем, чтобы связывать звуки и управлять голосами, ей надлежит объединять и приводить в гармонию все явления природы» [47, с. 16]. Для первых столетий нового летосчисления было характерно выделять три вида музыки: musica mundana, мировую музыку, musica humana, человеческую музыку, и musica instrumentalis, инструментальную музыку, тоже имеющую Божественное происхождение, хотя музыкальные инструменты считаются лишь посредниками Божественного Духа (подробнее об этом также в следующей части).
Этим, по существу, было сказано все самое главное о гармонии сфер как «космическом первофеномене», а в более или менее конструктивных попытках соотнести отдельные планеты с теми или иными звуками в меняющемся порядке проявляется стремление к очеловечиванию, своего рода антропоморфизм, если только эти взаимосвязи не устанавливались на основе непосредственных астрологических представлений. Подробнее мы поговорим об этом чуть позже. «Но несомненно одно – что под числами скрывается определенное нечто, аналогичное высшим понятиям природы», – пишет в 1665 г. ученый патер ордена иезуитов Атанасиус Кирхер в трактате «Arithmologia» [48, с. 3]. И он «решается утверждать, что любую загадку способен решить тот», кто в состоянии привести это «нечто из запутанной массы космических явлений» в контакт с материальным миром. Далее стоит, пожалуй, вспомнить о том, что почти все предания имеют эзотерическое значение, их глубокий смысл в пифагорейских тайных союзах был доступен лишь посвященным и никогда не записывался. Это явствует из седьмого письма Платона: «Но я не считаю, что обнародование этих тайн принесет людям счастье, за исключением немногих избранных, а именно всех тех, кому нужен лишь легкий намек, чтобы самостоятельно найти разгадку. Остальным она будет вселять отчасти совершенно глупое презрение, отчасти напыщенность и самодовольство по причине иллюзии, будто теперь они вкушают всю мудрость ложками» [17. с. 21]. Тимус, Ганс Кайзер, а в последнее время Анни фон Ланге где-то научно, где-то интуитивно ближе всего, насколько это дано человеческому духу, подобрались к этим тайнам.
Эзотерическое толкование греческой тональности Анни фон Ланге раскрывает новые аспекты. Она ссылается на недоступную мне книгу «Гаммы и звездные шкалы» (Лейпциг, 1927), написанную не кем иным, как известным дирижером и композитором Феликсом фон Вайнгартнером. Эту работу следует здесь упомянуть лишь из-за ее оригинальности. Нижеследующее не дает полного представления об этом эзотерическом труде, богатом всевозможными идеями. Автор рассматривает гелиоцентрическую ориентацию древнегреческой дорической гаммы, записанной си-ля, причем центральный звук ми как заключительный и начальный звук тетрахорды (четырехзвукового ряда) «был равным солнцу». Этот ряд, как считал Тимус, «был экзотерическим[52] и резко противопоставлялся эзотерическому. Экзотерически – как внешне данная прочная форма – он следовал за тогда еще совершенно живым ощущением восприятия музыки из космических звездных просторов, т. е. вниз. Эзотерически – хранимый в тайне в местах проведения мистерий – он, наоборот, был направлен вверх. Здесь считалось необходимым пробудить формообразующие движущие силы и заблаговременно определить будущую позицию по отношению к ним. У нас нет возможности детально рассмотреть различные варианты космических отношений. Тем не менее в связи с настоящими рассуждениями важно отметить, что шкала строится уже не центростремительно, извне вовнутрь в духе пентатоники (пятитональности), а центробежно, изнутри вовне. Для того уровня музыкального сознания человечества это имело большое значение. Ибо пробуждающееся „я“ человека постепенно распространяется из своего внутреннего центра во внешний мир, каким бы он ни воспринимался – духовным или земным. Вместе с тем появляется совершенно новое соотношение взаимных частичных тонов тетрахорды, а именно соотношение дополняющих полярностей». Учитывая возможности изменения тетрахорды в различных звуковых рядах, можно понять, «насколько все это способствовало появлению совершенно новой живости переживания и управления движением вверх и вниз, живости, которая соответствовала несравненно более сознательному “я”». Затем автор говорит об эзотерическом значении октавы при ее первом появлении: «Свободный, непринужденно шагающий человек был чудом греческой пластики. Здесь совершается абсолютно аналогичное музыкальное чудо: рождение разных видов октав как звуковое отражение свободы человека, шагающего по небесным и земным пространствам…» [23, с. 248 и далее].
Дорический звуковой ряд в эзотерическом значении
Допустим, что в час рождения музыки, при первом осмысленном упорядочивании звуков в ряды, помимо прочего, важную роль играли внемузыкальные, космически обусловленные факторы. В таком случае, не должны ли были они вплоть до нашего времени пронизывать и наполнять звучанием композиционное строение звуковых миров? Не обращались ли они к нашему бессознательному во всем, что имеет для нас этическую и эстетическую ценность в музыке?
Мы можем представить себе, что все эти до сих пор окончательно не раскрытые тайны волновали юных учащихся древнегреческих философских школ. Попытаемся, призвав на помощь фантазию, преодолеть тысячелетия и мысленно перенестись в те времена, когда число еще обладало «звучащей жизнью». Ведь что такое пространство и время? Не что иное, как иллюзии материального существования!
Над крышами Афин летняя ночь разбрасывает свой серебряный глянец. Опершись на мраморные колонны, юные ученики погрузились в созерцание звездного неба. Бесчисленные искорки света – как глаза Бога, наблюдающие за творением рук человеческих. Ни один звук не доносится из небесных высот до земных ушей. И в самом деле, небо – лишь мир молчания, поглощающий каждый звук?
Затем несколько учеников тихим голосом заводят разговор о чуде звездного неба.
«Смотри, там Сатурн. Учитель говорит, что он издает самый глубокий звук небесной шкалы». – «Я знаю: затем следуют Юпитер и Марс, Солнце стоит в середине семизвучного ряда, потом идут Меркурий, Венера, Луна». – «Не священное ли число семь?» – «Не имеет ли лира семь струн по образцу сфер небесных? Не семь ли звуков у свирели? А Платон полагает, что это голос сирен, которые доносят до нас звуки от одушевленных звезд». – «Почему сегодня учитель держится в стороне от нас? Не хочет с нами знаться?» – «Тихо – он медитирует. Лишь тот, кто закрывается от внешнего мира, способен превращать числа в звуки. Внимая, он получает от небес послание, укрепляющее его земную силу».
Вмешивается третий с улыбкой превосходства. «Как вы можете утверждать, что звезды звучат! Они прикреплены к своим сферам – стало быть, только они производят звуки, а не сами небесные тела! Прекрасная сказка, звуки сирен, ничего общего с действительностью! А почему мы сами не слышим их?» Мрачно взирает на него первый оратор. «Мне кажется, ты принадлежишь к ученикам Аристотеля, который сам сперва учился у наставника Платона. Разве ты не знаешь, что привычка упраздняет восприятие? Подобно тому как мы не чуем запах воздуха, потому что он всегда вокруг нас, мы не можем слышать и звука небес, потому что он беспрерывно звучит вокруг нас от рождения и до смерти. Если бы прекратилось движение Вселенной и умолк звук, только тогда мы ужаснулись бы страшной пустыне молчания!»
Третий ученик набирается духа, чтобы дать резкую отповедь, но первый уже взял в руки лиру, стоявшую возле колонны. И из сведущих в пении уст раздается почтенный гимн Пиндара (классика древнегреческой поэзии) [49, а также 50]:
Золотая лира, Принадлежащая Аполлону Наравне с музами, Чьи кудри фиолетовы, Тебе вторит танец поступью; Знаку твоему покорны певцы, Когда, встрепенувшись, дашь ты знак к выступлению хору. А кого не полюбит Зевс, Тот безумствует пред голосом Пиерид И на суше, и в яростном море, И в страшном Тартаре, Где простерт божий враг – стоголовый Тифон.Картина блекнет, видение учеников-философов в Древних Афинах исчезает из внутреннего взора – вместо него появляется новое. Теперь мы находимся в учебном кабинете средневекового странствующего студента, который пишет диссертацию. Разумеется, на латыни, ибо еще при философе-просветителе Христиане Вольфе немецкий язык не имел доступа в университеты. На столе в маленькой, похожей на башню комнате можно увидеть приготовленную письменную тинктуру (краску) и несколько только что обрезанных гусиных перьев. Палец проверяет расщепленный стержень. Перед молодым ученым лежат листы пергамента. Еще один полный тоски взгляд из окна в манящую светлую даль – и рука выводит заголовок, снабженный многочисленными завитками: «Космический оркестр» («De sphaerarum coelestium symphonismo»), а под ним – нельзя сказать, чтобы крошечными буквами – собственное имя «Давид Блезинг» [51]. Вздыхая, он пишет пером первое предложение: «Dicunt astrologi vel musici…»
«Астрологи или музыканты говорят…» Юный автор не так уж неправ, каким бы странным ни показалось бы нам такое начало. Ведь на самом деле в средневековом ученом мире астрология, астрономия и музыка были равноценны. Между наукой о звездах, истолкованием звезд и музыкальным искусством едва ли существовали различия – в древних писаниях то и дело встречается мнение, что астроном должен быть сведущим в музыке, а композитор – верить во власть звезд. Это все, что по прошествии тысячелетий осталось от мудрости древних греков?!
И что же говорят «astrologi vel musici»?
Если молодой ученый обладает глубокими знаниями, то тогда, скорее всего, он присоединится к неоплатоникам и последователям Аристотеля и снабдит свою работу многозначительными цитатами.
Тут, прежде всего, нельзя не упомянуть «Сон Сципиона» Цицерона – важное связующее звено между древнегреческой культурой и духовным миром Запада, трактат, который пользовался большой популярностью в Средневековье.
Римский государственный деятель и искусный оратор Марк Туллий Цицерон, живший в 106–43 г. до Р. Х., написал шесть книг «De re publica» («О государстве»), от которых в наше время сохранились лишь фрагменты. Последняя книга включает в себя «Сон Сципиона», который дошел до нас благодаря римскому грамматисту Макробию. Римский полководец Публий Корнелий Сципион Африканский Младший рассказывает здесь свой сон, в котором он перенесся во времена своего пребывания в Африке, когда в 149 г. занимал должность военного трибуна. Из уст приемного деда, старого Сципиона, и своего отца Луция Эмилия Павла он узнает о произошедших событиях. Рассказ начинается со встречи Публия Сципиона с королем Масиниссой, который вспоминает о деяниях его деда, Сципиона Африканского. Ночью последний сам является ему во сне и дает наставления по управлению государством, а затем Сципиону Младшему снится, как он летает по Вселенной.
Далее мы приведем интересующие нас части сновидения [52], но не менее любопытны в этой связи также и «оккультные» представления о жизни после смерти [Там же, части III–IV]:
«„Но знай, Публий Африканский, дабы тем решительнее защищать дело государства: всем тем, кто сохранил Отечество, помог ему, расширил его пределы, назначено определенное место на небе, чтобы они жили там вечно, испытывая блаженство. Ибо ничто так не угодно Высшему Божеству, правящему всем миром, – во всяком случае, всем происходящим на земле, – как собрания и объединения людей, связанные правом и называемые государствами; их правители и охранители, отсюда отправившись, сюда же и возвращаются“.
Здесь я, хотя и был охвачен ужасом – не столько перед смертью, сколько перед кознями родных, – все же спросил, живы ли он, отец мой Павел и другие, которых мы считаем умершими.
„Разумеется, – сказал он, – они живы; ведь они освободились от оков своего тела, словно это была тюрьма, а ваша жизнь, как ее называют, есть смерть. Почему ты не взглянешь на отца своего Павла, который приближается к тебе?“
Как только я увидел его, я залился слезами, но он, обняв и целуя меня, не давал мне плакать. Когда я, сдержав лившиеся слезы, снова смог говорить, то спросил его: „Скажи мне, отец, хранимый богами и лучший из всех: так как именно это есть жизнь, как я узнал сейчас, то почему же я до сих пор нахожусь на земле? Почему мне не поспешить сюда, к вам?“
„О, нет, – ответил он, – только в том случае, если Божество, которому принадлежит весь этот храм, что ты видишь, освободит тебя из этой тюрьмы, твоего тела, для тебя может быть открыт доступ сюда. Ведь люди рождены для того, чтобы не покидать вон того, называемого Землей, шара, который ты видишь посреди этого храма, и им дана душа из тех вечных огней, которые вы называете светилами и звездами. Огни эти, шаровидные и круглые, наделенные душами и Божественным умом, совершают с изумительной скоростью свои обороты и описывают круги. Поэтому и ты, Публий, и все люди, верные своему долгу, должны держать душу в тюрьме своего тела, и вам – без дозволения Того, кто вам эту душу дал, – уйти из человеческой жизни нельзя, дабы не уклониться от обязанности человека, возложенной на вас Божеством. Но, подобно присутствующему здесь деду твоему, Сципион, подобно мне, породившему тебя, блюди и ты справедливость и исполни свой долг, а этот долг, великий по отношению к родителям и близким, по отношению к отечеству величайший. Такая жизнь – путь на небо и к сонму людей, которые уже закончили свою жизнь и, освободившись от своего тела, обитают в том месте, которое ты видишь (это был круг с ярчайшим блеском, светивший среди звезд) и которое вы, следуя примеру греков, называете Млечным кругом“.
Когда я с того места, где находился, созерцал все это, то и другое показалось мне прекрасным и изумительным. Звезды были такими, каких мы отсюда никогда не видели, и все они были такой величины, какой мы у них никогда и не предполагали; наименьшей из них являлась та, которая, будучи наиболее удалена от неба и находясь ближе всех к Земле, светила чужим светом (Луна!). Звездные шары величиной своей намного превосходили Землю. Сама же Земля мне показалась столь малой, что мне стало обидно за нашу державу, которая занимает как бы точку на ее поверхности.
В то время как я продолжал пристально смотреть на Землю, мой дед, Сципион Африканский, сказал: „Доколе же помыслы твои будут обращены вниз, к Земле? Неужели ты не видишь, в какие храмы ты пришел? Все связано девятью кругами, вернее, шарами, один из которых – небесный внешний, он объемлет все остальные, это – само Высшее Божество, удерживающее и заключающее в себе остальные шары. В нем укреплены вращающиеся круги, вечные пути звезд; под ним расположены семь кругов, вращающиеся вспять, в направлении, противоположном вращению неба; одним из этих кругов владеет звезда, которую на Земле называют Сатурновой. Далее следует светило, приносящее человеку счастье и благополучие; его называют Юпитером. Затем – красное светило, наводящее на Землю ужас; его вы зовете Марсом. Далее внизу, можно сказать, среднюю область занимает Солнце, вождь, глава и правитель остальных светил, разум и мерило Вселенной; оно столь велико, что светом своим освещает и заполняет все. За Солнцем следуют как спутники по одному пути Венера, по другому Меркурий, а по низшему кругу обращается Луна, зажженная лучами Солнца.
Но ниже уже нет ничего, кроме смертного и тленного, за исключением душ, милостью богов данных человеческому роду; выше Луны все вечно. Ибо девятое светило, находящееся в середине, – Земля – недвижимо и находится ниже всех прочих, и все весомое несется к ней в силу своей тяжести“.
С изумлением глядя на все это, я, едва придя в себя, спросил: „А что это за звук, такой громкий и такой приятный, который наполняет мои уши?“ „Звук этот, – сказал он, – разделенный промежутками неравными, но все же разумно расположенными в определенных соотношениях, возникает от стремительного движения самих кругов и, смешивая высокое с низким, создает различные уравновешенные созвучия. Ведь в безмолвии такое вращение возбуждаться не может, и природа делает так, что все, находящееся в крайних точках, дает на одной стороне низкие, на другой высокие звуки. По этой причине вон тот, наивысший небесный, круг, несущий на себе звезды и вращающийся более быстро, движется, издавая высокий и резкий звук; с самым низким звуком вращается этот вот, лунный и низший, круг; ведь Земля, девятая по счету, всегда находится в одном и том же месте, держась посреди мира.
Но восемь путей, два из которых обладают одинаковой силой, издают семь звуков, разделенных промежутками, каковое число, можно сказать, есть узел всех вещей. Воспроизведя это на струнах и посредством пения, ученые люди открыли себе путь для возвращения в это место – подобно другим людям, которые, благодаря своему выдающемуся дарованию, в земной жизни посвятили себя наукам, внушенным богами. Люди, чьи уши наполнены этими звуками, оглохли. Ведь у нас нет чувства более слабого, чем слух. И вот там, где Нил низвергается с высочайших гор к так называемым Катадупам, народ, живущий вблизи этого места, ввиду громкости возникающего там звука лишен слуха.
Но звук, о котором говорилось выше, производимый необычайно быстрым круговращением всего мира, столь силен, что человеческое ухо не может его воспринять, – подобно тому как вы не можете смотреть прямо на Солнце, когда острота вашего зрения побеждается его лучами“.
Изумляясь всему этому, я все же то и дело переводил взор на Землю».
Чему же учит нас сон Сципиона?
Его ценность несколько ограничена из-за того, что платоновское и аристотелевское учения в нем представлены в пересказанном, а не оригинальном виде. «Сон», само собой разумеется, вымышленный, его «техника» тоже заимствована у Платона, из его одноименного трактата о государстве. Речь в нем идет о Памфилии Эре, который погиб на войне, но через двенадцать дней вернулся на землю и рассказал о своих переживаниях в потустороннем мире. Конечно, Цицерон, как и все люди в то время, не ведал, как на самом движется Земля, ведь Галилей появился на свет лишь через полтора тысячелетия. Но изображение Цицероном Вселенной могло бы принадлежать и современному космонавту. Цицерон рисует удивительные картины, частично навеянные преданиями, частично порожденные его собственной фантазией. Например, звезды, имеющие форму шара, которые в реальности во много раз превосходят Землю в размерах, – откуда было об этом знать Цицерону при тогдашнем состоянии астрономии? А душа, для которой за пределами телесной «тюрьмы» не существует ни пространства, ни времени, становится сопричастной к одновременному видению всех шарообразных форм! Действительно ли речь здесь идет о «шарах», большого значения не имеет (для поборников точности до мелочей скажем: на самом деле Земля – вращающийся эллипсоид!). Насколько же воззрения Цицерона о жизни после смерти совпадают с антропософскими и теософскими представлениями!
Мы не будем приводить все эти звуковые шкалы, в которых греческие метафизики – а также Цицерон, опиравшийся на идеи Платона, – установили интервалы между отдельными планетами. Последовательность изменчива, иногда даже имеет место частичная перестановка. Эти многочисленные планетарные звуковые ряды отображают попытки измерить непостижимую Божественность гармоничного порядка земными, слишком человеческими мерками и спроецировать неземное на земную плоскость. Нам прежде всего важна сущность вещей, то «общее», которое скрывается за «частным» символического процесса. И именно Цицерону принадлежит высказывание, что звук звездных орбит «воспроизвели на струнах и в песнопениях ученые люди». Не соответствует ли это по содержанию приведенному гимну Пиндара: «Знаку твоему покорны певцы…»? Даже если это воззрение, в том виде как оно воспроизведено в «Сне Сципиона», оригинальной мыслью Цицерона не является, то, что он в духе Платона характеризует земную музыку как подражание небесной гармонии, оказало огромное влияние на все Средневековье, а глубокий смысл этой идеи пока еще не нашел должной оценки у авторитетных ученых. Ведь в противном случае такой сведущий специалист, как Юлиус Штенцель, едва ли позволил бы себе сделать следующее замечание: «Чрезвычайно убедительным и волнующим подтверждением моих заключительных слов является приведенная в конце точка зрения „Топлица“: „Должна ли гармония сфер, в которой планеты водят свой хоровод, быть великой теорией, отражающейся в земной гармонии звуков и ритмов? В таком случае учение Евдокса о гомоцентрических сферах могло бы нам принести новые разъяснения о значении нашего места“» [42, с. 184].
Что ж, гомоцентрические сферы Евдокса могли бы быть столь же мало «убедительны и волнующи», как системы гармонии сфер. Астроном и математик Евдокс, живший во второй половине IV столетия до Р. Х., объяснял разнообразные и возвратные движения планет тем, что каждая планета состояла из одновременно вращающихся вложенных одна в другую сфер, имеющих общий центр, но по-разному расположенные полюса и собственные оси, в противоположность незыблемо фиксированной Оси мира». Таким способом он пришел к выводу о существовании как минимум двадцати семи сфер. В дальнейшем его идеи развивались Аристотелем, а затем были заменены Птолемеем учением об эпициклах (вспомогательных окружностях). Но эти рассуждения уводят нас в область, лежащую в стороне от выбранного нами пути.
Вернемся лучше к нашему ученому юному другу, который размышляет в своей башенной комнатке над симфонией небесных сфер и с отчаяния, наверное, сломал уже несколько гусиных перьев, потому что ему недостает подходящих цитат из Раннего Средневековья. Немного поможем ему выйти из затруднительного положения, но прошу: не забывайте про доказательство того, что именно дух Цицерона сделал привлекательными для Запада идеи древних!
Тогда, пожалуй, студенту лучше всего обратиться к уже упомянутому Аристиду Квинтилиану, выдающемуся греческому ученому, жившему на Римской земле. О нем почти ничего не известно, даже годы его жизни точно не установлены. Предположительно он занимался научной деятельностью примерно в 100 г. и начале II в. н. э. Мы располагаем единственным написанным им аутентичным учебником музыки, относящимся к античной культуре [82]. В нем важное место занимают «учение о природе», «учение о бытии» и «учение о мировой гармонии». Мысли, которые излагает Квинтилиан, опираясь на Платона и греческих философов, говоривших о гармонии, не совсем новые, однако ему удается придать им интересную форму, изобилующую глубиной и основательностью. Он постоянно подчеркивает человеческую недостаточность, «бессилие материи», которое не позволяет нам получить духовный доступ к потокам энергии во Вселенной. Квинтилиан говорит о «Божественно-возвышенном и таинственно-невыразимом учении» [Там же, с. 321], указывая на несовершенство земного подражания Божественным образцам. «Итак, утверждение, что, хотя музыка имеет точно такое же происхождение во Вселенной, как и все остальные вещи, из-за смешения с физической материей она утратила присущую числам точность и наивысшее величие, тогда как в неземных регионах она (музыка) звучит гармонично и правильно, вполне достоверно». Он указывает, что мировые тела, движущиеся с большой скоростью, должны вызывать сотрясение эфира. Однако наш слух непригоден для восприятия этих звуков. Но для «лучших из тех, кто не делал людям плохого», звук приближается к границам их слуха. И как посвященный способен видеть присутствие Божественных фигур, «точно так же он может слышать рокот Вселенной. Но своими силами мы этого сделать не можем, и к тому же это абсолютно недостижимо для недостойных людей. Но знающие и всерьез стремящиеся люди, хотя и редко, все же удостаиваются такой чести и такого счастья со стороны высших сил» [81, с. 345 и далее].
Его философия природы с определением интервалов времен года имеет халдейское[53] происхождение. Халдеи тоже считали, что весна находится к осени в отношении кварты, к зиме в отношении квинты, тогда как по отношению к лету она образует октаву. У нас нет возможности подробно остановиться на изобилии разнообразных идей, принадлежащих Аристиду Квинтилиану, например, на космически-музыкальном истолковании знаменитого тезиса пифагорейцев, что душа – это «гармония, основанная на числах». Впечатляет подробное описание того, как душа, паря, спускается вниз из чистых регионов Вселенной и «утопает в ночной тьме вещественности», как из-за этого она становится уже неспособной «чисто мыслительным взором охватить Вселенную» и забывает «неземные прекрасные вещи». Но проходя по эфирному кругу, она перенимает все, «что является светло-сияющим», и создает телесную гармонию, при этом звук инструмента естественным образом заставляет звучать в резонансе все родственное: струны приводят в возбуждение сухожилия, духовые инструменты – воздух, которым дышит тело.
Боэций, Кассиодор, Исидор Севильский, Регино Прюмский продолжали развивать идею гармонии сфер. Ученики Августина Фавоний Эвлогий и Макробий комментируют Цицерона, Боэций его цитирует. В III в. Цензорин на основе звездной шкалы разрабатывает хроматическую тональность. Примерно в 400 г., как утверждает Жак Аншен [44], толкователь Вергилия Сервий высказал мнение, что Орфей «первым нашел гармонию, т. е. звук мировых кругов». Кроме того, согласно Аншену, грамматист Марий Викторин предположил, что сакральные песни с их обычными и противоположными строфами должны «подражать (sic!) музыке и движению Вселенной, ибо как небо от восхода и до заката вращается вправо, точно так же и поющий хоровод сперва движется вправо, а подобно тому как планеты смещаются влево, затем налево возвращается также и хоровод. В конце концов он останавливается и продолжает петь, поскольку земля, вокруг которой движется небо, стоит неподвижно в середине мира». А Кассиодор, ученый магистр при дворе Теодериха Великого, поясняет: «Все, что происходит на небе и на земле, подчинено музыкальным законам». У философа Иоанна Скота Эриугены (810–877) можно прочесть: «Красота всей созданной Вселенной основана на сходстве и несходстве с чудесной гармонией, а благодаря различным порядкам постоянств и того, что к ним добавляется, различные виды и разнообразные формы объединяются в невыразимое единство» [23, с. 272].
Еще раз вкратце остановимся на воззрениях неопифагорейцев. Филон Александрийский полагал, что, услышав гармонию сфер, мы стали бы равными Богу, подобно постившемуся сорок дней Моисею. «Он считает небо прообразом всех музыкальных инструментов, семиструнная лира является для него земным отображением небесной гармонии». Гармония души аналогична гармонии Вселенной [по Abert, 118] Плотин, основоположник учения о красоте, утверждает: «Вся музыка, поскольку она основывается на мелодии и ритме, – это земная замена небесной музыки, движущейся в ритме первоначальной идеи» [151, с. 57]. В более пространных рассуждениях он обращается к гармонии сфер. Согласно Ямблихусу, до рождения душа человека причастна к Божественной гармонии. Поэтому на земле человек воспринимает только такую гармонию, в которой можно узнать следы того Божественного происхождения. Каждое божество он наделяет собственными священными песнями, которые ему гармонично близки и при звучании вызывают Бога.
Бог создал весь мир гармоничным, только нам нельзя мерить Божественную гармонию земными мерками [118, с. 80 и далее]. «На Востоке по примеру неоплатоников вообще дошли до того, что эту музыку Вселенной объявили единственно настоящим искусством, лишь слабым откликом которого является земная музыка. Так, Григорий Нисский говорит, что музыка – это гармония, представляющая собой пение над всем господствующей Божественной силы; ибо симпатия и согласование всех вещей друг с другом по определенным правилам создают первообразную, настоящую музыку, которая звучит по воле Устроителя мирового порядка. Непосредственно пифагорейское происхождение имеет тезис Мефодия, связанный, правда, с библейской символикой цифр: сотворение мира происходило по принципу числа и гармонии, так как Бог создал небо и землю за шесть дней… Эта музыка миров считается прообразом и эталоном земной музыки также и у Амброзия… „Ни одна область знаний, – говорит Рабан Мавр, – не может обходиться без музыки, ибо без нее вообще ничего существовать не может, весь мир соединен по законам гармонии, и даже само небо движется с гармоничным звучанием“» [118].
Исидор Севильский, выдающийся испанский епископ и ученый (570–636), заявляет, что без музыки вообще невозможна никакая духовная дисциплина, потому что она без нее – ничто. Ведь мир создан по правилам гармонии, а небо движется в звуках гармоничного пения [51, с. 9]. В XII в. архиепископ Ансельм Кентерберийский заимствует древнегреческую идею о том, что не может звучать ничто, что не звучало бы в воздухе. «Но с земли вверх до небес измеряется небесная музыка, по образцу которой была изобретена наша музыка («Об образе мира», т. III, гл. XXIV). Итальянский философ-неоплатоник Марсилио Фичино пишет в трактате «О совершенной математике», § 47: «Небо составлено согласно гармоничному разделению, движется гармонично и благодаря гармоничным движениям и звукам является причиной всего». Живший через сто лет после Фичино монах-доминиканец Фома Кампанелла (род. в 1568 г.) считает само собой разумеющимся, что весь мир является гармонией, но мы не можем ощущать звуки, в которых рождены [51]. Наряду со многими другими аналогично высказывается неоплатоник Лео Хебраус в своем диалоге «Любовь».
В эпоху Возрождения значительное влияние на понимание гармонии оказал голландский врач, астролог и историограф Агриппа Неттесгеймский (1486–1535), прежде всего трактатом «Оккультная философия». Он тоже не обошел стороной звучащую Вселенную. Ученый писал: «Если хочешь познакомиться с планом мироздания, нужно понять отношения, на которых оно построено. В числах скрываются силы, которые в обоих мирах проявляют удивительные способности. Так, число один – первопричина и основа всех чисел, одновременно оно обозначает Бога, первопричину всего сотворенного мира». Согласно пифагорейцам, говорит Агриппа, существуют священные числа, принадлежащие элементам и богам планет. Эти числа должны были использоваться в магических фигурах. Математические знания тоже необходимы для музыкальной гармонии, которая в свою очередь является отражением гармонии Вселенной… Агриппа изображает различные части человеческого тела, заключенные в круги и треугольники. Он заявляет, что мир построен по человеческим пропорциям, и поэтому движение человека по законам гармонии выражает гармонию всей Вселенной. Если его тело движется в соответствии с этими идеальными фигурами, то это значит, что он постиг магическое значение древнейших ритмичных ритуальных танцев. Такие движения доставляют радость богам и заставляют звучать планеты, подобно струнным инструментам, вибрирующим, когда напевают их гармоничные звуки. От танца исходят целебные силы. «Кто болен, тот уже не гармонирует со Вселенной. Но он может обрести снова гармонию и выздороветь, если настроит свои движения сообразно движению небесных тел» [73, с. 243 и 284].
Далее: «Музыкальная гармония, – утверждает Агриппа, – могущественный творец. Она привлекает небесные влияния и изменяет чувства, решения, жесты, идеи, действия и предрасположения… Она прельщает животных, змей, птиц внимать прекрасным мелодиям… Рыбы в Александрийском море радуются гармоничным звукам, музыка создала дружбу между людьми и дельфинами [аллюзия на греческий миф об Арионе?]». Селигманн, процитировав Агриппу, продолжает: «Танец, пение, музицирование принадлежат области белой магии… В „Книге Зогар“ [имеется в виду Каббала] мы читаем: „По всей ширине неба, окружающего мир, показываются определенные фигуры, знаки, по которым мы можем узнавать тайны и самые глубокие мистерии“. Эти знаки создаются положением звезд, которые для мудрецов являются предметом созерцания и восхищения» [73, с. 288 и далее].
Нетрудно установить, что на воззрения Агриппы немалое влияние оказали представления античных ученых, а также розенкрейцерские и каббалистические идеи. Характерно его стремление включить весь мир в круговорот musica mundana, гармонии сфер. В учениях розенкрейцеров мы постоянно сталкиваемся с мыслью, что «музыкальная гармония притягивает небесные влияния». Говоря о целебной силе музыки (подробнее она будет рассматриваться в третьей части «Магическая музыка»), он возражает своему великому коллеге Парацельсу. Тот полагал, что мало кто из людей устремляет свой взор на звездное небо, «из которого течет беспрерывный поток света, ведущий человечество к новым наукам и искусствам. Музыка приходит, например, с планеты Венера. Если бы все музыканты открылись влиянию ее света, они создали бы более красивую, более небесную музыку, чем земная, которая по-прежнему воспроизводится механически» [73, с. 250].
Не оказала ли музыка такое же большое влияние на дальнейшее развитие и изменение понятия сферы, которое в ренессансе неоплатоновского пифагорейства мы встречаем у Николая Кузанского, Джордано Бруно и мистиков? Не проявляется ли снова и снова музыкальное искусство в стремлении во всем обнаружить порядок у великих средневековых мыслителей, которые в математическом символизме заимствуют у древних греков первоформы и первофеномены, чтобы с их помощью определить сущность Бога и бесконечность, а именно шар – дополненный третьим измерением и ставший «телесным» двухмерный круг? Sphaera infinita, бескрайняя сфера, предстает символом Бога. У Плотина заимствуется понятие «умственная сфера» (sphaera intelligibilis, amplissima, intellectualis orbis). Для Николая Кузанского, первого немецкого философа эпохи Возрождения, математические знаки и фигуры одновременно являются наивысшими Божественными символами, в которых небесный мир непосредственно отражается на земле, и самыми совершенными мыслительными образованиями человека, благодаря которым мы достигаем точного познания видимой Вселенной. Для него круг и шар – наилучшие символические изображения самого Божества [67, с. 80]. Если в своей монадологии Джордано Бруно в отдельном существе видит зеркало бесконечности, если великому натурфилософу животные и растения кажутся «отображением Вселенной», то космическая теология проводит четкую параллель с нашей музыкальной космологией. Согласно Якобу Бёме, всё – в самом человеке: и небо, и земля, и звезды и элементы. И кроме того, «вечно рождающаяся гармония» человеческих и прочих душ. «Это – небесная музыка, ведь тут каждый поет сообразно качеству своего голоса… и в сердце Бога это как… вечная игра в бесконечном единстве» [Там же, с. 37]. Круг, который мы обозначили как первофеномен музыки и земное отображение космических сфер, у Сузо, Бёме и Таулера – сам Бог. Он символизирует себя во всех формах круга, тайная сущность которых состоит в «возвращении» – круговороте в природе, смене времени суток и года – в конце концов, во всем периодическом развитии событий человеческой жизни, в повторяющихся состояниях земного бытия, в ритмичных ударах пульса человека. Будет ли большим заблуждением искать и находить «вечное изменение», придававшее древнегреческим мистериям свой смысл, также и в музыкальных произведениях? Не получает ли в этой связи более глубокий смысл тематическое возвращение в построении симфонии и сонаты, пусть даже только для слушателя, который в своем представлении теперь осознанно переживает перемену и возвращение как закон природы, до этого, быть может, лишь смутно ощущавшийся в бессознательном? «Как и каждая мысль, любая душа – это мелодия, таковой должен стать человеческий дух через свое всеобъемлющее постижение гармонии» (Беттина Брентано).
«Через свое всеобъемлющее постижение, ибо чувство удовлетворено только тогда, когда в душе и вместе с душой звучит Вселенная. Всё является музыкой, означает: всё ощутимо, всё в единстве, в контакте с душой. Вселенское чувство мистики требует мировой гармонии, и поэтому Якоб Бёме с особой страстью провозглашает: по сравнению с Божественным звуком и музыкой, которая благодаря ему восходит от вечности к вечности, все инструменты сродни собачьему лаю. Агриппа сравнивает Вселенную с натянутой струной, которая, если коснуться ее в одном месте, тотчас звенит повсюду…» [68, с. 98]. Забегая вперед в нашем путешествии во времени, процитируем Йоэла, развивавшего особенно важные в этом контексте идеи Новалиса: «„Музыка имеет много сходства с алгеброй, – утверждает Новалис, – но это еще мало о чем говорит“. Он все слышит как музыку, а во всей музыке слышит число (!), он все слышит как ритм и слышит в ритме порядок, по которому человек все узнает. Времена года, время суток, жизнь и судьбы – все они, и это довольно странно, совершенно ритмичны, размерны, имеют такт. Во всех ремеслах и искусствах, во всех механизмах, органических телах, наших повседневных отправлениях – повсюду ритм, размер, тактовый удар, мелодия – ритм находится всюду… если владеешь ритмом, то владеешь миром. Каждый человек имеет свой индивидуальный ритм. Алгебра – это поэзия. Человек, обладающий чувством ритма, – гений». А в ритме гекзаметра[54], «поскольку к этим странным колебаниям сами собой присоединяются высшие мысли, проявляется глубокий смысл таинственного учения о музыке как воспитателе и укротителе Вселенной» [68, с. 180 и далее].
Шестнадцатое и семнадцатое столетия дали нам трех выдающихся ученых, которые активнее всех своих современников занимались музыкой сфер. Это патер ордена иезуитов Атанасиуc Кирхер, английский розенкрейцер Роберт Фладд (Робертус де Флуктибус) и самый выдающийся из них – астроном и первооткрыватель законов движения планет Иоганн Кеплер. Все трое в корне различались образом мыслей и воззрениями, происхождением и жизненными целями: Кеплер («astrologus vel musicus!»), звездочет Валленштейна, несмотря на свои побочные занятия астрологией, в первую очередь был ученым, математиком; Кирхер – чародеем, Э.Т.А. Гофманом Средневековья, механиком и изобретателем, имевшим дело с чудо-куклами, живыми фигурами и акустическим колдовством; Фладд – задиристым и не терпящим возражений оккультистом, склонным к спекулятивной мистике. Все трое обогатили наши знания о музыке небесных сфер.
«Дайте небу воздух, и тогда действительно будет звучать настоящая музыка!» – таково вероисповедание Кеплера. Но и без непосредственной передачи звуковых волн из космоса упорядоченную Вселенную мы воспринимаем как музыку. Должна существовать духовная сила, «concentus[55] intellectualis», духовная гармония, «от которой чистые духовные существа и в известной степени и сам Бог получают не меньше радости и наслаждения, чем человек со своим слухом от музыкальных аккордов» [53, с. 108].
Таковы представления Кеплера, изложенные в первом трактате о мировой гармонии, которые он затем существенно расширил в труде «Harmonice mundi» («Гармония мира»). Он поставил перед собой цель воздвигнуть «великолепное здание гармоничной системы или музыкальной гаммы, здание, членение которого не является произвольным, как кому-то хотелось бы думать, оно не человеческий вымысел, который можно было бы изменить, а основано на здравом смысле и сообразно природе, так что сам Бог-Творец выразил его, настраивая небесные движения». Как в результате расчетов, рассмотрев вначале симметрию пяти геометрических тел, понимая при этом симметрию как пространственный коррелят[56] гармонии, Кеплер получил первичные гармонии, или консонансы, или почему в основу своих рассуждений он положил угловые скорости планет, в настоящий момент интересует нас меньше, чем предпосылки и последствия его воззрений. Во-первых, они основываются на «concentus intellectualis», которая уже не является для нас неизвестной духовной силой, действующей за миром звуков, а во-вторых, на его представлениях о мировой душе. Здесь, рассматривая землю как одушевленный организм и сравнивая дыхание земного тела с явлениями прилива и отлива, он, как это ни удивительно, предвосхищает идеи натурфилософа Густава Теодора Фехнера. Однако одушевленность предполагает чувствительность к духовным потокам, в которых в виде гармонии, музыки проявляется любовь Бога к порядку. Поэтому в «Harmonice mundi» говорится: «Стало быть, не следует более удивляться, что красивая, целесообразная последовательность звуков была найдена людьми в музыкальных тональностях, если учесть, что при этом они ничего другого не делали, кроме как подражали Божьим творениям, и, так сказать, лишь разыграли пьесу о картине движения неба» [54, с. 93]. Когда Кеплер делает выводы о возрасте мира, обращаясь к тем временам, когда все планеты были гармонично расположены по отношению друг к другу и тем самым создавали «превосходную всеобщую гармонию», это не просто мистическая спекуляция. Фактическое удаление внутренних планет (Меркурия, Венеры, Земли) от Солнца составляет соответственно 58, 108 и 149 миллионов километров. Это примерно равно соотношению 1:2:3, т. е. совпадает с основным тоном, октавой и квинтой. Немыслимо, чтобы эти расстояния испокон веков были константными. Нельзя ли допустить, что некогда это соотношение действительно было «чистым» и составляло пропорцию 50:100:150? Почему в старинных писаниях то и дело заходит речь о «звуке Феба», солнечном звуке с соотношением квинта – октава? Случайно ли, что вся наша музыкальная система основывается на гармонии октавы и квинты? Не было ли в этой гипотетической «чистоте» космического «настроения» источника, когда-то создавшего в «земной душе» предрасположенность, чувствительность к музыкальным воздействиям? Быть может, Кеплер имел в виду нечто подобное? «Уже не кажется странным, что человек, подражатель своему Создателю, в конце концов открыл искусство многоголосого пения, неизвестное в древности. Ему хотелось в художественной симфонии за короткую часть часа сыграть бесконечность мирового времени и в своих произведениях испытать, насколько это возможно, удовлетворенность божественного мастера в прелестном чувстве блаженства, которое доставляет ему эта музыка в подражании Богу». Не приходит ли нам при этом мысль о религиозном значении многоголосого пения в церкви во время богослужения?
К сожалению, Кеплер конфликтовал с Робертом Фладдом, или, как он предпочитал его называть, Робертусом де Флуктибусом. Глубокоуважаемый оксфордский врач и теософ, лидер английского движения розенкрейцеров, Фладд, пожалуй, разделял его цели и так же, как он, хотел установить духовные связи между музыкой и космосом, но не находил у Кеплера понимания своих глубокомысленных мистических формулировок. Фладд упрекал Кеплера в том, что в своей науке он обращается только к внешней стороне вещей и вместо сущности вещей изучает только их тень. Фладд не был расположен к платоновским и пифагорейским спекулятивным рассуждениям о числах и противопоставлял Кеплеру свою «мистическую астрономию». Тот, хотя и сам был астрологом, признавал только голос разума и резко выступал против всех розенкрейцеров, каббалистов и «пророков, прорицающих по числам» [53, с. 347].
Но мы были бы несправедливы к Роберту Фладду, если бы судили о нем исключительно под углом зрения его борьбы с Кеплером, которую он вел посредством памфлетов. В «непонятных и загадочных картинах действительности», которые вменяет в вину своему оппоненту Кеплер, также содержится скрытый глубокий смысл.
Доказательством возвышенной аллегоричности его представлений служит одно из самых красивых символических изображений мировой гармонии, которое подарило нам Средневековье (см. иллюстрацию на с. VI). Однострунный измерительный инструмент, с помощью которого пифагорейцы рассчитывали интервалы, у Фладда превращается в монохорд мира, описываемый им в трактате «Metaphysica» (собственность бывшей Прусской государственной библиотеки, Берлин [55]). Музыкальный инструмент закреплен на земле (terra). Она соответствует gamma graecum, самому низкому тону в средневековой звуковой системе. Над ней в секундных интервалах располагаются остальные элементы – aer, aqua, ignis (воздух, вода и в самом верху как самый легкий элемент – огонь), т. е. весь материальный мир. Затем посредством изображений планет мы поднимаемся от Луны до Юпитера в царство космоса, при этом Солнце образует mese, середину, о чем мы узнали еще у Цицерона, когда рассматривали эзотерическую трактовку дорической гаммы. Третий регион за звездами охватывает духовный потусторонний мир, «эмпиреи», «равнины блаженных», которые высоко наверху отделяются от Epiphania[57] на колке вселенской скрипки. Это регион Божественного откровения. Дуги по бокам относятся к тональным расстояниям, справа интервалы, слева математические пропорции. Расстояние от Солнца до Земли составляет diapason materialis (греческое обозначение октавы; снова таинственная «солнечная октава», «звук Феба»!), слева оно соответствует proportio dupla[58], т. е. 1:2. Затем среди «материальных» интервалов мы находим diatesseron, т. е. кварту, diapente, квинту, диапазон с diapente и т. д. Вся Вселенная образована из двойной октавы, в середине которой находится Солнце. За ней начинаются потусторонние равнины. Это район «формального», который противопоставляется «материальному». Тут-то и выявляется истинное значение этого символического изображения: рука Бога, протягивающаяся из облаков, хватает колок – Бог держит монохорд мира настроенным и бдит, чтобы каждое движение совершалось по гармоничным орбитам! Можно ли представить себе что-либо более возвышенное, чем это глубокое истолкование звучащего космоса?
При рассмотрении системы интервалов бросается в глаза отсутствие терции. Октавная квинта царит во Вселенной как основа всей нашей музыки, и действительно, терция как консонанс вошла в круг представлений человечества в качестве типично «человеческого» продукта намного позднее. Переживание интервала во многом у нас пропало, не говоря уже о переживании отдельного звука! Например, композитору Карлу Орффу, ставили в вину то, что в опере «Антигона» он придавал особое значение отдельному звуку! Так же как Антон фон Веберн в своих оркестровых пьесах! При этом они заимствовали – намеренно или неосознанно, значения не имеет – практику древнеегипетских мистерий, в которых каждый отдельный совместно спетый продолжительный звук означал обращение к тому или иному божеству!
Здесь представляется уместным привести интерпретации интервалов Рудольфом Штайнером [56, частное издание, устные, неотредактированные сообщения, основанные на протоколах доклада]: «Только в переживании терций человек чувствует музыку в контакте со своей физической организацией… При переживании терций субъективное начало покоиться в себе, ощущение судьбы связывается с музыкальным явлением, мажор и минор приобретают смысл. Когда мы идем, движемся, в нас действуют нисходящие потоки физически живущего внутреннего „я“, они создают основу для внутреннего разделения октавы. Следуют звуки, в которых воздействует вибрация эфирного тела. Затем мы поднимаемся туда, где добавляются вибрации астрального тела. Переживание останавливается на септиме[59]. Но теперь мы должны идти к непосредственно ощущаемому „я“, поднимаясь к октаве. В октаве мы должны обрести себя во второй раз… Собственную Самость он (человек) обретает на более высокой ступени в переживании октавы… В стародавние времена человек не смог слышать обособленный звук, он не воспринимал его ни в себе, ни вне себя, а ощущал его вместе с миром: только один звук, который был составлен из внешнего объективного и внутреннего субъективного. Затем это переживание разделяется на объективное и субъективное. Человек еще не может найти присоединения к миру в музыкальном переживании. Он найдет его в переживании октавы. В нем человек будет переживать себя дважды: как физическое внутреннее „я“ и как духовное внешнее „я“. Переживание октавы станет новым способом доказательства существования Бога… Человек будет ощущать гамму как себя самого, но как себя самого, находящегося в обоих мирах, замененного и снова возвращенного себе. Он будет переживать свое „я“, каким оно является в приме, а затем ощутит его еще раз, каким оно является в духе…» Далее Рудольф Штайнер говорит о том, как при переживании квинт человек выходит за пределы своего физического тела и осознает себя в Божественном мировом порядке. «Таким образом, переживание квинт в известной мере представляет собой выход за пределы себя в далекую Вселенную, а переживание терций – возвращение к себе, к собственной личности. Между ними лежит переживание кварты». Штайнер считает, что при переживании кварты в духовной сфере человек по-прежнему осознает свою принадлежность к людям, что при переживании квинты он, напротив, должен забыть «себя самого», чтобы находиться среди богов и ощущать: «я – внутри духовного мира». А переживание квинт «как духовное переживание вначале у человечества отсутствовало». И если при слушании квинты ощущается нечто «пустое», то это полностью совпадает с фактами, ибо квинта соответствует «воображению», терция – более чувственному «восприятию».
Ценные мысли о символе терции – зарождающемся у человечества сознательном переживании терций – высказывает также Ганс Эрхард Лауэр [162, с. 45 и далее]. Терция позволяет прочувствовать «эту личную, заключенную в телесную оболочку душевную жизнь». В глубокой древности «музыкальное переживание и трансцендентное, по существу, совпадали, поскольку последнее еще носило вдохновленный характер. Благодаря ему человек слышал гармонию звездных сфер, через которую возвещали о себе иерархии неба – мировые наделенные душой существа. В эпоху терций музыкальное стало тем, что звучит в земной сфере; в нем снова проявляет себя психическое, но не трансцендентно-космическая душевная жизнь богов, а воплощенная в земных формах душевная жизнь людей. Тем не менее между ними тоже существует своего рода отношение отражения». Каждый знаток истории музыки знает, в какой мере терция способствовала пробуждению сознания «я»: начиная с И.С. Баха, который в своих произведениях точно так же, как и его великие предшественники, выражал коллективное чувство общности человечества, продолжая его сыном Филиппом Эммануилом – «прадедом» романтики и заканчивая делавшими акцент на «я» композиторами ХIХ столетия, чья субъективность («Тристан» Вагнера) была бы вообще невозможна без бесконечно растущего переживания терций! И надо быть совсем близоруким, чтобы перед лицом нижеследующих фактов предполагать случайность и оспаривать более глубокую мистическую связь: ни одно из средневековых описаний гармонии сфер, монохорда мира, органа мира у Фладда и Кирхера не содержит терцию. В художественной музыке раннего барокко отдавалось предпочтение «космическому» окончанию в виде квинты-октавы без терции. При этом со времен Одингтона (примерно 1300 г.) она все же рассматривалась как (несовершенный) консонанс. Но почему у простого народа («Летний канон», 1240 г.!) терция «освоилась» намного быстрее, чем в церковной музыке? Потому что народ больше тяготел к телесно-чувственному, а «musica sacra» – к космически-божественному?
Если мы еще раз рассмотрим монохорд мира Фладда, то установим: кварта от gamma graecum до ноты до проходит через материальный мир, в котором человек все еще продолжает себя сознавать в своих человеческих качествах. Расположенная над нею квинта ведет в космические области вплоть до солнечного звука, при этом человек ощущает себя самого «в Божественном мировом порядке». В октаве «Солнце – Земля», состоящей из кварты и квинты, человек «вновь обретает собственную Самость на более высокой ступени» – двойная октава (инверсия?) связывает его непосредственно с Богом. В этом духовном регионе квинта ведет из космических областей по «эмпиреям» (так же и в «Божественной комедии» Данте наивысшая инстанция – «светлые небеса») в виде кварты (diatesseron formalis), что составляет психический контраст с квартой «materialis». Нельзя ли толкования Штайнера считать комментарием к монохорду мира Фладда? Не являются ли эти бессознательные отношения уникальными, поскольку Штайнер мог вообще не знать о монохорде мира?
Но чтобы «доказать существование Бога», для мистерии «солнечной октавы» с переживанием октавы Рудольфа Штайнера мы должны привести еще и другие подтверждения из Раннего Средневековья. «Octavus sanctos omnes docet esse beatos» – «Октава учит всех святых звучать благостно» – гласит одна из таинственных надписей на капителях монастырской церкви в Клуни, музыкальное значение которой убедительно показал Лео Шраде [74]. В символической форме восемь колонн соответствуют восьми церковным тональностям. В октаве содержится указание на потустороннее. Марсилий Падуанский, выдающийся теоретик итальянского ars nova, живший в ХIV в., объясняет приятное звучание консонанса октавы тем, что восьмой день нашего воскрешения – самый сладостный и приятный из всех других дней, а благодаря восьми звукам мы познаем восемь блаженств. Уже у пифагорейцев октава считалась звуком справедливости. Она превосходит конечное, земные дела и весь тягостный труд. В восьмом звуке «вечное спокойствие и счастье находит соответствующее выражение», согласно одному трактату, процитированному Шраде [Там же, с. 263]. «Единица и число восемь – несомненно, границы, где земное соприкасается с потусторонним миром». Ряд из восьми звуков отражается в строительстве соборов, о возникновении которых ценные сведения предоставил Ганс Зедльмайр [75]. Помимо прочего он ссылается на каноническое со времен Лаона число восемь и подробно останавливается на «глубокой символичности музыкального искусства готического Средневековья», на «его звуковой системе и на его инструментах (как отображении космоса), а также на его звучности и конструктивных формах. Звучание музыкальных инструментов и голосов истолковывается как сверхзвучание».
В соотношении октавы 1:2 заключен глубокий смысл, который нельзя объяснить, основываясь только на физике. Два этих «первочисла» буквально взывают к символическому истолкованию. На символике отдельных чисел подробно останавливается Герман Аберт [118]. Единица – это единство, целостность, два – символ несовершенного, несамостоятельного существования, три соответствует триединству Бога, четыре связывается с четырьмя элементами, временами года, направлениями ветра, темпераментами, отсюда четырехструнная лира и т. д. Однако полноценной символики интервалов пока еще нет. В этой области смелую попытку предпринял Эрнст Биндель [119], обозначив квинту и кварту как «первичные душевные переживания» и найдя, в частности, для октавы рациональное истолкование. Он цитирует трактат «Чудо октавы» Августа Хальма, интерпретатора Брюкнера, в котором утверждается, что надстраивающиеся одна над другой октавы снова и снова становятся примами. «Это „снова первое“, это „другое такое же“ является чудом, и тем самым вся музыка – чудо», – считает Хальм. А Биндель констатирует: «„Я“ и мировой дух полярно противоположны и тем не менее равнозначны. Ибо то, что находится в „я“, мы обнаруживаем и вовне и все же противопоставляем себе. Загадка родства октав – это лишь музыкальное выражение загадки нашего „я“. Прима и октава противостоят в нашей душе друг другу как более низкое и более высокое „я“, как земля и небо, как глубина и высота» [Там же, с. 30].
Вместе с тем неоднократно предпринимались попытки выведать эту тайну – символики интервалов – в музыкальных фразах великих мастеров. Мы можем остановиться на них лишь вкратце, чтобы не отвлекаться от основной темы. Задайтесь как-нибудь вопросом, почему на уроках католической литургии такую важную роль играет прима. Этому обычаю была противопоставлена «Божественная инверсия», выражение октавы у Баха. У него во многих хоралах встречается погружение в глубину с немедленным подъемом октавы, что выражает связь земного с небесным, человеческого «я» с Божественной сущностью. Эти скачки октавы не были бы примечательны, если бы Бах не придавал октаве совершенно особого значения посредством того, что он на какое-то время на ней задерживался и задавал заметно более длительное звучание нот, словно хотел указать на превосходство небесных высот над глубиной. Следующие три типичных примера нот заимствованы из хоралов «Распятие Иисуса» («Da Jesus an dem Kreuze stund»), «Рождество в Вифлееме» («Puer natus in Bethlehem») и «Христос в Тодесбандене» («Christ lag in Todesbanden»)[60].
Согласно научному пониманию, человечество исходило из октавы, чтобы через квинту и кварту прийти к чувственному переживанию терции. Если истолковать эту форму развития символически, то она означала бы только одно: человечество от «космической ширины» октавы, связывавшей «я» и Вселенную, пришло к земной стесненности, в которой «сжатие звуков» вплоть до включения четвертей тонов становится символом нашего сегодняшнего образа жизни, оторванного от космического «сверхзвучания» октавы.
После этого небольшого отступления в область «космической» символики интервалов обратимся снова к историческому развитию гармонии сфер.
Атанасиус Кирхер также обогащает наше знание наглядным изображением символики (см. с. 6) [57]. Он сравнивает сотворение мира с органной музыкой. Шесть групп органных труб, расположенных в святом числе семь, символизируют шесть дней творения. Дух Бога, который, как можно видеть, вырывается из органных труб и заставляет звучать могущественную harmonia nascentis mundi (гармонию мирового творения), «материализуется» в актах творения, наглядно изображенных в кругах. Так, в центре в окружении колеблющегося эфира, в «harmonia primi diei» («гармонии первого дня») изображен голубь, который приносит свет. Об этом первое слово творения: «Fiat lux!» («Да будет свет!»). В «harmonia IV diei» планеты окружены венком неподвижных звезд, при этом можно распознать центральное положение Земли в соответствии с Птолемеевой системой мира. В «гармонии шестого дня» изображены люди – под яблоней в обществе мистического единорога, представляющего собой средневековый символ девственности. Все регистровые рычаги органа выдвинуты в знак того, что творение завершено. А под клавиатурой латинская надпись, сделанная мелкими буквами: «Sic ludit in orbe terrarum aeterna Dei sapientia» – «Так на шаре земном играет Бога вечная мудрость».
То, что символом служит орган, естественным образом связано с его использованием при богослужении. Здесь, пожалуй, уместно привести два высказывания. Напрямую они никак не связаны с этим изображением и, по-видимому, опять-таки проистекают из глубин «коллективного бессознательного». В беседе с Экерманном («с Боиссере» 08.09.1815) Гёте сказал: «Природа такова, что триединство не могло бы сделать ее лучше. Это орган, на котором играет наш Господь Бог, а дьявол наступает для этого на меха» (т. е. дьявол берет на себя только чисто механическую, подсобную работу). Из сочинения врача и поэта Карла Шлейха я как-то выписал для себя следующую сентенцию: «Представьте себе: Бог сидел перед органом возможностей и придумывал мир – а нам, бедным людям, удается расслышать всегда только vox humana. Если уже он прекрасен, то каким великолепным должно быть все остальное!» («Vox humana» имеет два значения: «человеческий голос» и название органного регистра.) Глубины таинственных душевных связей снова и снова наполняют нас благоговением перед единством освященного человеческого духа.
Возможно, на сочинениях Роберта Фладда, которые в общем-то теперь уже недоступны, основывался доктор Г. Дженнингс, когда образно излагал музыкальную теорию розенкрейцеров. Он утверждает [24, т. 1, с. 208 и далее]:
«Весь мир рассматривается как музыкальный, т. е. как хроматический, чувствительный инструмент. Обычная ось или полюс небесного мира в том месте, где имеется более высокий диапазон, т. е. небесное созвучие, или гармония, разрезается духовным солнцем, центром ощущения. У каждого человека в груди есть небольшая искорка (Солнце). Время – это лишь вытянутое в длину сознание, потому что никакого мира за пределами постигающего его разума не существует. Земная музыка – слабейшее воспроизведение стадии ангела. Эта стадия остается в душе человека в виде мечты о потерянном рае и тоски по нему. Тем не менее музыка является знатоком человеческих эмоций и, стало быть, также и знатоком самого человека. Небесная музыка порождается продольным и поперечным маршем солнца от ноты к ноте, т. е. от планеты к планете, вследствие остановок на орбитах планет, которые играют роль струн или тетивы, а земная музыка, если смотреть микроскопически (точнее „микрокосмически“) является подражанием этому, „остатком неба“. Способность распознавания имеет тот же сверхъестественный музыкальный источник, который в проекции из центрального Солнца породил „тела“ планет в их развитой, пропорциональной, гармоничной и упорядоченной форме. Розенкрейцеры учили, что гармония сфер представляет собой нечто реальное, а не просто поэтическую мечту, ведь вся природа, словно музыкальная пьеса, порождается мелодичными сочетаниями перекрещивающегося движения священного света, играющего на орбитах планет: свет горит как духовная эклиптика или как меч архангела Михаила вплоть до самых крайних точек Солнечной системы. Поэтому музыка, цвета и язык – союзники». (Ср. с этим то, что я говорил выше об отношениях между светом, звуком и речью!)
Послушаем, что по этому поводу сказал сам Роберт Фладд: «Музыке как науке и искусству присуще то, что она точно исследует согласующиеся системы оценок, изобретенные человеческим умом… Но, милосердный Боже, разве это противоречит верному и глубокому музыкальному знанию мудреца, благодаря которому изучаются отношения между природными вещами, открываются гармоничное благозвучие и качества мира в целом, в результате чего также устанавливаются связи между вещами и усмиряются противоборствующие элементы, а за каждой звездой сохраняется определенное место соответственно ее весу, энергии и яркости? Какими узами тайной музыки прекрасная сущность человека связана с его телом? Или как такое возможно, что посредством небесного Духа она может отправиться вниз в жилище, столь противоположное ей и даже удаленное от ее естественного места рождения больше, чем свет от мрака, а именно в темное теневое тело, и исполнять в нем музыку, доставляющую миру немалое наслаждение? Разве так может быть, чтобы кто-нибудь сумел правильно ответить на этот вопрос, не обратившись к этой святой и Божественной музыке? Поэтому счастлив тот, кто хорошо разбирается в тайнах скрытого музыковедения, ибо без этого знания невозможно познать себя самого. А если ты не познал себя самого, то и не можешь прийти к совершенному познанию Бога. Ведь только тот, кто по-настоящему знает себя изнутри, способен воспринять в себе отображение Божественного триединства. Музыка, в том виде, в каком мы обычно ее учим и исполняем, относится к высокой и тайной музыке природы так же, как белая окраска к стене или как кожура к плоду, ибо инструментальная или вокальная музыка используется людьми лишь потому, что тень наслаждения щекочет им уши. В противоположность светской и человеческой музыке. Тем, благодаря чему человеческая душа может подняться на трон своего Создателя, полностью пренебрегают и этого не знают» [58, с. 185 и далее].
В том, что первопричиной и прообразом всей музыки розенкрейцеры считают Божественное начало, в самом благоприятном свете проявляется глубокая религиозность их движения. Идею об отображении в земной музыке триединства мы часто встречаем в Средневековье вплоть до эпохи барокко. Наверное, любителю музыки иной раз бросается в глаза, что церковное музыкальное произведение, которое непременно играют в миноре, вдруг заканчивается мажорным аккордом. Это имеет религиозно-мистическую подоплеку. Божественное триединство, которое «реализуется» в аккорде прима-терция-квинта, никогда не могло бы получить в миноре своего полного музыкального выражения, потому что здесь тональность определяется «малой» терцией. Однако для своей «музыкальной реализации» Бог может использовать в заключительном аккорде «большую» мажорную терцию.
Также и в трехчастной форме (ария, соната, симфония), наверное, выражается идея Троицы.
Удивительно, как в мифе о космической музыке всюду прорываются древние мотивы, апеллирующие к человеческому несовершенству, которое снова и снова пытается сделать понятным непостижимое, истолковать неизмеримое, придать ему земной смысл, чтобы донести его и до непосвященных. К числу бессмертных образов, связанных с музыкой и небесами, принадлежит певец Орфей. «Из братских сфер доносится напев старинный», – речь здесь не в последнюю очередь идет о созвездиях, имеющих в греческой мифологии музыкальное выражение: лебедь, птица бога – покровителя муз Аполлона, которая при его рождении прибыла из Лидии, заселил своими братьями и сестрами реки Кайстер, Герм и Пактол и обитал в океане. Его печальная песня сопровождает души умерших в Туонелу, царство мертвых у финнов, что изображено Яном Сибелиусом в его самом возвышенном музыкальном произведении. Затем дельфин, который унес прочь певца Ариона, когда тот, убегая от жадных до золота моряков, прыгнул в море. И, наконец, лира Орфея, которая, согласно Эратосфену, после смерти певца была не захоронена вместе с ним, а перенесена Зевсом на небо, где она еще и сегодня звучит для тех, кто «чуткий слух имеет». Эта мысль подхвачена в моих сафических строфах[61] в стихотворении «Мифологическое движение звезд»:
И сегодня пение твое в пространстве средь звезд звучит! Звук сфер, с шумом падая вниз на просторы земли, Раздается в сердцах детей, которые, блаженно внимая, Смеются во сне.В XIII в. жил поэт Омонс, который в трактате «Об обществе» («Image du monde») тоже приписывал детям способность слышать звук сфер, поскольку они ближе к природе, чем взрослые, а их души не сразу «закутываются в одежду телесности». «В силу своей невинности дети пользуются привилегией слышать эту небесную гармонию, а их улыбка во сне есть следствие того наслаждения, которое она доставляет им» [50, с. 16]. И именно к «почти дитяти» обращается в двадцать восьмом «Сонете к Орфею» Р.М. Рильке: «Восполни миг, в который мы поместим себя, тем самым как бы превзойдя природу нашу смертную. Жива ты лишь вслушиванием: Орфей поет». – «Ты подступаешь к месту торжества грядущего. Ты в сердцевине мира (sic!), где поступь обретет и облик друг». И (девятнадцатый сонет): «Рвется сквозь ток бытия к свету из тени звонкая лира твоя, бог песнопений».
Миф об Орфее стал предметом самых разных истолкований. Рассматривая «звучащие» произведения архитектуры, мы уже упоминали Гёте (ср. с. 55). Стоит привести здесь отрывок из его работы «Максимы и рефлексии (разные частности об искусстве)».
«Вспомните Орфея, который, когда ему отвели под застройку большой пустынный участок, благоразумно уселся на самом виду и живительными звуками лиры образовал вокруг себя просторную базарную площадь. Быстро захваченные властно повелевающими, радушно манящими звуками, каменные глыбы, вырванные из скал, принимали форму, сообразную искусству и ремеслу, а затем как надо, ритмично располагались в элементах и стенах построек. И так вот улица может присоединяться к улице! В защищающих гармонию стенах тоже недостатка не будет. Звуки стихают, но гармония остается. Жители такого города живут и творят между вечными мелодиями, дух не может упасть, работа – угаснуть, глаз берет на себя функцию и обязанность уха [ср. выше „слушание звучащих чисел!“], и граждане в самый обычный день чувствуют себя превосходно. Без рефлексии, не задаваясь вопросом о корнях, они становятся сопричастными к высшему нравственному и религиозному наслаждению». Удивительно, как Гёте связывает здесь отношения между божественной властью Орфея и его музыкой, окаменевшими «вечными мелодиями» и религиозным чувством человечества.
Герман Аберт ссылается на одно интересное средневековое истолкование мифа об Орфее в трактате «Учебник музыки» («Musica enchiriadis») и у Регино Прюмского [118, с. 170]. Орфей – идеальный музыкант, его супруга Эвридика – символ самых глубоких гармоничных тайн. Для обычного человека они остаются скрытыми. Только античному певцу удается выманить их из глубин, на свет дня, но он их теряет. «Это означает: несмотря на все свои попытки, человеку никогда не удастся понять умом все тайны гармонии». Надо иметь в виду, что представители стоической школы сознательно обращалась к древним мифам, привлекая их в качестве аллегории для пояснения своего учения. Речь здесь идет о «посредничестве между философским и обыденным сознанием». Во всяком случае показательно, в какой мере именно понятие гармонии во все времена использовалось для наглядного объяснения законов жизни. Преимущественное положение древнегреческой harmoneia (= согласие, единодушие; но также означает не «музыку» сфер, а гармонию) ставится под сомнение часто цитируемым высказыванием Ганса Бюлова: «Сначала был ритм». Мы уже познакомились с символическим значением ритма как «движущей силы», и кто ставит ритм в начало всего становления, сам себе выдает постыдное свидетельство о том, что возводит инстинктивное существование до жизненного идеала. Нет: вначале была гармония как выражение тесной духовно-душевной связи человека с макрокосмосом.
И тут на сцене появляется Атанасиус Кирхер, отстаивающий ту точку зрения, что именно власть звезд, гармонии сфер наделила Орфея силой, которая позволила ему пением двигать (это понятие содержит уже многозначительное замещение: движение внешних вещей как символ душевного «движения») неживые вещи, растения и животных. Воспроизведем этот действительно важный фрагмент [59], а затем снабдим его комментарием:
«Другие говорят: / Орфей был превосходным астрологом и медиком, / в совершенстве владел обоими искусствами, / т. е. умел ловко темперировать и смешивать звуки / в гармонии небесного тела, / которой он подражал так, / что притягивал к себе все их influxum [влияние] / и присваивал его себе, / благодаря чему все, чего он желал, / привлекал к себе лирой и придавал этому очарование. Другие еще добавляют, / что он в совершенстве понимал, / в какой пропорции и по какому замыслу скомпонован каждый элемент природы, / какой звезде это должно было быть подчинено и послушно, / поэтому свои музыкальные rationes [произведения] он сделал схожими / и связанными с той же звездой, что и он сам. / И этой внутренней энергией и воздействием он побуждал к движению также и inanimata [неодушевленные предметы], / которые он словно выманивал своей внешней гармонией, / в точности так / как железо добывает из кремня скрытый огонь / или как воздуходувные меха открывают скрытое пламя, / высекают во всем тайную искорку, / semina harmoniae, / лежащую скрытой, / [это в духе розенкрейцеров!] так, / что и древние полагали: / Сам Бог – harmonia omnium [мировая, всеобщая гармония]. Поэтому также и Прокл говорит,/ что все вещи поют скрытый гимн создателям их жизни, / но одни с ясным, / другие с благоразумным, / одни с естественным, / другие с чувственным знанием: и тогда если бы каждый услышал пульсацию и ритм музыки, которую исполняют все элементы природы в воздухе, / как solaria [солнечный свет] солнцу, / lunaria [лунный свет] луне, / то он должен был бы признать, / что это поистине царская музыка».
Кирхер передает мысль, что Орфей привлек к себе влияние (influxum) небесных тел и распространил его на все вещи. Если попытаться выразить это по-современному, то мы могли бы сказать: ему был известен коэффициент колебания, на который «настроены» звезды и все объекты природы. Только это и ничто другое могло означать допущение, что он привлек «гармоничное семя» в inanimata (безжизненные, или, лучше сказать, неодушевленные вещи; ведь как говорил Ганс Кайзер? «У человека существуют психические резонансы по отношению к материи»). В связи с цитатой Прокла (412–485 гг. Р. Х.), греческого философа и комментатора платоновского «Тимея», Кирхер останавливается на симфонии мира и подчиняет объекты, принадлежащие Солнцу (определенные минералы, растения, и т. д.), звуку Феба, а объекты, принадлежащие Луне (ночные травы и т. д.), – звуку Луны.
С этими необычными представлениями мы отправляемся в отдаленную область – астрологию. Начиная с ученых античной Греции и заканчивая высказываниями Герберта в «Церковных писателях» (1784) о внутренних связях между музыкальным искусством и астрологией говорилось так часто, что мы не можем обойти их стороной. Никогда – вплоть до Ганса Кайзера – не было недостатка в попытках обнаружить гармонию сфер в звуках. К этому добавляется астрологическое значение планет. Кирхер размышляет [59]: если Луна выступает посредником между Землей и Солнцем, то и ее звук должен балансировать между обоими светилами. Марс и Сатурн из-за своего пагубного влияния должны считаться диссонансами. Однако между ними стоит Юпитер, расслабляющий и успокаивающий. В результате Кирхер создал следующее нотное изображение:
Итак, это и есть таинственная гармония сфер? Если судить по звуковой форме, речь идет лишь о так называемой расширенной каденции (заключительной «формуле») в соль миноре над субдоминантой, доминантой и тоникой с задержкой основного тона в четырехголосом пассаже с «открытым небесам» заключительным аккордом без субъективной земной терции. Но знаки зодиака указывают на астрологическое значение. Бас перенимает наша Мать-Земля, тенор – Венера, Меркурий и Луна, Солнце стоит в альте, в сопрано появляются Сатурн, Юпитер и Марс. Рядом с ними греческие обозначения звуков. Самый низкий, «добавленный» звук – это proslambanomenos, т. е. низкое ля. Над ним находятся hypathe (обозначение самого низкого звука соответствующей тетрахорды – hypathe hypathon = самый низкий звук самой низкой тетрахорды), mese, средний звук, и nete, самый высокий звук.
Само собой разумеется, мы отказываемся от закрепления гармонии сфер в нотной картине и придерживаемся нашего главного тезиса, что от «гармоничного порядка» Вселенной («concentus intellectualis» по Кеплеру) исходили духовные импульсы, которые в душе человека сгустились до земного звучания. Таким образом, также и Кирхер, «побуждаемый» звучащей Вселенной, сумел изобразить на бумаге только последовательность звуков, которая соответствовала его собственным представлениям о музыке того времени.
Но как раз благодаря выводам астрологии и появились такие смелые полеты фантазии, с которыми нас знакомит в своем сочинении Фладд: «Разве кто– или что-либо гармонирует с небесной музыкой больше, чем человек? Его чудесный склад есть отпечаток всей музыки мира, из-за двойного благозвучия октавы и квинты, а именно из-за духовного и материального, влитого Юпитером в его небесный сильф[62], затем также из-за двойной октавы (!) и подобия Солнца, а именно возвышенного и земного, в элементах его тела, а также всей его как трансцендентной, так и физической организации. Поэтому неудивительно, если братья (розенкрейцеры) посредством знания и влияния этой музыки сумели привлечь к себе князей и влиятельных особ. Кто, стало быть, обладает знанием об истинных звуках Феба, или Солнца, для того также не будет ничего невозможного в том, чтобы благодаря их согласованию приманить и привлечь к себе все первоначально составленные ими вещи» [58].
Стало быть, это утверждение (и вместе с тем еще одна поэтическая подоплека моей фантазии в начале этой главы) свидетельствует о том, что розенкрейцеры осознанно использовали сочетания звуков, которые они связывали с астрологическими констелляциями звезд. Этим они не собирались «приманивать и привлекать к себе» как раз «князей и влиятельных особ» и все вещи, первоначально составленные звуками Солнца (подобно тому как в алхимии золото принадлежало Солнцу, серебро – Луне, определенные химические субстраты – планетам); безусловно, это было преувеличением. Но этим им хотелось объяснить непонятное влияние, которое определенные звуки оказывали на тех или иных людей – отчасти отталкивающее, отчасти «привлекательное». Приведем для сравнения слова авторитетного органиста и теоретика Андреаса Веркмейстера (1645–1706). Он пишет: «Я не хочу также отрицать, / что человек управляется / и побуждается к музыкальному искусству / соразмерностью пропорций светила / и его движением, / благодаря чему возникают различные фации[63], конъюнкции[64] и гармоничные аспекты» [60, с. 20]. И далее: «Как пишет магистр Бартолус в своей „Musica mathematica“ [NB книга появилась в 1608 г. в Альтенбурге. Более подробно об Аврааме Бартолусе ничего не известно], / по музыке о человеке можно узнать, / на какой планете он рожден, / ибо каждому clavi [NB здесь в значении «звук», в остальных случаях – «клавиша», «струна»] дарована особая планета неба / и любит человек ту, / на которой он рожден».
А теперь обратимся к статистике доктора Шваба в книге «Сила звезд и человеческая судьба» и с удивлением обнаружим, что самые выдающиеся музыканты родились под одним созвездием!
Наверное, таким сведениям не придают особого значения и совсем не обращают внимания на то, какие странные здесь выявляются совпадения, которые совершенно невозможно понять разумом! В этой связи вспомним также миф об Орфее…
Но если розенкрейцеры и в самом деле пытались получать «астрологические композиции» и превращать в звуки «влияние звезд», чтобы тем самым добиваться определенных воздействий, то не граничат ли подобные действия с приемами черной магии? Этого мнения придерживался также и Атанасиус Кирхер, который в трактате «Искусство звука и музыка» (Нердлинген, 1684, с. 138) говорит о «союзе с дьяволом чародея» и его знаках и к тому же считает, что дьявол мог использовать также любой музыкальный инструмент для достижения определенного effectum. «Благодаря этому искусству братья розенкрейцеры, должно быть, изгоняли всевозможные неизлечимые болезни» [59, с. 172]. Но таким образом Кирхер вступает в противоречие с распространенным в то время суеверием, будто дьявол не выносит музыку.
Согласно каббалистическим представлениям, в частности Рабби Абенезры, библейский Давид сумел исцелить царя Саула игрой на арфе, потому что он «знал звезду, которой должна была управляться музыка, нужная для излечения» [47, с. 226].
Разумеется, я не ставлю перед собой задачу изложить музыкально-астрологические представления вплоть до нашего времени и занять определенную позицию по отношению к отдельным расходящимся мнениям. Передо мной лежит астрологический журнал со статьей А. Зигриста «Гармония во Вселенной». Астрологические аспекты идентифицируются с помощью интервалов, тональности из двенадцати звуков – двенадцатью знаками зодиака. Тогда, например, получается, что Весы, вдохновляемые Венерой, создают равновесие в звуковой музыкальной системе, поскольку они включают в себя обе тональности, содержащие шесть диезов и шесть си-бемолей (фа-диез мажор и соль-бемоль мажор), до мажор соответствует Овну и т. д. Альберт Нобель в «Астрологических ежемесячниках» (№ 7/8, 1951) полемизирует с работой Вальтера Коха «Учение о предзнаменовании по Иоганну Кеплеру» (Гамбург, 1950) и критической статьей доктора Генриха Райха в «Астральной обсерватории» (август 1950 г.). Нобель ссылается на то, что в музыкальном отношении «оппозиция» представляет собой сущность квинты и кварты, между той и другой «находится точка постоянного или Божественного разделения октавного пространства, по которой, кстати, настраивали свои инструменты лучшие скрипичные мастера. Тройственная „семья“ терции находится в области квинтиля и квадрата, но также в окружности тригона. Таким образом, возможно, что квадрат большой терции избавляет от тригона или квинтиля его „родственников“. В таком случае страсть превращается в тоску, а именно в тоску объекта по субъекту, которая трансформирует жесткость мира в человечность Бога». И Нобель выступает за «слушающий мир гороскоп человека», из которого звучат «фрагменты гармонии сфер».
Множество разветвлений подобного хода мыслей, ведущих к истокам и в бездны душевной жизни людей, склоняет сделать ряд отступлений, от чего в интересах нашей методологии мы все же воздержимся.
Но даже такой столь критично настроенный в отношении астрологии ученый, как Томас Ринг, не подвергает сомнению, что «жизненный ритм согласован с космическими периодами» [72, с. 277]. «Тут можно допустить, что такие космические настройки достигают степени развитости, при которой жизненный процесс земного существа присутствует во всех ритмах системы непрерывно движущихся светил, ее взаимосвязанные влияния проявляются практически во всех функциях Земли и обратных воздействиях жизни на природную стихию… Это силы самого организма, радиус действия которых встроен в великий ритм Солнечной системы. Стало быть, если космическая настройка какого-то вида становится такой развитой, что астрологическая система соотносительных понятий проявляется в его элементах, имеющих физическую основу со всеми тонкостями, то эти космические условия, всегда отраженные в земной жизни, можно осмыслить в элементах органического порядка, где физическая действительность, понимаемая символически, отображает характеристики живых объектов» [Там же, с. 201]. Таким образом, может быть, астрология – это только проекция земной жизни на Вселенную без признания внутренней взаимосвязи? Не заходит ли автор слишком далеко в таком предположении? Однако «в порядках сущностных сил и первофеноменов появляется понимание того, что элементы осмысляемого нами плана природы существуют также и вне нашего мышления (?!)» [Там же, с. 283]. Автор справедливо констатирует, что «космос» означает все «упорядоченное, высококачественное» «независимо от внешней формы и размера, от времени и места появления. К небесным телам эта мысль имеет особое отношение лишь постольку, поскольку благодаря их движению, подчиняющемуся определенным законам, нам становится очевидным великий порядок мира. Но также и правила, по которым структурируется материя и распределятся ее энергия, относятся к космосу, потому что живое существо тоже обладает способностью создавать гармонию и сохранять равновесие в симметричных отношениях. Понимаемая таким образом мысль о космосе становится ключом к универсальным взаимосвязям». Ритм Солнца, Луны, других планет, вращения всего свода неподвижных звезд является не «самой по себе» физической действительностью в понимании астронома, а «геофизической действительностью, и поэтому он необычайно важен для нас в биологическом смысле» [Там же, с. 81]. Эти небезынтересные рассуждения завершаются тезисом о закономерном порядке музыки, который нам показывает, что «самое строгое правило как раз и делает возможным выражение самой лаконичной жизненности». И далее: «Сильный находит путь к звучащему сознанию порядка природы [а это и есть Альфа и Омега процесса музыкального творчества], слабый держится за искусственные созвучия» [Там же, с. 287]. Существует ли более убедительное доказательство музыкального бессилия, чем бесплодный экспериментаторский раж лаборантов из Краништайна, одержимых своими лишенными вкуса музыкальными изысками?!
Однако вернемся назад с боковой «дороги» в музыкально-астрологических «равнинах» к хронологическому изложению того, как продолжала развиваться мысль о космической музыке[65].
Романтизм стал благоприятной питательной почвой для распространения космической идеи. Экспансивное чувство подчинило себе Вселенную и поставило заслон математическим теоремам преодоленного рационализма. Для нового духовного развития становятся характерными глубокая религиозность, благоговейное отношение к Богу, Автору всей гармонии сфер, и отождествление мира звуков с Божественной сферой. Типично освобождение чувства от бездушных духовных оков, зачастую восторженное излияние души Божественному откровению гармонии сфер. Едва ли кто-нибудь задавался вопросом, как расположены небесные тела на звуковой шкале неба. Место рациональных подсчетов и умозрительных рассуждений заняло благоговение, символическое значение гармонии сфер теперь было понято полностью.
В этом отношении ранним предшественником романтиков можно считать Андреаса Веркмейстера, которому принадлежат следующие высказывания:
«Хотя неверно мнение, / что звезды должны были издавать свои естественные sonos (звуки), / зато несомненно, / что Бог-Творец расположил их гармонично, пропорционально и упорядоченно / и в своем движении / они должны были сохранять и соблюдать систему музыкальных пропорций и гармонию… И таким образом мы можем до некоторой степени узнавать великое чудо творения и видеть, / что сам Бог является автором и инициатором: ведь он упорядочил все в числе, / мере и весе / и сотворил мир…» [60, с. 19 и 92].
«Ведь единство (единица) существует до себя самого (т. е. из себя самого состоит) и ни от какого числа не ведет начала, / а является началом всех numerorum (чисел) / и конца не имеет. Иными словами, Бог – это единственное Существо вечности, / начало без начала / и продолжение всех вещей, / чья сущность и сила распространяется в вечности и конца не имеет. Число 2… означает вечное слово, которое есть Бог Сын, / 1 и 2 составляют тут самую совершенную гармонию / и звучат словно в унисон. Стало быть, оба лика Божества настолько родственны друг другу, что Сын сказал: „Я и Отец – одно целое; кто видит Сына, тот видит Отца“. Затем следует 3, сущность которого исходит от первых двух – от 1 и 2 – / и имеет с ними точную связь. Это число 3 равняется Святому Духу – / ведь со своим предыдущим числом 2 оно образует такой консонанс, который имеет в себе (!) природа, словно она составлена как единство…»
Ввиду всех этих многочисленных цитат и признаний, наверное, все же возникает вопрос, не совершает ли музыковедение упущение, не включая такие высказывания в круг своих задач, чтобы тем самым с точки зрения этнической психологии исследовать значение октавы и квинты в истории музыкальной теории и удовлетворительно объяснить преобладание этих интервалов и позднее появление терции! Как все-таки глубоко музыкальное знание – основа всего композиционного творчества – коренится в истоках душевной жизни людей!
Никому, кто не допущен на мистический праздник, смысл темного искусства не понять, ему эти звуки духов ничего не говорят, блеск наипрекраснейшей красоты он не видит, во внутреннем сердце печать не горит, которая зовет его посвященным, по которой его музыки дух узнает!Такова точка зрения романтика Людвига Тикка (по его произведениям, вошедшим в сборник Ваккенродера в издании 1910 г., Йена, с. 266 и далее).
Едва ли нам нужно еще спрашивать, откуда Вильгельм Хайнзе[66], создатель первых музыкальных романов, черпал свои знания, когда называл терцию сердцем, вместилищем страстей, а квинту – небесным духом, который вдохнул в человека Творец. Гердер категорически дистанцируется от всех спекуляций, связанных с числами, и даже относит их к области суеверия. Но звуки музыки чисты и светлы, это высший образец гармоничного порядка. Это отношения и числа Вселенной в самых приятных, самых легких, самых действенных из всех символах, они включают в себя бесконечность. В узком объеме наших немногочисленных звуковых ходов и тональностей музыка чувствует все колебания, движения, акцентуации далекого Духа, Вселенной. «Я созидательница, – говорит музыка, – и никогда не подражаю. Я вызываю звук, как душа вызывает мысль, как Юпитер вызывает миры, из ничего, из невидимого. Подобно волшебному языку, звуки проникают из другого мира в душу, и она, охваченная потоком пения, забывает саму себя, саму себя теряет». И далее: «Вокруг нас звучит великий, вечный концерт движений и покоя».
Философия романтизма несколько любит заигрывать с великим неизвестным, от которого происходит творческая энергия. Для Ваккенродера творческая энергия – это «вечная тайна», от которой у человека закружится голова, «если он захочет исследовать ее глубины». Мудрые люди спускались в «пещеры оракула самых скрытых наук» или в «таинственные склепы», чтобы принести на свет дня «глубокомысленные числа». Ваккенродер считает «необъяснимой» «симпатию», которая проявляется между «отдельными математическими звуковыми отношениями и отдельными фибрами человеческого сердца». Представители романтизма предпочитают говорить метафорами, образами и иллюзиями, которые исходят из субъективного стремления и занимают место духовной систематики и методичности, которые царили в древности и Средневековье. Теперь музыка – это «последнее духовное дыхание, самый тонкий элемент, из которого, словно из невидимого ручья, черпают свою пищу самые сокровенные душевные грезы» (Тикк), или «воздушная субстанция», «воздушная душа», «преломленное движение в том смысле, в каком цвет является преломленным светом» (Новалис). Музыка – это «отголосок, который доносится из отдаленного гармоничного мира, вздох ангела в нас» (Жан Поль), она – это «бесконечное в конечном» (Б. Брентано). «Гармония представляет собой подлинно мистический принцип в музыке» (A.В. Шлегель). «Не является ли музыка таинственным языком далекого царства Духа, чудесные акценты которого отзываются в глубинах нашей души и пробуждают более высокую, интенсивную жизнь?» – спрашивает Э.Т.А. Гофман в диалоге «Поэт и композитор».
В поэтическом творчестве романтизма вера стоит выше знания, автору достаточно подвести читателя к порогу чудесного, не имея мужества переступить его. Так, например, в красивой легенде Кляйста «Святая Сесилия, или Сила музыки» автор цитирует покровительницу музыкального искусства, которая во времена иконоборчества принимает человеческий облик, управляет мессой и путает чувства нарушителей спокойствия, проникших в храм, где совершается священнодействие. Тикк же довольствуется надеждой «встретить когда-нибудь еще более высокое, неземное пение сфер, по сравнению с которым все здешнее искусство покажется грубым и неуклюжим».
Покрытая мистикой, продолжает жить вера в гармонию сфер, которая Э.Т.А. Гофману (в «Серапионовых братьях») представляется «великим и неизменным жизненным принципом самой природы». От К.M. фон Вебера из приведенного выше рассказа («Интермеццо I») мы уже знаем о его исполненном таинственной красотой признании себя сторонником идеи о гармонии сфер. Среди философов-идеалистов наибольшее внимание гармонии сфер уделял в своих трудах Фридрих Вильгельм Шеллинг (1775–1854).
Для него музыка – это не что иное, как прототипически услышанный ритм и гармония видимой Вселенной или то искусство, которое в наибольшей степени сбрасывает с себя все телесное и поддерживается незримыми, чуть ли не духовными крыльями. Музыка делает наглядной форму движения мировых тел, гармонию сфер ни в коем случае нельзя понимать как реальное звучание. Пифагор говорил, что не движения небесных тел порождают музыку, а они сами являются музыкой. Соответственно этому, как указывает Сократ у Платона, музыкант – это тот, кто от чувственно услышанных гармоний переходит к нечувственным, умопостигаемым и к их пропорциям, т. е. настоящая, идеальная музыка вообще не слышна, а является нечувственной и сверхчувственной. Для Шеллинга ритм, гармония и мелодия – первые и самые чистые формы движения во Вселенной: центростремительная сила – гармония, центробежная сила – ритм. В Солнечной системе выражена вся система музыки. Мажор и минор, бас, тенор, альт и дискант Шеллинг находит в звездах, движение планет он трактует как чистую мелодию.
Для нас также важны воззрения А.В. Шлегеля. Он говорит о том, что пифагорейское учение о музыке сфер «очень часто превратно истолковывали и глупо использовали. Отношения музыкальных звуков, и в самом деле, первоначально были установлены природой вещей. Однако учение пифагорейцев «бесконечно красиво и имеет самое возвышенное значение». В нем содержится «предчувствие возможности сложнейших гармоний, ибо вся гамма их должна звучать совместно и тем не менее гармонично».
Остается предоставить возможность читателю самому вывести из этого доказательство «естественного» права на существование додекафонии[67] в современной музыке[68].
По прошествии тысячелетий сохранилась вера в гармонию сфер, не менее живая, чем сама вера в Бога. В ней мы находим связующее звено между музыкой и религией, и не важно, идет ли здесь речь о древнейших мистериях культа звучащих звезд или об апостоле современности, Ричиото Канудо, по мнению которого задача музыки – дать толчок к возникновению «религии будущего». «Музыка – это единственное искусство эволюции, единственное, носящее живой характер, единственный творец души. Музыка охватывает в бесконечности мира его элементы…» И автор ожидает мессию, который, вдохновленный музыкой, передаст всеобъемлющее новое представление о Вселенной [62].
Несомненно, происхождение этих воззрений, в которых музыка, религия и астрономия сливаются воедино, нам нужно искать в тех странах, где астрономия пережила наивысший расцвет, т. е. в Вавилонии и Египте. Но то, что отдельные звуки приписывались определенным божествам, мы встречаем не только в долине Нила, но и в Индии. Доктор Фриц Гизи указывает на то, что согласно «Махабхарате» и «Нарадасиксе», звук до принадлежит богу огня Агни, ми – Соме (богу, хранящему ритуальный напиток сому), фа – Вишну [63]. «Своеобразно обстоит дело в индийской музыке с так называемым высшим звуком, который сам стал объектом культового почитания. Правда, шкала „Самаведы“ включает в себя семь звуков октавы, причем абсолютная высота звука часто меняется, точно так же как и разделение интервалов на целые звуки и полутона. Самого высокого, седьмого звука – и это самое странное – на практике, так сказать, вообще не бывает. Это связано с мистическими событиями, и уже то обстоятельство, что он строго отделяется от шести остальных тонов, указывает на священное предназначение этого самого высокого звука. В „Самавидхане-брахмане“ в начале первой части говорится: „От наивысшего звука самана получают силы боги, от первого среди следующих – люди, от второго – гандхарвы (небесные покровители) и апсары (небесные девы, подобно гуриям у мусульман), от третьего – скот, от четвертого – маны и те, кто лежит в яйцах (еще не рожденные), от пятого – асуры (демоны) и ракшасы (гигантские существа, которые питаются также и человеческим мясом), от последнего – травы, деревья и остальной мир“. Аналогично в другом месте: „Высокий звук принадлежит Прайапати, или Брахману (здесь: персонификации творческой энергии), или богам Вселенной, первый – адитиасам (особому классу богов), второй – садхиям (другой группе богов), третий – Агни, четвертый – Вайу (богу ветра), мандра (пятый) – Соме, атисварья (шестой) – Митре-Варуне, т. е. древневедическому двойному божеству“». Встречаем ли мы в самом высоком звуке, которого «на практике вообще не бывает», снова наш таинственный «абстрактный звук»? Индийское происхождение имеет также представление о «танцующих небесных телах». Индра появляется в сопровождении небесных танцоров и небесных музыкантов, из гармонии солнечных и звездных богов произошла гармония сфер. Бог солнца Кришна как бог гармонии игрой на флейте сделал ритмичным движение кружащихся вокруг него небесных тел, подобно тому как в греческой мифологии то же самое совершил с помощью лиры бог солнца Аполлон [22].
Бог создал мир из музыки! В этом древнейшем космогоническом воззрении мы должны, пожалуй, искать кульминацию взаимосвязи музыки и религии. Мариус Шнейдер в многостороннем и содержательном сочинении [80, с. 12 и далее] обращает внимание на то, как «поющая энергия» в качестве «первого проявления мысли создала мир посредством того, что звук первичной вибрации пожертвовал собой, чтобы прогрессивно распространяться в возрастающем по спирали ритме все более высоких и вновь создаваемых вибраций и постепенно превращаться в камень и плоть… И в мифах о сотворении мира первобытных народов, и в космогониях афро-азиатских высокоразвитых культур в качестве матери мирового Творца упоминается темный, сверхчувственный звук». Быть может, это и есть наш таинственный «абстрактный звук»? Впрочем, здесь также имеется параллель с учением о душе Квинтилиана Аристида. «В Египте это было поющее Солнце, создавшее мир своим светлым криком, или Тот, бог слова и письма, танца и музыки… Прайапати, ведический бог творения, сам был лишь гимном» [80]. Мариус Шнейдер упоминает, что «светлый звук» вначале создал только чисто акустический, светящийся мир и образует первичную субстанцию всего сотворенного. Звук слова формирует тело, смысл слова – это свет, освещающий звук. «Первообразы, которые ведическая традиция обозначает как первичные ритмы (риши), – это слуховые представления». Согласно древнеиндийским воззрениям, материя возникла вследствие затвердения звучащих первообразов, звук – первичный элемент, боги – чистые звуки и в мире нет ни единой вещи, которая не имела бы скрытого голоса. Снова «латентная» музыка, с которой мы познакомились в изречении Рихарда Вагнера. Об этом как о манифестации голоса Бога говорит и испанская мистика. Согласно Сан Хуану де ла Крусу, познать Бога – значит «сначала акустически услышать субстанцию вещей, чтобы затем правильно их увидеть» [80, с. 51]. Согласно Ямблихусу, человек сам становится музыкальным инструментом, когда, слушая музыку, он вспоминает о небесной гармонии, которую его душа слышала еще до рождения тела. Самого распятого Христа Августин назвал музыкальным инструментом, из которого звучит песня милости, для Иоанна Тинкториса Христос – самый искусный музыкант (summus musicus). Только в том случае, если бы сам человек был божеством, он был бы способен слышать чистую небесную музыку, принесенную небесными посредниками на землю, считал Филон Александрийский. Он также упоминает, что уже халдеи в соединении небесного и земного выявили гармонию, объединившую в музыкальном созвучии то и другое [73, с. 23].
И это все же заставляет нас думать, что независимо друг от друга самые разные культуры пришли к одинаковому представлению о происхождении музыки в Божественных регионах и о проявлении Бога в звуке.
Верой в Бога облагорожен каждый отдельный звук не только в классической Греции, но и на Западе, равно как и в восточном мире. Божество становится символом вдохновения, и в этом заключается более глубокое значение древнего мифа, в котором каждая звезда приписывается некоему божеству и ей ставится задача делать человечество счастливым посредством света и звука – и первый и второй находятся в причинной взаимосвязи друг с другом. Именно это философски выразил Цицерон в высказывании, которое является эпиграфом к данной книге: «Musica capitur omne, quod vivit, quia anima coeli est» – «Все живое охвачено музыкой, потому что музыка – это душа небес».
Мысль о космической музыке, укорененная в многотысячелетней традиции, жива и действенна до сих пор, и, возможно, также и в будущем она будет незримо стоять за всеми слышимыми явлениями истинного музыкального искусства, пока мы вновь отчетливо не осознаем ценность древней мудрости, а разорванные взаимосвязи снова не свяжутся в единую картину познания. Раскрыв учебник по музыкальной эстетике доктора Карла Грунски [64], мы снова найдем указания на космическое происхождение музыки. По мнению Грунски, музыка и музыкальное движение относятся «к космическому пространству за пределами Земли», звуки приравниваются к «космическому явлению». «Космическое движение без труда становится движением в нас, и мы, несомненно, тоже принадлежим космосу… Радость и боль, полюса нашего ощущения, мы угадываем чутьем и распознаем в музыке как космическую деятельность… Ничем другим нельзя точнее объяснить космическое движение музыки, нежели предположением, что оно берет начало из воли, – воли, которая проявляется в силе, имеющей бесконечное множество градаций, и в волнении». Не содержится ли также и в некоторых суждениях Шопенгауэра смутное ощущение бескрайних космических просторов, стремление выйти за ограниченные области земного музицирования? «Музыка в целом – это мелодия, текстом к которой является мир».
К ошибочному мнению, однако, приходит граф Герман Кейзерлинг, отказывая гармонии сфер в жизнеспособности [5, с. 18]. Для него она находится в «статическом устойчивом состоянии», как «закрытая система», и «из закрытости любой системы проистекает то свойство гармоничного порядка, которое на звездном небе бросилось в глаза еще грекам». Поскольку теперь «все движения в гармоничной циркуляции застопорились (!)», гармония сфер неминуемо должна быть мертвым образованием. «Кто рассматривает гармонию сфер как идеальное явление и противопоставляет его живому, тот, следовательно, признает жизненным идеалом смерть». Сразу становится очевидным, что этот ложный вывод представляет собой contradictio in adjecto (лат.), противоречие в себе самом. Ведь если Кейзерлинг признает «движение», то тем самым он должен последовательно утверждать также и жизнь. Ибо жизнь – всюду, где есть движение, и только неподвижность производит впечатление смерти. Главное – не направление движения, скажем по кругу, а импульс к движению.
Так или иначе, гармония сфер продолжает жить – не только в мире абстрактных представлений, но и в конкретном сознании. Мы читаем о сектах, в которых регулярно практикуется слушание гармонии сфер («Вознесенные Мастера Я ЕСМЬ»). Упомянем далее «звуковой поток» («наам», голос тишины) приверженцев Рухани Сатсанга во главе с Сатгуру Кирпалом Сингхом. Встречаются удивительные сообщения, например, профессора Отто Юлиуса Гартмана [65, с. 30], который высказывается о «мировом хоре», как называл небесные тела еще Вильгельм фон Гумбольдт, следующим образом:
«Звездное небо лучше всего воспринимать как музыку, при этом математические пропорции орбит будут тогда выражением лежащей в их основе “музыки” (мелодии сфер). И в самом деле, при интенсивном погружении ритм дня или смены времен года воспринимается как мощный звук, которым наполнен мир. Его модуляции мы не слышим сразу лишь потому, что мы полностью ими пронизаны. Мы можем воспринимать как звук быстрые движения (камертоны), но по отношению к мелодии движения, растянутой более чем на 24 часа, синтетическая сила нашего сознания оказывается недостаточной. В настоящее время человеческое сознание слишком слабо, и только божественному или духовному слуху посвященных людей слышны подобные звуки мира».
Что мы можем сказать в ответ, натолкнувшись в каком-нибудь современном описании путешествия по Монголии (например: Мэйбл Уолн Смит. В стране быстрых лошадей: Висбаден, 1958, с. 168 и далее) на следующее признание: «О чем, как вы думаете, говорят мои пастухи во время своих долгих бдений? Конечно, о звездах и их поведении. Разогнав волков и обеспечив кобылам спокойный ночлег, они „погружаются“ в жизнь на небе… Более того, даже их лошади стоят с поднятыми головами и слушают музыку Вселенной. То же самое делают псы, чей слух настроен на диапазон более высоких звуков. Я убежден, что мои кобылы слышат пение звезд, когда те совершают свое годовое круговое движение. Хозяин табуна говорит, что лошади слышат эту мелодию звезд и любят ее».
Если и эти утверждения тоже захотелось бы отнести к царству фантазии, то остался бы невыясненным вопрос, как вообще у монгольского племени, живущего в стороне от всякой цивилизации, могла появиться мысль о «звучащих звездах», если бы с доисторических времен она не существовала в душе народа!
Стоит также упомянуть об отношении современных художников к космической музыке. Воззрения Кандинского, изложенные в работе «О духовном в искусстве» (в альманахе «Синий всадник»), где он говорит о «генеральном басе» и о «гармонии живописи», достигают кульминации в утверждении: «Мир звучит, он – это космос духовно действующих существ. Таким образом, мертвая материя есть живой дух».
Но лишь с оговоркой можно принять учение одного из современных русских философов-мистиков Георгия Гурджиева, имеющего многих последователей, прежде всего в Англии, Франции и Америке. То, что основой жизни он считает космическую октаву, еще понятно и совпадает с египетскими и древнегреческими эзотерическими воззрениями. Нисходящую «мировую октаву» с нотой до как исходным пунктом «луча творения» в абсолютном он считает творческой, восходящую – «развивающейся» (очевидно включение человека в связи с космосом). И наоборот, проведенная Гурджиевым параллель между «законом октав» и законом жизни представляется искусственной и неправдоподобной. Он высказывает предположение о неравномерности импульсов колебания, изменяющих направление космической октавы вплоть до ее инверсии, пренебрегая тем самым физическими фактами (октава, где меняется число колебаний, октавой уже не является). Чтобы сохранить первоначальное направление движения, она нуждается в «дополнительной встряске». Кто, несмотря на эту и прочие абсурдные фантазии (к примеру, о музыкальности химических элементов) и вопреки сомнениям Луиса Пауэла [76] принимает «мага» Гурджиева всерьез, тот, пожалуй, не до конца понимает область музыкальных задач. Некоторые его концепции, в которых рассматривается дуализм внутренней и внешней музыки, дают повод для размышлений, как, например, нижеследующий абзац, в котором, как нам кажется, можно узнать – в изображении его ученика П.Д. Успенского [77, с. 437] – представления розенкрейцеров о «силе притяжения» звуков:
«Вся объективная музыка основана на „внутренних октавах“. И она вызывает не только определенные психологические, но и явные физические результаты. Существует такая музыка, которая превращает воду в лед. Существует такая музыка, которая мгновенно убивает человека. Библейская легенда о разрушении при помощи музыки стен Иерихона – это свидетельство как раз об объективной музыке. Простая музыка не сломает стены, а объективная музыка действительно в состоянии это сделать. Она способна не только разрушать, но и строить. В легенде об Орфее содержатся намеки на объективную музыку, ибо Орфей передавал знание посредством музыки. Музыка заклинателей змей на Востоке есть приближение к объективной музыке, хотя и весьма примитивное. Нередко это всего одна нота, которую долго тянут с небольшими подъемами и падениями; но в этой единственной ноте постоянно слышатся „внутренние октавы“, недоступные слуху, но ощущаемые эмоциональным центром. И змея слышит эту музыку, строго говоря, чувствует ее и повинуется ей. Если взять такую же музыку, но более усложненную, то ей будут повиноваться и люди».
В конечной точке наших рассуждений о космосе попробуем перекинуть мостик к современной космологии и попытаемся найти связь с точной астрофизикой, которая в наш атомный век находится в центре внимания. Физик Вальтер Понс в своей отвечающей духу времени и необычайно содержательной книге [71] требует от философии ориентироваться на физику. Тогда, с другой стороны, можно надеяться, что и физика не будет однобоко игнорировать философские стимулы, даже если в области трансцендентности она стремится доказать действительность ирреального как зачатка и строительного материала реального мира, сознательно вступая в противоречие с идеей, которую Николай Гартман отстаивает в работе «Построение реального мира», и его утверждением, что идеальный мир представляет собой только «неполное бытие», в то время как полное бытие свойственно только реальному миру.
Но сегодня «звук звезд» уже улавливается и фиксируется физическими измерительными приборами. Сферы вновь появляются в «экосферах» – этим термином специалист в области космической медицины Губертус Штругхольд «обозначает кольцеобразную зону вокруг центрального небесного тела, в которой в силу температурных причин должны вращаться планеты, чтобы на них могла развиться органическая жизнь, похожая на земную» [71, с. 80]. Понятия сохранились, изменилось лишь их значение. Бесконечность Вселенной ставится под сомнение. Полагают, что она имеет форму возвращающегося в самого себя пространства, поэтому кажущегося бесконечным. Однако противоположность бесконечности – предел, и вспомним о полярности «образующих границы» и «безграничных» факторов Филолая, которые связываются гармонией. Введенное им понятие мирового порядка (посредством гармонии) подтверждается со стороны физики, которая характеризует «космос как осмысленно упорядоченное и поэтому поддающееся описанию единство» [Там же, с. 87]. Жизненному закону следует приписать «космическую силу». Но если жизнь подчиняется «гармоничной» реальности, то уж тем более закон гармонии применим к космосу, но не в том смысле, что космос звучит, а что он готов звучать, как «concentus intellectualis» по Кеплеру.
Тем не менее требование Вальтера Понса, чтобы философия ориентировалась на физику, нередко уже исполнялось. Было бы несправедливо обойти здесь стороной холизм (от греч. holon – целостность) Яна Христиана Смутса, который с физико-биологической позиции прослеживает развитие «индивида до его корней во Вселенной» [117, с. 251]. Из единства с природой проистекает связь наших телесных органов с «миллионами лет их истории; наш дух полон забытым доисторическим опытом человечества. Наш слух в музыке, наше зрение в искусстве относят нас назад к самым ранним истокам животной жизни на этой планете. Достаточно небольшого повода, и вот уже очертания темного, забытого прошлого вновь предстают перед нами…» [117, с. 346 и далее]. Благодаря одухотворению мира «добавляется новый звук музыки Вселенной» [Там же, с. 254]. «Латентная» музыка природы, по мнению Смутса, отнюдь не фантазия: «Ритмичное колебание становится характерным признаком функции живых структур. Колебания, ритмичное течение клеточных функций образуют жизненный закон и попутно (!) становятся основой нового музыкального элемента в жизни; они дают музыке то первоначальное фундаментальное своеобразие, которое ведет нас обратно к первоисточникам жизни на этой земле и на протяжении многих тысяч лет позволяет музыке обращаться к самым примитивным и самым высокоразвитым структурам. Ритм равновесия обнаруживает тесную связь между физическими и жизненными структурами. А его музыка связывает воедино всю жизнь во все времена» [Там же, с. 185]. Едва ли можно точнее выразить словами связь музыки с природой и жизнью.
И даже когда говорят о квантах излучения, которые высвобождаются благодаря переходу электрона на внутреннюю орбиту атома, напрашивается сравнение с музыкой. Этими квантами излучения «объясняется также тот свет, который исходит от Солнца и звезд и вообще от всех испускающих лучи тел. Точно так же этими квантами излучения объясняется своеобразный спектр элементов в спектроскопе. Пока еще неясно, почему свет атома излучается в этих количествах или квантах; но известно, что распознаваемые в спектре кванты придерживаются последовательности, похожей на порядок нот в музыке. Таким образом, свет можно рассматривать как музыку сфер, при которой полная гармония или действие света задается определенными дискретными нотами вместо связной вариации света» [117, с. 37 и далее].
Смутс со своей теорией целостности не находится в одиночестве (ее разделяют Феликс Крюгер, основатель школы «комплексной психологии», представители гештальтпсихологии Эренфельс, Вертгеймер, Кёлер, Кофка, затем О. Шпанн), между тем он подтверждает некоторые наши идеи, например, о связи света и звука. Но если холизм, по Смутсу, действительно является vera causa (лат. «истинной причиной»), то на каком основании мы должны исключить музыку из мировой целостности и отказать музыкальному искусству в праве на то, чтобы в силу числового порядка своего существа присоединиться к устроенному по сходным законам космосу?
Разве не заслуживает внимания то, что в современных точных науках снова и снова появляется понятие гармонии сфер?
Для примера приведем высказывание ведущего физика, профессора Берлинского технического университета доктора Винкеля, который в результате акустических исследований пропорциональных рядов делимых чисел пришел к доказательству существования гармонии сфер. Он считает, «что чувство оформленного порядка, которое нас охватывает при слушании музыки, нельзя сводить к всеобъемлющей гармонии художественного произведения в строгом смысле. Напротив, высший принцип упорядочения, закрепленный в противопоставлении пропорций малых целых чисел, приводит к понятию бесконечности, гармонии сфер, которую органами чувств постичь уже нельзя и которая – если бы было возможно сближение – оставляла бы нас тогда безучастными» [170, с. 138]. Разумеется, при условии, что на протяжении всего развития человеческого рода возможности нашего слуха и в самом деле всегда оставались константными.
В конце этой части было бы уместно дать краткое резюме наиболее важных установленных фактов. Вместо этого будет достаточно привести воззрения одного из наших величайших музыкантов, которые полностью совпадают с моими рассуждениями. Известный дирижер Бруно Вальтер пишет о гармонии сфер и Пифагоре следующее [66, с. 11 и далее]:
«Я никогда не относился к этому откровению перед высоким духом лишь как к продукту возвышенного воображения, наделенному богатой фантазией. Я верю в то, что великому учителю человечества в звуке открылись первозданные глубины природы, что он – пусть и не физическим слухом – действительно слышал гармонию сфер. Наверное, нам не следует подвергать сомнению то, что такой высоко вдохновленный дух имел все задатки к тому, чтобы слышать гармонию сфер внутренним слухом и переживать ее как волнующее душу событие. Мысль о первозданной музыке, хотя и не доступной для восприятия чувственному слуху, но звучащей и царящей в космосе, какой ее слышали в своей душе Пифагор и Гёте, становилась для меня все более и более убедительной. Отталкиваясь от идеи о таком высоком происхождении музыки, я начал постепенно более глубоко понимать становление и сущность нашего искусства и его элементарную власть над душой человека. Будучи творением природы, подверженным воздействиям космических процессов на все земное, человек уже на заре цивилизации должен был испытывать на себе влияние той музыки Вселенной – его организм резонировал с ее звучащими вибрациями и воспринимал ее ритмичные импульсы. От тех сферических процессов, извещающих о внутренней сущности мира, и от их воздействия на развитие человека происходят, наверное, его основные музыкальные задатки, которые – на подходящей для этого стадии зрелости его органов чувств и духовной сознательности – сумели затем расцвести до музыкального выражения в живом звуке».
По мнению Бруно Вальтера, «вся созидательная и созидающая по образцу музыкальная деятельность человека указывает на ее происхождение из сфер вращающихся небесных тел».
Музыка – это «также послание из внеземных регионов, которое напоминает нам о нашем собственном прежнем происхождении».
В своих рассуждениях мы прошли долгий путь от Пифагора до атомной физики. И как бы мы ни относились к представлению о реально существующей гармонии сфер, с участием или скептически, для нас будет полезным уже само понимание того факта, что игра звуков совершается не на чисто физико-акустическом уровне, а в ней задействованы силы Духа. В ней проявляются глубины души, о которых мы и не подозревали и которые ждут еще своего окончательного объяснения. Древнее «Scio, quin nescio» («Я знаю, что ничего не знаю») приобретает новый смысл для сферы души, относящейся к музыке. Высказывание Андреаса Веркмейстера, сделанное в Позднее Средневековье, что «в музыке скрыто еще множество тайн», похоже, находит отклик в возвышенных словах Макса Планка:
«На протяжении всей своей жизни мы чувствуем, что подчинены высшей силе, сущность которой с позиции точной науки мы никогда не сможем понять, но которую также никто, кто хоть немного задумывается, игнорировать не может. Здесь для вдумчивого человека существует лишь две позиции, между которыми он может выбирать: либо страх и враждебное сопротивление, либо благоговение и исполненная доверия самоотдача.
Единственное, на что мы можем с уверенностью претендовать как на свое достояние, – это высшее благо, которого нас не может лишить ни одна сила мира и которое, как ничто другое, могло бы навсегда нас сделать счастливыми. Это благородный образ мыслей, находящий свое выражение в добросовестном исполнении долга. И кому суждено вместе с другими работать над созданием точной науки, тот вместе с нашим великим поэтом найдет свое удовлетворение и счастье в сознании того, что ему надо исследовать постижимое и спокойно чтить необъяснимое» [166, с. 379].
Приложение Музыкальные сентенции из сочинений Кеплера (Подборка изречений из трактата «Созвучия миров», главного труда И. Кеплера)
Мы не согласны с тем, что в обычной речи только созвучие тонов принято называть гармонией. Различие между первозданной гармонией и чувственно воспринимаемым созвучием, по-видимому, заключается в том, что части первозданной гармонии образуются по определенному закону из представлений учения о пространстве, о круге и его дугах.
✽
Основные компоненты первообразов действуют в душе еще раньше. Поэтому ко всему прочему требуется, чтобы чувственно воспринимаемый звук был воспринят сознанием благодаря излучаемой им самим особенности… Первозданному созвучию никаких последующих мер не нужно, так как все его частности изначально присутствуют в душе в качестве причины действия. Они являются не учебным примером для иллюстрации верного научного положения, а в известной мере самим таким положением. Простым сравнением отдельных составных частей созвучия, которое проводит душа, исчерпывается вся сущность гармонии первообразов. Наконец, сама душа, если она активно занимается этими вещами, предстает перед нашими глазами гармонией, если круг и его части… постоянно совершают гармоничное вращение. Таким образом, созвучие все более оживляется и в конце концов обожествляется.
✽
Все первозданные мысли или гармоничные первозданные отношения изначально существуют у того, кто обладает даром их понимать. И все же они не воспринимаются посредством понятий, скорее они происходят от бессознательного влечения, подобно тому как сразу задано количество лепестков у цветка.
✽
Стало быть, все эти небесные движения – не что иное, как вечно чудесное многоголосое пение, которое можно узнать только мысленно, но не через звуки; шествующее над диссонансами напряжения, словно скользящее над расхождениями (syncopationes) или заключительными подтверждениями (cadentias), каким подражают люди посредством естественных последовательностей гармонии.
✽
Способность к гармонии произвел сам Бог Своей волей Творца. Она – часть Его деятельного существа. Как маленькую частицу Своего подобия Он вдохнул ее во всех живых существ, в каждого по его способности понимать.
Третья часть Магическая музыка
Интермеццо II
«Media vita in morte sumus»[69]
Это должно быть здесь…
Еще один быстрый взгляд на старинную карту! Да, здесь. Вот заросшая лесом цепь гор, там – Рёмерштрассе, к западу – долина, там вершина с кольцевым валом крепости – расстояния соответствуют.
Но где развалины монастыря? Передо мной простирается поле пшеницы, словно золотой ковер, окаймляющее небольшой холм. Колосья задумчиво и тихо колышутся под солнечным зноем, жаворонок обращает к небесам свою восторженную песню. И нигде нет даже следа руин – никаких остатков стен – нет ничего!
Вот так моя любовь к древностям сыграла со мной злую шутку! Раздосадованный, я сбрасываю с плеч рюкзак, в сердцах кидаю на землю дорожную трость с ее многочисленными значками, расстилаю на меже[70] в поле плащ и решаю сперва как следует подкрепиться.
Уже полдень – таинственный час Пана. Раскаленный воздух тяжким бременем ложится на иссушенную землю, словно любовный вздох, обвивает меня дыхание налившегося зерна, из глубокой тиши раздается голос природы.
Далекий путь утомил меня. Но как приятно помечтать под нежный запах сигареты! Монастырь – я мог бы хорошо представить его себе по древним описаниям. Здесь предо мной была, наверное, трапезная, за большими сводчатыми окнами сидели монахини во время обеда. Небольшие отверстия над залом конвента[71] ведут к кельям, впускавшим скудный свет. Фруктовые деревья устало прислоняются к серой стене монастыря, которая с правой стороны закрывает часовню. Послушай – не звучит ли там бой колокола? Откуда этот одинокий звук – не из глубин ли холма подо мной?
Все такое нереальное – такое далекое от действительности… Почему бы мне чуть-чуть не ослабить поводья фантазии? Там, справа, из ворот должна была бы выйти монахиня. Или нет, лучше сразу две, чтобы они могли составить явный контраст друг другу. Одна, помоложе, скрывает под чепчиком нити упрямых золотистых волос, глубоко посаженные темные глаза по-детски страстно смотрят вдаль, тонкий, узкий рот слегка приоткрыт, как будто ждет исполнения тайных желаний. Он красив, этот рот, изгибающийся застенчивой дугой – можно ли влюбиться в образы своей фантазии?!
Другая, строгая и суровая, несмотря на летнее тепло, закутывает свое негармоничное лицо в плотную вуаль, откуда выглядывают только мрачные, колючие глаза, словно высматривая добычу. Они прикованы к спутнице – заклиная – излучая магические чары…
И вот оба творения моих грез стоят предо мной и ждут, что я придумаю для них беседу! О чем они могли бы говорить? Например, о строгих правилах монастыря, которым более юная монахиня подчиняется против воли? Она еще не заперла за собой врата чувственного мира, ее сердце все еще способно биться в такт ожиданию, которое никогда не исполнится…
Не подвергла ли уже аббатиса ее строгому наказанию за то, что та уклонялась от священной службы? Но как можно принуждать себя к благоговению, если сердце теснят грешные мысли! Чем тут могут помочь самоистязание, стояние на коленях по ночам на твердых каменных плитах, удары бича – надо ли ей притворяться?
«Что это за рана на лбу?»
Молодая монахиня тяжело вздыхает.
«Она меня ударила. Когда вырвала у меня „Песню песней“, которую я с упоением читала. „Взгляни, мой друг, ты прекрасен – его левая рука лежит на моей голове, а правая прижимает меня к сердцу…“»
«Тебя зовут Ирина – в честь святой, которая приняла смерть на костре при императоре Диоклетиане. А Ирина означает „мир“».
Тонкие губы вытягиваются в страдальческую насмешку. «Мир? Нет, – о, как я ее ненавижу, мучительницу, которая каждый час моей жизни превращает в ад! Я могла бы наслать на нее порчу, убить…»
«Убить? Так что ж, сделай это!»
«Франциска!» Глаза в страхе расширяются.
«О, не так, как ты думаешь! Нет, есть средство ее устранить, себя не обременяя. Наши сестры в Веннигзене и Мариензее часто к нему прибегают…»
Монахиня постарше наклоняется к уху своей спутницы – притворный голос звучит чарующе:
«Спой! Спой „Media vita“ против нее!»
Изумленная, Ирина отворачивается.
«Древний гимн „Посреди жизни мы охвачены смертью“… Я знаю, его поют от страха смерти – мореплаватели ждут от него спасения в шторм. Но как благочестивая мелодия может убить?»
«Тебе ничего не известно о битве при Олденеше?»
«Расскажи!»
«Пошли, сядем в тени орехового дерева!»
Очарованный, я смотрю пристально вдаль, пытаюсь поймать оба образа – монахини исчезли. Стены монастыря мерцают и сверкают – или это просто меня дурачат очертания деревьев, расплывающиеся в ярком солнечном свете? Словно желтая стена, между ними колышется поле пшеницы – над ним дрожит горячий, пропитанный зноем воздух…
Эти слова – не я вложил их им в уста! Творения моей фантазии получили собственную жизнь! Ирина – как обворожительны ее гордое, тонкое лицо и грустные глаза!
Но что такое «Media vita»? Я знаю, это старая грегорианская секвенция[72] из монастыря Сент-Галлен. Якобы монах Ноткер напевал ее, наблюдая за возведением опасного моста, что напомнило ему о бренности всего земного. Но какую цель преследует сестра Франциска? Я должен ее послушать…
И вот они появляются снова. Они сидят на скамейке справа рядом с входными воротами. Старшая обвила рукой молодую – теперь я разбираю и ее слова:
«…Аnno domini[73] 1236. Здесь был один из моих прадедов. Он принадлежал к духовенству Бремена, которое выступило в поход против язычников штедингейцев. И когда дикие толпы налетели на небольшую группу бойцов за веру, крича и размахивая секирами, вытаскивая луки и обнажая пики, даже опытные рыцари стали терять мужество! Столкновение было таким страшным, что небольшое войско дрогнуло. Неужели язычество возьмет верх над справедливостью? Там был мой прадед, который вдруг запел „Media vita“. И песня перелетала из уст в уста, ее стали подпевать десять, сто, тысяча – и над полем сражения прокатилось мощным хором: „Посреди жизни мы охвачены смертью…“»
«А штедингейцы?»
«Оторопели – оружие выпадает из парализованных рук – они отступают – охваченные ужасом, бросаются наутек! Видишь, Ирина, тут песня проявила свою волшебную силу – каждому приносит она смерть, если поется против него!»
«И ты думаешь…»
«Спой песню против аббатисы – здесь, сейчас – и ты увидишь, как она побледнеет, как ее жизненные силы иссякнут!»
«Я боюсь!»
«Дурочка! Иди сюда, я тебе помогу. Встань прямо перед ее лицом – посмотри ей в глаза – а теперь поем: „Me-di-a vi-ta in…“»
Позади них из земли вырастает тень – силуэт аббатисы – я хочу вскочить – предостеречь Ирину – тщетно – я прикован к земле.
«Я застала вас здесь у крепостной стены за занятием колдовством? Разве Кёльнский церковный собор не запретил двадцать первой статьей наводить проклятие на людей пением „Media vita“? Огонь костра очистит ваши грешные тела!»
Я слышу, как Ирина кричит – вижу, как два палача хватают ее – силком тащат к поленнице – вот уже жадно извивается пламя – я чувствую ее взгляд, полный отчаяния, который сжигает мне сердце…
«Ирина!» Я не нахожу себе места: «Ирина!»
Исчез монастырь – пшеничное поле колышется под дуновением легкого полуденного ветерка. Передо мной на обочине дороги стоит старый крестьянин – трубка в беззубом рту, через плечо коса.
– Монастырь! Где монастырь? Ирина – я должен спасти ее от смерти в огне!
Мужчина держит в руке курительную трубку, энергично ступает ногой на землю.
– Здесь он, глубоко под нами – погруженный в холм. Иногда, в полдень, он поднимается со своими стенами и башнями – некоторые слышали колокола и странную песню – как же там? «Me – media…»
– «Media vita in morte sumus!» Да, так! Ах, помогите мне все же! Мне нужно к монастырю, и я должен раскопать его своими руками!
Покачивая головой, старик еще крепче сжимает косу, поворачивается и уходит со словами:
– Господин, возьмите плуг и пройдитесь им по земле! Это единственный способ попасть вглубь!
Я поднимаю рюкзак, беру трость и спускаюсь в деревню, несколько стыдясь необузданности своей фантазии.
Но у меня в ушах непрерывно звучит хор мертвецов, поющих мрачными голосами, – откуда он раздается: оттуда из холма, из глубин моей души? – «Посреди жизни мы охвачены смертью…»[74]
✽
Бесконечный караван движется по широкой равнине. Серая лента, извивающаяся вдоль степи. В громоздких телегах, запряженных волами, вращаются колеса, скрипящие под грузом домашней утвари, женщин и детей. Люди кричат, собаки лают, коровы и овцы скрываются в облаках пыли, мужчины на резвых лошадях с пиками наперевес скачут верхом впереди повозок. Германское племя, изгнанное могущественными врагами, отправилось на поиски новых земель.
Открывается неожиданный вид – горы вытягивают на горизонте свои гигантские «головы» к небу и беседуют с облаками. Можно ли безнаказанно приблизиться к месту, где обитают боги? Выпавшие рунические символы ничего плохого не предвещают. Но когда кочевники прокладывают себе дорогу между отвесными скалами, их сердца наполняет страх. Странные звуки, которых никто никогда раньше не слышал, доносятся из болтливых водопадов, от ревущих ветров, охотящихся в темных расселинах. А теперь – что это за дух выкрикивает им их собственные слова, которые слетают с их губ? Они повышают голос и кричат во всю силу легких – это уже не фонемы, а звуки, которые можно разделить на интервалы, и что странно, невидимый дух возвращает им те же самые звуки. Колдун племени знает, наверное, тайну эха. Но он объясняет чудо воздействием собственной силы, которая заставляет духа повиноваться ему и повторять все, что он ему кричит. И его сила настолько велика, что он способен ссылать и другие чужие голоса: в трубочку, из которой раздается птичий крик, когда он подносит ее к губам, в трещотку, в которой скрывается гром, когда он ею размахивает. Колдун сам стал духом, который владеет незримым и заставляет это незримое ему служить. Звуковые ряды заклинания – это составные части его ритуала. Лишь одному ему можно их пробуждать, когда он восхваляет богов и умиротворяет их жертвоприношениями.
Примерно так мы можем представить себе возникновение музыки – из магического культа древних религий. Именно жрецы приписывали определенным последовательностям звуков магическую силу – они хранили мелодии, которые не мог заставить звучать никто другой. Этот обычай еще и сегодня встречается у примитивных народов – в индейских племенах есть свои особые «хранители песен».
Как ни странно, «магия» эха, родившаяся из природного звука и способствовавшая возникновению более сложных музыкальных форм, в музыковедении привлекает к себе не так много внимания – в отличие от прошлых столетий, в которые, согласно библиографии Форкеля (1792), появлялись на свет многочисленные сочинения, специально посвященные эхо. В греческой мифологии эхо считалось нимфой, которая изводила себя безответной любовью к прекрасному Нарциссу, причем в самом буквальном смысле, потому что от нее остался лишь голос. «Дочь Голоса» – так обозначалось «Божественное эхо» на иврите. Это находит свое художественное выражение в известных противоположностях forte и piano при повторении одних и тех же последовательностей звуков («ступенчатая динамика») и превращается в шутку, например, в эхо-сонатах Рейтера, учителя Гайдна, и при создании «эхо-регистров» в органе. На подражании эхо основывается использование демпферов[75] в духовых инструментах. Но древняя «магия» природы иногда имеет дело и с «искусственным продуктом», как в жалобах Орфея в начале оперы Глюка. Далекий оркестр, повторяющий мелодию ритурнеля[76], символизирует голос природы, который, словно эхо, отражается от печали певца.
По мнению Кастнера, высказанному в его интересном труде «Эолова арфа и Космическая музыка» [12, с. 35], между открытием воздействия decrescendo (постепенного ослабления звука) в художественной музыке и стиханием звука при многоголосом эхе также существует внутренняя связь. Может даже возникнуть стремление пристрастно «коллекционировать» разные эхо, а из самых странных из них составить книгу. Кастнер приводит – частично ссылаясь на Атанасиуса Кирхера – многочисленные примеры со всего света, в том числе стократное сибирское эхо, которое слышал адмирал Врангель [Там же]. Эху морских шумов подражают звуки органа и человеческие голоса, давшие повод для сказания о сиренах – вспомним также «Подземный концерт утесов» Маттесона, о котором говорилось в первой части! Знаменитые эхо носят определенные имена, как-то: «танец богов» в Гватемале, «колокол» в Цзянь-си (Китай), «горный колокол», «музыкальная пещера» в архипелаге Гебриды (Шотландия), побудившая Мендельсона сочинить свою известную увертюру. Иногда эхо принимает своеобразные звуковые формы, среди них чаще всего звуки выстрелов и барабанной дроби, которая объясняется особым акустическим явлением «катящегося песка» в Синае и в пустынях (кто еще не слышал звонко щебечущий звук, когда босой ногой скользишь по морскому песку?). И разве все эти многочисленные чудеса эха не оказали влияние на человеческую психику и развитие музыки?!
Эхо выступает творцом музыкальных форм. Один швейцарский исследователь народных песен наблюдал, как поблизости от скальной стены дети пели народную песню, состоящую из трезвучных мотивов [83]. Эхо возвращало им собственный голос. У одного мальчика возникла мысль петь вместе с эхом – т. е. вступить с темой песни чуть позже. Теперь эхо стало двухголосым, затем трехголосым, и так возник «канон», причем раньше это понятие детям знакомо не было.
Вместе с преобразованием природного звука в художественное произведение произошла смена субъекта и объекта. Человек, в доисторические времена воспринимавший «магию» эха как голос богов природы, нимф, сам превратился в эхо, которое композитор вызывает в своей душе. Теперь задача, которая стоит перед любителем музыки в концертном зале, в опере, такова: отказаться от чисто внешнего, физического процесса слушания и стать «эхом» для духовных потоков, которые в своих произведениях излучает композитор. Это значит: не только воспринимать их, но и позволить им «отдаваться эхом» в сердце – переживать их. Но «переживать» означает – сделать своим достоянием жизнь, создаваемую звуками и целенаправленно пользующуюся ими как средством. В «магии», совершенной композитором, содержится впечатление, которое музыкальное произведение оставляет у слушателя. За многие тысячелетия, когда человек еще с глубоким благоговением внимал «Божественным» голосам природы, «магия» эха осталась без изменений – поменялись только внешние условия и формы ее проявления.
Однако для нашего исследования представляется целесообразным вначале определить понятие музыкальной «магии» и придать ему особое значение, отличное от обобщенного музыкально-эстетического – «„магическая“ артистичность».
Самая краткая формула будет такой: под музыкальной «магией» понимают достижение внехудожественного воздействия художественными средствами. Последовательности звуков и музыкальные инструменты, а также отдельные звуки используются для того, чтобы оказать влияние на человеческую психику для достижения корыстных целей, причем эстетическая сторона полностью игнорируется. В предыдущем рассказе монахини занимались магией, ведь пением «Media vita» они хотели не достичь художественного впечатления, а призвать черные силы для уничтожения жизни. Магическому культу принадлежали колдовские мелодии германского племени, за странствованием которого мы тайком наблюдали. Ведь, согласно оккультному закону подражания, эти мелодии должны были заставить повиноваться богов природы.
Многочисленные отношения между человеком, музыкой и природой, с которыми мы познакомились в первой части, предоставляют обширную информацию для размышлений о магических действиях в области музыки.
Можем ли вообще мы, современные люди, относящиеся к музыке скорее рассудочно и рационально, нежели доверительно и наивно, верить в музыкальное чудо, приписывая звукам способность не только властвовать над природой, но даже ее преобразовывать? И как можно было бы когда-нибудь прийти к подобным воззрениям, если бы в человеческой душе не оказало определяющего влияния живое представление об откровении Бога в звуке, если бы человек не чувствовал себя важной составной частью звучащей Вселенной, в которой к нему обратился голос Бога? Можно ли здесь говорить о «звукопроницаемости» особых сегодня пришедших в упадок субстанций, которые испытали на себе воздействие космических звуков, – формообразующих сил, сыгравших важнейшую роль в человеческой жизни? Только в отдельных высказываниях великих умов продолжает жить эта мысль. Например, Роберт Мусиоль утверждает: «Музыка бесконечна, но она также и всемогуща – словом, она и есть все то, что является духом. До тех пор пока будет существовать хоть один какой-нибудь живой организм, до тех пор будет существовать так же и музыка и до тех пор она будет творить чудеса». А Эдуард фон Гартман, развивая мысль Шеллинга: «Музыка – это первообразный ритм природы и самой Вселенной», заявляет: «Из причудливых замечаний Шеллинга можно вывести столь же ценную, как и почти не принимавшуюся до сих пор во внимание истину, что музыкальные идеи нельзя исчерпать эмоциональной жизнью людей – напротив, музыка с таким же успехом может стать отражением и выразительным средством подчеловеческой, животной, растительной и космической природной жизни». Б. Брентано же всерьез задался вопросом, знал ли Христос «что-либо о музыке»: «Он говорит: все, что трогает вас духом и чувствами, – Божественно, ибо тогда ваше тело тоже становится духом. Вот что я примерно почувствовал и подумал, услышав, что Христос не знал ничего о музыке» [6, с. 55]. К нашей теме, к доисторическим временам человеческого развития, возвращает нас изречение почтенного Конфуция: «Кто не воспринимает наставника просто и непосредственно, как в древности, тот ни в чем полностью не уверен».
Несомненно, за верой следует суеверие, как тень за светом. Тем не менее речь идет не о том, чтобы с чванливой улыбкой интеллектуального высокомерия отмахнуться от суеверных обычаев, а о том, чтобы обнаружить и проверить религиозные остатки суеверия, пусть критически, но вполне благосклонно, а именно в области сказаний, сказок и мифов, глубинная истина которых уже давно не ставится под сомнение в этнопсихологии.
К источникам загадочной для нас веры в возможность музыкального воздействия на природу ведут прежде всего два пути. Во-первых, это исчезнувшее у нас чувство естественности причинной связи между музыкой и природой, которые нужно расценивать как эманации одного и того же Божественного Духа. И, во-вторых, несомненно, гораздо сильнее выраженная в прошлые времена способность к развитию образных представлений в ответ на музыкальные впечатления. Душевную жизнь подчинял себе образ, воображение в его первоначальном смысле, ибо «воображение» предполагает, что человек создает себе внутреннюю картину событий во внешнем мире. Образность – это «первичный эквивалент», служащий посредником между различными смысловыми сферами, что детально показывает Арнольд Шмитц в интересной монографии «Образность музыки Иоганна Себастьяна Баха». Именно Бах являет собой самый яркий пример музыкально-творческого «мышления в образах»; он взывает к образной восприимчивости того, кто слушает музыку. «Мир звуков характеризуется высотой, глубиной, шириной, весом, плотностью, яркостью, теплом, холодом, дистанцией, линией, цветом, т. е. имеет оптические, гаптические[77], тепловые, пространственные качества. Все это непосредственно узнается звуками и музыкой и основывается на первичных соответствиях, а не на ассоциациях, как утверждают теории Вундта и Штумпфа. Это не нужно также путать с синестезией как двойным ощущением в буквальном смысле. Сообразно с первичными соответствиями качества, которые принято считать относящимися к оптической и пространственной сфере, могут также проявляться непосредственно в музыке» [84, с. 15].
Можно ли еще удивляться тому, что в самые ранние времена музыка понималась не абстрактно, а совершенно конкретно – она была персонифицированной, Божественно-очеловеченной, наделенной индивидуальными, «магическими» качествами? И как вообще связана сила воображения с музыкальным слухом и удовольствием, получаемым от музыки? Обладал ли первобытный человек преимущественно эйдетической[78] способностью наглядно воспринимать образы, было ли у него принципиально иное отношение ко всем музыкальным явлениям? Упомянутому «воображению», которое «демонически выражается как душевная сила магической природы» [85, с. 294], особое внимание уделял Парацельс, считавший, что «превосходное воображение» живет в astris (звездах), и локализовавший его в душе, которая, как и сам Бог, вечна и бессмертна [Там же]. С «воображением» Парацельс также непосредственно связывает «колдовство над изображением» человека, которое дает нам следующий ключ к пониманию музыкально-магических приемов и которому мы уделим внимание еще позже в связи с вопросом о магии музыкальных инструментов. Для начала достаточно будет знать, что здесь используется изображение того существа, на которое хотят оказать магическое воздействие. Люди верили, что могут нанести недругу тот же вред, который причиняют его изображению, проткнув его иглой или повредив каким-нибудь другим способом. Это намерение совершенно необязательно должно служить проявлению сил черной магии. История музыки во все времена обнаруживает многочисленные примеры «колдовства над изображением», причем сам человек или музыкальный инструмент становится «звучащим» изображением богов природы. Он приобретает магические способности, подражая необычным, зловещим голосам природы и таким образом подчиняя их себе. Колдун странствующего германского племени, описание которого послужило вступлением к этой части, тоже занимался музыкальным «колдовством над изображением».
Мы это ясно видим на примере музыкального заклинания дождя у многих первобытных народов. Согласно Вильгельму Вундту [86], у индейцев цуни в Новой Мексике трещотка бога дождя должна подражать шуму падающих капель и таким образом вызывать дождь. По этой же причине маски людей, исполняющих колдовской танец, изображают облака. Удары в металлические диски вместе с заклинанием вызывают гром. Комбарье приводит примеры мелодий дождя [87, с. 38]. Скачки октав и понижение мелодии примерно на полторы октавы тоже считаются своего рода «колдовством над изображением»: звуковые шаги символизируют нависание облаков над землей и последующий ливень. «Колдовством над изображением» является церемония летнего солнцестояния у индейцев цуни, чьи жрецы, произнося нараспев заклинания, ходили по домам, при этом обливая себя водой [86, IV, с. 535]. Как получилось, что эту же форму исконно народного заклинания дождя можно обнаружить в Греции? Распевая песни, девушка, украшенная травами и цветами, обходит дома, а каждая хозяйка дома обливает ее водой из ведра [88, с. 101]. Согласно Вундту, эту форму заклинания дождя можно встретить у самых разных народов. Зачастую она выражается только в обливании водой служанки, «дождевой девушки».
Мелодии дождя были у африканских колдунов, в Древнем Египте эту же роль играл гимн Нилу, точно так же как греческий гимн Афродите, богине плодородия. Еще Сенека упоминал о возможности вызывать дождь с помощью пения. Согласно Комбарье и Вагнеру, автору «Исторических очерков о природе Швейцарии», пением оживляются иссякшие источники. В «Албанских очерках» Гальма можно прочесть о роднике, который струится лишь после того, как дети три раза подряд споют распространенную в этой стране песенку. Солиний, которого в своих «Очерках и популярных лекциях» цитирует Шлейден, рассказывает еще об одном источнике, который начинает бурлить, словно танцуя от радости, при игре на флейте.
Индия и Китай – это те страны, которые из-за своих религий сильнее всего пронизаны верой в музыкальную магию. В ведическом ритуале музыка является колдовством. Музыка – «не самоцель, а помощница». Нараспев произносятся или поются магические формулы, музыка должна исполнять «в первую очередь магические обязанности» [63]. Сохранилась красивая легенда об одной индийской девушке, которая машинально напевала себе под нос песню. Но когда небо вдруг оказалось затянуто тучами и разразилась сильнейшая буря, она заметила, что пела в полголоса одну из древних раг, колдовских мелодий. Этой песней она спасла свой край от голодной смерти вследствие засухи. Один английский исследователь осведомился, почему это средство редко используется. В ответ он услышал, что в противном случае рага потеряла бы свою тайну [87, с. 43]. Индийцы уверяют, что «эта древняя небесная музыка, способная вызывать духов, по-прежнему существует в некоторых провинциях в качестве тайного искусства отдельных избранных людей» [13, с. 26].
В Китае, где определенные звуки означали те или иные явления природы и приводились в соответствие с космосом, вера легко смогла укорениться в музыкальном мифе о природе. Речь прежде всего идет о небезынтересных легендах Ли-Цзы, относящихся ко временам примерно 2300-летней давности [89, с. 57 и далее]. В этих рассказах чувствуется такое глубокое почитание природы, что самый важный из них, наверное, имеет смысл привести без сокращений.
«Когда Гу-Ба ударял по струнам цитры[79], птицы кружились над ним и рыбы выпрыгивали из воды. Учитель музыки Вен Чен прознал про это. Он покинул дом и стал сопровождать учителя Сианга в его путешествиях. Три года он шевелил пальцем струны, но ни одна мелодия так и не появилась. Мастер Сианг сказал: „Возвращайся домой“.
Учитель Вен отложил в сторону цитру, вздохнул и сказал: „Дело не в том, что я не умею шевелить струны, не в том, что я не создал ни одной мелодии; то, что у меня на уме, не относится к струнам; то, чего я добиваюсь, не относится к звукам. Пока я не достигну этого внутри, в сердце, я не смогу выразить этого внешне, на инструменте. И все же дайте мне еще чуть-чуть времени, а затем посмотрите, что я могу“.
Через недолгое время, весной, он снова предстал перед мастером Сиангом. Тот спросил: „Ну и как, ты научился играть на цитре?“ Учитель Вен ответил: „Научился, прошу, испытайте мою игру“.
После этого он ударил по струне чанг под аккомпанемент восьмой трубы. Тут вдруг поднялся прохладный ветер, а травы и деревья зацвели. Когда наступила осень, он ударил по струне гуо под аккомпанемент второй трубы. Мягко заструился теплый воздух, а травы и деревья расцвели во всем своем великолепии. Летом он ударил по струне йю под аккомпанемент одиннадцатой трубы. Друг за другом выпали изморозь и снег, озера и реки вдруг стали неподвижны. Когда наступила зима, он ударил по струне джи под аккомпанемент пятой трубы. Засияло колючее и жаркое солнце, и твердый лед быстро растаял. Наконец, он дал зазвучать струне гунь и вместе с ней заиграл на четырех других струнах, и тут же зашелестели нежные ветры, приплыли приносящие счастье облака, выпала сладкая роса и громко зашумели источники.
Мастер Сианг ударил себя в грудь, вскочил и сказал: „Волшебна Ваша игра. Даже учитель Куанг со своими напевами и Дсон Ян на флейте не сумели бы лучше сыграть. Пусть с цитрой под мышкой и с флейтой в руке они следуют позади Вас“».
Согласно примечанию издателя, упомянутый учитель Куанг жил во времена герцога Пинь Цзиня (557–532 гг. до Р. Х.). Он использовал трубу гу си с нотой гоо и благодаря этому достиг того, что при втором ее повторении поднялся ветер и пошел дождь, а при третьем повторении разбушевался разрушительный ураган. Дсон Ян был музыкальным дирижером у герцога Саана Яна (601–587 гг. до Р. Х.) или герцога Шана. На севере Яна была хорошая земля, которую не возделывали лишь из-за холода. Дсон Ян подул в флейту и смягчил этим климат, после чего в изобилии стало произрастать зерно.
Эта легенда могла показаться правдоподобной только в стране, где каждый звук сочетался с месяцем года. Двенадцать труб – это двенадцать лю, основных тонов, соответствовавших месяцам. А каждая труба создавала климат, подходящий тому или иному месяцу. Более глубокий смысл легенды заключается в том, что ни одна струна и ни одна мелодия не могут совершить чудо, если они не подкрепляются волшебной силой тайных душевных потоков. Здесь фигурируют инструменты, в другом рассказе Ли-Цзы – человеческий голос, заставлявший дрожать деревья и останавливавший облака. О всемогуществе, которое приписывалось музыке, свидетельствует байка из «Воспоминаний Се-Ма-Цзиена» [87, с. 89], рассказывающая, как одному китайскому принцу была передана таинственная мелодия для лютни, оказавшаяся заклинанием и принесшая ненастья, бурю и засуху.
Магические песни были известны в Древнем Риме времен Тибулла и Плиния. Возможно, с помощью заклятия волшебница Цирцея превратила спутников Одиссея в свиней, ибо Гомер восхваляет мастерство ее голоса. Песни поо-г'туна, вымершего индейского племени, хранили со страхом, потому что их звуки навлекали смерть. Самый знаменитый пример заклинания в западноевропейском Средневековье в форме рассказа был приведен в начале этой части. Превращение церковного песнопения «Media vita in morte sumus» в магическое подтверждено исторически и документально. Музыка служит здесь проявлению мистических сил души. В данном случае мы имеем дело с постоянно встречающимся нам глубоким психическим воздействием звуков, которые, как никакой другой вид искусства, раскрывают душу, так сказать, снимают созданный видимой реальностью покров и тем самым устанавливают непосредственные отношения между человеком, природой и космосом. По этой причине Месмер использовал музыку в своих магнетических экспериментах, и по этой же причине музыка звучит для создания соответствующего настроя при проведении спиритического сеанса.
В магическом слове проявляется мелодия жизни. Приведем только один пример: толкование санскритского слова «саман». Оно означает «примирение», «переговоры», «обязательство», даже «любезность», кроме того, оно считается общей мерой отношения людей друг к другу – в каждом любезном приветствии проявляется «саман». Но буквальный перевод этого слова – «мелодия». Как же оно получило столько значений? На этот счет высказывается индолог Генрих Циммер: «Саман – это особая ветвь жреческого искусства в ведическом ритуальном предании. Речь идет о мелодиях, на которые нужно петь различные строфы (рики) „Ригведы“. Это знание магии настолько опасно, что его нельзя передавать, находясь среди людей. Поэтому учителя и ученики уединяются в отдаленном, укромном месте» [167, дополнительный том, с. 118]. Мы снова имеем перед собой убедительное свидетельство влияния музыки на отношения между людьми и реальности обсуждавшейся в первой части «мелодии жизни», которая при соответствующей констелляции (взаимном расположении и взаимодействии) звуков принимает магический характер, оказывая определенное психическое воздействие.
На мандалах, древнеиндийских мифических «кругах» или «кольцах», с которыми постоянно сталкивается также и современный человек, мы здесь подробно останавливаться не будем, поскольку они, по всей видимости, непосредственной связи с музыкой не имеют. Заслуживает внимания одно замечание Кереньи о космическом происхождении символа мандалы. Этот символ «появляется в одном сновидении в виде „часов с маятником, которые всегда идут, хотя гири не опускаются“, т. е. предстают теми „мировыми часами“, которыми для нас, людей, является небо. В „великом видении“ внезапно возникают трехмерные „мировые часы“, состоящие из вертикального и горизонтального кругов и объединяющие три ритма. Они произвели на сновидца впечатление высшей гармонии, пожалуй, мы можем сказать: гармонии сфер» [169, с. 27].
Магические свойства могут быть присущи как голосу, так и инструментальному звуку. Голос, который Рихард Вагнер назвал «практической основой всей музыки», является чем-то непосредственным и поэтому первоначальным, музыкальный инструмент – посредником. Подобием певца Орфея, голосом приведшего в движение безжизненные скалы, является Амфион, чье пение заставило соединиться камни в стену вокруг Фив. Рафаэль изображает святую Сесилию, опустившую на землю музыкальные инструменты и внимающую голосам ангелов. Поющее, создающее мир солнце Древнего Египта, ведический бог-творец Праджапати, который сам был гимном, – все это выражение веры в «элементарную» (= движущую материю) силу пения. Мариус Шнейдер пишет: «Поскольку звук представляет собой первичную субстанцию, присущую всем вещам, а его превращение в песню – это поющая энергия, которая движет космос, то и пение становится единственным средством, позволяющим вступать в непосредственные и субстанциальные взаимоотношения с самыми отдаленными силами. Пение или ритмичный разговор в самом глубоком смысле является непосредственным приобщением к первичной субстанции Вселенной и активным призывом, созиданием и действием в границах акустического грунтового слоя мира. Это – подражание звучному повелению, которое когда-то призвало мир к жизни, и одновременно возведение моста между небом и землей из общей для обоих миров музыкальной основы. Поэтому боги, являющиеся чистыми песнями, также буквально питаются гимнами» [80, с. 14].
Вторая, более старая, теория относит все «проявления» музыкально-магического характера, т. е. идентичность одновременно возникающих зрительных и слуховых явлений, к области интрацеребральных[80] феноменов, фантомов и грез. Сказания и мифы – «это не поэтические выдумки и не попытки объяснения природных процессов, как их, наверное, представляют себе ученые. В своих истинно характерных элементах эти сказания и мифы восходят, скорее, к действительным процессам восприятия, но не к реальным ощущениям, а к фантомам, иллюзиям и галлюцинациям» [90, с. 260]. Однако, пытаясь объяснить мистические и магические первичные феномены, нельзя односторонне придавать слишком большое значение «наивности и простодушию „непосвященных“, живших в древние времена», которые не могли отличать фантазию от действительности и поэтому считали иллюзии реально воспринимаемыми явлениями.
Третья теория относится к необычному физическому влиянию музыки, вызывающему изменение молекулярной структуры всевозможных объектов, на которые воздействуют звуки. Внушающие тревогу свойства ультразвука, ультразвуковая терапия, разжигание огня ультразвуком, уничтожение бактерий и даже умерщвление рыб еще несколько десятилетий назад казались «магическим» чудом, поскольку только в 1917 г. французскому физику П. Ланжевену с помощью вибрирующей кварцевой пластинки удалось получить ультразвуковые волны безупречные в техническом отношении. Можно ли здесь провести параллель с не менее «магическими» экспериментами скрипача Джаспера в Бостоне, о которых весной 1924 г. были опубликованы сенсационные сообщения в прессе? Ударом смычка он разбивал вдребезги все стеклянные предметы. Вместе с тремя профессорами его заперли в кабинете, увешанном зеркалами. Когда Джаспер начал ритмично играть, зеркала потрескались, словно их рассекли алмазом. Однако о похожих происшествиях сообщается уже в средневековом писании [91]. В нем речь идет о человеке, который силой своего голоса разбивал на мелкие кусочки стаканы.
Кроме того, ряд примеров, относящихся к области ультразвука, в статье «Магия звука», опубликованной в цюрихском журнале «Новости науки» (4-й вып., № 8/9), приводит Вилли Шрёдер:
«Примерно в 1950 г. английские врачи, проводившие исследования на авиазаводах, установили, что у рабочих, находившихся вблизи стендов для испытания моторов, по неизвестным причинам повышалось кровяное давление, возникало чувство тревоги и случались обмороки. Они исследовали проблему и пришли к выводу, что источник ее – ультразвук. После того как ультразвук не оправдал возлагавшихся на него надежд в медицине, его стали теперь использовать в „антимедицине“ – теории уничтожения. И весной 1953 г. из Лондона пришло подтверждение: „ультразвуковая пушка“ с помощью слабых волн способна усыплять „обычных“ людей, у более сильных – вызывать обмороки, состояния страха и судороги, а у сфокусированных – смерть. Как заявил в 1951 г. в Технологическом университете в Массачусетсе генерал армии США Г.Г. Кенни, ученым удалось создать ультразвуковое оружие, которое, если его направить на города, поражает нервную систему жителей и доводит их до безумия. В 1952 г. бельгийский специальный журнал по радиологии сообщил: немецкие инженеры создали пластинку с записью ультразвука, который при мягком воздействии вызывает у людей состояния страха. Если бы удалось увеличить „дозу“, то слушателей можно было бы убить неслышимыми звуками… Герц (1857–1894) в Бонне тщетно пытался взорвать молекулу резонансными вибрациями. Это удалось сделать – случайно! – в 1888 г. Дж. У. Кили в Филадельфии. „Двигатель Кили для атомных взрывов был построен на принципе взрыва звуковыми волнами“ (доктор Альфред Штраусс). Дж. У. Кили в 1893 г. в Филадельфии с помощью своего аппарата в одно мгновение превратил гранитный блок – а однажды и целого быка – в кучку пыли, как сообщает Блумфельд Мур в своей работе „Кили и его открытия“ (Лондон, 1893) (Роб. Блюм)».
Посмотрим еще, что в этой связи утверждает граф Герман Кейзерлинг в своем сочинении «Закон и свобода» [5, с. 230 и далее]. Он говорит о «магической формуле», «взрывающей структуру души; это то же самое, что часто называют также „решающим“ словом. Речь, собственно, здесь идет о первичном примере того, как вообще воздействует дух». «Существует сказание, что каждый мост имеет определенный звук: тот, кто едва воспроизводит его, задевая струну, разрушает всю структуру моста. Как такое возможно? Этот звук воплощает колебание, которое сразу можно вывести индуктивным путем (т. е. от частных фактов к общему выводу) из пролета[81] моста, но затем оно придает всем его структурным компонентам ускорение, взрывающее равновесие». И: «Мелодия органической жизни проигрывается в основах нашей собственной жизни – сама по себе, совершенно без нашего участия».
Осмелимся совсем немного развить мысль Кейзерлинга и заменить мост на человека. И теперь предоставим читателю возможность самому попытаться найти здесь связь между вышеупомянутыми представлениями, «гармоничным» составом человека и его способностью разнообразно реагировать на звуки и их сочетания.
При каких обстоятельствах «магическое» пение может выступить даже в качестве акушера? Что это – «настройка» определенных мелодий на «собственные звуки» или же «воображение», вера, сила внушения?
Жанна д’Альбре, дочь Генриха II Наваррского и Маргариты де Валуа, с которой он сочетался браком в 1527 г., ожидала родов. Она состояла в браке с герцогом Вандомским Антуаном де Бурбоном. Генрих II пообещал Жанне золотую цепь, если перед наступлением родовых схваток она споет определенную песню, чтобы – как сообщается в старой хронике – ребенок не вырос ворчливым и угрюмым человеком. Песня представляла собой обращение к образу Богоматери, который был установлен неподалеку от узенького мостика, перекинутого через реку, и которому приписывали способность содействовать благополучным родам. Как от нее требовалось, Жанна спела «Мотет[82] роженицы» и подарила мальчику жизнь. Король смочил губы новорожденного вином и дал ему понюхать чеснок – магический прием, который еще и сегодня применяется на Балканах и в Италии [92, т. II, с. 69 и далее] – со словами: «Ты станешь славным мальчиком». В 1589 г. он взошел на французский престол под именем Генриха III.
Ноты и текст «Мотета роженицы», который здесь передан в нашем переводе, можно найти у Комбарье [87, с. 51]. Мелодию следовало бы трактовать как часто используемый в то время «транспонированный дорический лад» с четырьмя си-бемолями, если бы не была так сильно выражена народная аранжировка минора и мажора. А роды герцогини? Что ж, вера в «магию» музыки, без сомнения, могла совершить чудо…[83]
Мотет роженицы
Но музыкальная «магия» действует вплоть до наших дней и оказывает даже формообразующее влияние. Возьмем, например, колыбельную песню. Мать, убаюкивающая своего ребенка, не преследует цель произвести художественное впечатление. Музыка – это ее средство воздействия на психику ребенка, что полностью соответствует нашему определению музыкальной «магии». Она основывается на однообразном повторении нескольких смежных звуков в ритмической соразмерности. Один мой знакомый, родившийся в Голландской Гвиане, передал мне мелодию, которой туземцы убаюкивают своих детей, постоянно повторяя три слога на непонятном нам негритянском английском. То, что непостижимая для ума бессмысленность слов обладает своей собственной «магией», установил еще Вильгельм Вундт.
«Магически» убаюкивающие слова колыбельной песни в Португалии звучат «ro-ro», в Италии «ninna-nanna», во Франции «do-do», в Англии «lullaby», в Германии «eia po-peia». Музыкотерапевт доктор Вольфганг Тренкле [154, с. 61] помимо прочего пишет об этом:
«Эффективность напевания слогов во все времена и во всех частях света была известна матерям, которые нашли возможность успокаивать детей посредством пения, монотонного по ритму и громкости. Принцип действия колыбельных песен свидетельствует о древней, сохранившейся до наших дней сокровищнице языка, которая особым образом передавалась матерями без какого-либо логического понимания содержания. Достаточно вспомнить об известном каждому словосочетании „eia popeia“, текст которого, непонятный в языковом отношении, хотя и является спорным, почти тысячу лет назад из греко-византийского жизненного пространства вошел в немецкое культурное наследие». Автор указывает на изменения, такие как «heidi popeidi», и проводит параллели с трудовыми песнями. Но, пожалуй, едва ли мы вправе усматривать в «словообразованиях» колыбельной песни «разрядку напряжения или возбуждения».
Колыбельная песня становится заклинанием, и ее облагораживание в художественной музыке хотя и скрывает магические основы, но в характерных элементах стиля колыбельной песни по-прежнему присутствует латентная магия. Пение и колдовство в Древнем Риме считались тождественными, для того и другого используется слово cantare, а производное cantamen точно так же означает заклинание, как и колдовскую песню.
Другая музыкальная «магия» лежит в основе серенады. Влюбленный придает значение не столько совершенному в художественном отношении концертному исполнению, сколько достижению корыстных целей, а именно оказать воздействие на психику женщины и сделать так, чтобы она уступила его ухаживаниям. Как говорил Зойме, «музыка – ключ к женскому сердцу». Как звучит последняя строфа серенады Брамса? «Звуки нежно прокрадываются в грезы красавицы, на белокурого возлюбленного глядит она и шепчет: „Меня не забывай!“» Ну разве это не «магия»? Менее известно значение серенады в развитии симфонии, состоящей из четырех частей. Музыканты выстраиваются, словно на марше, перед окном: первая часть. Влюбленный выражает свои чувства: медленная часть. Он изображает в танце тесное слияние с девушкой: сходное с менуэтом скерцо. В финальной части, напоминающей марш, музыканты удаляются. Так в древних трактатах описывается влияние серенады на возникновение симфонической формы – иногда Моцарт называл серенаду симфонией, вкладывая в оба термина одинаковый смысл. Да и в серенаде Бетховена, op. 8, сохраняется начальный и заключительный марш музыкантов. Тем самым дух любовной магии по-прежнему пронизывает строгую симфоническую форму – скрытно и забытым современным любителем музыки образом.
Музыкальная любовная магия – она живет в сказаниях, поэтических произведениях, в образах северных русалок, водяного, Лорелеи, сирен; ею пользовались труверы[84] и трубадуры. Согласно папирусам, хранящимся в Британском музее, она была известна древним египтянам и упоминается Теокритом и Луцианом. Когда Медее не удается завладеть сердцем Ясона, Овидий вкладывает ей в уста следующие слова: «Даже пение, травы и искусства покинули меня» – в этом перечне пение стоит на первом месте.
Спросим себя: какие еще музыкальные формы подверглись «магическому» влиянию? О каноне и его связи с магией природы уже говорилось. Но как обстоит дело с тарантеллой? Что общего имеет этот неаполитанский народный танец, в котором в ускоряющемся темпе в размере шесть восьмых пара совершает все более быстрые движения, с пауком тарантулом? В XV в. впервые появилось суеверие, будто от укуса тарантула можно излечиться только неистовым танцем, пока обессиленный танцор не упадет на землю. Очевидно, что потоотделение, вызванное физическим напряжением, как раз и выводило яд паука из пор и содействовало исцелению. На самом деле тарантулы не так уж ядовиты, вызванные их укусами болезненные воспаления и опухоли обычно проходят сами собой через двенадцать часов. Но что сделала из этого безобидного события легковозбудимая фантазия южан в Италии и Испании! Геккер [95] и Атанасиус Кирхер приводят невероятные факты. Люди всех возрастов не защищены от последствий укуса, поэтому даже девяностолетние старики выбрасывали свои клюки и присоединялись к танцорам. Пострадавшие от пауков священнослужители, закрывавшие уши от звуков танца, заболевали, и только тарантелла была способна спасти им жизнь. Исполнявшаяся при этом мелодия должна была соответствовать окраске укусившего тарантула, иначе она не помогала. Но как это можно было установить? Музыканты отправлялись в поле и наблюдали, какого вида тарантул начинал подпрыгивать при той или иной мелодии. В старинных писаниях есть история о любопытном испанце из Таренто, которого укусили два тарантула разного цвета. При исполнении одной мелодии яд второго паука «сопротивлялся», и испанец заплатил за свое любопытство смертью. Если бы кому-то пришла в голову мысль одновременно сыграть две мелодии, соответствовавшие обоим видам тарантула, то славный испанец мог бы спасти свою жизнь.
Но в конце концов означенный паучок стал лишь предлогом для проведения народных праздников, получивших название «небольшой женский карнавал» (il carnevaletto delle donne). Летом через всю страну тянулись толпы музыкантов, чтобы при стечении большого народа заняться излечением тарантизма. В текстах распеваемых тарантелл часто выражалась странная любовь к воде. Танцоры в экстазе несли стаканы с водой, погружали части тела в сосуды с водой или устремлялись к морю, чтобы броситься в волны, распевая песню «Allu mari mi portati, so voleti ehe mi sanatati» («К морю несите меня, если хотите меня излечить»). В истории тарантеллы также прослеживается пристрастие к определенным цветам. Отдельные танцевальные мелодии назывались panno rosa («красный платок»), panno verde («зеленый платок»), cinque temp («пять темпов»), moresca (также популярный при дворах танец мавританских невольников), catena («цепочка»), spallata («удар плечом») и т. д. Некоторые из этих старинных тарантелл, которые, по достоверным источникам, исполнялись с целью лечения, нам передал Атанасиус Кирхер. Они короткие и простые, нисколько не выдают пульсирующую за этими звуками страсть:
Классическая тарантелла (Primus modus Tarantellae), 1654
Исцеляющая тарантелла (Antidotum Tarantulae)
В тесной психологической связи с тарантизмом находится другое танцевальное явление – психическое заболевание, поразившее людей в немецкое Средневековье. Оно, как и тарантизм, основано на массовом внушении. По подробным описаниям Геккера [95] и по данным в Лимбургской хронике, пожалуй, будет нетрудно составить наглядную картину столь же загадочных, как и ужасных событий.
Перенесемся мысленно в XIX в.! Это время, когда ужасная эпидемия уносит жизни миллионов людей. Тысячи деревень вымерли, азиатская холера вторглась в страну. Угрожающая опасность спутала разум – похоже на то, что сам дьявол вселился в суеверных людей, которые при моральной деградации исполняют свой долг лишь механически – живут – сегодняшним днем – завтра, возможно, будет уже слишком поздно…
Тишину деревни нарушает странный звук. Необъяснимый шум – нет, определенный мрачный ритм – снова – снова и снова – над ним, как яркий сигнальный огонь, парит звонкий крик, вой сотен людей. В равномерной поступи они топчут ногами землю – они покачиваются, неуклюже пошатываются и связаны друг с другом в бесконечной цепи, демоническом хороводе – пена на губах, тела вздуты – кто падает, тот остается лежать – у кого есть силы, тот поддерживает волынщиков – а впереди незримо шествует дьявол…
Женщина у плиты – в конюшне – она хочет воспротивиться диким ритмам, она закрывает уши – тщетно – она подергивает головой, плечами, телом – теперь вздрагивают ноги – бедный, измученный мозг не может уже уловить ни одной мысли – ритм жадно впивается когтями в сердце и кости – теперь словно сама собой распахивается входная дверь – и вот уже женщина стоит на улице – ноги поднимаются – и вливаются в дьявольскую процессию…
Мужчины, возвращающиеся с далеких полей, застают свои дома опустошенными – жалобно мычит в хлеву скот – дети ревут – требуют мать… Мужчины смотрят, опускают голову: «Танцоры Иоанна!» – и где-то вдали замирают зловещие звуки…
Чуть ли не пагубнее и опаснее, чем холера, была душевная болезнь, поразившая человечество, – хорея. Уже в 1237 г. безумие постигло более ста детей. Они вприпрыжку прошли путь от Эрфурта до Арнштадта. Многие умерли, у других на всю жизнь осталось неизлечимое дрожание конечностей. В другом случае двести человек, танцуя, переходили по мосту через Мозель и бросились с него в воду. В 1374 г. весь Аахен охватила хорея – пока конец помешательству не положило полное физическое истощение, сопровождавшееся эпилептическими судорогами. Больные, по их собственным высказываниям, считали себя одержимыми демонами. Хорея распространялась как эпидемия, ею были охвачены Кёльн и Метц – врачи и священники противостояли танцорам – тщетно! Никаких моральных границ больше не существовало. Об этом сообщает Лимбургская хроника – т. е. дошедший до нас голос очевидца тех событий, городского писаря Тилемана Эльхена (1336–1398) из Вольфсхагена (приводится в сокращении):
«Год 1374, середина лета, на земле стали твориться странные вещи, и особенно в немецких странах, на Рейне и на Мозеле, – люди начали танцевать и безумствовать, и стояли по двое против одного, и танцевали в городе полдня, и в танце падали они навзничь, а на их тела ступали ногами другие. И дошло до того, что в городе Кёльне было больше пяти сотен танцоров. На Маасе сочли, что это ересь и что случилось это из-за денег, из-за того, что часть женщин и мужчин распутничали. Знатоки Священного Писания произнесли заклятия для части танцоров, которые думали, что одержимы злым духом. Так в этих землях продолжалось шестнадцать недель. Кроме того, вышеупомянутые танцоры вообразили себе, что не хотят видеть красный цвет. И было это сплошным обманом, и это предвестие христианам, по моему разумению».
Скудные остатки этих танцев, от которых, к сожалению, не сохранились мелодии, все еще присутствуют в европейской жизни, хотя смысл самого действа изменился – в процессии, шествующей к роднику, в Эхтернахе и в танце мюнхенских бочаров, напоминающем о покаянных танцах и процессиях флагеллантов[85] во времена чумы. А еще в названии «пляска святого Витта». Связь между средневековой хореей и святым чудотворцем Виттом полностью не выяснена. Согласно старинной Базельской хронике, отец святого Витта тщетно пытался его склонить музыкой и танцем к идолопоклонству. Согласно «Немецким изречениям» Агриколы, перед своей смертью святой мученик попросил о том, чтобы день его смерти поминали танцем. А в старинном словаре Менделя-Райссманна существует интересная версия, согласно которой Sanctus Vitus – видоизмененное Swante-wit, имя славянского бога солнца, и проводится параллель с танцами небесных тел у друидов и буйными плясками в Праздник солнца в старой Богемии. Распространенное же название «Иоанновы танцоры», должно быть, происходит от праздника Иоанна и обращений к святому Иоанну, считавшемуся покровителем танцоров.
В истории культуры эта средневековая одержимость плясками отнюдь не стоит особняком. Она находится между празднествами в честь Диониса в Древней Греции и помешательством на рок-н-ролле в Германии после Второй мировой войны, когда магическая власть ритма становилась причиной бессмысленных бесчинств и погромов концертных залов. Здесь имеет место все то же умопомрачение незрелых подростков, которое можно расценивать как патологическое. А что говорить о современных рекордах по продолжительности танцев?
Наверное, ни в одном виде искусства и вообще ни в одной гуманитарной дисциплине воображение не играет такой важной роли, как в музыке. И это становится совершенно понятным, если мы еще раз бегло взглянем на пройденный путь в наших рассуждениях и при этом установим, каким образом музыка вмешивается в жизнь людей и своим воздействием, относительно которого имеются различные точки зрения, пробуждает атавистическую потребность в представлениях. Порой психологи несколько критически высказываются о слушающем музыку дилетанте, чье восприятие музыкальных произведений зависит от силы его воображения. Люди же, профессионально занимающиеся музыкой, находятся в более выгодном положении, они способны слушать музыку в соответствии с ее структурой и выделять в музыкальном сочинении его формальные и гармонические элементы. Можно придерживаться и принципиально иного мнения о том, дает ли это какое-либо преимущество. Аналитическое слушание предполагает высокую степень одухотворенности, слушание же, исполненное представлениями, соответствует прежде всего тому, что было пережито, воспринято, прочувствовано ранее[86]. «Мы больше выдумываем, чем догадываемся», – говорит Альберт Швейцер в написанной им биографии Баха. Разумеется, представления не могут отклоняться от музыкальной темы до бесконечности и должны в чем-то соответствовать намерениям композитора. Для этого явления психология ввела понятие «сращение идей».
Но если мы «выдумываем больше», чем допустимо, – привязываем к музыке представления, которые не имеют ничего общего с ее духовным содержанием и коренятся исключительно в сфере человеческих желаний и потребностей? Тогда из музыкальной веры в Бога возникает суеверие, о котором уже говорилось, что оно следует за верой, как тень за светом. С тарантизмом и плясками святого Витта мы уже окончательно переступили через порог суеверия. И для нас уже не будет удивительным, что никто так не страдает от суеверий, как музыканты, если мы к тому же вспомним, какой поток представлений многие тысячелетия следует за музыкальным переживанием – это «вымпелы», которые в пестром великолепии развеваются от поднимающейся к небесам мачты жизни до самых глубоких низин. Так, было бы прямо-таки оскорбительным пожелать успеха исполнителю перед его выступлением вместо «ни пуха ни пера». По мнению музыкантов, трехкратное «тьфу-тьфу-тьфу» через плечо, трение ногой об пол и многое другое должны привлечь удачу.
Тут мы не можем не поговорить о суеверных представлениях отдельных музыкантов.
Рихард Вагнер твердо верил в несчастливое число тринадцать. Имя (Richard Wagner) состоит из тринадцати букв, год рождения композитора – 1813, сумма цифр этого числа тоже равна тринадцати, день смерти композитора – 13 февраля.
Подробные сведения о значении числа тринадцать в жизни Вагнера мы заимствуем из журнала, издающегося Бернским мужским хором (перепечатаны в журнале «Песня и хор» Немецкого певческого союза, 1958, № 6).
В 1822 г. (сумма цифр числа – тринадцать) Вагнер пошел в дрезденскую школу. В 1831 г. (сумма цифр числа снова тринадцать) был принят в Лейпцигский университет. Рижский театр, где Вагнер был капельмейстером, открылся 13 сентября 1837 г. В 1840 г. (сумма цифр числа – тринадцать) он сочинил увертюру «Фауст» и закончил оперу «Риенци». Композитор завершил проект «Летучего голландца» 13 сентября 1841 г. Оперу «Тангейзер», к работе над которой он приступил 13 июля 1843 г., Вагнер окончил 13 апреля 1844 г. 13 августа открылся театр для проведения фестивалей в Байрейте. 13 мая 1849 г., когда композитор бежал из Дрездена, он приезжает к Листу в Веймар. 13 октября 1856 г. Лист навещает Вагнера в Цюрихе. 13 мая 1871 г. Вагнер начинает издавать «Собрание сочинений и литературных произведений». 13 августа 1876 г. – постановка на сцене всего цикла «Кольцо нибелунга» в Байрейте. Изгнание композитора из Германии длилось тринадцать лет. Через тринадцать месяцев после завершения «Парсифаля» Вагнер умирает в Венеции. Тринадцать лет он прожил в браке с Косимой. Композитор создал тринадцать музыкальных драм. Через тринадцать лет после завершения «Лоэнгрина» он впервые увидел свое произведение на сцене. Его сыну Зигфриду было тринадцать лет, когда он потерял своего отца. Идиллия «Зигфрид» была написана для небольшого тринадцатиголосого оркестра. 13 апреля 1913 г. в Цюрихе состоялась первая постановка «Парсифаля» за пределами Байрейта. В 1930 г. (сумма цифр числа – тринадцать) умерла Косима, а затем, через несколько месяцев, также и Зигфрид, который, как и отец, написал тринадцать музыкальных драм.
Впрочем, в богатой событиями жизни Рихарда Вагнера, наверное, было гораздо больше дат, которые с числом тринадцать никак не связаны.
О Карузо рассказывают, что в пятницу его никогда нельзя было уговорить надеть новый театральный костюм или отправиться в путешествие. Увидев на улице человека с горбом, он следовал за ним по пути до тех пор, пока не встречал горбатую женщину, чей взгляд устранял «пагубное воздействие» первого. Кроме того, он искренне верил в колдунов и людей с «дурным глазом». Сальери всегда сочинял музыку, держа во рту леденец, Саккини – только в присутствии своих возлюбленных и кошек. Гайдну требовалось носить на пальце кольцо, которое ему подарил Франц II. Кроме того, когда он надевал свой парадный костюм, то наряду с париком не забывал и про шляпу. Беллини не допускал никаких новшеств, если в день премьеры с ним первым здоровался мужчина. Галеви и Мейербер в день постановки молились; Мейербер не упускал возможности помыть руки перед началом увертюры.
В музыкальном мире чаще всего суеверие связывается с несчастными случаями, при этом вина за них приписывается исключительно исполненной музыке.
Существует внушительный список музыкальных произведений, которые на короткое или долгое время объявлялись вне закона, так как они якобы способствовали гибели исполнявшего их музыканта или считались пагубными по другим причинам. Популярную «Серенаду» Тоселли не любят слушать на воде, потому что однажды пароход, плывший по Адриатике, затонул именно в тот момент, когда ее исполняла корабельная капелла. «Неоконченная симфония» Шуберта и «Патетическая[87] симфония» Чайковского считались в Англии «симфониями смерти», поскольку на следующий после постановки день неоднократно отмечались случаи смерти среди оркестровых музыкантов.
В 1951 г. одна венская газета написала о симфонии Чайковского:
«Последняя большая программа Стокгольмского концертного объединения помимо прочего включала в себя также „Патетическую симфонию“ Петра Чайковского. Утром перед концертом несколько ноттингемских газет опубликовали сообщение, что тамошний оркестровый ансамбль решил больше не играть это произведение выдающегося русского композитора, поскольку каждый раз во время или после его исполнения оркестр терял своих музыкантов в результате внезапной смерти. При последнем исполнении Шестой [„Патетической“] симфонии той же ночью от остановки сердца умерли два скрипача.
Дирижер Иоганн Норби позвонил в редакции данных газет и попросил их прислать к нему репортеров, чтобы, основываясь на своем многолетнем опыте, сделать заявление на эту сенсационную тему, которое, наверное, их заинтересует. Однако на следующей пресс-конференции Норби попросил журналистов впредь не публиковать подобных нелепых сообщений. Он сказал, что в своей деятельности, которой занимается всю жизнь, еще никогда не сталкивался с тем, чтобы с кем-нибудь случилась смерть, когда он дирижировал при исполнении этой симфонии, а делал он это множество раз. „Патетическая симфония“ – никакая не „симфония-убийца“, считает Норби. Представителям прессы пришлось этим удовольствоваться.
Чайковский, которого слишком рано, в возрасте 53 лет, унесла из жизни холера, написал Шестую симфонию в 1893 г. в качестве реквиема. По своему характеру она не столько патетическая, сколько трагическая, от первых мрачных звуков вплоть до мучительной покорности судьбе в финале. Последние аккорды симфонии, в стихающих тактах уже „погруженной в себя“ задушевности и печали, передают тяжелую душевную борьбу и расставание одинокого человека со своей жизнью.
Иоганн Норби взмахнул дирижерской палочкой. Его опровержение уже несколько часов назад появилось в вечерних газетах. Он дирижировал оркестром, исполняющим „Патетическую симфонию“, без каких-либо происшествий. После антракта оркестр сыграл Шестую симфонию Шостаковича. Посреди известного скерцо Иоганн Норби вдруг постучал палочкой, останавливая музыкантов: „Попрошу на помост доктора!“ – произнес он в напряженной тишине. Шесть врачей поднялись со своих мест, чтобы оказать помощь, но с первого взгляда поняли, что она уже была бесполезна. Кларнетист оркестра, коренной немец по имени Варшевски, наклонившись, неподвижно сидел на стуле. Он десятки лет играл на своем инструменте под управлением Норби, в том числе и „симфонию-убийцу“. Сердечный удар положил конец его жизни. Концерт был прерван. Теперь публика и журналисты задаются вопросом: быть может, все-таки есть какая-то подоплека в загадочной легенде о последнем произведении Чайковского? Но Иоганн Норби молчал».
Несколько десятилетий тому назад был запрещен популярный шлягер «Хмурое воскресенье», так как его меланхолическая мелодия, по достоверным источникам, явилась причиной многочисленных самоубийств. Самым известным примером пагубной музыки является, пожалуй, опера «Рассказы Гофмана». Долгие годы ни один театр не осмеливался на ее постановку, памятуя о страшном пожаре в венском «Рингтеатре» во время исполнения этого произведения.
О суеверии, которое было связано с Жаком Оффенбахом, сообщает газетная заметка:
«Композитора Оффенбаха в Вене и Париже считали опасным jettatore [итальянское обозначение человека с „дурным глазом“]. Его зловещим способностям приписывали смерть Эммы Ливри, умершей от ожогов, полученных прямо на сцене во время балета „Мотылек“, к которому он написал музыку, и смерть мадемуазель Фраси. Ее напугал взрыв газа во время генеральной репетиции оперы „Пастушки“, к которой он тоже сочинил партитуру. Театры, где исполняют его оперы, горят один за другим, певицам, которым достаются первые роли, словно сжимает горло, и они потом не могут что-либо или где-либо петь; танцовщицы получают вывих и теряют всю свою грацию. Да и сама публика становится слабоумной, тугой на ухо и уже неспособной воспринять ни одной ноты Моцарта. После появления одного из его приносящих беду сочинений можно было видеть, как его мелодии заполняют воздух, распространяются на улицах, завладевают кафе и даже салонами. Хриплые, пьяные голоса все время их повторяют. Вкус портится, моральный уровень падает, женщины подозрительно улыбаются, даже юные девушки под пагубным влиянием этой музыки перенимают манеры обитателей казарм и трактиров. Если это не следствие порчи, то что тогда? Еще долго после смерти Оффенбаха многие не осмеливались произносить его имя, не вытягивая при этом указательный палец и мизинец [жест, изображающий рога, который отвращает беду]. Французский писатель и художественный критик Теофиль Готье, всегда носивший на шее коралловый рожок, оберегающий от дурного глаза, настолько боялся зловещей власти Оффенбаха, что никогда не решался написать его имя. Если ему нужно было сообщить об одном из произведений композитора и при этом назвать его по имени, то он оставлял на бумаге пробел, который затем должна была заполнить одна из его дочерей».
Об интересных наблюдениях сообщил известный лидер джазового ансамбля Джек Хилтон в «Новом венском журнале» от 9 декабря 1932 г.:
«Зачастую суеверие играет в музыке и среди музыкантов гораздо более важную роль, чем можно было бы предположить. Подобно тому как считаются опасными некоторые корабли, дома или числа, имеется целый ряд композиций, которых музыканты по возможности избегают из страха, что они принесут им беду. Я сам знал многих музыкантов, которых никакими обещаниями или вознаграждениями невозможно было подвигнуть принять участие в исполнении определенных музыкальных сочинений. Я лично совершенно не суеверен и поэтому постоянно пытаюсь отыскать причину, почему отдельным музыкальным произведениям присуща подобная стигма [черная метка], и почти всегда нахожу, что имелась конкретная, хотя зачастую и очень глупая, причина.
Недавно на знаменитом морском курорте одну капеллу пытались уговорить сыграть „Трагическую симфонию“ Шуберта. Музыканты утверждали, что пьеса уже принесла им беду раньше и что она накликает им несчастье снова. Они не могли назвать причину этого суеверия. Но как выяснилось, на следующий день после исполнения симфонии первый скрипач оркестра заболел ботулизмом, причем так тяжело, что врачи сомневались, что он сможет излечиться. Тем не менее скрипача тогда спасло его крепкое здоровье.
В Испании я не раз слышал, что музыканты считают: прелюдия Шопена „Капли дождя“ приносит несчастье. Композитор сочинил эту прелюдию в старинном монастыре в Вальдемосе на Мальорке. В то время он был очень несчастен. Он расстался с Жорж Санд, чувствовал себя скверно, а погода была холодной и промозглой. Вскоре после этого Шопен умер. Я убежден, что дурная слава присуща прелюдии с момента ее возникновения – правда, только в Испании, где еще долго сохранялось воспоминание о несчастной жизни композитора.
О том, как суеверие пристает также к некоторым музыкальным произведениям, потому что во время их исполнения произошел какой-нибудь несчастный случай, я узнал в Италии. Так, например, существует одна сицилийская мелодия, которая всегда влечет за собой самые тяжкие беды. Ее играли в концертном зале в Мессине, когда случилось то страшное землетрясение, разрушившее злополучный город. Сегодняшнее поколение в Сицилии этот факт, несомненно, уже позабыло. Но если бы кто-нибудь, даже величайший музыкант, отважился сыграть в Мессине ту пьесу, о которой я говорю, то публика мгновенно покинула бы концертный зал. Никто не хочет слушать эту, накликающую беду мелодию».
Как мы могли установить, «магия» музыки не относится исключительно к голосу. Доля инструментальной музыки, естественно, должна быть больше, поскольку рассматриваемая «магия» проявляется через звучание самых разных музыкальных инструментов, тогда как у самого человека при исполнении вокальной музыки имеется в распоряжении только один «инструмент» – его голос. Инструменты, если иметь в виду их предположительное происхождение, являются посредниками между человеком и природой. В природе же есть особая ее часть, которая «подарила» человеку преобладающее число музыкальных инструментов, – мир животных. Вспомним древние инструменты из многочисленных мифов и сказаний: флейту из тростника или кости для подражания пению птиц в Китае, прообраз лиры – звучащие на ветру сухожилия в высохшем панцире черепахи. Рог первобытного быка, овна, затем улитки, раковины, а также бивни молодых слонов и рога северных оленей послужили моделью духовых инструментов. Поэтому представляется уместным предпослать нашему рассмотрению инструментов небольшой обзор музыкальной символики животного мира. Согласно индийским воззрениям, людям принадлежит только четвертая часть поющего праязыка, три четверти были дарованы животным, о чем говорится в «Шатапатхе-брахмане». «Когда же жрецы попытались снова создать для ритуала сияющий праязык, им неизбежно пришлось приобщить звуки животных… подражая им. Животные выступают посредниками между богами и смертными, потому что их звуковые выражения стоят ближе к праязыку, чем артикулированная речь человека. Поэтому только жрецам и героям, понимающим язык животных, доступно более глубокое проникновение в акустическую природу вещей» [80, с. 15].
Но понимать язык животных означает: вспомнить о райских доисторических временах человечества, когда в сказках, говорящих об обмене мыслями между людьми и животными, еще содержалась истина. Вильгельм Вундт в небольшой статье, посвященной сказкам (в «Психологии народов», т. III), приводит примеры «космогонических сказок, в которых животные выступают носителями великих явлений природы». Выдающийся философ считает их «остатками древнейших и первейших сюжетных вымыслов». В мифологической сюжетной сказке животное и человек объединяются с солнцем и луной, ветром и облаками, т. е. животное тоже не исключается из могущественной гармонии космоса, наполняющей все бытие. Наверное, не будет слишком большой ошибкой предположить, что раскрытые пасти извергающих дождь драконов и сказочных животных во многих старинных церквях имеют более глубокое значение и служат не только отводу дождевой воды. Они – олицетворения непрерывного беззвучного крика, который превратился в камень. Однако, согласно Э. Фельберу и Р. Райценштайну [80, с. 16], звериный рык и подражание различным звукам животных не только в Индии, но и в «Литургии Митры»[88] III в. были культовым средством, которым пользовались жрецы. На основе установленной высоты звуков отдельных видов животных Мариус Шнейдер пришел к интересному открытию «камней, поющих мелодии», в капителях древних монастырей, украшенных изображениями животных. Мы не можем пока сказать, какова ценность результатов его исследований и вывода, что мы, наверное, были способны внутри себя слышать звук, который художник запечатлел в каменных копиях драконов, извергающих дождь.
Животные в качестве символов были спутниками богов: вороны – Вотана, сова – Афины, лебедь – Аполлона, рачки, живущие в ракушках, – Тритона. Аристотель считал, что души поэтов и певцов после их смерти переходят в лебедя и сохраняют дар гармонии, которым они обладали в человеческом облике. В египетской иероглифике лебедь символизирует седого музыканта, потому что лучше всего он поет именно в старости. Кикн, превосходный певец, согласно греческому сказанию, скорбя по своему другу Фаэтону, которого Зевс с солнечного пути столкнул в море, превратился в лебедя, который постоянно странствует по волнам, поглотившим Фаэтона. Над германскими героями поющие лебеди парят в качестве представителей Валгаллы[89].
Об особенностях музыкальной символики в мире животных мы находим дальнейшие сведения у Я.Б. Фридриха [96]. Почему в средневековых изображениях осел играет на лютне? Или отчего аисту выпала честь считаться музыкантом? Или почему предполагали, что пчела знает толк в музыке и пении? Быть может, из-за ее фиксируемого полуголоса? Вергилий и Овидий считали, что пчел можно приманить ритмичным и гармоничным звуком. Не менее странно, что эта вера сохранялась еще в Х столетии, о чем свидетельствует гессенская пчелиная молитва из Лорхской рукописи, которая произносится с аллитерацией и ассонансом, т. е. «музыкально»: «Крр! Пчелы на воле, Бог их хранит, домой вернуться велит… тихо всегда сидят, Божью волю чтят».
Затем цикада! Она была украшением для волос в Древних Афинах как символ музыкального таланта, ее изображение чеканилось на монетах любящей музыку Аркадии, она пела, восхваляя Бога, на руке святого Франциска Ассизского. Более того, согласно древним мифам, в своей предыстории цикады были даже реальными людьми, заколдованными девятью музами и забывшими про еду и питье, а после смерти превратившимися в цикад.
Впрочем, это сказание происходит от «Федра» Платона. В нем Сократ называет цикад «пророчицами муз», «любимицами которых» они были как певицы. В одном из древнегреческих мифов рассказывается о состязании в Дельфах двух музыкантов – Эвна и Аристона. Первый был более искусен, но во время игры на его арфе внезапно лопнула струна. И тут появилась цикада, которая села на инструмент и своим пением заменила разорванную струну. Вальтер Ф. Отто в своем произведении «Музы» [156, с. 59 и далее] посвящает специальный раздел музыкально одаренным животным, напоминает также об эпиграмме Мелеагра, который обращался к родственной цикаде саранче как к «музе полей». Он называет ее успокаивающей тоску, утешающей сон, «поющим крылом подражающей лире» и просит ее издать какие-нибудь милые его сердцу звуки, «ударяя ногами по ярким крыльям». Один вид цикад назывался «пророчицей».
Пчелы считались родственницами муз, потому что, согласно Варро, когда рой рассеивался, их снова можно было вернуть и собрать вместе звуком кимвала (см. с. 206) и хлопками. По Филострату, афинян во время их плавания привели в Ионию музы в образе пчел. «Известно сказание о будущих поэтах, которым в колыбели на губы садились пчелы» (по Отто [156, с. 61]).
Этих убедительных примеров, пожалуй, будет достаточно, чтобы показать внутреннюю взаимосвязь животного мира с гармонией космоса в воззрениях различных времен и народов. И если теперь человек начал изготавливать музыкальные инструменты в форме животных и украшать их символами животных, то одним только преднамеренным «колдовством над изображением» едва ли можно это объяснить. Не было ли здесь, вероятно, неосознанного стремления придать музыкальному инструменту соответствующий вид, чтобы добиться созвучия с космосом, используя животного как посредника?
Древнейшие музыкальные инструменты изготавливались не только из природных материалов, в первую очередь животных, но и из человеческих. Среди них наиболее популярной была флейта, чей возраст оценивается в 15 000 лет. На одной из палеолитических стоянок в селе Молодова на берегу Днестра в Черновицкой области русские археологи раскопали флейту из оленьего рога с четырьмя отверстиями. В 1869 г. Элия Массена в Дордони натолкнулся на флейты, сделанные из кости северного оленя, возле Пуатье были найдены флейты из оленьих рогов. Доктор Мартин Мейнхард дополняет эти сведения в одной газетной статье:
«Флейта, но особенно флейта-пикколо, в эпоху палеолита тесным образом была связана с культовыми представлениями. К самым убедительным доказательствам этого относятся цветные наскальные рисунки в Южной Франции. Например, в пещере «Трех монахов» художник каменного века передал нам такую сцену. Танцующий человек в звериной шкуре и маске оленя держит руками перед ртом предмет, который может быть только флейтой-пикколо. Без сомнения, в случае замаскированного флейтиста речь идет о колдуне, который своей игрой пытается оказать магическое воздействие на небольшую группу скачущих прямо перед ним животных. Из более поздних эпох также можно привести достаточное число свидетельств культового характера музыки флейты. Так, на одной египетской плите, датированной IV тысячелетием до Р. Х., изображен переодетый в лису мужчина, игрой на флейте заколдовывающий животных, на которых устраивается охота».
В древнейшей культуре майя на Юкатане уже с 2000 г. до Р. Х. среди прочих обнаруживаются следующие музыкальные инструменты: трубы из раковин морских животных, флейты из бедренных костей людей и оленей, «скребки» – производящие шум инструменты из зазубренных костей оленей, тапиров и людей, а также ребер кита. Индейцы проводили палочкой по зарубкам, размечая ритм танца. Кроме того, были найдены, погремушки из тыкв. Танцы якобы «излучали мистические флюиды, а потому все участники воображали, что контактируют со сверхъестественными силами», – констатирует Виктор фон Хаген [168, с. 127].
Едва ли можно допустить, что эти методы изготовления инструментов появляются в самых разных частях мира без какой-либо магической подоплеки. Упомянем еще тридцать третью песнь «Калевалы», финского народного эпоса, в чем-то тождественного нашей «Эдде». В ней о суровом Куллерво сказано: «Из коровьей кости дудку, из бычачьей рог он сделал – кости Туомикки для рога, бедра Кирьё взял для дудки. Заиграл тогда на дудке, затрубил в свой рог пастуший».
Анатомическая лютня имеет форму летучей мыши, индийского символа счастья, индийская струнная цитра похожа на кровожадного крокодила, южноиндийская вина (старинный щипковый музыкальный инструмент) увенчана головой тигра, барельеф летучей мыши обнаруживается на мандолинах, жаба и слон – на гонгах народов Южной Азии, китайские деревянные колокола сделаны в форме раков. Павлин украшает индийские лютни, голова газели – древнеегипетские трещотки, бык – древневавилонскую лиру, голова льва – иные современные скрипичные инструменты. Прекрасный знаток инструментов Курт Захс, который в этой связи приводит множество других примеров, пишет: «Защититься от зла – означает: высвободить и привести в действие добро, отсюда древняя вера, что звук призывает на помощь богов. Уже в Пенджабе она связывается с трубой, сделанной в форме улитки, и все еще проявляется в „Волшебной флейте“ в колокольном звоне Папагено и в игре на рожке Оберона и Лоэнгрина. Этот же смысл имеет изображение на деревянной дощечке в Египетском музее в Берлине, где верующий трубит в уши Осирису, и предписание в Четвертой книге Моисея: „И когда пойдете на войну… трубите тревогу трубами, – и будете воспомянуты пред Господом, Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших“» [97, с. 23 и далее].
Согласно Курту Захсу, драконы и змеи находятся между добром и злом: существуют змееобразные трубы в Индии, точно такие же древки в Египте и раструбы с головой дракона на военных рожках у древних кельтов, по образцу которых иногда делали автомобильные клаксоны. Украшены змеями также и древние мексиканские дудки. Здесь они являлись символом бога дождя и, очевидно, служили колдовским атрибутом при заклинании дождя. На других флейтах имеются изображения медведя барибала. Кольманн усматривает в нем мифологическую фигуру [98]. Далее упомянем голову божества Ксипе-Тотека, повинного в тяжелых болезнях, – снова случай «колдовства над изображением». Многочисленные инструменты доколумбовой эпохи, имеющие форму животных, хранятся в музее при Йельском университете. Ящерицами украшены африканские военные рога из слоновой кости, барабаны в Конго, струнные инструменты племени вайяо. Карл Войле предполагает, что здесь мы имеем дело с культом предков [99]. Не является ли эта тесная связь между музыкой и миром животных психическим феноменом, заслуживающим пристального внимания?
Отдельные музыкальные инструменты имеют свое особое культовое значение, например, авлос с его волнующими звуками в мистериях Диониса и шествии участников вакханалии. Или рог, символическое значение которого точно подметил Герман Вирт: «Рог как символ материнской ночи, Земли-Матери, является одним из древнейших известных нам культурных символов. И уже в это древнее время, наверное, он имел двоякое применение – как сосуд и предмет, производящий звук. Также это проявляется в символике Рождества или праздника зимнего солнцестояния у народов Севера и в древних культурах: опорожнение рождественского рога – это сакральное действие, содержимое рога символизирует напиток, дающий силу для нового света и новой жизни, а также для мертвых. Рог, приносящий сон ночи, является микрокосмическим эквивалентом символического изображения года: в этом смысле Гипнос и Сомн, боги сна в греческой и римской мифологии, изображаются с рогом в руке» [100, т. I, с. 441].
Гипнос (по-латыни Сомн) вместе с Танатосом (богом смерти) обитал в царстве Аида, его сыновья, среди них Морфей («тот, кто порождает [сны]»), были божествами сновидений.
К рогу быка, который в своей первоначальной форме получил своеобразное выражение в бронзовый век в Ирландии, присоединяется предшественник трубы – галльский и кельтский каринкс, называемый также «галатский салпинкс». Он сделан полностью по образцу формы животного, если отождествить длинный конус с шеей. Рупор представляет собой глотку животного, широко раскрытую и даже снабженную упругим языком, который, если дуть в инструмент, издает жужжащий шум. Фридрих Бен указывает на то, что самое древнее изображение каринкса представлено на фризе[90] в Пергамоне. Кроме того, оно находится на Колонне Траяна, а также на одном барельефе в Центральной Индии, датированном первым столетием н. э. «В качестве национального инструмента каринкс очень часто встречается на кельтских монетах. Фантастическая форма издающего звуки кубка должна была побуждать к подражанию всякий раз, когда искусство следовало за формами античности и их повторяло. Сначала такие раструбы в форме головы животного появляются в миниатюрах XI и XII столетий на рожке и волынке, затем снова в картинах эпохи Возрождения (Дюрер). На рубеже XVIII и XIX столетий мастера, особенно французские, изготавливавшие музыкальные инструменты, копировали трубы своих галльских предков и трубы многих инструментов, как-то: офиклеида, фагота, тромбона и «русского рожка», делали раструб в форме раскрытой звериной пасти, при этом иногда также присутствовал упругий язык. Как ни странно, раструбы в форме головы животного встречаются также в духовых инструментах ацтеков» [101, с. 146]. Если независимо друг от друга можно установить одинаковые традиции у разных народов, то причины лежат в глубинах идентичной душевной жизни людей, хранящей одни и те же первообразы. Идет ли речь о настоящем «колдовстве над изображением», о мифологических или культовых понятиях, – это выяснить уже невозможно. Но примечательно то, что здесь на протяжении тысячелетий сохраняются формы инструментов в виде животных, и, лишенные своего первоначального значения, в конечном счете они играют только орнаментальную роль. Несомненно, мы имеем дело с «колдовством над изображением», обнаружив, при создании древнетибетских труб и других инструментов использовались кости жрецов и полководцев. Считалось, что их силы переходят в звук и достаются всем тем, кто его слышит [87, с. 258].
Галльский каринкс в форме дракона. Оригинальный рисунок Сильвии Штеге.
Среди всех инструментов существует один, избранный символизировать душу: арфа. Арфа постоянно присутствует в поэтических произведениях, она прославляется в романтизме, например, у Гёльдерлина, которому звуки арфы представляются следующим образом: «Плотное, как из морей, взмывает в воздух бесконечное облако благозвучия». Или у Новалиса, который буквально требует: «Человек – арфа, должен быть арфой». Он обосновывает свое требование двумя ее качествами: бесконечным многообразием звуков эоловой арфы и простотой побудительного потенциала (вспомним здесь великолепную работу Макса Клингера «Фантазии Брамса» – женское тело из арфы в «Пробуждении чувства»!)
Арфа – один из древнейших и самых привилегированных музыкальных инструментов человечества. Она появляется во всех известных нам первобытных культурах, идет ли речь об Ассирии, Вавилоне, Древнем Египте или Греции. Она охватывает все существо человека – от его верования в Бога до подневольной работы разума. Ее приносили в жертву богине Хатор-Изиде, а при служении Молоху у финикийцев она подогревала безудержное вожделение гетер. Но уже в Ветхом Завете ей приписывается мистическое воздействие: игрой на арфе Давид изгонял демонов, одолевавших царя Саула.
Прототип арфы – лук для стрельбы, тетива которого, посылая стрелу, издает жужжащий звук. О луке напоминает также форма арфы в Древнем Египте. Красивое японское сказание связывает это происхождение арфы с верой в божественные источники музыки.
Однажды богиня солнца Аматерасу, капризная, как все богини, спряталась в пещере. Мир сразу погрузился во мглу. Боги напрасно пытались уговорить Аматерасу снова вступить в свое царство. И тогда одному богу приходит очень умная мысль. Он берет шесть больших луков, связывает их и извлекает из этой импровизированной арфы мягкие и нежные звуки. В тот же миг в одеянии из цветов, украшенном листьями винограда, появляется прелестная нимфа, белокурая Амено-Узуме. Увлеченная игрой на струнах, она отбивает такт бамбуком, следуя ритму, танцует, наконец, начинает петь. С любопытством богиня солнца выглядывает из своей пещеры, и миру возвращается свет. Но чтобы больше не зависеть от настроения Аматерасу, боги решили заботиться впредь о танце и пении (по Комбарье).
Однако настоящая «магия» арфы проявляется только тогда, когда она звучит сама по себе, будто ее струны заставляют звенеть руки призраков…
В X столетии архиепископ Дунстан Кентерберийский сумел осуществить это «чудо». От стены монастыря далеко за ее пределы доносились странные звуки, которые прежде никто никогда не слышал… Проходившие мимо люди крестились – тут дело нечисто… Из уст в уста передавался слух: «Архиепископ продал свою душу дьяволу, он занимается колдовством!» – «Этот благочестивый человек? Немыслимо! Не он ли недавно смягчил гнев нашего князя игрой на псалтериуме?» – «Потому что он заключил союз со злым духом! Значит, он должен предстать перед судом! Чтобы с пристрастием его допросить!»
Архиепископа и в самом деле обвинили в колдовстве.
И можно представить себе озадаченные лица судей, когда священник сумел доказать, что арфа звучит сама, если ее подвесить в ящике таким образом, что через сделанное в нем узкое отверстие ветер будет касаться струн. Это и стало рождением эоловой арфы, таинственный звук которой воодушевлял наших романтичных предков. Но еще долгое время люди верили, что духи природы играют на эоловой арфе свои таинственные мелодии. Параллель с этим можно найти в истории о поющем дереве из «1000 и одной ночи» [12, 102].
Непосредственным же изобретателем эоловой арфы считается английский поэт Александр Поуп (1688–1744), который под влиянием Евстасия проделал несколько неудачных опытов с лютней. Эксперимент удался только тогда, когда он расположил струнный инструмент возле узкой щели опущенного раздвижного окна (в точности как в конце интермеццо I «Гармония сфер», см. выше). В 1560 г. Баптиста Порта в своем труде «Magia naturalis» писал об инструментах, которые звучат на ветру. Первые указания по их изготовлению содержатся в трактате Атанасиуса Кирхера «Musurgia» [57]. Вместе с другими вещами он брал с собой в путешествия эолову арфу. На ночлег он останавливался в монастырях и вешал ее в опочивальне. Однажды, когда дверь распахнулась и арфа заиграла на сквозняке, монах, который делал обход, удивился странной ночной «игре на органе». Кирхер рассмеялся и заявил ему, что тот может осмотреть все помещение, но орган так и не найдет. Тем временем арфа замолкла, потому что дверь закрылась. Когда монах отправился к выходу, музыка заиграла снова. Раздраженный, он стал упрекать своего гостя в обмане, пока тот не разъяснил ему, в чем тут дело (по: Скотт «Mеханика и гидропневматика»).
Когда в эпоху романтизма этот инструмент стал изготавливаться профессионально, он получил широкое распространение. Призрачные звуки, исходившие от высоких деревьев и безмолвных руин, приветствовали путника. Причудливое звучание созданных позднее искусных эоловых арф в ящике с отверстием для ветра объясняется тем, что в зависимости от силы ветра возникало разное количество обертонов и при этом создавались своеобразные модуляции звука. Вот как изображает сущность этих звуковых форм вдохновленный поэт: «Гармоничное колыхание, при котором наши пробужденные им душевные ощущения принадлежат скорее сказочному миру, нежели действительности, расширяющейся чуть ли не до бесконечности, в постоянном чередовании проявляясь то как один, то как два или более звуков, напоминая то нарастающее, а затем медленно стихающее пение удаленных хоров, то, при задорных звуках, улетучивающихся, пробегающих несколько октав, – эфирную музыку эльфов. Душа слушателя купается в музыкальном море, лишенном почти всего земного. Все музыкально и поэтически одаренные натуры, не важно, кто они – „непосвященные“ или профессионалы, – с одинаковой задушевностью черпают наслаждение из этого нежного, непосредственного и не требующего рефлексии природного источника» (словарь Менделя-Рейсмана, 1880). К сожалению, сегодня эолову арфу редко встретишь. О ее воздействии можно составить примерное представление, если взять гитару вверху за колки и резко размахивать ею в разные стороны, одновременно касаясь всех струн. И тогда покажется, будто слышишь хор колоколов… В песне «К эоловой арфе» Брамс сделал этот инструмент бессмертным. Начало и конец стихотворения Эдуарда Мёрике звучит так: «Прислонившись к стене этой старой террасы, ты, игра таинственная струн воздухом рожденной музы, начни, начни сначала плач свой мелодичный! Но стоит лишь ветру крепче задуть, прелестный арфы крик вторит – и сладок мне испуг – души моей внезапному движенью!»
В наш шумный век этот нежный инструмент потерял свое право на существование точно так же, как и другие родственные ему по звучанию музыкальные инструменты (например, стеклянная гармоника), взывающие к сентиментальности. Тем больше люди увлечены несметным количеством ударных инструментов, которые назойливостью своего звучания, особенно в джазовой музыке, создают неприятный контраст по сравнению с «эфирными» инструментами, звучащими подобно эоловой арфе. Однако среди всех предметов, производящих звук, именно группе ударных инструментов чаще всего придается оккультное, магическое значение.
Всевозможные колокольчики и бубенцы, звонки и трещотки, барабаны и погремушки первоначально имели общую магическую задачу защитить от зла и отвратить беду. Среди них самыми важными являются колокольчики.
Их родина, по всей видимости, – Китай, где, по достоверным источникам, они существовали еще четыре тысячи лет назад. Да и сегодня они считаются там талисманом. Вышивка с их изображениями украшает одежду детей. Самые древние колокольчики были найдены в Ассирии, Египте и у этрусков. Их вместе с другими предметами опускали в могилу с умершим. В орнаменте ассирийского колокольчика можно увидеть изображения демонов. Мифологические образы встречаются также на древнеегипетских колокольчиках XXII династии и, очевидно, имеют «магическое, отвращающее беду значение» [101, с. 52]. Большие бронзовые колокольчики выступали защитными средствами для этрусских покойников. «Как мы знаем из литературы, колокольчики были подвешены на могиле этрусского национального героя Порсенны, чтобы звенеть, приводимые в движение ветром, и отгонять злых духов» [101, с. 135]. То есть, как и в случае эоловой арфы, если звук не имеет отношения к человеку, возникает вера в сверхъестественные явления.
Быть может, вера в чудотворные свойства колокольчиков связана с Ветхим Заветом, где во Второй книге Моисея, главе 28, описывается священническая одежда Аарона с «золотым позвонком» и яхонтовыми яблоками? «Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лице Господне и когда будет выходить, чтобы ему не умереть». Иными словами, звук колокольчика защищает жизнь? Зелигман указывает на то, что во многих областях России колокольчики служат амулетами [92, т. II, с. 274]. На некоторых старинных итальянских колокольчиках имелись такого рода надписи: «Я защищаю от сглаза» или «Я изгоняю зависть». В Астурии новорожденным животным на шею вешают колокольчик. Если на них смотрит человек с пресловутым «дурным глазом», колокольчик должен разбиться. Но также и мирный перезвон колокольчиков пасущихся животных первоначально имел магическое значение. В доисторические языческие времена на быка, приносимого в жертву на алтаре, вешали колокольчик, чтобы охранить его от сил зла. «Южноиндийский ритуал изгнания дьявола, когда во время священнодействия на спину переодетым мужчинам, скачущим с поднятыми мечами между одержимыми женщинами, вешают бубенцы, является, вероятно, самым ярким выражением этого свойства звучания колокольчиков» [103, с. 40 и далее].
В Германии господствует следующее верование: когда демоны несут ведьм на шабаш, то они выпускают из рук свою ношу, как только начинают звучать колокольчики. Звон колокольчиков в ночь святой Агаты должен защитить от колдовства. Этот же эффект в Германии, Богемии и Швейцарии вызывают части язычков колокольчиков и ремни, которые носят в качестве амулета. Странный обычай существует в Норвегии: прежде чем повесить на корову колокольчик, его наполняют солью и дают животному съесть эту соль, которая должна устранить влияние ведьм [92, том II, с. 34, 276]. Частям колокольчиков приписывается свойство изгонять болезни. В одном из самых известных французских сказаний говорится о таинственном ночном полете всех церковных колоколов в Рим перед Пасхой. Впрочем, также и колокольчик причетника во время торжественной мессы в католической церкви служил не только цели призвать верующих к благоговению, но и оградить священнодействие от козней дьявола.
Спартанцы провожали своих царей в могилу под звуки колокольчиков. Согласно Аполлодору, специально для умирающего человека ударяли металлом о металл. В Древнем Риме посредством одновременного звучания тарелок приходили на помощь убывающей Луне. Также и бубенцы на колпаке придворного шута как в прошлом, так и во время современного карнавала имеют значение амулета, охраняющего от демонических воздействий. Звоном колокольчиков буддисты обращаются к своим богам. Овидий знал о таинственном влиянии бубенцов на манов[91], в роще Деметры в Додоне они служили (по Теофрасту) для искупления и очищения. На службе Гекате, равно как и в храмах сирийских богинь, на одежде жрецов также имелись бубенчики (ср. [159, с. 267 и далее]).
Недоставало лишь одного шага – и колокольчик был очеловечен как независимое существо, которое как угодно может менять свое место; которое, обращаясь к нам, звучит из водных глубин, предупреждает и предвещает несчастья. С VIII столетия стали совершать обряд освящения колокольчиками, соответствовавший крещению. Их мыли, смазывали и коптили, примерно с 1100 г. им стали присваивать имена, что послужило поводом к появлению колокольчиков-крестных. Дело дошло до выдачи «крестных писем», в народной речи стали меняться христианские имена, например, «Хосианна» стало «Сюзанной». Еще в 1000 г. папа Иоанн XIV издал буллу о крещении колокольчиками, чтобы «очищать воздух от бесов». Так продолжалось до тех пор, пока Лютер в своем трактате «Сборник церковных проповедей» не заклеймил и не упразднил это действо, обозвав его «обезьяньей игрой». Так или иначе, в Средневековье клятва на колокольчике считалась во много крат серьезней, чем клятва на Евангелии. В поэзии нового времени он одушевляется – в «Странствующем колоколе» Гёте, в «Потонувшем колоколе» Гауптмана, в «Песнях колоколов» Шпителера. Оборот речи «повсюду о чем-то трезвонить» (etwas an die groe Glocke hngen – буквально: «повесить что-то на большой колокол»), по-видимому, следует приписать средневековой традиции прикреплять прошения к бечеве самого большого колокола.
Вера и суеверие снова смешиваются в магических способах колдовства, которые связывались с колоколом и его отливкой. Хоровод-представление, о котором мы не раз уже говорили, снова заканчивается вовлечением на астрологической основе всего космоса в весть, «приносимую» колоколом. Из древних книг о Фаусте Кизеветтер приводит сведения о так называемом принуждении демонов ада при отливке колоколов [104]. При этом использовался electrum magicum, металлический сплав, связанный с астрологией, имеющий восточное происхождение и упоминаемый еще в Каббале. Каждый вид металла по отдельности расплавляли и совершали определенные церемонии, когда планета, относившаяся к металлу, входила в свой дом. После этого дожидались соединения двух планет, чтобы друг с другом сплавить оба соответствующих металла, третий металл добавлялся, когда с первыми двумя планетами встречалась третья, и так до тех пор, пока все металлы не смешивались в едином сплаве. (Судя по всему, человеческого века едва ли могло хватить на создание такого колокола!) Отлитый магический колокол требовал определенной церемонии освящения. После предварительной проверки на целомудрие в субботу в первой половине дня на открытом воздухе колдун должен был начертать своей кровью на колоколе определенные знаки. Затем он звонил в направлении всех четырех сторон света и произносил предписанные заклинания.
Курт Арам рассказывает о руководстве по магии с помощью колокола, которое содержится в недавно найденной рукописи Франца Шпунды, последователя Парацельса [85, с. 559 и далее]. На язык изготовленного колокола нужно нанести имя Адонай, на край колокола – тетраграмму, на веревку колокола – имя Иисус. «В этих трех надписях скрыты все тайны, какие существуют на небесах и во всех Божьих творениях». Через девять дней воздержания в убранной комнате перед тремя восковыми свечами новым павлиньим пером нужно написать имена духов или названия планет, к которым хотят обратиться, и произнести следующую молитву: «О, бог Адонай Тетраграмматон, я, твое создание, прошу тебя через Иисуса о моей просьбе узнать счастье через милость вместе с этими духами, без зла силой власти твоей, господь Саваоф, господь всех богов, аминь». Затем под звон колокола заклинают желанных духов «научить всему доброму и злому, насколько это в их силах».
Если и можно посмеяться над этой формой колдовства при помощи колокола, то как тогда объяснить, что и в самом деле существуют отлитые магическим способом чудотворные колокола, извещающие о несчастных случаях, о чем время от времени можно прочесть в газетных заметках? В трактате «Металлические сплавы» Парацельс упоминает, что в Испании он познакомился с магом, изготовившим из electrum magicum колокол весом в два фунта с нанесенными определенными знаками. Когда он звенел, являлись духи, принимавшие всевозможные образы. Парацельс утверждает, что он не раз это видел собственными глазами. В отношении «предупреждающих колоколов» существуют свидетели и документы, которые далеко не всегда можно поставить под сомнение. Таким колоколом владел доминиканский монастырь в Салерно. У императора Рудольфа II тоже был магический колокол, который затем хранился в бывшей Императорской библиотеке в Вене. Согласно заметкам в прессе, в Лондоне существовал старинный колокол, «сообщавший» о случаях смерти в королевской семье [104, с. 283 и далее]. Всегда ли здесь можно говорить о случайности? Наверное, можно было бы сказать, что колокола, с которыми тысячелетиями связывались представления о неземном, помогают сверхъестественному проникнуть в посюстороннюю сферу.
Окинем взглядом и другие ударные инструменты.
Прототипом барабана является выдолбленный ствол дерева – снова мы видим связь между музыкой и природой. Барабан – национальная африканская святыня, барабан мванза – культовый инструмент тайного союза ваниики. Непосвященным нельзя на него смотреть, и прежде всего женщинам и детям [105, с. 26, 38]. В буддистском богослужении в Южной Индии барабан является средством изгнания дьявольских сил. Сюда также относится освящения барабанов индейцами Гватемалы, во время которого инструменты смазывались человеческой кровью. В Асаме считается, что если вынести из дома барабаны гаро, то это приносит несчастье. При важных жертвоприношениях барабан покрывается листьями бананового дерева, пропитывается кровью зарезанной птицы и украшается перьями. Среди туземцев на Целебесе распространен обычай закреплять барабаны на перекрытии крыши и спускать их оттуда только в случае крайней необходимости, чтобы вызвать духов. Они должны надоумить деревенского колдуна, как изгнать болезнь. Если лечение оказалось успешным, то барабанную колотушку подносят богу в качестве жертвоприношения [106, с. 408, 533]. Деревянные литавры и трещотки имели особое значение у мексиканских жрецов [98, с. 569]. «Шаманы доводят себя до экстаза ударами в волшебные барабаны, затем опираются лбом на прижатый к земле лук и с бешеной скоростью вращаются по кругу до тех пор, пока не падают в изнеможении. С этим сходна и шотландская ходьба deasil» [104, с. 393]. На малайском архипелаге барабан, имеющий форму кубка, используется в качестве жреческого инструмента [103, с. 67].
«По верованиям арктических азиатских народов, барабан имеет голос: это голос бога на небе, Танары, „того, кто там наверху“, которого в мифе зовут также „Гремящий“, как германского сына отца всего сущего Тора-Тонара. Кроме того, барабан, отображение мирового порядка, в космической символике которого воплощен бог, в руках шаманов как людей „сведущих в грамоте“ имеет значение связующего звена с преисподней. Поэтому у коряков барабан называется я'яи, „море“, „вода“, в которую вступает шаман, чтобы добраться до ада, подобно тому как шаман-эскимос спускается в морскую пучину преисподней к богине морских животных Седне. Якуты и монголы рассматривают барабан как коня шамана, на котором он поднимается к духам на небесах или спускается к ним в ад» [30, с. 78].
Пожалуй, этой подборки примеров, демонстрирующих силу воображения, связанной с барабаном, будет достаточно. Ее без труда можно было бы расширить указаниями на мегалитическую картину мира [80, с. 55], на связь между культом барабана и тональностью речи у североамериканских племен [106, с. 45] и на многое другое. (Сошлемся здесь на список литературы.) Культовое значение в качестве средства защиты от зла приобрели также и другие шумовые инструменты. Систрум, ритуальный музыкальный инструмент, имеющий форму рамки с несколькими металлическими стержнями, тарелочками или небольшими колокольчиками, издающими мелодичный звон, был посвящен богине Изиде. Кимвал (цимбал), парный ударный музыкальный инструмент, предшественник современных тарелок, сопровождавший звуки литавр и флейты, приносился в жертву фригийской Кибеле. Кибела, или Рея, мать Зевса, еще во времена Римской империи воплощала «великую Мать-Землю», ее жрецами были корибанты, дактилы[92] и куреты[93], ее праздники носили характер оргий вплоть до членовредительства в состоянии фанатической экзальтации. Из сочетания ручных литавр и кимвалы возник наш тамбурин. Священным ритуальным инструментом в Китае считался гонг, а в Передней Индии благоговейно относятся даже к танцевальным погремушкам и обувным пряжкам с металлическими бубенцами. Каждый танцор подвязывает их, произнеся небольшую молитву, они являются священным символом танца [103, с. 44].
Покончим на этом с примерами, относящимися к магической музыке. Но если бы мы захотели удвоить их или утроить, то они снова и снова служили бы для нас доказательствами удивительных связей в музыкальном мире, не только раскрывающими непостижимые глубины душевной жизни, но и в изобилии ее проявлений демонстрирующими гетерогенность (неоднородность) душевных течений. Сама человеческая жизнь в своем многообразии нуждалась в художественном отображении в зеркале музыки. Как ни один другой вид искусства, она избрана сопровождать жизненный путь человека от рождения, колыбельной песни и серенады, до его кончины, наполненного музыкой вхождения в сферу более высокого духовно-космического порядка (об этом речь также пойдет в следующей части). И мы узнаем: музыка – нечто большее, чем игра со звуками, нечто большее, чем некая «звуковая форма». Музыка есть выражение в звуках самой души. Но если музыка – зеркало жизни, то одна из высших наших целей должна состоять в том, чтобы самих себя познать в этом зеркале и определить ценность собственного образа жизни по меркам ее музыкальной звуковой формы. Шиллер 21 января 1802 г. написал Кёрнеру: «Повсюду в искусстве есть жизнь и движение, цвет и изобилие; человек выходит за пределы себя и полностью включается в жизнь, но затем снова возвращается к себе самому». Это означает: из изобилия проявлений в «магически» движимом мире музыки снова найти путь к себе, обогащенный множеством душевных впечатлений, которые позволяют нам в новом свете увидеть суть музыки и помогают перепроверить и углубить наше собственное отношение к музыкальному искусству.
Также это значит: рассматривать музыку не только как временную и воспринимаемую во времени последовательность звуков, а ощущать ее, принимать и сохранять в своей душе вечное, непреходящее, первозданное.
Кроме того, это можно понять так: приподнять вуаль, которой мир скрывает от нас задние планы души, продвигаться вперед по царству сказаний и мифов, магии и мистики к «первичным эквивалентам», первообразам, которые многие тысячелетия существуют в нашей душе и оживают при звуках музыкального произведения – «для того, кто внимает тайком».
В подавляющем большинстве примеров из области музыкальной магии эти первичные эквиваленты предстают перед нами как эманации природного, космического и Божественного. Эдуард фон Гартман был прав, полагая, что музыкальные идеи не исчерпываются чувствами человека и что музыка «может стать отблеском и средством выражения неполноценного человеческого, животной, растительной и космической жизни природы». Тут мы имеем иерархию первичных эквивалентов: мы обнаружили неполноценное человеческое в «песне-проклятии», в пляске святого Витта и тарантизме, животное и растительное – прежде всего в магии музыкальных инструментов, а космическое – в качестве исходного пункта и конечной точки всякого развития, которое обязано своим возникновением более высокому духовно-космическому порядку и в нем завершается. И если музыка имеет свой прототип в потусторонней сфере, подчиняющейся Божественной закономерности, то ее задача не может состоять в отвержении этой внутренней упорядоченности и сопротивлении ей, если она не хочет саму себя отрицать. Чтобы этого избежать, необходимо осмысленное проявление космического характера музыки, ощущение которого в той или иной степени бессознательно с древних времен дремлет в душе человека.
Едва ли можно сомневаться в том, что на заре цивилизации человек был связан с природными процессами теснее, чем сегодня. Многое из того, что в настоящем обзоре вынесено на свет современности из доисторических эпох, наверное, казалось ему совершенно естественным. Пожалуй, здесь стоит упомянуть слова поэта и толкователя древних сказаний Альбрехта Шеффера из его интересного и содержательного сочинения «Миф» [163, с. 15 и далее]:
Наши далекие предки владели «способностью погружаться в духовные глубины и взаимосвязи жизни, постичь которые одними лишь силами нашего сегодняшнего интеллекта невозможно. Они обладали даром, который мы называем „видением“. Но на самом деле он состоит не в том, чтобы что-то увидеть. Посредством таинственного органа духовного чутья он позволяет постичь нечто невидимое, недоступное восприятию органами чувств и разумом, сделать его видимым в образе, в котором оно приобретает форму. И никто не может сказать как». И все же попробуем. Для этого не следует исключительно интеллектуально ориентироваться на науку и критиковать позицию, при которой «духовное видение» связывается с прозорливой, но духовно сдерживаемой фантазией, «объединяющей в гармонию» поэтическое мышление и «знающее чувство». И тогда мы «снова и снова с удивлением будем узнавать, что наше сегодняшнее знание может получить от древних воззрений различные разъяснения и даже немало откровений. Тогда мифология снова станет тем, чем была первоначально, – истинной биологией, учением о жизни».
Не надо ли опасаться угрозы душевного обеднения, если мы будем отрицать мир магии и мистики, существующий за слышимыми звуками, и станем слепы и глухи к глубокому и, в сущности, неизбывному наполнению нашей душевной жизни сверхъестественными силами музыки? Не должны ли мы быть благодарны за установление того факта, что чудо, омолаживающее сердца, по-прежнему живет в музыкальном искусстве, нашло в нем, быть может, последнее свое убежище? Стремление к музыке, по словам Вальтера Дамса, представляет собой «метафизическое стремление к чуду, вере, избавлению». О волшебстве музыки говорит и Оскар Би: «Кто имеет в себе музыку, тот носит в себе чудо. Кому она далека, тот должен искать к ней мосты». Вера в сверхъестественные свойства музыки ткет богатую оттенками вуаль, покрывающую мир звуков. Музыка, обнажая в нас все прекрасное, предстает перед нами не просто как чисто акустически-физический феномен. А «стремление к чуду» в конечном счете – это не что иное, как желание человека в музыкальном просветлении встретиться снова с самим собой, со своим «я» и научиться видеть в нем чудо собственного существования. Даже если вера в волшебство музыки, бытовавшая во все времена и у всех народов, у нас поколеблена, она все равно бессмертна. Она жива для всех, кто умеет «тайно внимать», она выводит нас за пределы собственного «я» в природу, в звучащий космос, она поднимает нас над звездным шатром, где «живет любимый Отец». «Музыка, ты – глубочайшая услада, бьющая ключом из человеческой души, лучший дар Бога, когда переполнилась его доброта» (Герман Клавдий).
Вера в чудо предполагает воздействие высших сил в рамках мифологической картины мира, в которой еще реально существовало Божественное. Вальтер Ф. Отто называет миф «творческим», «пробуждающим творческое поведение» [155–157]. Он считался «истинным и священным» и был тесно связан с культом. У нас «есть все причины относиться с почтением и к соответствующему содержанию мифов… Это те же самые дела и события, с которыми во все времена сталкивается человек. Но это фигуры, освещенные благородством и говорящие божественным голосом…» В поэзии и искусстве по-прежнему слышится отзвук настоящего мифа. Мы называем его «истинным первообразом, а все остальные являются лишь его оттенками, но он со своей чудодейственной силой по-прежнему присутствует также и в них» [155, с. 87 и далее]. Эрих Унгер тоже признает миф действительностью [160, с. 105]. «Это реальность для того, кто еще чувствовал религиозно» (Эрнесто Грасси [158, с. 106]).
Представляется уместным остановиться на этом чуть дольше, чтобы отделить сущность музыкального мифа от магии музыки. Какими бы основательными и «убедительными» ни были труды бывшего профессора Франкфуртского университета доктора Вальтера Ф. Отто, тем не менее едва ли можно понять миф исключительно из его истоков без учета того, как изменялось представление о нем в ходе истории («культ Рихарда Вагнера» и «миф» о Байрейте необязательно нужно считать убедительными примерами из нового времени). С мифическими образами мы неоднократно встречались выше, например с Орфеем. Средневековое изображение греческого певца как астролога, наделенного трансцендентными силами (у А. Кирхера), означает сгущение мифического как целенаправленной магии. Мифы окружали старинную секвенцию «Media vita in morte sumus». Монахини, которые в Средневековье этой церковной мелодией совершали заклинания против людей, магический элемент ставили выше мифологического. В мифах встречается большинство музыкальных инструментов, которые даровал людям Бог. То, что в их внешнем оформлении присутствуют головы животных, символы счастья и прочее, опять-таки означает слияние мифологического с магическим «колдовство над изображением». Эрнесто Грасси напоминает рассказ Пиндара о возникновении флейты (авлоса), которая была создана богиней Афиной, когда, будучи тронутой плачем сестры Медузы Эвриалы, она захотела придать этому впечатлению прочную, объективную форму. Плач был «изображен» ею как мелодия авлоса, превратившаяся в искусство, в «умение», в музыку. Пиндар конкретно нам говорит, что музыка духового инструмента понимается как «изображение человеческого аффекта». Но этот «поворот от сакрального к будничному», когда звуки и ритмы отвлекаются от прежнего «природного выражения человеческого», чтобы войти в историю искусств [158, с. 103], отнюдь не симптоматичен для всех музыкальных инструментов. «Будничные» музыкальные инструменты оставались сакральными при исключительном их применении во время богослужения. Что же касается флейты, то и здесь тоже мы видели соскальзывание с мифической области в магическую (тибетские флейты из кости как «колдовство над изображением»). Миф и магия находятся друг с другом в причинно-следственных отношениях, не допускающих четкого разграничения этих дополняющих друг друга мировоззрений. Но, может быть, миф даже является предпосылкой возникновения музыкальной магии? Не зашел ли все-таки Вальтер Ф. Отто чересчур далеко, утверждая, что общества, на которые повлияла магия, никогда не были бы способны жить в мире мифа и культа? «Магия вынуждена обходиться бесформенным царством душевных глубин, миром безграничного и самых таинственных сил, тогда как культ и миф призваны служить действительно существующему земному миру и миру звезд» [157, с. 36].
Что же остается нам, современным людям, от старой «магии» музыки, с которой мы познакомились в процессе предыдущих исследований? Поблекшее воспоминание о магических силах, которые все еще продолжают проявляться в музыкальном произведении? Стремление к самореализации в «живом» мире звуков? К внутреннему дополнению, к необходимому сбалансированию, которое наши предки создавали себе в очеловечивании, обожествлении природы звуков? Не установили ли мы «магические» влияния природы в придании музыке формы – серенады, симфонии, колыбельной песни, тарантеллы, канона – более того, также в расширении канона до фуги? Ведь фуга – это «бегство» голосов друг от друга; подобно тому как дикий зверь убегает от преследующего его охотника, точно так же один голос «охотится» на другие в первоначальной форме канона, каччии в период ars nova. И эта каччия была составной частью «охоты».
Но в одной важной области «магия» музыки сохранилась до сегодняшнего дня, она даже приобрела свое значение лишь в настоящее время, освободившись от пут суеверия, которые связывали ее многие тысячелетия. И это снова один из тех нередких случаев, в которых подоплека суеверия имела под собой реальные основания. Должен ли он, и в самом деле, быть и оставаться единственным в области музыки?
Имеется в виду излечение больного с помощью музыки, музыкотерапии, если использовать этот термин, который следует применять с осторожностью. Согласно нашему определению, это самая настоящая «магия», ибо музыка выступает здесь только средством для оказания психологического воздействия. Оно было бы бесполезным, если бы из восприятия всех видов искусств именно в восприятии музыкального искусства, как мы снова и снова видели тому подтверждение, человек не использовал бы самый мощный душевный энергетический потенциал.
История музыкотерапии обнаруживает интересные изменения представлений о возможностях применения музыки.
Каким же все-таки прозорливым поэтом был Новалис! В его «Фрагментах» можно прочесть: «Любая болезнь – музыкальная проблема, излечение – музыкальное разрешение. Чем короче и, тем не менее, совершеннее разрешение, тем больше музыкальный талант врача» и: «Более высокие звуки – стенической [активной] природы, более низкие звуки – астенической [слабой]. Более высокие звуки выражают активную жизнь, более низкие звуки – сокращенную жизнь, лишения».
В стародавние времена полагались на непосредственную магию звуков, от которой, ко всему прочему, ожидали еще и чудодейственного излечения. Уже в «Одиссее», в двадцать девятой песне, льющаяся кровь останавливается музыкой. В одном античном комментарии по этому поводу говорится: «Древняя медицина основывается на пении». Целебное пение знали оджибва, североамериканское индейское племя. Вместо лекарств знахарь давал больным мелодии и обучал их придумывать новые песни [87, с. 77]. К исконным практикам примитивных народов относится обычай с помощью инструментов, производящих шум, особенно погремушек (современная медицина, наверное, назвала бы это музыкальной шоковой терапией), изгонять злых духов, которыми были одержимы больные. С пением и барабанным боем индейцы беллакула сопровождали знахаря, левой рукой размахивавшего погремушкой и одновременно правой рукой делавшего лечебные пасы над заболевшим, пока тот не исцелялся и не переходил к остальным своим соплеменникам [107, с. 97]. Похожие церемонии известны древнеиндийским танцорам, изгонявшим дьявола.
В античной Греции Теофраст полагал, что «больным ишиасом можно снова вернуть здоровье, если больное место обдуть фригийскими звуками, и что укусы гадюк залечиваются игрой на флейте. Демокрит утверждает, а Апполоний Дискол с ним соглашается, что игрой на флейте можно исцелить любую больную часть тела. Первоначально флейта использовалась для колдовства, и игрой на ней вызывали бури [колдовство по аналогии!]. Если при жертвоприношении чуть ли не везде звучала флейта, то это имело целью защиту от демонов» [153, с. 169]. Асклепиад, по-видимому, использовал звуки трубы для лечения невралгических болей. Порфирий рассказывает о Пифагоре: «Он утешал музыкой душевнобольных, у него также имелись песни от телесных недугов, для забвения скорби, для усмирения гнева и избавления от страстей». Вилли Шрёдер упоминает в этой связи поговорку: «Английский рожок укрощает гнев» («Новости науки», IV, 8/9).
О «музыке как лечебном факторе у пифагорейцев в свете их натурфилософских воззрений» сообщает доктор медицинских и философских наук профессор Йозеф Шумахер из Фрейбурга в сборнике «Музыка в медицине» [154], к которому я настоятельно рекомендую обратиться всем интересующимся. В его статье содержатся дальнейшие сведения о лечебном воздействии музыки в классической Греции, например, об «очищении музыкой» у Пифагора благодаря совместному пению учеников перед отходом ко сну, что способствовало здоровому сну и приятным сновидениям. Шумахер также признает, что пифагорейское «число действительно могло стать основой реалистического видения».
И наоборот, менее известна гипотеза, что родиной музыкальной медицины является не Греция, а таинственный Тибет. Это утверждает такой авторитетный специалист, как стокгольмский медицинский советник доктор медицины Феликс Керстен. Он пишет:
«С медицинскими представлениями дальневосточного мира я познакомился благодаря двадцатилетнему сотрудничеству в Берлине с глубокоуважаемым и известным китайским врачом-массажистом доктором Ко. Тогда я слушал в Берлинском университете лекции по медицине и общался со многими интересными людьми. Так я познакомился и с доктором Ко. Китайский врач детально изучал лечебное дело в Азии и Европе. Будучи ребенком, он вместе со своими родителями жил поблизости от древнего монастыря на северо-востоке Тибета, позднее он обучался в монастыре, а затем, став монахом, под руководством мудрых врачей-священнослужителей познал тайны тибетской медицины. По прошествии некоторого времени с разрешения своих учителей он отправился в Европу для учебы в голландских и английских институтах, после чего получил в Англии докторскую степень. События Первой мировой войны и некоторые другие обстоятельства стали причиной того, что доктор Ko снова и снова откладывал свое решение вернуться в Азию. Незадолго до Первой мировой войны он открыл в Париже массажный кабинет, а затем после окончания войны практиковал как массажист в Берлине. Доктор Ко отечески заботился обо мне. С его помощью я необычайно много узнал о мире, который с таким большим трудом открывается европейцам. Позднее я имел возможность ассистировать доктору Ко до тех пор, пока в 1925 г. он наконец не вернулся в Китай.
Доктор Ко был высокого мнения о методе, позволяющем посредством определенных звуков и тональностей излечивать некоторые болезни. Эта терапия с помощью звуков с незапамятных времен существует в Тибете. Чтобы привести те или иные нервы в колебания, группы монахов неделями трубят, играют на флейтах или отбивают на барабанах определенный звук. Время от времени группы сменяют друг друга. Этот звук раздается непрерывно, и в конце концов нервная система успокаивается. В тибетских монастырях старые монахи-знахари точно знают, на какой звук барабана или медной тарелки реагируют нервы того или иного больного. Сюда же относится заклинание змей посредством воздействия на нервы головы этих животных, при этом змеи одного и того же вида, похоже, чувствительны к совершенно разным группам звуков» [161, с. 164 и далее].
Добавим сюда еще некоторые другие сведения Керстена, хотя непосредственно к музыке они не относятся:
«Доктор Ко ввел меня в бесконечность Вселенной (sic!) и научил рассматривать – нет, переживать – человека как ее первое и последнее подобие… Тибетские философы-медики, одним из которых был доктор Ко, исходят из величайшей целостности, космоса. Так, например, существуют внутренние связи, которые сегодня пока еще не очень плодотворно используются и все же содержат могущественные скрытые силы, способные принести благо всем страдающим людям. При описании моей неврологической физиотерапии, предназначенной для распознавания болезней, я упомянул чувство, которое едва ли можно передать, наполняющее меня при исследовании пациента, и то обстоятельство, что я вижу, так сказать, организм больного своим “внутренним взором”. Эта способность интуитивного распознавания, для которой, по мнению доктора Ко, у меня имелись большие задатки, необычайно развилась в те годы, когда я имел возможность быть его учеником и следовать по пути к истине, указанному мне учителем» [161, с. 170][94].
Не напоминает ли нам эта музыкотерапия «посредством определенных звуков и тональностей», реакция определенных нервов на ту или иную музыку, о чем-то уже знакомом – о нашем таинственном человеческом «собственном звуке», «абстрактном звуке» суфи, космическом звуке? О «звуке, звучащем через все звуки»? Не заставляют ли нас старинные мелодии иной раз все же задуматься о тайном знании?
Сознанию людей раннего Средневековья присуще смешивать правду и вымысел и преувеличивать значение отдельных странных случаев. Например, широко распространена легенда Саксона Грамматикуса о короле Эрике Датском, который, послушав «колдовские мелодии» одного скомороха, пришел в бешенство и стал убивать своих лучших советчиков, пока его не излечила красивая магическая мелодия, успокоившая его душу. Несомненное влияние на представления о музыкотерапии оказала античная вера в возбуждающее, а затем вновь успокаивающее воздействие определенных греческих гамм. Или история Асклепиада об оглохших людях, понимавших слово только тогда, когда одновременно с его произнесением дули в трубу или с силой били по барабану (вибрационный массаж барабанной перепонки звуковыми волнами?). Но не было недостатка и в свидетельствах о противоположном влиянии звуков. Один аббат (согласно «Энциклопедии» Ж.-Ж. Руссо) оказался словно задушен музыкальными звуками, по сведениям Шнейдера [47, с. 156], игра на (стеклянной) гармонике вызвала истерическую болезнь, у юной девушки случились конвульсии при звоне колоколов, а некоего молодого человека рвало от любой музыки. И чтобы не утратить чувства юмора, рассказывая о воздействии инструментальных звуков на человеческий организм, процитируем Лихтенталя: «Многие авторы наделяют музыку диуретической [= диаретической, т. е. мочегонной] силой, и этому действительно учит история со [стеклянной?] гармоникой. Согласно Веберу, однажды волынка, видимо, произвела такой сильный эффект, что бал пришлось закончить досрочно, после чего танцевальный зал тут же превратился в пивную» [108]. (О tempora, о mores…[95]) Впрочем, о таком же эффекте, вызванном звуками волынки, лиры и лютни, сообщает Хофгартнер [109].
Каким же образом достигалось музыкальное целебное действие? Средневековая медицина едва ли могла обойтись без представления о жизненных силах. Согласно Атанасиусу Кирхеру, музыка открывает «отдушины» («поры»), через которые могут выходить злые духи. Поскольку быстрая музыка создает быстрое движение воздуха, то и жизненные силы, которые тоже состоят из воздуха, приводятся в оживленное движение и веселят людей. Медленные звуки и короткие интервалы могут успокоить духов, а потому действие едких испарений, поднимающихся в мозг из живота, селезенки и т. д., ослабевает. Учение Кирхера развивается в странном трактате Нидтена. Широкие интервалы приводят к «расширению» жизненных сил, а их живости октава содействует в большей мере, чем более маленькая квинта. Терция навевает печаль, а еще меньшие интервалы вызывают «отвращение». (Что совсем необязательно должно относиться к атональной музыке.) Если отрешиться от благотворного содействия духов, о котором говорит Нидтен [111, с. 115], то уже в этом трактате можно обнаружить подходы к современному пониманию положительного влияния ритма и интервалов. У Кирхера имеются некоторые идеи, заставляющие нас к ним прислушаться, поскольку они полностью совпадают с нашими собственными выводами. Кирхер сравнивает нервы со струнами, вибрирующими под влиянием звука. А в «Musurgia», томе IX, главе 7, он утверждает, что определенные звуки оказывают скрытое влияние на те или иные тела в подобных соотношениях и только оно и никакое другое может привести их в движение. «Как магнит не действует на древесину, свинец и схожие с ними вещи, а воздействует только на то, что ему подобно, точно так же существуют некоторые звуки, которые пригодны для возбуждения определенных тел и – пропорциональны». Не встречались ли мы уже раньше с соответствующими воззрениями? У Роберта Фладда: человек «пропорционален» в своем «гармоничном» строении – в соотношении между своим «собственным звуком» и «звучащими числами» интервальных пропорций и т. п.? Верил ли Кирхер также и в то, что определенные звуковые ряды достигают психологического воздействия только тогда, когда человек в своих субъективных колебаниях души «настроен» именно на этот звуковой ряд, а не на какой-либо другой? Знал ли он уже, что лечение при помощи музыки должно носить индивидуальный характер, что музыкальные терапевтические методы, одинаково действенные для всех людей, можно применять только в ограниченной степени?
Одно место у Кирхера озадачивает: «…на то, что ему подобно…» Это выражение позволяет выявить тесную связь идей Кирхера с древним колдовством. Заклинание, лежащее в основе этой мысли, гласит: «Similia similibus», т. е.: «Сходное со сходным». Это означает, что исцеления можно добиться только средствами, имеющими такое же происхождение, как и сама болезнь. Самый известный пример мы находим в третьем акте «Парсифаля» Вагнера: «Рану затянет только копье, ее и пробившее». Перегибы, которые породил этот лежащий в основе заклинания метод лечения, вызывают улыбку. Особенно у очень уважаемого в свое время врача Джамбатисты делла Порты, который на последних страницах трактата «Magia naturalis» [112], относящегося к XVI столетию, дает следующие советы: чума изгоняется игрой на гитаре, сделанной из дерева лавра, потому что лавр служит противоядием от этой болезни. Если страдают запором, то помогает музыка инструмента, содержащего части растения клещевины. Звук древесины тополя снимает воспаление седалищного нерва, труба, сделанная из ствола корицы, устраняет слабость. Кто заботится о своем целомудрии, тому всего лишь нужно через дудку постоянно пить овечье молоко, а флейта, сделанная из ног красного коршуна, заставляет всех кур застывать, как статуи, – из-за «антипатичной силы», присущей звучанию этой флейты.
Две выдающиеся личности заслуживают того, чтобы на них остановиться подробней, поскольку, отталкиваясь от натурфилософии своего времени, они пришли к тому, чтобы включить целебное действие музыки в ход событий во всей Вселенной. Речь идет о Парацельсе и Кеплере. В своем предисловии к книге Кеплера Отто Я. Брик кратко и точно характеризует своеобразие идей Парацельса: «От него происходит идея присоединения жизненных сил отдельного существа к могущественным жизненным силам целого мира; от него – установление связи частей тела, отдельных растений, животных и камней с определенными небесными телами и их влияниями; от него, наконец, – первый эффективный проект создания общей фармакологии, основанной на соответствиях во Вселенной. В этих работах чувствуется сильнейшее влияние на Парацельса со стороны тайных учений, сумевших развиться в борьбе с оказавшимися несостоятельными традиционными теориями. Всем мистическим воззрениям присуще радикальное установление связи между небесными телами, звуками, цветами, живыми существами и частями тела. Но заслуга Парацельса не только в том, что он заключил эту почти необозримую область в упорядоченную научную систему и поставил ее на службу лечению больных. Он вывел из нее требование непосредственного взгляда на природу и положил его в основу всех последующих изысканий. Одушевить природу, от мельчайших камней до вращающегося небесного светила, и из потоков энергии такого изменения хода событий („золотые ведра“ Гёте) сделать вывод о целебных воздействиях – такова была его цель» [54, с. VII].
В качестве pars pro toto[96], пожалуй, здесь будет достаточно процитировать высказывание великого астронома Кеплера: «Некоторые врачи имеют обыкновение лечить своих пациентов красивой музыкой. Как музыка может воздействовать на тело другого человека? Если душа человека, как и некоторых животных, понимает гармонию, получает от нее радость, наслаждается ею, то тем сильнее тогда становится его тело. Тогда-то благодаря гармонии и тихой музыке приходит на землю и небесное воздействие» [116, с. 28].
Снова и снова непостижимо и вместе с тем увлекательно то, как мистика Средневековья сумела логично включить все земные явления в могущественный космический круговорот и придать причинам чуть ли не большее значение, чем следствиям, которыми в целом слишком односторонне занимается музыкальная терапия. Духовный мир, открывающийся за звуками, был (и является) реальностью, с которой обращались так, словно она существовала in concreto (в действительности). Но мы никогда не приблизились бы к тайне целебного воздействия музыки (и влияния музыки на душевную жизнь вообще), если бы не захотели допустить возможность существования космических потоков, которые наделяют ее вышестоящей ролью в человеческой жизни. Впрочем, что это были за тайные учения, о которых говорил Брик в связи с Парацельсом? Это была теория, распространенная во многих средневековых писаниях и рисунках, о тождестве микрокосма и макрокосма. Иначе говоря, люди представляли себе космос как сверхчеловеческое существо, как физическое отображение человека, наполненного мировым духом, quinta essentia, особым пятым элементом наряду с четырьмя другими – землей, водой, огнем и воздухом. Это воззрение в чем-то похоже на идею Агриппы Неттесгеймского: «Этот дух – всемирное тело как раз в такой форме, как наш дух в человеческом теле, ибо как силы нашей души через дух передаются членам, точно так же посредством quinta essentia все пронизывается силой мировой души. Во всем мире нет ничего, что не имело бы ни одной искры ее энергии» [85, с. 268]. Если не принять во внимание это представление, то для нас останется непонятным, почему в медицине Средневековья, ориентированной на музыку и астрологию, микрокосм мог представлять верное отображение макрокосма и откуда взялись поразительные выводы, что каждый внутренний орган человека связан с конкретной планетой и что при определенных предрасположениях к болезни дает знать о себе влияние того или иного небесного тела.
Важные сведения в своей работе, посвященной истории музыкотерапии, приводит очень эрудированный и компетентный исследователь Алекс Понтвик [70]. В частности, он указывает, что в конце XIX в. для лечения нервнобольных использовался английский оркестр и что католический священник Кавальери Лигуилли основал психиатрическую больницу возле Неаполя, где применялась музыкотерапия. Вместе с тем сочинение пражского врача Леопольда Раудница (1840), на которое ссылается Понтвик, не является «единственной в XIX в. статьей на тему лечебного воздействия музыки» [70, с. 21]. Мы уже упоминали работу Хофгартнера, также датированную XIX столетием, и сочинение Лихтенталя «Музыкальный врач» (1807). Заслуга доктора Хофгартнера состоит в том, что, по всей видимости, он одним из первых указал на влияние музыки на вазомоторные функции:
«Когда звучит быстрая и приятная музыка, глаза блестят, лицо краснеет, пульс становится более сильным и жестким, температура тела повышается, сердечная деятельность активизируется, все функции различных органов осуществляются быстрее. От медленной и мрачной музыки глаза мутнеют, лицо бледнеет, кровь отступает внутрь, поэтому температура кожи понижается, пульс становится медленнее и слабее, а также удлиняется и становится реже дыхание» [109, с. 31 и далее]. Само собой разумеется, этот список неполный, отсутствуют еще некоторые проявления, как-то: сжатие мышц, другие сосудодвигательные изменения, например, всем известное ощущение, когда при звучании особенно красивой музыки по спине бегут мурашки, и т. п. Однако выводы доктора Хофгартнера, без сомнения, лежат в основе современной методики музыкотерапии.
В качестве особых заслуг Раудница Понтвик подчеркивает, что тот впервые описал случай излечения истерической девушки игрой на фортепьяно, при этом музыкант находился вне поля ее зрения [113]. Кроме того, он исследовал пригодность различных инструментов для рассматриваемой цели и показал, что вокальная музыка не подходит, звуки скрипки могут иметь неблагоприятные последствия для нервной системы, а игра на арфе или на флейте, наоборот, успокаивает. Понтвик справедливо подчеркивает также следующий важный вывод: «Чем проще и безыскусственнее музыка, чем более она подражает языку простого ума, тем сильнее ее воздействие, особенно на менее утонченных людей и на тех, кто не способен разгадать смысл усложненной музыки, больше рассчитанной на слух художника». Это значит, что наивный человек более восприимчив к музыкальному влиянию, чем интеллектуальный, анализирующий и обремененный специальными знаниями музыкант. С этой позиции мы можем по-новому взглянуть на обсуждавшуюся в данной части «магическую» музыку. Всю музыку, которую играли и пели, можно считать «магической», потому что она возникает посредством самого простого способа выражения и тем самым обращается к наивному человеку. Звуки природы и подражания им принадлежали универсальному, всем понятному музыкальному языку. Его задача – не отягощать дух, а возвышать душу, поднимать ее вверх к тем источникам природы и космоса, от которых произошли звуковые ряды. Представления, связывавшиеся с ними с древних времен, способствовали тому, что «магия» музыки всегда направлялась на совершенно определенные объекты и на неизменные действия. Ассоциация усиливает «магическое» влияние, и наоборот, она может затруднять применение музыкально-терапевтического метода, если «в результате повторной встречи с музыкальным произведением люди вспоминают события, бередящие старые раны, а это процессу излечения не способствует» [70, с. 66]. Таким образом, здесь можно установить существенное различие между музыкальной «магией» и музыкальной терапией, даже если та и другая имеют одинаковое происхождение.
К сожалению, я должен отказать себе в том, чтобы представить общую картину современной музыкотерапии, поскольку такой, несомненно, интересный обзор вышел бы далеко за установленные нами рамки. Я должен сослаться на данные литературы, наряду с Тайрихом [154] прежде всего на Понтвика с его многочисленными примерами, на его введение в созданный им метод шведской психоритмики и на его доказательства того, что посредством музыкальной вибрации можно оказать воздействие на весь человеческий организм. Эдита Коффер-Ульрих с полным основанием констатирует: «Музыкальная терапия – это проявление целостности человека и восстановление этой целостности в гармонии» [114]. Но музыкальные произведения – это не медикаменты, которые, не задумываясь, можно теперь прописывать всем без исключения. Если бы терапия проводилась в соответствии с представлениями группы врачей из Мичиганского университета, то от истерии назначали бы звуки арфы, от мании преследования – трубы, при сердечной слабости – один час музыки Генделя, при ревматизме – звуки Моцарта, тогда как Шуберт должен помогать от бессонницы.
В последние десятилетия музыкотерапия бурно развивается, при этом в Германии прилагаются все усилия, чтобы сократить отставание от Америки. Появляется огромное количество литературы, известные доктора посвящают себя этому виду помощи пациентам, основываются объединения врачей-музыкотерапевтов. Следует указать на первый научный труд о «музыкальном наркозе», написанный в начале этого столетия Вальтером фон Родтом [115]. Хлороформный наркоз переносится намного легче, а при пробуждении почти полностью пропадает рвота, если пациент через наушники слушает мажорную музыку.
Психотерапевт доктор Рудольф Кински даже заменяет наркоз музыкой флейты йогов, знакомству с которой он обязан обучению йоге, и полагает, что нашел в ней не менее сильное средство, чем эвипан. Доктор Бурдик использует музыку для снятия тревоги пациентов перед операцией. Доктор медицины Ф. Нелесхайм считает, что «музыка, вызывающая приятные ощущения, воздействуя на кору головного мозга, может улучшать работу больных органов и даже их исцелять». Не исходил ли знаменитый французский гастроном XVIII в. Брилла-Саварин из правильных предпосылок, уверяя, что введение «застольной музыки» будет способствовать ритмичной работе органов пищеварения?
Известные врачи современности делятся своим опытом в уже упоминавшемся сборнике «Музыка в медицине» [154]. В нем сообщается об удивительных успехах в развитии рассматриваемого метода благодаря использованию новейших аппаратов: пневмографов, сфигмографов, плетизмографов, психогальванометров – и особенно электромиографии. Измеряется и оценивается каждое изменение дыхания, пульса, кровяного давления и мышечной деятельности под влиянием музыки. Высокоразвитая американская музыкотерапия применяет преимущественно два метода. «Принцип изометрии» означает приведение в соответствие характера музыки с психическим состоянием пациента. Подобранные произведения созвучны подавленному настроению больного, из которого он постепенно выводится благодаря живительным ритмам. Основываясь на «принципе уровня», начинают с простой мелодии, чтобы вначале пробудить общий интерес, за нею следуют ритмичные мотивы и различная музыка, создающая то или иное настроение. Речь идет «о последовательности произведений, служащей преимущественно психотерапевтическим целям: соответствующим образом не только должны лечиться отдельные психозы, но и могут затрагиваться также определенные слои в душе пациентов, подвергающихся воздействию звуками» (доктор Ганс А. Иллинг, Лос-Анджелес [154, с. 29]).
Различные врачи выступают за использование специальных музыкальных инструментов, кажущихся пригодными для устранения душевных расстройств. Работающий в Шотландии доктор Карл Кёниг, директор школы-интерната для детей с психическими нарушениями, руководствующийся в своей деятельности прежде всего учениями Рудольфа Штайнера, рекомендует лиру Гертнера, разновидность малой арфы, имеющую форму дуги. Его коллега доктор Ф. Орне, старший инструктор Университета Тафта в Бостоне, пришел к выводу о благотворном воздействии игры на английских ручных колокольчиках.
Также и известный композитор профессор Сезар Бресген берет слово в упомянутой книге и приводит примеры целебного эффекта, который достигается у пациентов, когда их побуждают самостоятельно заниматься музыкальным творчеством. Музицирование помогает преодолеть состояние тревоги, возвращает недостающую уверенность в себе и через душу воздействует на организм.
Далее, к числу ведущих современных врачей, занимающихся музыкотерапией, принадлежат доктор Май (Гейдельберг), профессор Эрдманн (Виттенберг), Ж.М. Кокс (Бордо), Д. Денис, профессор Зутермайстер (Швейцария), доктор Тайрихс (Грац), Джеймс А. Янг из Балтимора (Мэриленд), успешно применяющий музыку в качестве средства лечения даже при спинальном детском параличе. После того как концерт симфонического оркестра Юты в Солт-Лейк-Сити привел к улучшению состояния ста семидесяти пяти душевнобольных, больше семидесяти медицинских учреждений Соединенных Штатов Америки решили закрепить за музыкой прочное место в ряду терапевтических методов. В 1950 г. Национальным музыкальным советом была основана Ассоциация музыкальной терапии (NAMT), в то время как немецкоязычные страны связывают свои ожидания с деятельностью созданного в 1959 г. Австрийского общества содействия музыкальной медицине при Академии музыки и изобразительного искусства (Вена). Благодаря плодотворной работе NAMT в специально созданных учебных заведениях готовятся квалифицированные музыкотерапевты, организуются региональные съезды и ежегодные конгрессы, о которых сообщается в «Вестнике науки» («Book of Proceeding»).
«Магическая» музыка, рожденная из суеверия, примитивизма, нашла свое наивысшее выражение в музыкотерапии. Завершим эту часть заключительными словами Понтвика: «От личной унии [т. е. использования музыки и медицинских средств] жреца-музыканта-медика до кристаллизации музыкально-терапевтической потребности в психогигиене был долгий путь. Тем не менее то, чего должен добиваться каждый специалист на месте, доверенном ему судьбой, – это фиксации целостности в качестве цели, которой можно достичь совместными методами».
Четвертая часть Спиритическая музыка
Интермеццо III
Мелодия призрака
Лори никогда бы не подумала, что прощание будет для нее таким тяжелым! Но все вещи как будто обрели вдруг свой собственный язык, уговаривали ее, просили, заклинали: лаборатория, темная комната, из которой она бесчисленное множество раз выходила на свет дня, навьюченная фотографиями и оттисками, – здесь ее небольшой красивый письменный стол, за которым она регистрировала заказы, вела картотеку и который в начале каждой недели украшала свежими цветами. Вначале она отвергала знаки внимания со стороны Энди, но затем уступила. Не было ли это в конце концов для нее наградой, что он, звездный фотограф знаменитого Лондонского ателье, проявил интерес к ней, маленькой, незначительной ассистентке из химической лаборатории?
Последний взгляд на милые, хорошо знакомые лица коллег по работе! Не дрогнул ли чуть ее голос, когда она отвечала на слова прощания, благодарила за пожелания удачи на своем новом поприще? Но не в характере Лори было давать волю грустным чувствам. Для этого она слишком твердо стояла на земле. Ясные серые глаза под высоко поднятыми бровями смотрели на жизнь холодно и трезво, тонко очерченный рот и выпяченный подбородок выдавали энергию и активность.
Затем она на улице поймала такси рукой: «Челси! Ватерлоо-стрит, пятьдесят один!» – и, облегченно вздохнув, опустилась на мягкое сиденье. Колеса напевали ей ликующую мелодию, которой она не могла насладиться: «Свободна! Свободна! Независима и самостоятельна!» Владелица своего фотоателье, на которое из года в год она откладывала один шиллинг за другим, пока домик не стал ее собственностью. Правда, без помощи Энди она этого бы не сделала. Но не было ли все же немного рискованно связывать себя с ним ради совместной работы? Не предъявит ли он однажды ей требования, которые она не сможет исполнить? Но затем она мысленно представила его тонкое, худое лицо и глаза, которые всегда выражали уважение и внимание к ней, – нет, они не могли обмануть…
И вот машина уже свернула на улицы пригорода Челси, остановилась у мрачного дома, производившего несколько зловещее впечатление, – постройка прошлого века, окруженная небольшим запущенным парком. В верхушках деревьев затерялся последний свет вечернего солнца, но из высоких, строгих окон горел яркий свет – и как мило со стороны Энди в знак приветствия прикрепить на калитке небольшой венок из цветов!
Его губы слегка прикоснулись к ее руке – затем он осторожно дотронулся до ее талии и повел ее в их общую маленькую империю. И как только Энди удалось тайком придать ненавязчивый блеск помещениям! Ни одна мелочь не была упущена в приемной, дожидавшейся художников сцены и кинематографистов, с которыми Энди находился в деловых отношениях. Темная комната была оснащена самым современным оборудованием, осветительные установки красного, зеленого, желтого цвета предлагали свои услуги.
Радостный лай пробудил их от мечтаний о будущем – маленький фокстерьер, принадлежавший Энди, танцевал вокруг них и послушно давал себя ласкать. Пока ее друг спускался в погреб за бутылочкой вина, Лори не смогла не поддаться искушению еще раз одной побродить по рабочим помещениям. Она вновь расставила по местам химикалии, чтобы назавтра они были под рукой, пальцы поиграли выключателем и – она едва громко не рассмеялась: что это за чудак, который вдруг где-то заиграл на клавесине, словно, зажегши лампы, она подала ему этим знак для вступления?
Она снова нажала на выключатель – комната погрузилась в темноту – музыка смолкла. Странно – видимо, осветительную установку по недосмотру соединили с радиоприемником или…
Прозвенели в радостном согласии наполненные стаканы:
– Скажи, Энди, ты, наверное, сдал тайком комнату на верхнем этаже пианисту?
– С чего ты взяла?
– Так ведь это было здесь, в доме, – игра на клавесине!
– Клавесин? Я ничего не слышал!
Она берет его за руку и ведет в темную комнату. Их окружает мертвая тишина и угнетающий полный мрак.
– Да включи же свет!
Рука нащупывает выключатель. Лори вздрагивает:
– Слушай – вот опять! А теперь снова начинается эта же пьеса!
Звучит странная старинная мелодия – наверное, менуэт – привет из прошлых столетий. А звуки приплясывают, робко, изящно заигрывают, они как будто одновременно пробиваются изо всех углов комнаты. Вокруг Лори и Энди словно кто-то крался, обвивал за шею, в воздухе парили тихие шаги…
– Лори! – Энди сжимает ее руку. – В этом доме нет ни одного человека! В комнатах наверху никто не живет, и они заперты. Радио не работает. А ближайший дом от нас далеко.
Их взгляды встречаются – вопросительные, недоумевающие. А таинственная игра продолжается. Теперь это джига, затем – сарабанда. Жесткие звуки клавесина уносятся, расплываются; холодное дуновение задевает плечо Лори. Вздрогнув, она прижимается к своему другу:
– Послушай, не звучит ли это как стон, раздающийся над потоками звуков?
– Ты не хочешь еще раз взглянуть, что там наверху?
– Бессмысленно, Лори. Я только что там был.
– Энди! Смотри! Собака!
Животное последовало за ними в темную комнату. Вдруг фокстерьер начинает визжать – шерсть встает дыбом – с поджатым хвостом, дрожа, он выбирается из помещения…
Лори бросается к выключателю – оранжевый свет гаснет – музыка прекращается. Энди зажигает красные, зеленые лампы – ни одного звука не слышно, тишина ночи окутывает друзей – слышен только жалобный вой собаки из соседней комнаты. Лори включает желтый свет – и вот она снова, зловещая музыка, – и, как ни странно, невидимый музыкант не продолжает игру, а опять начинает с менуэта. Энди выжидает несколько тактов – поворачивает выключатель – музыка умолкает. Опять вспыхивает желтая лампа – вновь начинается менуэт – с той же громкостью, в том же темпе, как будто поставили пластинку…
– Энди! – Лори вскрикивает, цепляется за руку друга. – Нет! Нет! Я этого не вынесу! Уведи меня отсюда, сейчас, немедленно, ты слышишь?
Он заботливо провожает Лори к креслу, протягивает ей наполненный стакан, подводит ее дрожащую руку ко рту, бережно, успокаивающе гладит по виску.
– Но, Лори, милая девочка, отказаться от всего приобретенного только из-за того, что несчастный беспокойный дух через столетия приветствует нас своей прекрасной игрой? Наверное, в помещении скопилась таинственная энергия, которая разряжается в потоках звуков, вероятно, желтый свет вызвал контакт, делающий неслышимые звуки доступными человеческому уху, – что вообще мы знаем о неизвестных законах необъяснимой природы?
В словах любви и заботы ей слышится музыка сердца, которая значит для нее больше, чем звуки призраков прошлых столетий. Постепенно она вновь обретает самообладание, прижимается к помощнику, товарищу, подставляет ему свои губы, которые он заслужил, даже если бы никогда их и не желал…
Был ли это добрый дух, который благословлял их дело, обеспечивал им в течение следующих недель больше заказов, чем они могли осилить вдвоем? Постепенно Лори привыкла к загадочному аккомпанементу к своей работе в темной комнате. Более того, она даже отказалась переоборудовать осветительную установку, как советовал Энди. Никто из их друзей не смог установить происхождение мелодий призрака.
Спустя многие годы, когда они уже давно были женаты, Лори и Энди еще раз посетили то место, от которого им пришлось отказаться, когда началась мировая война. Дома больше не было. Таинственные звуки, соединившие два сердца, навсегда умолкли.
Они вернулись в царство вечной гармонии[97].
✽
Прежде чем отважиться сделать последний – и, быть может, решающий – шаг на нашем пути познания, позволим себе сделать короткую паузу, чтобы еще раз взглянуть назад, а затем оценить расстояние, которое нам еще нужно будет пройти.
Мы исходили из «звучащего человека», из мира звуков в нас и вокруг нас, который проявляется отчасти в звуках природы, отчасти в неслышимой, «латентной» музыке. Мы проследовали за первичными феноменами и нашли их прообраз в космосе, который в том же самом порядке, поддающемся числовому определению, обнаруживает точно такую же готовность звучать, как и Земля.
Теперь мы отправимся в обратный путь, от космоса к земным равнинам, и поищем ответ на еще не решенные вопросы, которые занимали нас в самом начале первой части. Так как же все-таки обстояло дело с «дивным ладом, дремлющим во всех созданиях», о котором говорил Эйхендорф? С «таинственным и тихим звуком, звучащим в каждом шуме», но доступным «лишь чуткому слуху» (Шлегель)? И как обстояло дело с «абстрактным звуком» – «основным тоном» жизни – с соотнесенностью всего земного деяния с жизненной мелодией, которая пронизывает человеческое бытие, хотя в нашем бодрствующем сознании мы ее не замечаем? При каких обстоятельствах высшая гармония, родившаяся из космической бесконечности, может войти в нашу жизнь?
Эти вопросы могут показаться мистическими, и действительно, наш обратный путь к земной действительности заграждает сфера, в которую нам еще предстоит только проникнуть, – «промежуточная область», в которой обитают силы, обычно несколько негативно обозначаемые как оккультные.
Тут представляется уместным снова побеспокоить графа Германа Кейзерлинга: «О психических силах, которые царят в космосе, как таковых мы знаем пока еще очень мало. Тем не менее все говорит о том, что силы, которыми располагает человеческий дух в данный момент, не происходят непосредственно от его мозга и что этот мозг означает лишь аппарат, предоставленный в распоряжение человеку» [120, с. 33].
«Предубеждение – вот истинная причина того, почему до сих пор так еще и не удалось включить оккультное в область научного опыта» [Там же, с. 19].
«Я не постесняюсь утверждать, что мы по-прежнему так мало знаем о подчувственном главным образом потому, что [интересующимся им] людям, чтобы дождаться [его проявлений], недостает понимания или характера» [120, с. 20].
«Таким образом, если хочешь разобраться в оккультных феноменах, верная позиция будет такой: к ним нужно относиться так же непредвзято и беспристрастно, как к остальной природе» [Там же, с. 34].
Другое высказывание Кейзерлинга позволяет нам непосредственно перейти к нашей теме: «С тех пор как существуют люди, за музыкой признается привилегированное положение среди всех видов искусства. Сознательно или бессознательно, с давних пор она выступала выражением и посредницей космического, потустороннего мира человека, а все другие виды искусства ведут свое происхождение уже от нее… Эзотерические учения наставляют повсюду, что определенные уровни Высшего Духа проявляются в звуках. Пение и игра на арфе считаются языком ангелов» [5].
Нужна ли дальнейшая щадящая подготовка к последующему повествованию? Тем не менее мы постараемся по возможности действовать конструктивно.
«Язык ангелов», или гармоничные сферы, оживленные и персонифицированные в христианских сверхчувственных образах, – не выразил ли еще Платон эту мысль, когда утверждал, что планеты населены поющими сиренами? – они не достигают нашего дневного сознания. Они открываются только тому, кто «чутким обладает слухом». Этот «чуткий слух» мы должны, наконец, попытаться определить. «Чуткость» предполагает отказ от всего внешнего, погружение в собственную внутреннюю жизнь, отгороженность от всего, что в земном окружении служит помехой духовному углублению, словом, – медитацию или молитву.
Современный христианский мистик Садху Сундар Синг рассказывает, что он имеет обыкновение слушать музыку, когда приходит в состояние религиозного экстаза [121, с. 97, 120].
Единичный случай? Рудольф Штайнер сказал бы: «Копытами нашего астрального тела космос играет мелодию нашего собственного существа». Этому высказыванию у него предшествуют следующие слова: «Мы созданы по музыкальным законам из космоса в виде астрального существа; поскольку мы – астральные существа, у нас есть музыкальная связь с космосом. Мы сами являемся инструментом… Если предположить, что мы не нуждались бы в физическом звучании звуков, то услышали бы, как звучит музыка мира, музыка сфер» [34, с. 4].
Итак, Садху Сундар Синг, наверное, медитировал независимо от физических условий. Иными словами, он слышал гармонию сфер?
Но спросим все-таки тех, кто – чуть было не сказал «в силу своей профессии» – живет в молитве или медитации, и раскроем «Жизнь немецких монахинь» Вейнхандля. Предоставим возможность автору поделиться своими объективными сомнениями: «Экономическая нужда, безбрачие, неудовлетворенность, любовное томление, бедность переживаний, желание чуда, болезненное сверхнапряжение – все это, возможно, тоже присутствовало в качестве провоцирующего или усиливающего фактора, но самого по себе этого недостаточно для того, чтобы понять явление во всей его целостности, как нельзя полностью объяснить красоту формы горного цветка, исходя из свойств горной породы» [122, с. 11]. Вероятно, эти оговорки не совсем точны, ибо наложенные лишения как раз и открывают высший смысл жизни человеку, отвернувшемуся от земного, – быть может, в качестве «компенсации»…
В упомянутой книге содержатся оригинальные хроники старинных монастырей в переводе на литературный немецкий язык. Там описываются многочисленные случаи, когда молитва сопровождалась музыкой. Сестра Юзи Шультхазин рассказывает: «И когда наступила всенощная и она осталась одна в покое, то услышала над своей головой голос, который пел такие сладкие немецкие напевы, что то и другое, голос и слова, нельзя было сравнить ни с одной земной вещью. И тогда она собралась с духом и решила прислушаться, чтобы понять, о чем поет таинственный голос; но тут он стал удаляться, так что она не могла разобрать ни единого слова, и куда бы она ни повернулась вслед за голосом, ей всегда казалось, что он находился где-то в другом месте» [Там же, с. 224].
Или рассказ блаженной сестры Мехтильды из Штанса:
«Она тоже однажды сидела на своем стуле и слушала очень красивое и сладкое пение, это были слова: „Sanctus, Sanctus“ и „Alleluja“, и это вызвало у нее удивление» [Там же, с. 216–217].
Сестра Анна из Вайтерсдорфа, о которой рассказывается в «Книге монахини Энгенталь о непосильном бремени милостей», слышала, как ангелы поют «Summe trinitate» («Божественная Троица») и прекрасное «Kyrie eleison» («Господи, помилуй») в три голоса, «которые звучали настолько красиво, что это было выше всякого человеческого понимания» [Там же, с. 302].
Или сестра Анна Вортлин из Нюрнберга:
«В ночь всех ангелов перед заутреней она смотрела на икону», и «тут появился сонм ангелов, и они запели такой сладкий напев, который людям и не придумать». И вдобавок к этому многие другие свидетельства сестры Димут Эбнерин из Нюрнберга, которая слышала трехголосное пение ангела, или сестры Элизы, которая «три дня подряд слышала пение ангела» [Там же, с. 319] и т. д. Констатируем: в молитвенном состоянии монахини слышали звуки, которые «людям и не придумать», которые, стало быть, не имели никакого сходства с чувственно воспринимаемой земной музыкой. Если бы мы сказали, что у них больное воображение, то это было бы правильно лишь постольку, поскольку они создали себе, подобно эху, образ звуков высших сфер, ведь вообразить можно только то, что уловимо с помощью органов чувств и что в чувствах уже было подготовлено.
Но обратимся за советом к известному мистику Генриху Зойсе [123]. В его труде имеется по меньшей мере восемь мест, в которых упоминается музыка. Полноты ради, даже рискуя утомить читателя, приведем их.
«Однажды он сидел в своем спокойствии [= медитации], и тут он услышал внутри себя такие задушевные звуки, что все его сердце встрепенулось, а голос пел громко и сладко, пока всходила утренняя звезда, и пел такие слова: „Взошедшая сегодня на востоке звезда возвестила о рождении младенца Марией“. Это пение звучало в нем так сверхъестественно, что вся его душа прониклась им и он радостно подпевал» [Там же, с. 17].
«И тут ему почудилось, будто большая толпа небесных жителей возникла в его каморке… и небесный сонм начал водить хоровод и петь, и это пение так сладостно звучало в его ушах, что все в нем переменилось» [Там же, с. 58].
«Это случилось в ночь ангелов. Ему показалось, будто он слышал пение ангела и восхитительные небесные звуки. И от этого было так хорошо ему, что он забыл про все свои горести» [Там же, с. 18].
Что это – «небесное» подтверждение целебной силы музыки?
«Тут каким-то образом у него пропали все чувства, и ему привиделось, будто в часовню к нему влетел сонм ангелов, они пели ему в утешение небесную песнь» [Там же, с. 93–94].
«И тут ему почудилось, будто небеса разверзлись… и зазвучало самое прекрасное пение, которое когда-либо кто-нибудь слышал» [Там же, с. 95].
«Когда он захотел подняться, ему показалось, будто он находится в небесном хоре и поют там Magnificat[98]» [Там же, с. 96].
«При созерцании он потерял сознание, и ему привиделось, что рядом с ним шел благородный небесный юноша. И юноша завел в душе брата [Зойсе] песнь, которая звучала так радостно, что от сладостных звуков улетучились все его чувства… Вместе с юношей он допел песню до конца. Потом он пришел в себя и обнаружил, что правая его рука лежит на сердце» [Там же, с. 122].
«Они взяли служителя [Зойсе] за руку и потащили танцевать, а юноша запел веселую песню о ребенке Иисусе „В славный праздник“… Запевала заводил, а они подпевали, и пели и танцевали они с ликующим сердцем… Они танцевали не так, как танцуют в этом мире. Их будто выбрасывали, а затем возвращали обратно в непостижимую бездну Божественной защищенности небесные волны» [Там же, с. 19].
Это видение танцующих ангелов особенно странно. Ибо здесь музыка предстает в виде космических колебаний, которые превращаются в земные ритмы, а затем опять исчезают в своих истоках.
При систематизированном просмотре всей мистической литературы число подобных примеров, несомненно, можно было бы значительно преумножить. Но мы хотим продвинуться еще на шаг и обратиться к другой, гораздо более глубокой и более продолжительной, медитации, в которой душа отделяется от тела, чтобы уже никогда в эту оболочку не вернуться. Речь идет о смерти.
Кто знает, как происходил апофеоз (прославление) Будды? Когда Благословенный лежал на катафалке, «звуки небесных голосов и небесных инструментов наполнили воздух гимнами в честь Татхагаты», – говорится в «Махапариниббана сутте» «Палийского канона» («Трипитаки»), полного свода священных текстов раннего буддизма [124, с. 111]. (Далее [125, с. 75, 95].)
Легенда! Обман чувств! Массовое внушение многих людей, которые при этом присутствовали и слышали эти «звуки умирания»!
Вернемся снова к «Жизни монахинь» Вейнхандля.
Прежде чем душа сестры Ут из Регенсбурга «отделилась от ее тела, другая сидевшая рядом сестра слышала звуки, как будто огромное войско выступило в поход со всяческой услаждающей слух игрой на струнах… Затем та покинула мир» [122, с. 315].
«Далее семь сестер услышали в облаках сладчайшие звуки струнного инструмента, они спустились к ней, и с ними она покинула мир» [Там же, с. 316]. То же самое говорится о смерти сестры Агнессы [Там же, с. 322]. В «Книге о непосильном бремени милостей» имеется следующее сообщение: «Когда дело близилось к полуночи, она [сестра Берта Макерин из Нюрнберга] сказала: „Благо мне, что я родилась человеком! Я слышу самые сладостные звуки струнного инструмента, которые только может услышать человек. Я хочу умереть, помолитесь обо мне!“ Через какое-то время, прежде чем конвент[99] прочитал Бетанию [видимо, отходные молитвы], она усопла» [Там же, с. 296].
Быть может, такие невероятные «обманы чувств» случаются только в религиозной сфере, которая уже обременена предрассудками? Отнюдь. Литература на эту тему настолько обширна, что об одних только таинственных звуках при умирании можно было бы написать целую книгу. Они появляются как провозвестники смерти, по-видимому, они облегчают умирающему переход в другую жизнь, иногда, если судить по документам и показаниям свидетелей, не доверять которым у нас нет никаких оснований, они слышны также всем тем, кто находится поблизости от умирающего. Уланд описал это явление в стихах: «„Что за сладкие звуки пробуждают меня ото сна? Посмотри, мама, кто это может быть в столь поздний час?“ – „Я ничего не слышу, я никого не вижу, спи дальше сладким сном! Никто не поет серенады тебе, бедный мой, больной ребенок!“ – „Но не музыка земная радостью наполняет меня! Это пение ангелов, зовущих меня! Спокойной ночи, мама!“» Уланд как будто знал о событии, которое описывает доктор Людвиг [126], ссылаясь на научный труд бернского зоолога и профессора антропологии Перти («Таинственные явления человеческой природы», с. 143):
«У одной женщины из здешнего города ее единственный ребенок слег от тяжелого недуга, и она ничем не могла ему помочь. В горе она наклонилась к ребенку и вдруг услышала небесно прекрасную музыку, такую, какой на земле не бывает. Она поднялась и прислушалась – музыка смолкла. Как только она опять наклонилась к ребенку, музыка зазвучала снова, и казалось, что она доносится из ушей ребенка. Вскоре после этого он умер».
Предмет нашего исследования становится все более странным. Стало быть, даже ухо ребенка служит ангелам смерти в качестве музыкального инструмента?!
Предоставим слово авторитетному специалисту в этой области Эрнесто Боццано: «Время от времени к этому проявляют интерес даже ежедневные политические газеты. Недавно „Дэйли Мэйл“ зафиксировала один такой случай: редакция газеты тут же получила несколько писем, причем всегда научного содержания, в которых сообщалось об аналогичных фактах. Среди корреспондентов лондонской газеты был профессор физики мистер Сирл из Кембриджского университета. К сожалению, он рассказывает об этом лишь совсем кратко: „Происшествия, схожие с тем, которое произошло с мистером Дрю, по-видимому, встречаются намного чаще, чем принято считать. Совсем недавно, в прошлую субботу, деревенский пастор поставил меня в известность, что он находился у постели умирающего ребенка, который несколько раз повторил, что слышал музыку ангела… Несколькими неделями раньше другой священник сказал мне, что в его общине жил очень религиозный человек, который часто слышал музыку рая“» [127, с. 217].
Доктор Людвиг указывает, что, когда умирала герцогиня Магдалена фон Вюртемберг, в ее комнате ночью 7 августа 1712 г. в присутствии двух человек можно было слышать вокальную музыку и звуки арфы, о чем канцлер университета Тюбингена сообщил в публичной речи [Там же, с. 141]. Далее Людвиг ссылается на святого Августина, который уже упоминал «призрачную музыку в случаях смерти», а также на четвертый диалог Папы Римского Грегора Великого, который хотел расспросить свидетелей, слышавших у смертного одра одной девы два поющих хора, звучавших тем тише, чем выше душа возносилась на небо. Людвиг [Там же, с. 142], а также Мориц в «Журнале психологии» (т. 1, с. 59) рассказывают о кончине жителя Берлина профессора Георга Цирбайна, у которого незадолго до его смерти вырвались слова: «О, как красиво! Как великолепно! Такого прекрасного пения я никогда еще не слышал!»
К сожалению, все эти случаи приходится по отдельности выискивать в литературе – зато здесь они в отличие от всех остальных трудов представлены в полном комплекте.
Приведем еще несколько примеров, связанных с известными людьми, из коллекции Розенберга [128], который записывает только факты с подробными указаниями источников и не дает каких-либо собственных оценок.
В день своей смерти Якоб Бёме вскоре после полуночи позвал к себе сына Тобиаса и спросил его, не слышит ли он прекрасную музыку, а когда тот ответил отрицательно, велел ему распахнуть двери, чтобы иметь возможность слышать пение более отчетливо. Позднее он спросил, сколько времени, а когда ему ответили: два часа, сказал: «Это еще не мое время, мое время наступит через три часа». Через три часа он и умер, после того как привел в порядок кое-какие дела и простился с женой и сыном. Кроме того, он сказал жене, что та долго не проживет. Так и случилось (по Аврааму фон Франкенбергу: «Сообщение о жизни и кончине Якоба Бёме», Амстердам, 1682).
Йозеф Гайдн 25 апреля 1792 г. описывает в дневнике встречу с неким священнослужителем, который, во время концерта слушая анданте Гайдна в тональности соль мажор, вдруг впал в мрачную меланхолию. На вопрос своих друзей он ответил: «Анданте сообщает о близкой смерти, о чем прошлой ночью мне дали понять и во сне». Он покинул концертный зал, пришел домой, уже больной лег в кровать и по прошествии нескольких дней умер (сообщение биографа Гайдна Альберта Кристофа Диса, который лично общался с композитором).
Смерть Гёте предвещалась разными мелодиями. В том числе «музыкой из стены», у которой сидел писатель. Первой эту музыку духов услышала фрейлейн фон Погвиш, когда однажды поднималась по лестнице. Она так испугалась, что повернула обратно и попыталась попасть в комнату по другой лестнице, но и там также звучала музыка. Затем и другие обитатели дома тоже услышали, что из стен раздавались тихие звуки, которые складывались в утонченные мелодии (цит. по: Вильгельм Боде. Часы с Гёте: Берлин, 1909. т. IV, с. 202–203).
Поэт Эдуард Мёрике в своем уединенном особняке в Штутгарте отмечал семидесятый день рождения, когда вдруг в его маленькой комнате прозвучала и затихла музыка, похожая на звуки арфы. Его сестра Клара стала искать музыкантов, но никого не было видно ни на улице, ни в самом доме. «Ты слышала?» – спросила она племянницу. В это же время Мёрике воскликнул из спальни: «Где музыка?» Родственники могли выразить только свое удивление, звуки исчезли так же загадочно, как и возникли. И тут Мёрике сказал: «Это касается меня. Это мой последний день рождения». Он умер 4 июня следующего года (полное собрание сочинений Мёрике, подготовленное Гарри Мэйном, а также некролог поэту полковника Гюнтера в «Алемании», Бонн, 1875).
Семнадцать, по-видимому, достоверных случаев «звуков умирания» опубликовал упомянутый Эрнесто Боццано в ставшем сегодня редким научном труде [127]. (Сжатую содержательную выдержку, которая здесь используется, приводит журнал «Метафизика», издаваемый Обществом метафизических исследований, Ганновер, 3-й вып., №№ 6 и 7. Она принадлежит перу покойного генерала в отставке Йозефа Петера, который в предисловии сожалеет, что областью музыкального мистицизма почти полностью пренебрегают и что не существует ни собрания, ни классификации этих случаев.) Боццано опирается на работу «Фантазмы жизни» (Гарни, Майерс и Подмор, Лондон, 1887), на «Журнал Американского общества психических исследований», а также на исторические произведения, журналы и собственные наблюдения.
Это сплошь сходные слуховые явления, отличающиеся лишь внешними обстоятельствами. И возникает вопрос, почему просто «видения» находят подтверждение только со стороны церкви, тогда как к музыкальным феноменам, как правило, относятся с сомнением и недоверием?!
Вот только два ярких примера (из вышеупомянутого журнала):
«Несколько лет назад я и моя сестра пережили одно „наднормальное“ происшествие, которое принесло нам немалое утешение в жизни. Наша мать слегла от тяжелой болезни. Врач и сиделка заявили, что долго страдать ей уже не придется. Однажды ночью моя сестра с сиделкой бодрствовали у кровати матери, а я отдыхал в комнате на верхнем этаже. Вдруг сестра услышала величественные аккорды, которые как будто исходили от небесного инструмента. Она никогда не слышала такую божественную мелодию. Сестра спросила сиделку, не слышит ли она музыку. „Я ничего не слышу“, – ответила та. В этот момент я ворвался в комнату и спросил: „Откуда доносится эта райская музыка?“ Аккорды звучали так звонко, что я пробудился от глубокого сна. Постепенно музыка стала ослабевать и стихла. Я посмотрел на мою мать: она была мертва! С последним звуком ее дух покинул тело. Наш отец, спавший в соседней комнате, ничего не слышал».
Поучительный пример заимствован из «Фантазмов жизни» (приводится в сокращении):
«У кровати больного ребенка девять членов семьи слышали звуки музыки, похожие на звучание эоловой арфы. Это были мелодичные аккорды, которые постепенно усиливались и в конце концов заполнили собой всю комнату. Эта трансцендентальная музыка была слышна даже в кухне, которая находилась под больничной палатой. Только больной ребенок ничего не слышал. Феномен повторялся три дня подряд в один и тот же час и в той же комнате. На третий день ребенок умер. Случай удостоверен и подтвержден несколькими свидетелями. То обстоятельство, что ребенок ничего не слышал, хотя еще находился в полном сознании, явно доказывает, что дело здесь не в галлюцинации, которая от умирающего переносится на присутствующих, а в явлении, имеющем внешнее происхождение. Трехкратное повторение музыки в один и тот же час позволяет сделать вывод об умысле и допустить присутствие одного или нескольких духов у смертного одра».
Из всех этих происшествий прежде всего мы можем сделать вывод, что далеко не все люди могут слышать эту загадочную музыку. Это доказывает, что необходима особого рода способность – «звукопроницаемость», обеспечиваемая особыми органами, которая обнаруживает параллель с известным даром ясновидения. Этот факт, возможно, объясняет, почему не всегда, когда кто-либо умирал, все находящиеся рядом с ним слышали музыку. Но он и не является контраргументом, свидетельствующим об отсутствии звуков умирания во всех случаях смерти. Возможно, они были, но не воспринимались. Отметим для себя эту мысль.
И в заключение этих рассуждений еще одна памятная записка из «Фантазмов жизни», II, с. 639, поданная преподавателем колледжа Этон, которую приводит не только Боццано, но и Людвиг [126]. Она насчитывает несколько страниц с протоколами очевидцев, в том числе лечащего врача. В присутствии свидетелей через десять минут после смерти одной женщины послышалась музыка, которая описывается как звучание трех девичьих голосов. Одной свидетельницей она воспринимается как нежная, мягкая и «причудливо глубокая», другой – даже как «очень глубокая». Странно, ведь девушки, которые проходят мимо по улице, не имеют обыкновения петь «причудливо глубоко». В памятной записке изображаются самые мелкие, второстепенные детали, что повышает ее правдоподобие. Но никто не смог установить происхождение звуков. Улица была пуста. И самое удивительное: пение одновременно слышалось в переднем доме и на задней лестнице, а звук, казалось, проходил непосредственно сквозь них. Прочитаем об этом в показании лечащего врача без сокращений.
«Я хорошо помню все события. Бедная мисс Л. умерла 28 июля 1881 г. Меня к ней позвали примерно в полночь, и я оставался с ней после ее смерти приблизительно до половины третьего утра. Поскольку рядом не было ни одной пригодной сиделки, я остался и помогал друзьям устанавливать тело покойной для прощания. Этим были заняты четверо или пятеро из нас. По моему распоряжению хозяйка дома мисс Л. и служанка отправились на кухню, чтобы подыскать сундук или ровную доску, на которую мы хотели положить тело покойной. После того как они ушли, а мы дожидались их возвращения, мы отчетливо услышали несколько мотивов дивной музыки, похожей на звучание эоловой арфы, которая на несколько секунд наполнила воздух. Я подошел к окну и выглянул, подумав, что, должно быть, кто-то играет на улице, но никого не увидел, хотя было совершенно светло и ясно. Довольно странно, что те, кто ушел на кухню, слышали те же звуки, а именно в тот момент, когда они находились на лестнице, совершенно в другой части дома. Это – факты, и я считаю должным сказать Вам, что я нисколько не верю в сверхъестественное, спиритуализм и тому подобное».
Мы снова можем сделать одно наблюдение. Эта «музыка умирания» не только имеет различное выражение, иногда инструментальное, иногда вокальное, но и по-разному воспринимается присутствующими – то как трехголосное пение, то как звук эоловой арфы (в вышеупомянутом примере). Это доказывает, что внешнее (или внутреннее) проявление музыки необязательно тождественно музыкальному содержанию как таковому. Один и то же импульс может вызывать разное музыкальное воздействие – возможно, в зависимости от музыкальных способностей человека, его понимания музыки и чувствительности к определенным, знакомым звукам, например, эоловой арфы, других инструментов, девичьим голосам и т. д. Возьмем на заметку также и это наблюдение.
Восприятие музыки во время молитвы, медитации и в час смерти предполагает наличие особой установки, необычной, если судить по этим обстоятельствам, душевной диспозиции (предрасположенности).
Но как теперь быть, если на следующем этапе нашего пути мы вынуждены констатировать, что в повседневную жизнь проникают звуки неизвестного происхождения? Тем самым мы вновь обращаемся к первой части, к описанным там таинственным голосам природы, которые еще в древности давали повод к персонификации и наделению неживых предметов душой. Некоторые из этих странных звуков, пожалуй, могут иметь естественную причину, объясняться воображением самого человека. Например, таинственная музыка, которую описывает профессор Мюнхенского университета Я.А.М. Перти: «Октябрьской ночью 1838 г., когда я находился в Мюнхене и около 12 часов дня лежал на диване, погруженный в мрачные мысли из-за того, что кое-кто проявил по отношению ко мне неверность и неблагодарность, вдруг зазвучала тихая нежная музыка, похожая на марш, исполняемый на небольшой стеклянной гармонике. Казалось, что звуки возникали внутри маленького ночного столика или на нем и вся дивная мелодия длилась примерно две-три минуты» [129, I, с. 121]. Тогда еще не было радио. Согласуется ли с научными опытами, что музыка, звучащая внутри, при определенных психических состояниях может проецироваться вовне и таким образом получать пространственную форму?
Во многих случаях, возможно, свою роль играет природа, когда в якобы пустынной местности слышатся загадочные песнопения, как те, которые слышал аббат по имени Плюке вместе со многими другими людьми. Де Весмес сообщает: «Все это было удостоверено, а те голоса звучали настолько гармонично, что наши крестьяне, без сомнения, не были способны дать подобный концерт» [130, т. III, с. 50 и далее]. Но (и это опять нам кажется важным): «Не все, кто подбегал, чтобы стать свидетелем чуда, действительно могли слышать эти голоса».
Все же, как обстояло дело с переживанием поэта Вернера фон Хейденштама, о котором сообщалось в первой части (см. с. 51), со странной музыкой, которая рядом с ним перемещалась по комнате? Не сыграла ли с ним злую шутку его поэтическая фантазия? Не похож ли этот пример на происшествие с призраком, о котором на основе фактических сведений рассказывалось во введении к данной части? И даже если бы мы сочли, что доля истины здесь минимальна, то все равно должны прийти к выводу, что музыка представляет собой нечто большее и способна на большее, чем просто приводить воздух в разнообразные колебания, что она таит в себе огромный потенциал, сущность которого нам неизвестна. Можно ли «заряжать» помещение, как в рассказе «Мелодия призрака», этой неисследованной энергией, чтобы при определенных обстоятельствах она вновь давала знать о себе внутреннему уху в виде последовательности звуков? Однажды мне на глаза попался другой рассказ, «Легенда Бёзендорфского зала», из газеты «Новая Австрия» от 26 апреля 1959 г. В этом известном концертном зале два посетителя беседуют о его основателе, столетие со дня смерти которого как раз отмечалось.
«– Я влюблен в этот зал, как в человека. Знаете, в этих гладких стенах есть что-то волшебное, таинственное! Неужели Вы не чувствуете, что здесь лежат слои музыки? Музыкальный шпат! Новый минерал, господин доктор! Что Вы об этом думаете?
– Музыкальный шпат! Какая замечательная идея, уважаемый господин надворный советник! Как будто в этих стенах была замурована музыка Бетховена, Вольфа, Брамса, Шопена!
– Нет ли у Вас также, дорогой доктор, когда Вы произносите эти чудесные имена, определенного представления о ритме?
– Нет, при этом я вижу только цвета.
– Цвета? Удивительно! Для меня же каждое из этих высоких имен в некотором смысле является воплощением ритма. Я не могу объяснить Вам этого по-другому. А что с Вашими цветами?
– Что с моими цветами? Для меня Бах темно-синий, Бетховен золотой, Шуберт небесно-голубой, Шопен фиолетовый, Гайдн розовый, Вольф весенне-зеленый, но Моцарт – Моцарт – это спектр: в его музыке все семь цветов.
Надворный советник улыбнулся:
– Забавно! Вольф весенне-зеленый! Возможно, в этом что-то есть. Впрочем, Вам не кажется также, что в этом доме продолжает жить музыка, которая звучала здесь раньше?
– Как это?
– Ведь здесь раздаются звуки! Разве Вы не слышите, как в этом зале, даже в тишине, раздаются звуки?»
Сходство «Мелодии призрака» с этой непринужденной беседой в одном важном пункте прямо-таки поразительно.
А теперь, если раскрыть Боццано и проследить его последующие примеры, мы окажемся посреди музыкального мира духов. Вот мать слышит пение родственницы-монахини в тот самый момент, когда та умерла вдалеке от нее, в стоящем на отшибе монастыре. В пустых церквях, в капеллах, особенно на кладбищах чувствительные люди слышат хоралы, звук органа, пение церковного хора. Английский исследователь Подмор, абсолютный противник спиритизма, пытается найти «естественное» объяснение:
«Трудно объяснить только то, что мистер Б. слышал инструментальную музыку, тогда как леди Ц. слышала хоровое пение. Подмор считает, что нет нужды обращаться к причинам, не имеющим естественную природу. Традиций в семье или мыслей о потустороннем мире, вызванных окружением, уже может оказаться достаточно, чтобы слышать музыкальную гармонию в звуках, которые создает в кустарнике ветер. Именно так возникает галлюцинаторное представление, и если однажды оно возникло, то при особенно благоприятных обстоятельствах может распространиться и на других чувствительных людей. В данном случае представление могло принимать различные формы в зависимости от идиосинкразии[100], не говоря уже о местности».
По этом поводу Боццано очень верно заметил, что в приведенном примере, если назвать причину спиритической, то это будет произвольным утверждением, ибо недостает доказательств, «но отсюда до теории галлюцинации Подмора лежит целая пропасть. Впрочем, до своего переживания данные люди о подобном явлении ничего раньше не слышали. Таким образом, теория галлюцинации отпадает. Этот феномен нужно рассматривать как сверхнормальный, и подобные происшествия в любом случае будут иметь теоретическую ценность, если в большем количестве удастся установить другие подобные переживания, содержащие больше деталей».
Генерал Петер высказывает свое мнение об этом в журнале «Метафизика»:
«Я хотел бы еще добавить, что гипотезы Подмора произвольны. Даже если люди предавались медитации о потустороннем мире, то все-таки очень сомнительно, чтобы из этого развивались такие ясные и сильные галлюцинации. Еще произвольнее предположение о переносе на других людей. Если бы Подмор был прав, то такие феномены должны были бы встречаться гораздо чаще. Впрочем, я сомневаюсь, что здравый смысл будет считаться с такими искусственно сконструированными гипотезами».
Еще более странное, по мнению Боццано, переживание двух дам, мисс Ламонт и мисс Морисон, которое возникло у них при посещении Малого Трианона.
«У упомянутых дам возникло видение, будто они перенеслись в эпоху короля Людовика XVI. Они видели Марию Антуанетту и особ королевского двора, одетых в костюмы того времени. Помимо прочего мисс Ламонт слышала, как из дворца Малый Трианон доносилась музыка оркестра и скрипок. Звуки оркестра были более низкими, чем в современной музыке. Дама смогла записать двенадцать тактов сольных партий. В одном из тактов была допущена ошибка гармонии.
Было установлено, что в то время, когда посетительницы находились в парке, музыка не играла – ни в нем, ни в его окрестностях. Но это еще не все: двенадцать тактов были проверены в Париже одним сведущим в музыке человеком, и оказалось, что они принадлежат одному старинному музыкальному произведению, написанному примерно в 1780 г. И действительно, в XVIII в. музыкальное сопровождение звучало более низко, чем сегодня. Кроме того, в Парижской консерватории было выяснено, что эти такты встречались в различных сочинениях XVIII столетия и являлись их лейтмотивом. В более поздних произведениях (после 1815 г.) ничего подобного не наблюдалось. Записанные такты были характерны для творчества Каччини, Филидора, Монсиньи, Гретри и Перголезе. Подобного рода ошибки гармонии, какие услышала мисс Ламонт, также присутствуют у Монсиньи и Гретри.
Этот интересный случай объяснить трудно. Но если в феномене трансцендентальной музыки усматривать намерение образованного переносчика, агента, то тогда довольствоваться психометрической гипотезой уже нельзя, а следует подумать о спиритической телепатии».
Не покажется ли более правдоподобным нижеследующий случай?
«Перципиентом был хорошо известный в Соединенных Штатах Америки инженер, друг знаменитого философа Г. Спенсера. Он был очень музыкален и знал все лучшие произведения старинной музыки. Он заявил, что трансцендентальная музыка, сколько бы раз он ее ни слушал, по своей красоте превосходит все, что можно требовать от земной музыки. Этот тонко чувствующий человек слышал хоры, а в них попеременно сольные голоса, мужские и женские. Особенно восхитителен был тенор, по его словам, он узнал бы его из тысячи голосов. Когда он слышал эту музыку, его лицо, казалось, начинало светиться. Мир для него больше не существовал. Сначала он думал, что стал жертвой самогипноза, но постепенно ему пришлось убедиться, что в такие моменты он действительно вступал в отношения с духовными сферами. В таких случаях он приходил в состояние экстаза, а когда возвращался в реальность, спрашивал у присутствующих: „А вы разве ничего не слышали? Мне казалось, что вы должны были это слышать. Вся Вселенная была пронизана музыкой“.
Удивительно то, что однажды во время сеанса с медиумом миссис Холлис-Биллинг спросила его, когда тот находился в трансе, не знает ли он, кто пел тем великолепным тенором? Инженер удивился и сказал: „Нет, а ты можешь мне это сказать?“ В ответ последовало: „Да, это итальянский музыкант по имени Порпора. Он не раз пытался донести до живых свое пение, но всегда безуспешно. Ты – единственный, с кем это получилось…“
На следующий день инженер стал искать в биографических справочниках сведения о музыканте и обнаружил, что в XVII в. жил выдающийся композитор и тенор Порпора. Возможно, он еще и сегодня известен любителям классической музыки.
При этом надо заметить, что медиум не была знакома с инженером. Она появилась на сеансе впервые. Из присутствующих только сопровождавший его друг знал о тонком слухе инженера».
Опять подтверждаются уже установленные факты, что только особо предрасположенные люди способны воспринимать «спиритическую» музыку и что полученное впечатление может принимать у них самые разные формы. Требуются определенные сверхчувственные способности, какие особенно проявляет медиум во время спиритического сеанса.
И тем самым на своем обратном пути в земные равнины мы попали в самую середину «промежуточной области», в мир спиритизма.
Согласно спиритическим опытам, духи любят музыку и «магическим» образом привлекаются ею. Еще Агриппа Неттесгеймский в «Оккультной философии» описывает заклинание духов природы, при этом особо говорится о «специально сочиненной для этого музыке» [104, с. 394]. Меня иногда спрашивают, какая музыка лучше всего подходит в качестве прелюдии к спиритическим сеансам. Тут я могу рекомендовать только свободную импровизацию на пианино. Независимость от написанных нот и идущее изнутри творчество одаренного человека, пожалуй, окажутся самым пригодным связующим звеном между земным и потусторонним миром для каждого, кто в это верит.
Уже в древности было известно, что музыка помогает достичь сомнамбулического состояния. С этой целью она использовалась в древнеегипетских мистериях. Также и неопифагорейцы видели в музыке одно из лучших средств усиления сомнамбулизма и связывали упражнения во время трехлетнего испытательного срока с занятиями музыкой [131, с. 12]. Это сомнамбулическое состояние, впадение в транс у медиума – пусть и несколько странное – не напоминает ли это то ощущение, которое испытывает каждый любитель музыки, когда он, слушая музыкальное произведение, полностью им очаровывается и внутренне в него погружается? И не может ли он при этом временно позабыть обо всех страданиях и болях, заботах и горестях? А когда его насильственно вырывают из этого состояния, не может ли испытываемый при этом шок вызывать душевные расстройства, как это несоизмеримо чаще бывает с медиумом, которого пробуждают силой?
Из многочисленных протоколов, составленных во время спиритических сеансов, и из писем, полученных мною самим в ответ на мое обращение в журнале «Другой мир» (издательство Германа Бауэра, Фрейбург и Брейсгау), выявляются два факта: во-первых, звуки хлопков, которые ритмично сопровождают музыку, исполняемую участниками, и, во-вторых, самостоятельная игра музыкальных инструментов.
Можно ли доверять французскому поэту Сюлли-Прюдому, удостоенному в 1901 г. Нобелевской премии? В связи с опросом, проведенным парижской газетой «Утро» [132, с. 287], он рассказывает о сеансе знаменитого медиума Евзапии Палладино, во время которого самостоятельно поднялась в воздух гитара и сами собой зазвучали музыкальные инструменты. «В мошенничество я не верю. Мы давно знакомы и знали, что могли друг другу доверять». Музыкальные инструменты, звучащие без воздействия на них человеческих рук, упоминаются на сеансах с медиумами Гузиком, «леди Маской», Хоумом и др. Соответствующие сообщения содержатся в журнале «Психические исследования» (вып. 49 и 51), издававшемся ранее в Лейпциге. Поручителями являются доктора Мюллер, Моль и Фриц Кваде, утверждающий, что духи узнавали мелодии, которые он про себя напевал. «Некоторые слушатели мыслей говорили, что они часто слышали мелодии и гармонии, которые не происходили от их представления» [133, с. 65]. В вышеуказанном журнале генерал Петер упоминает опыты с медиумом мисс Бесиннет, запротоколированные Британской коллегией психических наук, во время которых можно было услышать поющие в воздухе голоса, звуки дудок, тамбурина и т. п. «Поющие голоса варьировались от верхнего сопрано до мощного баритона». Они были ясными и отчетливыми даже тогда, когда медиум простудилась и могла только говорить.
О самостоятельно звучащих инструментах свидетельствуют также аутентичные протоколы сеансов с медиумом Марией Зильберт по прозвищу «мать Зильберт, ясновидящая из Вальтендорфа». Ее необычайные способности, о которых в объемном труде [174] сообщают многие достойные доверия люди, деятели науки и ученые, имеют отношение также и к музыкальным феноменам. Однажды в ее юности самостоятельно заиграло пианино [Там же, с. 41]. Парапсихолог профессор Даниэль Вальтер (Грац) описывает сеанс, на котором скрипка начала издавать аккорды, хотя человеческая рука ее не касалась. Один из участников (доктор Хасльмгер) запел гимн Венеры из «Тангейзера», а скрипка начала самостоятельно аккомпанировать [Там же, с. 193 и далее]. В другом случае в виде хлопков прозвучал ритм из начальных тактов струнного квартета Бетховена, название которого один из участников написал на листе бумаги.
Высшие силы, по-видимому, пользуются голосом медиума, что позволяет предположить поступившее мне лично сообщение немецкого корреспондента парижского журнала «Bureau international du Spiritisme»: «Госпожа К. прекрасно поет в состоянии транса. В состоянии бодрствования ее голос не очень интересен. Я также пригласил на сеансы одного человека, сведущего в пении, который заявил, что медиум обладает „капиталом в горле“. В состоянии транса ее лицо значительно помолодело, и его черты менялись также в зависимости от возраста или пола духа, воздействовавшего на госпожу К. Диапазон голоса очень большой, колоратура в верхнем регистре, нежный детский голос, глубокий мужской голос, пение на иностранных языках, которые она никогда не изучала. Поскольку участие в сеансах принимала также внушавшая доверие ясновидящая, изменение воздействия наблюдалось „посредством ясновидения“ и описывалось перед тем, как звучал голос медиума. К сожалению, за неимением аппарата фонографическая запись на сеансах не велась».
Датский комедиограф Юлиус Магнуссен сообщает о происшествии [134], о котором затем доложил в своем выступлении на заседании Немецкого общества оккультистов доктор Фриц Кваде («Психические исследования», март 1923 г.). По словам Магнуссена, его брат воспроизвел на пианино большой фрагмент из оперы «Гугеноты», хотя раньше он никогда не слышал этой оперы. Он объясняет это воздействиями своего умершего отца.
Стуки сопровождают такт музыкального произведения, даже дуэта, причем одновременно выстукиваются две ноты [130, с. 96, 130, 212]. Де Весмес заимствует показания одного врача (доктора Плата), слышавшего у кровати больной постоянные шумы и стуки. «Если кто-то фальшиво играл или пел, то удары указывали правильный звук, выстукивая гамму». О музыкальном стуке сообщает также Е.П. Блаватская в «Разоблаченной Изиде» и ссылается на музыкальные феномены во время спиритических сеансов Роджера Бэкона и королевы: «Мы были уведомлены английскими корреспондентами теософического общества, что они слышали самые восхитительные мелодии».
Эти примеры можно было бы приводить до бесконечности. Из богатого материала мы намеренно выбрали случаи, которые подкреплены свидетельствами знаменитых и внушающих доверие личностей. Например, известного астронома Камиля Фламмариона, который подробно описывает сеанс с медиумом Хоумом, проведенный в присутствии ученых, в том числе специалиста в области спектрального анализа сэра Уильяма Хаггинса.
«Господин Хоум уселся рядом со столом на шезлонг. Я сел по левую руку от него, другой наблюдатель опустился на стул по правую руку, несколько других участников расположились вокруг стола. На протяжении большей части сеанса, но особенно когда возникал важный феномен, наблюдатели, сидевшие рядом с медиумом, прикасались своими ногами к его ногам и поэтому должны были заметить самое незначительное движение. Господин Хоум взял гармонь большим и средним пальцами руки за сторону, противоположную клапанам. После того как я сам открыл басовый клапан, под столом выдвинули ящик, как раз настолько, насколько это было необходимо, чтобы засунуть туда гармонь вниз клапанами. Затем ящик снова задвинули под стол, насколько позволяла рука господина Хоума, но так, чтобы его руку видели сидевшие рядом люди. Вскоре они заметили, что гармонь как-то странно раскачивается, а затем по очереди прозвучало несколько звуков. Пока это происходило, мой препаратор залез под стол и установил, что гармонь сжимается и разжимается. Рука господина Хоума, державшая гармонь, была совершенно неподвижна. Затем заиграла простая мелодия. Поскольку такое может произойти только в том случае, если гармонично приводятся в действие различные клапаны инструмента, все присутствующие объявили эксперимент доказанным. Но то, что последовало за этим, было еще более удивительным: господин Хоум вообще убрал свою руку с гармони, полностью вынул гармонь из ящика и вложил ее в руку человека, сидевшего рядом с ним. Инструмент продолжал играть сам по себе, хотя никто его не держал» [135, с. 270 и далее].
Можно ли предположить, что все люди, получившие тот или иной опыт на спиритических сеансах, были обмануты? Или же, и в самом деле, были задействованы высшие силы, которые земным законам не подчиняются?[101]
Правомерно ли отрицать все то, что пока еще нельзя напрямую привести в соответствие с известными нам законами природы?
Если до сих пор мы обсуждали только музыкальные явления, возникавшие при определенных психических установках или спонтанно у лиц, наделенных медиумическими способностями, то теперь мы вступаем в область, в которой музыкальные феномены создаются под воздействием постороннего человека. И эта область – гипноз.
Значение гипноза для искусства – это проблема, которой, пожалуй, до сих пор еще мало уделяли внимание. Есть люди, танцующие во сне, пианисты, художники, поэты, достигающие в искусственно вызванном состоянии сна результатов, которые в бодрствовании были бы для них невозможны. Это мог бы подтвердить любой гипнотизер. Доказательства подобного рода приводят Шренк-Нотцинг и полковник Де Рохас. К этому добавляются лично мне адресованные протоколы, в которых объективно устанавливается, что, например, одна дама, умевшая играть на фортепьяно на уровне школьной программы, погрузившись в состояние сна, стала исполнять длительные свободные, фантазийные композиции. Гипнотизер попросил ее выразить на пианино определенные настроения, связанные с ландшафтом. Она делала это с такой полнотой чувства, что присутствовавший на сеансе пианист-виртуоз не переставал нахваливать ее мастерство. Я сам вместе со специалистами испытывал живущую ныне в Мюнхене пианистку-медиума. Речь идет об одной очень чувствительной даме, которая, по словам родителей, никогда не обучалась игре на фортепьяно, но могла сама себя приводить в состояние транса, в котором безупречно исполняла свободные фантазии в стиле старых мастеров. Однажды перед началом такого выступления вдруг началась гроза. Электрические разряды заставили ее вскочить с места и со словами: «Я слышу органную музыку, теперь я буду играть на органе!» – она, стоя, стала импровизировать токкату в стиле Баха. Когда затем я обратил внимание на многочисленные контрапунктические тонкости и имитаторские переходы, она в полном недоумении спросила: «О чем это Вы?» Присутствующим специалистам было непонятно, как можно без обучения владеть необходимой беглой техникой.
Такое погружение себя в состояние транса – отнюдь не редкое явление, достаточно сильной воли и наличия «посредника», устанавливающего психическую связь с человеком, обладающим задатками медиума. О пробуждении танцевальных способностей у одной девушки сообщил профессор Ян (Кёльн) в газете «Klner Tageblatt[102]» от 18 января 1923 г. После того как врач, основываясь на различных симптомах (положение зрачков, мышечная ригидность, отсутствие чувствительности), установил, что испытуемая заснула, гипнотизер посредством прикосновения и магнетических пасов вошел с ней в контакт и велел при помощи пантомимы передать различные настроения и исполнить танцы на разные темы. Художественная выразительность удивила всех присутствующих. Когда музыка внезапно прекратилась, девушка еще какое-то время сохраняла последнюю позу, затем руки опустились – она спала. Не было никаких признаков усталости. «Исследование показывает, что гипнотическое состояние не способствует, скажем, появлению новых сил, а только освобождает имеющиеся от психических торможений», – считает профессор Ян. После пробуждения девушка уже не могла что-либо вспомнить.
Особенно интересны для музыкального психолога эксперименты, проведенные Де Рохасом, поскольку они устанавливают важную внутреннюю связь между музыкальными способностями и телесными функциями [136, с. 153 и далее]. «Спящая танцовщица» реагировала конечностями на ритм, осанкой и позой тела – на мелодию. Когда на пианино играли вступление, ноги приходили в движение, а верхняя часть тела оставалась безжизненной. Как только начиналась мелодия, это отражалось на выражении ее лица. Восходящая гамма вызывала дрожь от ног до головы, нижняя и верхняя доминанты «были локализованы» в предплечье и кисти руки, основной звук соответствовал движению губ! Де Рохас сообщает о другом опыте, проведенном доктором Бериллоном в парижской клинике нервных болезней. При звуках вальса Шульхофа загипнотизированная больная поднялась с места и начала танцевать. Когда неожиданно зазвучал мелодичный Вальс ля минор Шопена, движение ног прекратилось, а танцевальная экспрессия проявилась только в руках. «И по мере того как развивается мелодия, количество движений уменьшается, а выражение становится глубоко прочувствованным» [136, с. 255].
Пожалуй, можно предположить, что последующие гипнотические опыты сумеют принести ценные сведения о внутренней связи между музыкой и душевной жизнью. Нас прежде всего интересует вопрос, каково происхождение художественных способностей, которые проявляются у нас лишь под гипнозом, но не в бодрствующем сознании. От самого гипнотизера они происходить не могут. Стало быть, они уже имелись в душе и для того, чтобы «пробудиться», нуждались только во внешнем стимуле? Можно ли сравнить душу со своего рода радиолокатором, улавливающим и регистрирующим поступающие к нему колебания, а затем из неизвестных глубин черпающим энергию, которая без помех и препятствий используется физическим организмом, позволяя ему добиться художественных результатов, достичь которых иным способом было бы невозможно? Запомним также и эти соображения.
На обратном пути от звездных высот к земным глубинам, преодолев «промежуточную область», мы все больше приближаемся к общечеловеческому существованию.
Предпоследняя остановка на нашем пути познания – это проблема музыкального переживания в состоянии сна.
Наша задача не заключается в том, чтобы, опираясь на соответствующие теории сноведения, полемизировать с односторонними концепциями Фрейда и Адлера, со Штекелем и П. Бьерром, с занимающим ведущую позицию в этой области К.Г. Юнгом и его достойным преемником Эппли или с Шульцем-Хенке. Тому, кто интересуется этой проблемой, следует обратиться к специальным изданиям, в особенности к фундаментальному научному труду Вольфа фон Зибенталя, чей список литературы охватывает 1309 работ, посвященных сновидениям и их толкованию [137]. Мы же займемся исключительно тем значением, которое придается музыке в сноведении.
К.Г. Юнг неспроста сравнивает мифы и сказки со сновидениями, в них «душа сама рассказывает о себе» [36, с. 103]. Цель сновидения – интеграция сознания и подсознания. В основе сновидения лежат, с одной стороны, архетипы коллективного бессознательного, т. е. древнейшие образы, присущие всему человечеству, а с другой стороны, связи с собственным «я». Мы видели, какую роль играют мифы и сказки в возникновении и развитии музыки. Было бы интересно проследить и вновь обнаружить их в мире снов, что было бы осуществимо при достаточном материале. Однако количество собранных сновидений, в которых фигурирует музыка, пока еще незначительно.
Остается открытым вопрос, является ли медицинская наука, которая интенсивней других занималась проблемами сноведения, единственной компетентной инстанцией, имеющей право судить о сущности снов и их «препарировать», вооружившись анатомическим скальпелем психоанализа. «Прежде всего достойны внимания сновидения художественно одаренных людей, которые довольно часто пытаются насильственно втиснуть в научную схему. Однако великие творческие умы человечества в этом отнюдь не нуждаются. Столетиями врачебное искусство и науку вообще не заботило, сколько истины и красоты присутствует в сновидениях одаренных людей, и совершенно непонятно, почему вдруг науку надо теперь считать высшей цензурной и оценивающей инстанцией в вопросе о сновидениях. Горизонт, сфера переживания многих художников и поэтов, особенно тех, кто обладает способностями ясновидения и пророчества в положительном и здоровом смысле, простирается дальше, чем кругозор и область переживания многих людей, которые сегодня считают, что к сновидениям можно подходить только с научных позиций… Если и есть класс людей, которые во все времена управляли мистериями сновидений, сохраняли их и передавали другим поколениям, то это в первую очередь творчески одаренные люди, а не те, кто, в качестве медиков вместе с другими плывет по течению в потоке господствующих в данный момент воззрений» [138, с. 34 и далее]. К этим смелым словам, которые наглядно характеризуют нынешнюю ситуацию в области исследования сновидений, пожалуй, нечего и добавить, не подвергая при этом сомнению значение отдельных выдающихся ученых, таких как К.Г. Юнг.
Но как раз о сновидениях художественно одаренных личностей и идет речь в нашем случае! И для нас очень досадно, что по этой теме пока еще не существует специальной литературы. Менее интересны для нас будничные сны, в которых, как правило, внешние, воспринятые во время сна акустические раздражители превращаются в образы сновидения. Язык сновидения – это в общем и целом язык образов, символическое содержание которого поражает нас и побуждает искать толкования. И когда в будничных снах появляется музыка, не имеющая особого значения для событий во сне, например, скоординированный оркестр из марширующих на параде солдат или музыка, звучащая при погребении, то можно разве что получить общее впечатление, не давая себе отчета о музыкальном содержании. Эрнст Эппли в своей наполненной внутренним теплом книге о сновидениях указывает также на то, что переживание образов доминирует над переживанием музыки. «В определенных ситуациях музицирует душа; на заднем плане день сопровождается ее звуками… Внутренний оркестровый концерт всегда – это переживание во сне, имеющее позитивное значение. Можно ли распространить это суждение также на ту великолепную неземную музыку, слышимую в сновидении человеком, которому грозит смерть, – это вопрос мировоззрения» [139, с. 336]. (Ср. с этим замечанием раздел, посвященный звукам при умирании.)
Отдельные инструменты имеют эротическое значение, струнные инструменты считаются женскими, духовые инструменты носят мужской характер. Западающие клавиши пианино, согласно Эппли, относятся к людям, провоцирующим конфликты, названия звуков – начальные буквы их имен. В сновидении звучат песни – они могут быть указаниями, предупреждениями: сновидец должен исполнить на органе хорал «Великий Боже, мы восхваляем Тебя» и делает из этого правомерный вывод, что он должен быть благодарен Богу за перемену судьбы. Даже банальные шлягеры и детские песни могут иметь символическое значение.
Зибенталь тоже считает, что в музыкальных сновидениях всегда доминируют образы. Это неопределенное, неопределимое впечатление, которое может иметь даже телесное выражение: «Однажды я проснулся после музыкального сновидения от пронизывающего все тело приятного ощущения вибрации, интенсивность которого соответствовала в сновидении динамичности музыки. Акустические раздражители отсутствовали» [137, с. 166]. Впоследствии звуковая ткань иногда описывалась сновидцами как «небесные звуки, подобные музыке сфер» (!) [138, с. 131]. Музыка может играть определенную роль даже в пророческом сновидении: во время Второй мировой войны медицинская сестра из Штутгарта видит во сне, как американские войска вступают в город под звуки бравурной музыки – сновидение сбылось (правда, без музыки) [Там же, с. 285]. Невозможно объяснить, как два друживших между собой человека в одно и то же время могли слышать во сне сонату Бетховена, находясь на большом отдалении друг от друга: «Дивная музыка растекалась по комнате» [Там же, с. 305]. Обратимся, однако, к другому виду сновидений. Они редки, но, наверное, каждому знакомо сильное впечатление от особого вида снов, которые еще долго продолжают занимать наши мысли, поскольку обладают в некотором смысле большой выразительностью и буквально заставляют нас рассказывать о них другим людям. Эти сновидения еще Плиний считал «посланными богами» – в современной психологии их называют большими снами. В них часто из глубинных сфер первобытного человечества всплывают образы коллективного бессознательного. Пример содержится в райа-йоге: «Иногда человеку снится, что к нему спускаются ангелы и с ним говорят, он пребывает в экстазе и слышит музыку сфер (!). Сновидец счастлив (!), а когда просыпается, долгое время находится под глубоким впечатлением от своего сновидения. Вы должны рассматривать этот сон как реальность и о нем медитировать» [137, с. 110]. Тут же упомянем знаменитое сновидение скрипача-виртуоза Джузеппе Тартини, которое воспроизводит Лаланд в своем «Путешествии по Италии»:
«В 1713 г. однажды ночью мне снилось, что я заключил договор с дьяволом и он стал мне служить. Все, чего я хотел, сразу же исполнялось моим новым слугой. Мне пришла мысль дать ему в руки мою скрипку, чтобы узнать, сможет ли он сыграть на ней прекрасные мелодии. Но как же велико было мое изумление, когда я услышал, как он с таким мастерством и так одухотворенно исполнил настолько удивительную и красивую сонату, что с нею нельзя было сравнить ничего из того, что было создано мною. Я был так этим удивлен, восхищен и зачарован, что у меня перехватило дыхание. Я проснулся от этого сильного возбуждения, сразу взял скрипку и попытался вспомнить хоть что-нибудь из того, что только что слышал. Но тщетно. Пьеса, которую я затем сочинил, действительно лучшая из всего мною написанного, и я даже назвал ее „Дьявольская соната“. И все же ей было далеко до того, что я слышал во сне, так что я готов был разбить вдребезги свою скрипку и навсегда отказаться от музыки, если бы был способен оставить первую сонату» [138, с. 76]. Под названием «Дьявольская трель» творение Тартини до сих пор исполняется в концертных залах.
Ангелы и дьявол – это архетипы, персонификации высших сил, с доисторических времен наполняющих душу. В психологическом истолковании дьявол выступает символом алчных, темных страстей и характеризует «трагическую духовную ситуацию» сновидца. Роберт Шуман в своеобразных сомнамбулических состояниях, случавшихся еще до того, как у него наступило полное умопомрачение, слышал музыку ангелов. Об этом 10 февраля 1854 г. в своем дневнике сообщает Клара Шуман: «Любой шум звучит для него как музыка. Он говорит, что эта музыка исполняется на дивно звучащих инструментах и она необычайно прекрасная – на земле такую музыку никто никогда не слышал… Он записал тему, которую, как он сказал, ему напели ангелы… Он твердо верил, что вокруг него парят ангелы и открываются ему в виде красивейшей музыки». В биографии Шумана, написанной Германом Эрлером, содержится указание на то, что однажды ночью во сне ему явились Шуберт и Мендельсон, напевшие ему мелодию в ми мажоре, которую он записал. Был ли Шуман душевнобольным или он просто обладал тонким слухом?! И наоборот, лишь с некоторой оговоркой следует принять сообщения, согласно которым заключительный хор к оратории «Мессия» Гендель услышал в сновидении, что Моцарту, как и Шуберту, многие (!) произведения привиделись во сне и что прелюдию к «Золоту Рейна» Вагнер «воспринял» в сомнамбулическом состоянии [Там же, с. 76 и далее].
Источником всех подобных сновидений является древнейшее бессознательное, и поэтому их можно отнести к категории больших снов. Они составляют исключение из обычного правила, согласно которому сновидение образуется из визуальных компонентов, а не из акустических. Возможно, бывает и так, что творческая энергия, возникшая днем, сохраняется и во сне. Но это все же не означает, что «композиторов вплоть до отхода ко сну все время преследуют мелодии» [Там же, с. 75]. Во всяком случае акустические музыкальные сновидения – редкость. Все, что Эппли говорит о поэтах, относится и к композиторам [139, с. 97]: «Принято считать, что сновидения художественных натур, прежде всего поэтов, гораздо грандиознее, чем сны так называемых „обычных“ людей. Это не совсем верно. Конечно, бывает и так, что их настойчиво преследуют большие сны, пока их творческий порыв не выразится в произведении. Кроме того, на важных этапах жизни им снятся большие сны, точно так же как и другим людям, которых ждут жизненные перемены. В остальное время – а в этом и состоит, к примеру, их поэтический дар – благодаря богатству фантазии они грезят в своих сочинениях, а не по ночам». Заметьте: они «грезят в своих сочинениях…»
Богатая коллекция Игнаца Йецовера среди 772 записанных сновидений содержит едва ли больше полудюжины музыкальных снов, в том числе очень известных людей, которые стоит здесь воспроизвести в силу их уникальности (и значения) [149]. Рахель Варнхаген сообщает 25 декабря 1815 г.: «Этой ночью мне снилось, будто я слышу сверху или откуда-то еще (!) прекраснейшую прелюдию. Ничего подобного я никогда раньше не видела. Она была столь гармонична, что я опустилась на колени, заплакала и вновь и вновь восклицала: „Разве я не говорила, что музыка – это Бог, настоящая музыка – под этим я подразумевала гармонию, а не мелодии (sic!) – это Бог!“ Все прекраснее становилась музыка; я молилась, плакала и восклицала. Все во мне, все бытие в моей груди, словно благодаря сиянию и без каких-либо мыслительных форм, стало светлым и более отчетливым; мое сердце разрывалось от счастливого плача, и я проснулась».
Возможно, это один из самых красивых и содержательных музыкальных снов, поскольку он раскрывает глубокие и скрытые отношения между различными сферами бытия (Дух, душа, тело). Странный концерт приснился Эдуарду Мёрике, о котором он сообщает в письме Хартлаубу от 10 марта 1838 г. Капельмейстер оперной постановки сидел на «изящной» клавиатуре перед одними только стеклянными органными трубами и подводил зарешеченные опускные (опускающиеся) двери к подземным воздуходувным мехам. Музыка напоминала звучание стеклянной гармоники. Геббель записал сновидение Элизы Лензинг (13.08.1840): «Красивый сон Элизы: ей приносят золотую арфу; она хочет играть и не может; но когда ей это удается, она играет настолько великолепно, что сама восхищается». (Обращение к бессознательным силам души?) Кларе Шуман снилось, что она видела свои собственные похороны, на которых играла музыка. Брамс во сне переработал свою «неудачную» юношескую симфонию в Фортепьянный концерт ре минор.
Я сам иногда воспринимаю музыку в сновидениях. В то время, когда я писал эту книгу, мне приснилось, что я в качестве критика сижу в первом ряду партера оперного театра на премьере неизвестной комической оперы Сметаны. При исполнении своего соло певица подходит вплотную к рампе, узнает меня и мне улыбается. Затем она начинает петь куплет, причем как-то надрывно, чересчур высоко. Я помечаю в программке: «Любезное преувеличение». С окончанием спетой ею строфы я просыпаюсь. Но начало рефрена продолжает отчетливо звучать у меня в ушах, и я сразу его записываю. Эту бесхитростную мелодию, приснившуюся мне, я привожу лишь по причине ее курьезности[103]:
О необычных музыкальных снах рассказала мне одна моя знакомая оперная певица; они примечательны тем, что особенно отчетливо раскрывают глубинные слои мира фантазии и, кроме того, явно имеют космическое происхождение.
«Я печально бреду по пустынной местности – все дальше и дальше – чувствую себя все более усталой – наконец я ложусь и смотрю на ночное небо. Вдруг вокруг меня собираются плотные белые облака, они становятся светлее, прозрачнее и принимают форму лица, которое занимает все небо: Бетховен! Неземное лицо обрамлено сияющими звездами, оно склоняется надо мной, полностью в меня проникает – я пропадаю и ощущаю, как меня омывает золотой поток звезд».
«Я стою на сцене в белой одежде Травиаты, последний акт. Внезапно я понимаю, что меня преследует грубый топот солдатских сапог, и вынуждена бежать – через весь оперный театр – вдруг оказываюсь снаружи на террасе, позади меня свора собак, передо мной на площади кричащая толпа людей. Тут меня преследователи и настигли – тогда я с распростертыми руками, распевая, взмываю над людьми и летаю, летаю…»
«Мне снится, что меня держат в серале[104] Моцартова „Похищения…“, я хожу взад и вперед и ищу выход, стою во внутреннем дворе и смотрю на темный бассейн, в котором отражаются чудесные звезды. Я начинаю петь и при этом парю над водной поверхностью – я чувствую, что это свобода, я уже не знаю, что является отражением, водой, смертью, – я должна, распевая, подлетать к звездам – с ужасом ощущаю ледяной холод, но знаю, что должна лететь вверх и что я это могу!»
Характерно, что символически используемому нами выражению сновидение возвращает здесь его первоначальный образный смысл: мы говорим о «возвышенной» музыке – низводимой нами в большинстве случаев до украшающего прилагательного, эпитета. Но во сне благодаря «полету к звездам» это выражение получает свое первоначальное значение. Не говорится ли в известной песне Мендельсона о «крыльях» пения?
Пожалуй, здесь будет уместно рассказать еще об одном моем собственном переживании во сне. Я стою у раскрытого окна жилого дома на первом этаже, передо мной на большой площади хоры, выступает оркестр со знакомой мне пианисткой, а я должен спеть сольную арию своим непоставленным голосом так, чтобы его было слышно на площади. Вот уже пианистка играет прелюдию, но я не могу вступить, потому что не могу разобрать текст на совершенно незнакомом мне нотном листе. Мне понадобилось принести лампу, но она не включается – нет контакта, пылесос подсоединен к двойной розетке, которую нужно демонтировать. Между тем оркестр делает генеральную паузу и терпеливо ждет моего вступления. Наконец, я готов и подхожу к окну. И тут я вижу, что площадь пуста. Все музыканты тоже исчезли – я совершенно один. Я смутно припоминаю, что затем мне снилось, будто дирижер и пианистка вошли в мою комнату и стали предъявлять мне упреки, с которыми я не согласился. Проснувшись, содержание разговора я уже не помнил.
Музыкальные сновидения могут принимать такие странные формы, что даже опытным сомнологам (психологам, которые занимаются снами) иной раз бывает сложно найти им удовлетворительное объяснение. Я слышу во сне, как звонит телефон. Я представляюсь своим именем. Неизвестный женский голос взволнованно говорит (дословно): «Ах, господин доктор Ст., я не оставлю того, кого знаю. Будьте завтра в три часа дня в винном погребке!» Я (очень коротко): «Но кто все же на проводе?» Никакого ответа. Я (в ярости): «Я жду!» Мертвая тишина. Я вешаю трубку. В тот же момент во мне начинает звучать мелодия. Она сопровождает меня во сне и продолжает звучать во мне и после пробуждения. Я раздумываю: что это может быть? И тут мне приходит на ум: строка рефрена из песни мужского хора под управлением Готоваца. А текст? «Я не оставлю тебя, о Родина!»
Думаю, что могу оправдаться перед читателями за включение этих переживаний, поскольку, как уже говорилось, количество исключительно музыкальных сновидений пока еще слишком незначительно, чтобы из их психоаналитической интерпретации можно было бы извлечь пользу.
И все же перейдем теперь к другому важному вопросу.
Может ли сновидение способствовать музыкальному творчеству?
Юлиус Бале в своей работе, посвященной психологии творческого состояния, совершил промах, позволив себе упрекнуть композиторов в незнании ими собственного творческого процесса, когда тот не согласуется с его научными представлениями. Вместе с тем он приводит несколько интересных случаев сочинения музыки во сне [140, с. 127 и далее]. Он ссылается на опрос, проведенный С. фон Хаусэггером с целью изучения творческих процессов в сновидении: «Опрошенные им люди искусства говорят о сходстве состояния в сновидении с творческим состоянием (sic!); однако о ценных идеях или о художественных продуктах, возникших в сновидении, они почти ничего не знают». Бале приводит примеры известных композиторов. Генрих Каспар Шмид сообщает, что ему снилось, как он дирижировал оркестром, исполнявшим им же самим сочиненную музыку. «Но ничего из этого не было использовано, потому что оказалось непригодным». Затем Генрих Нил рассказывает о следующем своем переживании во сне: «Я находился в ярко освещенном зале и сразу придумал чудесную тему, которую можно было варьировать и обрабатывать всеми возможными способами. Сам я был в полном восторге и все больше упражнялся в искусстве импровизации. Проснувшись, я все еще целиком находился под впечатлением от этой великолепной импровизации во сне и утром ее записал. Вначале воодушевление еще сохранялось, но затем оно потихоньку пошло на убыль, а по прошествии некоторого времени я обнаружил, что моя тема имеет большое сходство с темой из „Кармен“, и, таким образом, она полностью утратила свою ценность, которая предполагалась первоначально». Бале упоминает также случай Гектора Берлиоза, услышавшего во сне целую симфоническую композицию, «которую после двукратного прослушивания в сновидении он не записал лишь потому, что опасался расходами на постановку еще больше усугубить свое финансовое положение, принимая во внимание больную жену». Этих трех случаев автору было достаточно, чтобы сделать из них вывод о том, что «из-за отсутствия художественной критики в сновидении его творения по своей ценности значительно уступают продуктам дневной работы художника, которые определяются и контролируются его разумом».
Это верно, ведь ни одна ценная композиция не возникает из одного только чувства – она шлифуется все взвешивающим и проверяющим умом. Но одним пониманием этого проблему музыкального сновидения не решить. Разве чувство не является чем-то первичным, так сказать, материнским лоном музыкального творения? Не следует ли поэтому сфере чувств музыкального сновидения придавать большее значение, чем бодрствующему сознанию?
«Сновидения, удовлетворяющие эстетическое чувство, служат толчком к появлению не скованного сознанием, медитативного настроения, предпосылки творческой деятельности. Само сновидение – не художник, так как оно ничего не придумывает, но оно учит комбинированию, основанному на богатой фантазии, предоставляет материал, стимулирует художественную деятельность» [137, с. 127]. А душа «всегда мечтает», чего не слышат лишь из-за «шума», который производит сознание. Во всяком случае таково мнение К.Г. Юнга [139, с. 14]. «В сновидении душа обращается к исконной мудрости жизни» [Там же, с. 82].
Между сном и фантазией существуют прочные связи. Это доказывает Зибенталь, приводя веские аргументы [137, с. 124 и далее]. И сновидение, и фантазия работают с материалом, имеющим отношение к чувствам, заимствуют элементы образов из реальной жизни, комбинируя их, создают новые образы, им нет дела до временных рамок, и они зависят от душевного состояния, чувств, влечений, потребностей. Среди различий на первом месте стоит зависимость от воли. «Активный элемент в процессе фантазирования при ближайшем рассмотрении оказывается актом одухотворяющего оформления элементарных образов бессознательного, которые относятся к импульсам и влечениям. Если этот акт удается (как акт отшлифовки, одухотворения и „овладения материалом“), то это становится первым шагом на пути к созданию художественного произведения. Объективация таких „выработанных“, „обработанных“ более или менее спонтанных продуктов фантазии является также переводом того, что находится в глубине, в объективное произведение в виде картины, скульптуры, музыкального или поэтического сочинения, а иногда и научного труда. Даже в этой „умственной“ работе фантазия принимает живое участие».
Без сомнения, ценный результат этих исследований состоит в установлении того факта, что деятельность композитора выходит далеко за пределы бодрствующего сознания. Она простирается в сферу фантазии и сновидения, обогащаясь там стимулами, проистекающими из первопричин души – из глубин бессознательного, стимулами, которые у композитора обусловливают также и все ранее обсуждавшиеся нами проявления спиритической музыки.
И тем самым на нашем пути познания, ведущем по направлению к земле, мы неожиданно достигли последней ступени: музыкальной композиции.
Попытаемся все-таки еще раз обойтись без уводящего далеко в сторону критического обсуждения фактичности представленных музыкальных феноменов, чтобы не навлекать на себя упрек Кейзерлинга, что нам недостает непредвзятости, «понимания или характера» при рассмотрении оккультных проблем! Попробуем отыскать общее в этих явлениях и объединить возникавшие тут и там новые точки зрения в максимально упорядоченное повествование!
О чем бы ни шла речь – о «музыкальных» молитвах и медитациях, «звуках умирания», музыке при гипнозе или спиритической музыке, – предварительным условием всегда является особого рода внутренняя открытость, собственная душевная установка, восприимчивость к течениям, не относящимся к обыденной жизни. Мы видели, что не у каждого есть «чуткий слух» и не каждому дано слышать «дивный лад, дремлющий во всех созданиях». Но у того, кто этим обладает, «мир начинает звучать». И мы видели, что эта способность тождественна дару медиума.
В настоящее время широко распространено мнение, что композитор стоит на одной ступени с медиумом из оккультной сферы. Например, изречение Шопенгауэра: «Композитор раскрывает внутреннюю сущность мира и высказывает глубочайшую мудрость на языке, который его разум не понимает; подобно тому как магнетический сомнамбула разъясняет вещи, о которых не имеет никакого понятия в бодрствовании» (ср. [141, с. 117]). Профессор Нагель утверждает: «Соответствие между творчеством гения и медиума столь очевидно, что в ближайшем родстве гениальности и медиумизма, в их общем источнике (!) совершенно нельзя сомневаться» [142]. Граф Герман Кейзерлинг заходит даже так далеко, что предполагает наличие медиумических способностей у большей части человечества: «Подавляющее большинство людей, вопреки общепринятому мнению, являются медиумами, ибо даже из самых незначительных, за редкими исключениями, говорит их собственная самость. Все медиумы – люди искусства…» [1, с. 389]. Это суждение можно назвать лишь относительно верным, ибо «собственная самость» все-таки представляет собой нечто большее, чем просто безвольный инструмент медиумизма. Наверное, многие людей могут считаться медиумами в том смысле, что неиспользованные бессознательные силы души создают скрытое предрасположение к художественной деятельности. Но поднимать из душевных глубин на свет дня «скрытое» (или двусмысленное «оккультное») и придавать ему форму в творческом духе, – это остается исключительно прерогативой «медиумических» художников.
Но если композитор – «медиум», то это значит, что он имеет с ним общие сверхчувственные качества, с которыми мы познакомились во время нашего путешествия по «промежуточной области». Ему нужно погрузиться в себя самого, войти в «транс». Он предается самовнушению, впадает в создаваемое им самим гипнотическое состояние, во время которого отгораживается от внешнего мира, чтобы внимать внутренним голосам. Он воспринимает музыку в «сновидении» – обо всем этом мы узнали ранее – точнее сказать: в сновидении наяву, которое «внушает» ему мелодии, но при этом не сопровождается сном. Эти мелодии принимают совершенно разные формы, они могут выражаться вокально, инструментально, в виде симфонии или драматически. Не было ли и ранее – в «промежуточной области» – уже установлено нами, что, например, при «звуках умирания» музыкальное явление присутствующие истолковывают по-разному – то как звуки эоловой арфы, то как девичьи голоса и т. д.? Решающее значение имеет внутренняя позиция композитора по отношению к определенным, естественным для него самого формам музыкальной композиции. Это может быть одинаковый, один, единообразный импульс, который из неведомых сфер в равной мере передается всем занимающимся творчеством музыкантам и вызывает в них отклик, который в зависимости от их индивидуальности получает различное субъективное выражение. Человеческая душа настоящего композитора по своему усмотрению фильтрует звуковые потоки, стекающиеся от начала и до конца света к ней. Не было ли уже раньше высказано предположение, что эти потоки существуют испокон веков, на протяжении всей жизни, даже если мы их не слышим? А почему не слышим? Потому что не всегда имеются две предпосылки: во-первых, «чуткий слух» во время добровольной медитации, во-вторых, способность фиксировать, формовать и компоновать мимолетные, как переживания во сне, музыкальные явления, чтобы они озаряли и освещали бытие людей изменяющими звук силами Божественного существа. Разве случайно, что в процессе этих рассуждений нам снова приходит на ум гармония сфер, тот прототип звучащей вечности, которая существовала еще до того, как появились люди, и излучения которой будут действенны и тогда, когда люди уже не смогут «чутким слухом» слышать ее откровения? Разве мы уже не отметили мысль К.Г. Юнга: «Душа всегда грезит»?
Но откуда берется таинственный импульс, который побуждает композиторов приводить свое существо в гармоничное согласие с сообщенными им внеземными влияниями? Который склоняет к тому, чтобы в творческом процессе поднять себя «над собой» (куда?!)? Принимать деятельное участие в гармонии мира?
Пожалуй, было бы бесперспективно вникать в эти вопросы, если бы в части, посвященной музыке космоса, мы не собрали многочисленные сведения, позволяющие нам логично включить сущность музыкального творца в закономерный порядок, который на основе звучащего числа связывает макрокосм и микрокосм в гармоничное единство. Здесь следует привести несколько мыслей Людвига Панета [143], которому мы обязаны заслуживающим внимания научным трудом о символике чисел (написанным преимущественно с позиции психолога, занимающегося проблемами сновидений): «Если это были числа, управлявшие миром, то они не могли быть обыкновенными, обычными числами. Это должны были быть числа, наделенные особыми таинственными силами, не абстрактные, а наглядные образования, каждое из которых обладало своим характером, можно было даже сказать: личностью, – символы в форме числа». Числа как символы «принадлежат грезящей стороне нашего существа, и здесь, в бессознательном Гёте, их первопричина…» И, ссылаясь на теологический источник: «Но каким-то образом человек все же догадывается о силе или закономерности чисел…» А откуда происходит предпочтение особых чисел? Панет отвечает: «Из дорационального бессознательного, общей прародины символических чисел, архетипов и идей».
Снова и снова в учениях всех времен и народов, которые следует оценивать как эзотерические, отражается мнение, что земная музыка «мерится» по образцу небесной музыки. (Латинское слово mensuratur Ансельма Кентерберийского включает в себя понятие числа – а основа слова mens обозначает душу как мыслящее и рассуждающее существо, совокупность «высших» духовных способностей в противоположность понятию animus!) Начиная с почтенного гимна Пиндара, в котором учители на земле внимают звукам Божественной лиры, и вплоть до самого последнего времени – в признаниях дирижера Бруно Вальтера – мы обнаруживаем одни и те же постоянно возвращающиеся воззрения. Разве что они часто скрыты, закамуфлированы мифологическими элементами, сказаниями и суевериями, а также полны упоительными предчувствиями в видениях внутреннего взора. Насколько все-таки содержательным было видение Аристида Квинтилиана: душа, которая из регионов Вселенной погружается в ночную тьму телесности и, проходя по кругам эфира, из всего, что излучает свет, создает «физическую гармонию»! Но Людвиг Панет прав, когда пишет: «В нашей сегодняшней культурной ситуации они [числа] разделяют судьбу всех мифических образований. Они утратили господствующее положение в бодрствующей жизни, которое когда-то занимали, и оказались оттеснены в регионы сказки, суеверия – и сновидения» [143, с. 233].
Является ли изобилие ранее приведенных здесь признаний и сведений научным критерием? Необязательно. Способна ли стать для всех убедительной гипотеза о внутренней музыкальной связанности Земли и космоса, недоступной нашим органам чувств? Тоже нет, во всяком случае, не в умах людей, для которых на первом месте в земной жизни стоит логическое мышление. Но каким было бы музыкальное произведение, если бы оно лишилось последней тайны, если бы оно больше не было окружено мистериями, если бы посредством табличных расчетов законы логики, физической причинной связи низвели композитора до машины, до робота, ежечасно продуцирующего заданное число нот (хотя и такие попытки уже предпринимались)! Здесь наука отступает перед верой, обращающейся к вечности всех бессмертных ценностей, перед чувством красоты, не подчиняющимся арифметическим законам, перед достоверностью Божественного. Это очень точно сформулировал преподаватель истории религии и профессор Чикагского университета Мирча Элиаде: «Если современный человек приходит к новому сознанию присущей ему „антропокосмической символики“ (которая является лишь разновидностью первобытной символики!), то он достигает совершенно нового уровня бытия, бытия, о котором ни современный экзистенциализм, ни историзм[105] не имеют и малейшего понятия. Он достигает жизненной формы правдивости, жизненной формы увеличенного масштаба, оберегающей от нигилизма, от исторического нигилизма, и вместе с тем не исключающей его из истории. Ибо однажды история сама сумела найти дорогу к своему верному смыслу – к смыслу проявления славного и абсолютного человеческого бытия» [144, с. 41].
Но кто вправе больше, чем композитор, кто более способен, чем он, прояснить «пограничное положение» культурно развитого человека, живущего на Земле, по отношению к космосу? Антропокосмос Мирчи Элиаде с философско-религиозных позиций преодолевает мнимое расстояние, отделяющее человека от Вселенной, причем не в смысле противопоставления, а в смысле взаимодействия. Вселенная и индивидуальность соприкасаются на одном психическом уровне: настоящий композитор носит в себе гармонию сфер – то, что было и есть вовне, становится внутренней составной частью его существа.
Об истинном призвании композитора не в последнюю очередь узнают по его отношению к музыкальному таинству, наполняющему его душу, пробуждающему его благоговение перед вечной властью звучащего космоса и заставляющему его своими инсайтами и интуицией участвовать в чуде, которое в нем совершается.
Тогда в душе творца отражается звездное море, и в нем зарождается догадка о прародине всей гармонии. Это подтверждает Бетховен: «Когда вечером я изумленно смотрю на небо и вижу множество вечно раскачивающихся в своих границах светил, называемых Солнцами и Землями, мой дух взмывает к этим небесным телам, удаленным на многие миллионы миль, к первоисточникам, из которых вытекает все сотворенное и из которого будут во все времена вытекать новые творения» [145, с. 52]. Из века в век звучат для нас в гармонии сфер первообразы всех земных звуков – мастерам лишь надо слышать «дивный лад», ту песнь, что «во всех созданиях дремлет». Ибо «музыка – это часть вибрирующей Вселенной», как говорит Ферруччо Бузони в своем «Проекте новой эстетики музыкального искусства». В другом месте этого сочинения мы можем прочесть: «Ведь посмотрите, миллионы мелодий, которые когда-нибудь прозвучат, парят в эфире, готовые нам открыться, вместе с другими миллионами мелодий, которые никогда не слышны. Стоит вам лишь протянуть руку, и вот вы держите в ней цветок, дуновение морского ветра, луч солнца… А миллионы мелодий существуют с начала и ждут, когда их заметят!» В статье от 8 июня 1924 г. Бузони говорит: «Редко, но бывает и так, что земной человек слышит нечто неземное, которое растекается в руках, как только к нему прикасаются, застывает, как только хотят „пересадить“ его сюда, вниз, меркнет, как только пытаются протащить сквозь темень нашего менталитета. И все же в нем остается достаточно много того, что позволяет узнать его небесное происхождение, и тогда оно кажется нам самым высоким, самым благородным и самым светлым из всего высокого, благородного и светлого, что нас окружает. Не музыка – „посланница неба“, как думает поэт. Посланцами неба являются как раз те избранники, на которых возложена высокая миссия доносить до нас через необъятные пространства отдельные лучи света» («Melos»[106], IV, 1).
А миллионы мелодий, парящих в эфире, спускаются к избранным: «Тут летают мелодии, и нужно быть осторожным, чтобы не наступить на них», – говорил Брамс о своей дачной жизни на озере Портшах. То, что озарение мелодией, «приходящей прямо из эфира», «является абсолютным раскрытием последних тайн», предполагает также Рихард Штраус в своих «Рассуждениях и воспоминаниях». Небесные потоки пронизывают бессознательное композитора, они оплодотворяются в душевных глубинах его индивидуального существа, пускают ростки, развиваются и пробуждаются в часы творения. «Музыкальная композиция – самая таинственная из всех искусств… Откровение нашего подсознания, остающееся для нас необъяснимым», – таково мнение Артюра Онеггера в его автобиографии «Я – композитор».
В этой связи стоит также упомянуть два высказывания известных поэтов. Жан Поль говорит о музыке, которая проникает не через уши, а через сердце: «бурлящие в эфире мелодии» (как у Бузони!), которые «пьет грезящий или умирающий» – «настоящую музыку сфер мы слышим только в себе…»
Генрих фон Клейст рассказывает: «Иногда, когда я одиноко бреду в сумерках навстречу дующему западному ветру, и особенно когда закрываю глаза, я слышу настоящий концерт, со всеми инструментами – от нежной флейты до гулкого контрабаса. Вспоминаю, как однажды девятилетним мальчиком я поднимался вверх по Рейну против встречного вечернего ветра, и так, что меня одновременно окружали звуки воздуха и воды. И тут я услышал тающее адажио – со всем волшебством музыки, со всеми мелодическими переходами и всей сопутствующей гармонией. Это было похоже на игру оркестра, на самый настоящий Воксхолл; более того, я даже думаю, что все, что вобрали в себя из гармонии сфер мелодии Греции, ничем не было нежнее, прекраснее, „небеснее“, чем эти причудливые грезы». (Обе цитаты из [6].) Клейст также принадлежал к тем, кто наделен «чутким слухом». (Не почувствовал ли читатель, как постепенно расплываются и исчезают границы между медитацией, трансом, медиумизмом, сновидением и подобными состояниями и не возникает ли у него догадка об общей для них первопричине?)
Правда, не каждому дано воспринимать излучения гармонии сфер. Для этого нужны особые органы, что подтверждает известный пианист и композитор Эдвин Фишер: «Человек устроен столь удивительно, что его тончайшие приемные аппараты тщательно спрятаны от этих тайн и по большей части не используются. Лишь в редких случаях приемник со шкалой, имеющей бесконечное число градаций, настроен в нас на волну, проникающую в сущность вещей. Это значит – быть безмолвным и чутким, отрешиться от шумного мира. И тогда вдруг появляется звук, слово, крик птицы, взгляд, движение рукой и возникает связь, откровение. „Художник“ – это тот, кто обладает органом для восприятия бесчисленных, все новых вариантов, которые восходят к вечным темам природы. Он изображает эти события, эти процессы в сублимированной форме, в колебаниях звука, света, ритма; в смене цвета, настроения; в линиях, пропорциях и логике мышления. Таким образом, искусство – это лишенный материальности отблеск Божественной жизни» [145, с. 61].
Есть мелодии, которые, видимо, находятся в вечном странствии, мелодии, которые спускаются вниз из более высоких регионов, обнаруживаются в творческой душе, чтобы затем снова исчезнуть и опять появиться по прошествии долгого времени. Кто, например, упрекнет Моцарта в том, что начало первого финала «Волшебной флейты» не придумано им, а сознательно заимствовано? Но еще шестьюдесятью годами раньше в старом песеннике была песня трех мальчиков «К цели приведет вас эта дорога» с банальным текстом: «Как волка ни корми, он все в лес глядит, гусь летает над морем». Эта же мелодия промелькнула у Гайдна, в дивертисменте Моцарта, она является темой рондо Первого фортепьянного концерта Бетховена. Затем она исчезла, чтобы через несколько десятилетий послужить Метфесселю для переложения на музыку его текста: «Возле Мантуи в оковах верный Хофер лежал». А вскоре Гейбель переделал ее в студенческую песенку «Веселый музыкант маршировал вдоль Нила».
Они что, друг у друга списали? Ни в коем случае. «Психический приемный аппарат» был настроен как раз на ту волну, на которой резвилась эта маленькая странствующая мелодия. Для этого и многих других сходных случаев народная речь нашла очень меткое выражение: «Идеи носятся в воздухе». В этом наивное, простодушное мнение народа совпадает с несколько мистическим, но понятным утверждением Бузони, что «миллионы мелодий парят в эфире, готовые нам открыться».
Попробуем проследить за творческим процессом дальше. Теперь созревший зародыш готов из бессознательного подняться на свет. Вступает в действие «функция органа сновидения, который стал ясновидящим», «направленное внутрь самосозерцание» композитора переходит в «ясновидение глубочайшего мирового сна» (высказывания Рихарда Вагнера в его сочинении о Бетховене, 1870). Композитор попадает в «магнетический лечебный сон» (Мартин Дойтингер), при этом «зачастую индивидуальные законы телесности буквально упраздняются». Он ощущает себя магнетизером, так как уста говорят о вещах, о которых он, в сущности, ничего не знает и ничего не думает (К.M. фон Вебер, а также Шуман. Эти и другие цитаты взяты из книги Мооса [61]). Для Шумана композитор – это высшее существо, жрец и пророк, его мысли во всех отношениях являют собой Божью милость, его произведение – сон, дарованный небесными силами. А «творение является ему, как в приятном и ярком сне», – такова точка зрения Моцарта, высказанная в одном письме. Композитор превращается в медиума, «пылающего, со светящимися глазами, похожего на сомнамбулу», – так Шпаун изображает композитора Франца Шуберта в момент творчества. Затем после тяжелых умственных родовых схваток рождается произведение, не всегда из первозданных глубин, как у Антона Брукнера, но все же из регионов, в которых соприкасаются душевное и Божественное. Брукнер увидел, как раскрываются небеса, и узрел в Духе Бога, хоры ангелов, святого Петра и архангела Михаила – точно так же как благочестивые монахини в мистике Средневековья, о которых рассказывалось в начале этой части. «Это мистические переживания, из которых проистекают высшие излияния искусства Брукнера» [146, с. 83].
Тем самым замыкается круг, который ведет нас от человека через природу к космосу и обратно, от наполненной звуком Вселенной к созидающему художнику. А от него, от его произведения снова поднимается вверх, когда душевное творение приняло звуковую форму. Как говорил К.M. фон Вебер (цитата из рассказа «Гармония сфер»): «То, что услышано там наверху, в великой музыке сфер, всемогущим композитором, не затихнет в вечности; струна, вибрирующая здесь, уже не будет дрожать там, и, избавленная от земного шума, она во все времена будет продолжать звучать там чистыми звуками». И Вебер добавляет: «Аминь…»
Теперь мы знаем – нет, так сказать было бы слишком смело, – теперь мы догадываемся, какое значение гармония сфер приобретает для земной гармонии, что такое «чуткий слух», «дивный лад, дремлющий во всех созданиях», «звук, звучащий через все звуки». В идее об этом первозданном звуке, который остается абстрактным, пока мы не превращаем его в конкретную форму в силу нашей внутренней Божественности, покоится древняя мысль о всем музыкально-творческом, выходящем даже за пределы гармонии сфер. Было бы человечество счастливо, слыша первозданный «абстрактный звук» без «гармоничного посредничества» сфер? Возможно, этот вопрос преждевременен. Но вспомним, что в двух случаях «абстрактный звук» становился причиной безумия, потому что люди были не в силах слышать его непрерывно. Речь идет о Роберте Шумане, который в конце своей жизни беспрерывно слышал высокий звук, и о Фридрихе Сметане, впавшем в безумие, потому что «абстрактный звук» (назовем его так) преследовал его день и ночь. Он проклял этот звук на вечные времена как явный диссонанс в своем струнном квартете «Из моей жизни».
Мы прибыли в конечный пункт на нашем пути познания. Остается только прояснить вопрос, какое значение следует придавать представленным сведениям.
Кто умеет читать между строк, мог почувствовать, что эти рассуждения содержат однозначный отказ от всех видов музицирования, которые не проистекают из глубин души и приводят к злоупотреблению творческими силами.
Композитор, запускающий сети своей фантазии в глубины душевного моря, иной раз боится поднимать их целиком с самого дна. Он довольствуется соблазнительной мишурой, мерцающей на поверхности между легкодоступных ячей. Однако и яркие безделицы, относящиеся к миру музыкального развлечения, шлягера, должны выполнять свои функции в жизни и в дополнение к «тяжелой пище», содержательной и серьезной классической музыке, служат необходимой разрядке и увеселению. Но чем глубже под зеркало души опускаются сети творческой фантазии, тем ценнее сокровища, которые застревают на дне в их ячеях. И то, что композитор, напрягая все свои силы и чуть ли не превозмогая себя, поднимает со дна, – это не просто им ожидавшаяся и желанная находка великих ценностей. Это – общее прошлое человечества, покоящееся на дне души, это – нерасторжимые связи современности с первоначальным, это – сокровища бессознательного, которые с незапамятных времен лежат затонувшими в душевном море и дожидаются своего часа, чтобы зазвучать в унисон и быть пережитыми, когда композитор меряет свое творение мерилом современности[107]. Так созидающий включается в бесконечный процесс становления, связывающий его со всем прошлым, чтобы появилось будущее. Стало быть, и музыкальное произведение является лишь звеном в необозримой цепи причин и следствий, простирающейся вплоть до непостижимых глубин подсознания, фрагменты которого звучат в унисон в его творении: отдельный звук, бывший когда-то объектом поклонения, гамма, в которой все еще робко поблескивают следы былых солнечных элементов, октава, которая, восходя, связывала человека с Богом, а нисходя, взывала к таинственным силам космоса. Сделать снова осознанным бессознательное в границах закономерно возможного – это многообещающая задача, решая которую композитор из бесконечно далеких и глубоких пространств получает душевную энергию, происходящую от Божественного Существа.
Имеет ли мир акустической лаборатории хоть что-нибудь общее с этими представлениями? Сравнима ли «ведьмовская кухня» электронной музыкальной студии, оснащенная магнитофоном, осциллографом, синтезатором и монтажным столом, с обычными формами музицирования? Мы рады были бы обойтись без постыдной необходимости вообще упоминать эти объекты музыкального производства и даже были бы готовы признать за ремесленниками от музыки, что их эксперименты могут способствовать обогащению мира звуков, если бы они ограничивались своим относящимся к физике полем деятельности. Вместо этого они стремятся удовлетворить свое честолюбие, превращая концертный подиум в лабораторию и присваивая себе звание композитора, которым прежде дорожили наши величайшие мастера.
А как обстоит дело с искусством додекафонической музыки? Нашла ли она за десятилетия своего существования такой же отклик, как искусство в свое время «по-новому звучащих» классиков, ведших когда-то точно такую же отчаянную борьбу? Ведущие представители школы Шёнберга, например Вернер Хенце, уже отворачиваются от «паролей, манифестов и школ» и вновь объявляют себя приверженцами великой европейской традиции. «В истории музыки никогда не было такой догматичной и безжизненной системы, как так называемая додекафоническая музыка, – сказал выдающийся композитор Дмитрий Шостакович. – Она убила душу музыки, т. е. мелодию, разрушила форму, красоту гармонии, богатство естественного ритма и вместе с тем уничтожила всякий след содержания, человечности музыкального произведения» (из газетных сообщений). Всегда рискованно писать на злобу дня и делать прогнозы в книге, а не в бренной периодике. Но как душевно обнищало бы человечество, если бы недобросовестные люди лишили его веры в вечное, если бы осквернители церкви безнаказанно могли превращать святые места в ярмарочную площадь! Но как уже глубоко опустилось человечество, раз оно беспрекословно позволяет навязывать себе пустозвонство шутовских бубенцов, выдаваемое за художественные откровения, и расхваливает всякое насилие над звуками как опережающую время ценность, вместо того чтобы объединиться в сплоченных актах протеста, выступая за революцию души!
Здесь поможет только возрожденное осознание культового значения музыки, о котором шла речь в данной книге, нового взгляда на погребенное бессознательное, ждущее воскрешения в глубинах души. Здесь возникает необходимость углубить собственное отношение к жизни, природе, космосу, чтобы мировой орган, монохорд мира снова одухотворил наше бытие вечными звуками. Сегодня мы вновь должны прислушаться к требованию Кейзерлинга: пусть в могучих и чистых ударах колокола из года в год звучат собственные «основные тоны», чтобы посреди бури они находили все более мощное эхо в наших сердцах.
✽
Вклейка
Музыкальное состязание Аполлона с Марсием. В центре судья с ножом в руке, которым с побежденного сатира Марсия в наказание будет содрана кожа. Рельеф на фундаменте в Мантинее (Аркадия), 400 г. до Р. Х. Национальный музей, Афины.
Менада[108] с тимпаном[109] в сопровождении сатира, играющего на авлосе[110], а также сатир со шкурой пантеры и тирсом[111]. Новоаттический рельеф, примерно 100 г. до Р. Х. Национальный музей, Неаполь.
Мифический музыкант Орфей играет на лире перед фракийцами. Изображение на греческой вазе, примерно 440 г. до Р. Х. Антиквариум, Берлин.
Игра и танец в знаке планеты Венера. Рисунок пером в «Средневековой домовой книге», примерно 1475 г. Замок Вольфегг, Вюртемберг.
Гвидо д'Ареццо (примерно 990–1050), автор системы сольмизации, дает на монохорде урок пения своему ученику Теодалю. Миниатюра (ХII в.) из древней рукописи № 51. Национальная библиотека, Вена.
Изображение движения звуков в рукописи монаха-бенедиктинца Гвидо д'Ареццо (примерно 990–1050). Национальная библиотека, Вена.
Аллегорическое изображение трех видов средневековой музыки: musica mundana (вверху), musica humana (посередине), musica instrumentalis (внизу). Иллюстрации из Флорентийской рукописи, примерно 1300 г. Лауренцианская библиотека, Флоренция.
Тарантелла. Два музыканта играют мелодию этого танца, который считался единственным целебным средством от болезней, якобы вызванных укусом тарантула. Гравюра на меди из трактата Корнелиуса Стальпарта ван дер Виля (1620–1702) «Observations rares de mеdecine, d'analomie et de chirurgie». Париж, 1758.
Tarantella, музыкальное произведение, предназначенное для излечения больных, якобы укушенных тарантулом. Тарантизм еще и сегодня известен в Апулии. Гравюра на меди из произведения Самуэля Хафенреффера (1587–1660).
«Монохорд мира» Роберта де Флуктибуса из его труда «Metaphysica, physica atque technica… Historia», 1619, Линц.
Пристрастие к разноцветным орнаментам, которые из центральной точки, основного тона, расходятся во все стороны. Нотные знаки как символы звуков поднимаются ввысь и «умолкают», растворяясь в кругах. Картина позволяет выявить чувство симметрии и композиции. (Тринадцатилетняя пятиклассница.)
Пятиклассник, отнесенный к эмоциональному типу, изображает сердце как символ ощущения. Темные лучи, вырывающиеся изнутри, делят всю поверхность на разноцветные секторы.
В изображении музыкального этюда, передающего движение, три цветных голоса представлены в параллельном и встречном движении. После многократного переплетения они завершаются, так сказать, зеркальной инверсией цвета. Характерно, что «объемный» черный цвет символизирует низкий голос.
Переплетение разноцветных линий, которые, будучи символами мелодии, перекрещиваются на пестром фоне гармоний звуков, возможно, свидетельствует о пока еще неосознанном чувстве полифонии. При таком пространственном понимании музыки особое внимание уделяется перекрывающим друг друга голосам. (Рисунок тринадцатилетнего пятиклассника.)
Примечания
1
«Musurgia Universalis» (1650) – «Универсальная музургия, или Великое искусство созвучий и диссонансов».
(обратно)2
См. список литературы в оригинальном издании Fritz Stege «Musik. Magie. Mystik». – St. Goar (Deutschland): Изд-во «Der Leuchter. Otto Reichl Verlag», 1964/2010. Также с ним можно ознакомиться на сайте издательства: -verlag.de.
(обратно)3
Курзал Висбадена – центр проведения национальных и международных конгрессов, конференций, выставок и культурных мероприятий, центр висбаденской курортной жизни.
(обратно)4
Хорал – здесь: религиозное многоголосое песнопение.
(обратно)5
Коло́к – деревянный или металлический стерженек для натяжения при настройке струн музыкальных инструментов.
(обратно)6
Ср. с этим «Монохорд мира» Роберта Фладда (см. иллюстрацию на вклейке). (Монохорд – общее название однострунных музыкальных инструментов.)
(обратно)7
Список литературы см. в оригинальном издании Stege F. Musik, Magie, Mystik. – Remagen: St. Goar: Der Leuchter, Otto Reichl Verlag, 1961. – 323 p.
(обратно)8
Суфи – люди, предпочитающие Бога всему. А в ответ Бог предпочитает их всем. (Саррадж)
(обратно)9
Прима – здесь: первый или основной звук гаммы, а также основной звук трезвучия.
(обратно)10
Рецептивно – здесь: пассивно.
(обратно)11
Систола – сокращение предсердий и желудочков сердца, при котором кровь нагнетается в артерии. Диастола – расслабление отделов сердца, наступающее после систолы.
(обратно)12
Полиритмия – использование в музыкальном произведении нескольких ритмов одновременно.
(обратно)13
Таттва – в индуистской метафизике – изначальная субстанция, первоэлемент.
(обратно)14
Собр. соч. под ред. Гризебаха, т. II.
(обратно)15
Первое обстоятельное практическое введение в теорию музыки содержится в двух томах работы Анни фон Ланге «Человек, музыка и космос» (Фрейбург: Брейсгау: Изд-во «Новалис», 1956). Оно ведет к переориентации музыкального слуха, звуков и их констелляций (взаимного расположения и взаимодействия) с космических позиций на антропософской основе. Этот богатый мыслями, столь же содержательный, как и интересный, труд следует рекомендовать в качестве практического дополнения к моим научным изысканиям.
(обратно)16
Фермата – знак в нотном письме, обозначающий продление ноты или паузы.
(обратно)17
Синкопа – здесь: смещение ритмической опоры (акцента) с сильной доли такта на слабую.
(обратно)18
Ключ – здесь: знак, указывающий местоположение ноты (т. е. высотной позиции) на нотном стане. Относительно этой, ключевой, ноты рассчитываются все остальные ноты.
(обратно)19
Каденция – здесь: 1) гармонический или мелодический оборот, завершающий музыкальное построение; 2) виртуозное исполнительское соло.
(обратно)20
Модуляция – важнейшая категория гармонии (звуковысотной структуры), переход из одной тональности в другую.
(обратно)21
Цезура – здесь: пауза в музыкальной мелодии.
(обратно)22
Гармония – здесь: объединение звуков в созвучие и их закономерное последование.
(обратно)23
Тремоло – многократное быстрое повторение одного звука или последования из нескольких звуков.
(обратно)24
Sic – так, именно таким образом (употребляется после того слова, которое автор желает особенно подчеркнуть).
(обратно)25
Кимвры (лат. Cimbri) – древнегерманское племя, знаменитое своим упорством и мужеством в борьбе с римлянами за свою свободу.
(обратно)26
Темперированный – с точно установленной высотой и количеством тонов.
(обратно)27
Алебастр – здесь: минерал кальцит.
(обратно)28
Кантор – здесь: 1) певчий в католической церкви; или 2) учитель музыки, дирижер хора, композитор в протестантской церкви.
(обратно)29
Спрингданс – один из старинных норвежских танцев, получивший свое название за особый стиль исполнения – вприпрыжку.
(обратно)30
Капитель – верхняя выразительная часть колонны или пилястры (вертикального выступа стены, условно изображающего колонну), художественно оформленная.
(обратно)31
Proportion – 1) пропорция; количественное соотношение; 2) доля, часть; 3) правильное соотношение, правильная соразмерность, пропорциональность; гармония; 4) размер; объем; величина.
(обратно)32
Т.е. ключ «до», произошел от латинской буквы С, обозначающей ноту до.
(обратно)33
Рюбецаль – в германской мифологии горный дух, олицетворение горной непогоды. Являлся людям в образе серого монаха, хорошим помогал, плохих сбивал с пути, заманивал в пропасть.
(обратно)34
Плектр – приспособление для извлечения звуков на некоторых струнных щипковых музыкальных инструментах.
(обратно)35
Хроматический – состоящий из последовательного ряда полутонов.
(обратно)36
Диатоника – переход через один тон (лад или строй) в другой, из твердого в мягкий лад и пр.
(обратно)37
Транспонировать – здесь: перелагать музыкальное сочинение из одной тональности в другую.
(обратно)38
Норны – в германо-скандинавской мифологии три волшебницы, наделенные чудесным даром определять судьбы мира, людей и даже богов.
«Ниточку шероховатого шелка пряла ива, тонкую, как волос, пряла семь лет…»
(обратно)39
«Вишня потеряла свою листву, кто о ней позаботится…»
(обратно)40
Рефрен – здесь: тема инструментального или вокального произведения, проходящая не менее трех раз и композиционно его скрепляющая.
(обратно)41
Аllа breve (алла бреве) – обозначение тактового размера, быстрое исполнение двудольных метров, в которых при этом счет ведется не четвертями, а половинными нотами.
(обратно)42
См. иллюстрации на вклейке.
(обратно)43
Мели́зм – мелодическое украшение звука, не меняющее темпа и ритмического рисунка мелодии.
(обратно)44
Альтерация – повышение или понижение тона на полтона или тон в пределах какой-нибудь тональности. Знаки альтерации – бемоль, бекар и диез.
(обратно)45
Окуляр – элемент оптической системы, обращенная к глазу наблюдателя часть оптического прибора.
(обратно)46
В оригинале: «Coelum perpetuo concentu suorum motuum reddit harmoniam suavissimam: quae si posset ad aures nostras pervenire, in nobis excitaret impotentes amores et insanum deslderium» (Philo: Liber de somniis).
(обратно)47
См. об этом подробнее в четвертой части «Спиритическая музыка».
(обратно)48
Цит. по: Robert Fludd «Schutzschrift fr die Aeditheit der Rosenkreuzer-Gesellschaft» (Лейпциг, 1782).
(обратно)49
О «магии» эоловой арфы см. третью часть «Магическая музыка».
(обратно)50
Собр. соч. К.M. фон Вебера, изд. Георгом Кайзером в 1908 г., с. 425.
(обратно)51
Ср. с этим известную балладу «Игрок со смертью» Бёрриса фон Мюнхгаузена!
(обратно)52
Экзотерический – общедоступный, предназначенный для непосвященных; антоним – эзотерический.
(обратно)53
Халдеи – семитский народ, обитавший в области устьев рек Тигра и Евфрата. В Древней Греции и Древнем Риме халдеями называли жрецов и гадателей вавилонского происхождения.
(обратно)54
Гекзаметр – размер в стихосложении.
(обратно)55
Concentus – согласие, единодушие, единство, гармония.
(обратно)56
Коррелят – соотносительное понятие, содержание которого становится ясным при сопоставлении с другими понятиями.
(обратно)57
Epiphania – здесь: Богоявление.
(обратно)58
Dupla – двойной.
(обратно)59
Септима – здесь: седьмая ступень в диатонической гамме.
(обратно)60
Разносторонние разъяснения символики отдельного звука и звуковых интервалов на космической основе предлагает Анни фон Ланге [23].
(обратно)61
Написанных сафическим стихотворным размером (изобретен греческой поэтессой Сафо, жившей в VI в. до Р. Х.).
(обратно)62
Сильфы – в средневековой европейской мифологии, у алхимиков – добрые духи воздуха.
(обратно)63
Фация – комплекс горных пород, образующихся в строго определенных физико-географических условиях.
(обратно)64
Конъюнкция – в алхимии: химические комбинации, рождение нового элемента.
(обратно)65
Все известные мне музыкально-астрологические умозрительные рассуждения значительно превосходит компетентный анализ внутренних отношений между миром звуков и миром звезд Анни фон Ланге в ее двухтомнике «Человек, музыка и космос» [23].
(обратно)66
Если источники не указаны, то размышления, посвященные музыке романтизма, представлены по работам под номерами 6 и 61.
(обратно)67
Додекакофония – один из видов современной музыкальной техники, разработанный представителями «нововенской школы» (А. Шёнберг, А. Веберн, А. Берг) в начале 1920-х гг.
(обратно)68
Карл Гребе рассказывает о посещении электронной студии Западногерманского радио («Час чтения»: Дармштадт. Вып. 36, № 3) и приводит следующее интересное наблюдение: «Крутится магнитофонная пленка. Слышен звук сочного тембра, который внезапно развертывается в спектр его обертонов. Обертоны – вплоть до них обычно простирается акустическое знание музыканта, вплоть до предчувствия, что эти частные звуки с их неизменными пропорциями являются отображением космического порядка, частью той гармонии мира, которой Кеплер посвятил свой главный труд».
(обратно)69
«Посреди жизни мы охвачены смертью».
(обратно)70
Межа – здесь: граница между полями.
(обратно)71
Конвент – здесь: место, где собираются монахини.
(обратно)72
Секвенция – здесь: вид церковной поэзии, близко родственный гимнам.
(обратно)73
Anno domini – год века Христова, т. е. нашей эры.
(обратно)74
Фабула данного рассказа соответствует историческим фактам. Странное превращение церковной мелодии «Media vita in morte sumus» в «песню проклятия» исследовали Генрих Гофман [93] и В. Боймкер [94] в монографиях, посвященных истории церковного хорала. Более подробно о «магических» песнях см. в следующей части.
(обратно)75
Демпфер – механическое приспособление, применяемое в многострунных музыкальных инструментах для прекращения колебания струн.
(обратно)76
Ритурнель – здесь: инструментальное вступление, интермедия или завершающий раздел вокального произведения.
(обратно)77
Гаптический – принадлежащий чувству осязания, относящийся к чувству осязания.
(обратно)78
Эйдетизм – разновидность образной памяти, способность сохранять яркие образы предметов долгое время спустя после исчезновения их из поля зрения.
(обратно)79
Цитра – струнный щипковый музыкальный инструмент, родственный арфе и очень похожий на русские гусли.
(обратно)80
Интрацеребральный – локализующийся внутри большого мозга.
(обратно)81
Пролет – здесь: расстояние между соседними опорами горизонтальных конструктивных элементов.
(обратно)82
Мотет – жанр многоголосной вокальной музыки.
(обратно)83
Святая матерь из Брюккенвега, помоги мне, помоги в эту годину! Бог на небесах, услышь мою мольбу, избавь меня скорее от мучений и боли. Мальчика дай мне родить. Пусть достигнет Тебя мой призыв! Святая матерь из Брюккенвега, помоги мне, помоги в эту годину!
(обратно)84
Трувер – средневековый уличный поэт-певец в Северной Франции, песни которого были близки к народному фольклору, в отличие от провансальского трубадура, чье искусство было более возвышенным, изящным и разнообразным.
(обратно)85
Флагелланты – религиозное братство, выступавшее против социального и духовного гнета феодалов и католической церкви. Флагелланты ходили из города в город, возвещая о конце света и подвергая себя самобичеванию в знак покаяния, якобы дающего искупление грехов.
(обратно)86
Современная американская музыкальная терапия специально занимается пробуждением представлений посредством музыки. «Известно, что ассоциации восстанавливают связи с тем миром, который покинул психотический больной», – писал доктор Ганс А. Иллинг, Лос-Анджелес [154, с. 29]. Более подробно о музыкальной терапии см. ниже.
(обратно)87
Патетический – страстный, приводящий в волнение, полный чувств.
(обратно)88
«Литургия Митры» – часть Большого Парижского магического кодекса, включает в себя описание семи ступеней экстатического (от слова «экстаз») восхождения души.
(обратно)89
Валгалла – в германо-скандинавской мифологии «чертог убитых» – находящийся на небе замок, принадлежащий Одину, жилище павших в бою храбрых воинов, которые там пируют вечно.
(обратно)90
Фриз – здесь: верхняя часть сооружения в виде полосы между главной балкой и карнизом, обычно украшенная рисунком.
(обратно)91
Маны – в римской религии первоначально божества загробного мира, впоследствии – души умерших, охраняющие род.
(обратно)92
Дактилы – древние фригийские демоны, которым приписывалось открытие и первая обработка железа.
(обратно)93
Куреты – божества растительных сил земли.
(обратно)94
Доктор Керстен умер за год до написания этой книги. Доктор Ко вернулся в Китай. Поэтому, к сожалению, у меня не было возможности получить более детальные сведения об интересной тибетской терапии с помощью звуков.
(обратно)95
О времена, о нравы… (лат.)
(обратно)96
Pars pro toto (лат.) – часть вместо целого, или «достаточно капли, чтобы можно было судить о свойствах океана».
(обратно)97
Рассказ в вольном изложении по фактам, пережитым и описанным лондонским фотографом Ивонной Томас. Опубликован под названием «Ghostly Melody» в лондонском журнале «Prediction» («Предсказание») в декабре 1959 г. («The Bazar»: Exchange & Mrt, Ltd. 24 Store Street, London W.C. 1).
(обратно)98
Магнификат (от первого слова латинского текста «Magnificat anima mea Dominum» – «Величит душа моя Господа») – церковное песнопение на текст из Евангелия (эпизод Благовещения).
(обратно)99
Конвент – здесь: собрание монахинь.
(обратно)100
Идиосинкразия – болезненная реакция, возникающая у отдельных людей на раздражители, которые у большинства других не вызывают подобных явлений.
(обратно)101
Позвольте мне здесь поведать о моем личном переживании, за объективную истинность которого я ручаюсь. Речь идет о важном указании, которое я получил от «другой стороны» при написании своей диссертации. Я работал над биографией дрезденского композитора Константина Христиана Дедекинда (1628–1715). Он имел обыкновение на обложке своих книг позади имени наносить загадочные буквы KСM и ПРИ. Я тщетно пытался с помощью расспросов и архивных исследований раскрыть эту тайну. Обескураживающей оказалась и более поздняя сделанная им от руки запись в одной из его книг в Дрезденской библиотеке: «Наверное, никогда не удастся прояснить загадку этих букв». В то время я вместе со своим другом «исключительно развлечения ради» экспериментировал со скриптоскопом (столом для спиритических сеансов). На стеклянной плите, накрывающей алфавит, находится картонная коробка со стрелкой, которая якобы «сама по себе» скользит над диском от одной буквы к другой, если на нее положить пальцы. Однажды вечером дал знать о себе лично мой Дедекинд. Разумеется – а как могло быть иначе, если мои мысли вызвали бессознательный волевой импульс, приведший в движение стрелку?! Все еще веселясь, я задал вопрос: «Что означают буквы КСМ и ПРИ?» Картонка тут же скользнула по доске и составила из букв слова: «курфюрстский саксонский музыкант» и «поэт Римской империи». Первое объяснение было понятным, поскольку Дедекинд состоял на службе у курфюрста Саксонии. Но звание поэта мне показалось все же несколько неправдоподобным. Тем не менее я пошел по следу. Я занялся литературными течениями XVII в., натолкнулся на многочисленные в то время ордена поэтов, установил, что Дедекинд принадлежал к дрезденскому Эльб-шванскому ордену и – не поверил своим глазам, когда прочитал, что члены этого ордена имели право называть себя поэтами Римской империи! Ведь у меня в руках было научное доказательство правильности полученного мною «оккультного» сообщения! Я использовал его в своей диссертации (выдержка из нее – в «Журнале музыковедения», 8 вып.). «Естественное» объяснение, пожалуй, едва ли можно найти. Напрашивающиеся факторы, как-то: телепатия и потоки бессознательного – надо полностью исключить. Ведь не подлежит никакому сомнению, что об истолковании букв ни одному человеку из моего окружения известно не было. А мой друг, с которым я экспериментировал, музыковедением вообще не интересовался.
(обратно)102
Tageblatt (нем.) – ежедневная газета.
(обратно)103
Самые очаровательные, самые сладкие и обворожительные создания.
(обратно)104
Сераль – дворец турецкого султана и, в частности, та его часть, в которой живут женщины.
(обратно)105
Историзм – принцип научного мышления, рассматривающий все явления как развивающиеся на основе определенных объективных закономерностей.
(обратно)106
Мелос – напев, мелодия.
(обратно)107
«Во всем значительном, что мы делаем, вместе с нами говорят предки столетий и тысячелетий. И это тайное или явное совместное говорение придает нашей жизни и нашим творениям их глубину и широту. Древнейшие мифы и обычаи разных народов содержат знание, что при каждых родах присутствуют древние и древнейшие предки. И чем больше собственной полноты жизни пробивается на свет дня при родах, тем больше наплыв и количество предков. Творения Духа – тоже роды… Каждая отдельная жизнь, какой бы новой и самобытной она ни была, возникает из бесконечного жизненного потока, начало которого скрывается в тайне происхождения всей жизни. Вместе с тем и в духовном царстве формирования и созидания существует такой жизненный поток, из которого проистекают все обновления. Здесь тоже непременными соучастниками являются предки – со всем тем, чем они были и что узнали» (профессор Вальтер Ф. Отто: «Форма и бытие» [155, с. 148]).
(обратно)108
Менады (вакханки) – спутницы Диониса (Вакха).
(обратно)109
Тимпан – древний ударный музыкальный инструмент в виде широкого барабана, обтянутого с обеих сторон кожей.
(обратно)110
Авлос – древний музыкальный духовой инструмент с двойной тростью, типа флейты.
(обратно)111
Тирс – посох, обвитый лозой, плющом или лентами и увенчанный сосновой шишкой, жезл Диониса и его спутников.
(обратно)



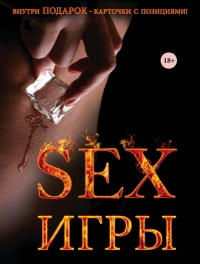




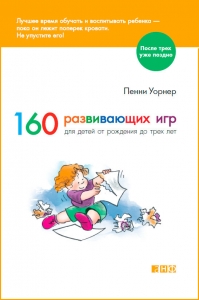


Комментарии к книге «Музыка, магия, мистика», Фриц Штеге
Всего 0 комментариев