Вопросы к немецкой памяти. Предисловие к русскому изданию
В этой книге впервые собраны статьи по устной истории, написанные и опубликованные мною двадцать, а некоторые и тридцать лет назад в рамках нескольких крупных исследовательских проектов по новейшей истории Западной и Восточной Германии. В те годы устная история только зарождалась как самостоятельная дисциплина, и мы с моими коллегами ощущали себя пионерами в этой области. Нашу новую исследовательскую задачу мы видели в том, чтобы, во-первых, приблизиться к живому свидетелю и участнику недавних исторических событий, не утратив при этом необходимой для ученого критической дистанции. Во-вторых, опрашивая очевидцев, мы надеялись получить совершенно новый тип исторических источников, которые нельзя найти в архивах. Таким образом, обращаясь непосредственно к субъекту исторического процесса, мы стремились расширить границы традиционной исторической науки и придать ей новый демократический импульс.
Эти статьи показывают, как с помощью методов устной истории основанная на вытеснении и забвении коллективная память может быть разрушена или поставлена под сомнение, стоит только обратиться к индивидуальным воспоминаниям очевидцев. В этом отношении Германия представляет особый интерес для исследователя, так как, с одной стороны, всех немцев объединяют тяжкие воспоминания о войне и фашизме, с другой – послевоенный опыт у них совершенно различный. Но это не означает, что восточные и западные немцы после войны начали свою жизнь с нуля. Наоборот, устная история с ее индивидуальным подходом к биографии позволяет понять, как то, что люди пережили в нацистской Германии, определяло их дальнейшие жизни и судьбы в двух государствах с совершенно разными общественными системами.
Я очень рад, что этот сборник выйдет в России, и не только потому, что всякому автору лестно, когда его книги переводят на иностранные языки, но и потому, что это еще одна возможность поделиться своим опытом с коллегами-историками. За последние двадцать лет я много раз бывал в России и других постсоветских странах, и у меня сложилось впечатление, что мы в этом не слишком преуспели, хотя историкам необходимо обмениваться не только собственным исследовательским опытом, но и практическими методами анализа (а также сбора и фиксации) используемых источников.
Русское издание этой книги так важно для меня еще по одной причине. Дело в том, что исторические судьбы России и Германии во многом схожи: обе страны пережили национальную катастрофу, в обеих были совершены преступления против человечности. Однако я глубоко убежден, что попытка моего и последующих поколений разобраться в этих преступлениях и заставить общество говорить о них не стала для нас, немцев, чем-то деморализующим и разрушительным, а наоборот, благодаря этому мы, с одной стороны, стали более сильными и уверенными в себе, а с другой – получили важный урок смирения и сострадания и стали относиться к себе более трезво.
Наконец, всякий раз, когда я пересекаю некогда непроницаемые границы Германии и Европы, я испытываю глубокое волнение, так как до сих пор не могу поверить, что это возможно. Причем чувство это я испытываю не только в силу своих профессиональных занятий, но и просто по-человечески, поскольку, несмотря на закрытые границы, мне удалось найти за железным занавесом близких друзей и единомышленников. Это Агнес Хеллер из Будапешта, Ирина Щербакова из московского «Мемориала», София Войцицка из польского исторического общества «Карта».
1 Вопросы – ответы – вопросы. Методология устной истории: практический опыт и теоретические размышления
Мой собеседник – старый жестянщик; он родился в 1900 году в рабочей семье, придерживавшейся строгих католических нравов; с 1919 года он работает по металлу; в 1950-х годах стал профсоюзным деятелем; с 1928 года, а потом снова после выхода на пенсию в конце 1960-х был членом коммунистической партии; всю свою жизнь проработал на небольших предприятиях металлургической промышленности – на последнем месте 32 года. Во время интервью ему был задан вопрос, верил ли он во время «блицкригов» в окончательную победу Германии. Отвечая, он вспоминает речь Гитлера, в которой тот объявил о нападении на Польшу, и рассказывает:
...
У меня там был один коллега – он был в СА, но у нас хорошие отношения были, – он прекрасно знал, что я держался свободных взглядов. И тут мы услыхали про войну. Его теперь тоже уже нет в живых – погиб от несчастного случая, с крыши сорвался. И вот услыхали мы, что война. «Да, – говорю, – Юпп, – Йозефом его звали, а мы так Юппом, сокращают тут так, – да, Юпп, эта война уже проиграна», – сказал я этому человеку из СА. А он мне: «Да ты что, как ты можешь такое говорить?!» «А вот, Юпп, – сказал я, – мы с тобой потом про это поговорим». Не то чтоб он мне что-то сделал или там что, – нет, этого не было. Он меня знал, что я хороший товарищ и все такое и что я всегда всем помогал и так далее. Ну вот, а после войны я его спросил – его еще призвали, он в армии был [в то время как наш собеседник призыву не подлежал как незаменимый работник]. После войны вернулся. Я говорю ему: «Ну, Юпп, что я тебе говорил 1 сентября 1939 года?» А он отвечает: «Проклятье, ты был прав!» – «Да, – я сказал, – немцы еще ни одной войны не выиграли. Даже в 70–71-м и то не они выиграли: они получили только пять миллионов или миллиардов – что там было? – в казну, – говорю, – а выиграли тогда войну англичане. Нет, мы, немцы, еще ни одной войны не выиграли, – говорю я ему. – Мы и в 1806-м войны – Наполеон-то – и Фридрих Великий, – говорю, – тоже не много войн выиграл: Семилетняя война – это же были не выигранные войны, – говорю, – это ж все поражения были». Так я ему все это рассказал, исторически {1} [1] .
Метод массового опроса не всегда ведет к исторической истине. Бывает, что сведения, которые дают респонденты, оказываются неверными, если сличить их с источниками, имеющими более непосредственное отношение к обсуждаемым темам. Поэтому приходится отбирать – о чем стоит спрашивать, а о чем нет. Но часто исследователь получает ответы на вопросы, которых он и не задавал вовсе. Более того, эти ответы порождают новые вопросы. Историкам не нужно заниматься устной историей, если для ответов на возникающие у них вопросы есть другие подходящие источники: ни одному здравомыслящему историку не придет в голову проводить интервью, чтобы пролить новый свет на вопрос о том, сколько войн Германия выиграла и сколько проиграла. Ценность приведенной выше цитаты – совсем в другом.
Прежде всего, она демонстрирует насущную потребность в историческом обосновании политических прогнозов и суждений; и не важно, что в данном случае верное суждение было подкреплено неверными историческими аргументами. Она дает нам возможность восстановить по палимпсесту памяти старого человека испорченный текст (гласящий, что все войны сильных мира сего означают поражения для народа) и задаться вопросом, почему такое содержание (будь то в разговоре двух коллег в 1945 году или в воспоминании 80-летнего старика о том, что он сказал полжизни назад) было заключено в аргументации, использующей национальные понятия: «Мы, немцы, никогда не побеждаем»? Что перед нами: голос неоднократно побежденного и тем не менее лишь поверхностно усвоившего уроки поражений народа? Или коммуникативная прагматика человека левых взглядов, столкнувшегося с военным оптимизмом окружающих? Или перед нами свидетельство раздражения, которое испытывает немецкий коммунист, узнав о пакте Гитлера со Сталиным или наблюдая военную экспансию и укрепление русской гегемонии взамен революции в социалистическом лагере? Ответ, разумеется, невозможно дать на основе лишь этого одного пассажа, но к нему можно было бы приблизиться, если сравнить множество интерпретаций, данных разными респондентами на одни и те же темы.
Кроме того, данная цитата могла бы стать подходящей источниковой базой для того, чтобы показать, что принадлежность к политическим лагерям (здесь это – коммунистическая традиция «свободных взглядов» и фашистская гвардия фюрера) могла оказаться менее важна, чем принадлежность к одной социальной среде и товарищество между коллегами: и в годы национал-социализма, и потом старый левак и старый нацист прежде всего были добрыми приятелями, коллегами по работе. Уже один тот факт, что это свидетельство вообще дошло до нас (а также тот факт, что члену СА приходится идти на фронт, в то время как наш собеседник-коммунист остается на предприятии) указывает на то, что социальные культуры могут оказываться сильнее политических лояльностей и возможностей власти. Это помогает понять дополитические пространства и отношения (такие, например, на которые указывала в период денацификации формулировка «нацист, оставшийся порядочным») как один из залогов общественной интеграции в послевоенные годы.
И наконец, эта цитата помогает опровергнуть распространенный исторический предрассудок, согласно которому до начала войны или до Сталинградской битвы никто в Германии не давал правильного прогноза и что нацистский террор заткнул рот абсолютно всем тем, кто еще в годы Веймарской республики предупреждал, что «Гитлер – это война». Очевидно, что этот двоякий предрассудок облегчал совесть многим людям, которые поддерживали фашистский режим в период его экспансии. На самом же деле сохранялись остатки оппозиционного общественного мнения – например, в закоулках товарищеских отношений внутри трудовых коллективов на предприятиях, – и там понимали не только что Гитлер – это война, но и что война эта будет проиграна. При таком взгляде на массовую поддержку национал-социалистической системы отметаются дешевые, лишь внешне соответствующие здравому смыслу ошибочные версии и освобождается пространство для более глубоких вопросов.
Критически настроенный читатель справедливо возразит, что я преувеличиваю значение одного-единственного невнятного высказывания, состоящего всего из нескольких фраз. Такая интерпретация его возможна только на фоне множества бесед, когда отдельные замечания и находки (или латентные смысловые связи между индивидуальной и публичной памятью) складываются в более регулярный и надежный опыт исследователя. Оснований для этого на данный момент уже несколько. Устная история в последнее десятилетие активно развивалась в разных странах, и ее практика породила методологическое сознание, которое становится все более критичным {2}. В настоящей статье {3} я попытался обобщить несколько выводов из работы с интервью-воспоминаниями, которую я сам проводил в рамках проекта «Биография и социальная культура в Рурской области, 1930–1960» (LUSIR) {4}.
Когда при завершении проекта исследователь снова задумывается о возможностях использованного в нем метода, мотивированы эти раздумья бывают не в последнюю очередь теми трудностями и кризисами, с которыми он столкнулся. Во введении к первому тому публикации нашего проекта я коротко рассказал об изменениях, которые он претерпевал по ходу реализации, о наших практических шагах и о трудностях, с которыми столкнулась наша рабочая группа, в частности, о том, как трудно было переработать опыт интервью, заставлявший нас перейти к более открытым постановкам вопросов, и как трудно было найти научный угол зрения при анализе собранного материала {5}. Из этого комплекса тем я хотел бы здесь снова выделить два важнейших аспекта, поскольку они проливают свет на происхождение нижеследующих рассуждений о критике интервью-воспоминания и о вмешательстве памяти в историческое исследование.
Первое: тому, кто занимается устной историей, отправляясь от такой научной традиции, которая стремится одновременно к критичному отношению к обществу и к солидарности с человеческой субъективностью, приходится считаться с тем, что его ждут кризисы самопонимания. Мы вначале слишком мало об этом думали, затем пытались избежать таких кризисов, потом нас настигли рабочие и коммуникативные трудности, и мы лишь постепенно, в ходе дискуссий, прагматических разграничений нашей работы, а по-настоящему, может быть, и вовсе только после ее завершения, заметили, что этот кризис в определенном смысле был в порядке вещей.
Ведь фантазии и проекции, заключенные в абстрактных интенциях, таких как критичность и солидарность, в ходе интерактивного процесса создания биографического интервью со всей его специфичностью и сложностью, разбиваются об исторические взаимосвязи, и тогда от исследователя требуется некоторая доля самовосприятия, в качестве средств защиты от которого удобно прибегать к академизму (дистанцирование от объекта) или популизму (документирование реальной жизни). Эти соблазны сильны, ведь то, что рушится – это и добрая доля собственных изначальных познавательных интересов и мотиваций самого исследователя {6}. Ниже я собираюсь с помощью более подробного описания специфических рабочих операций устной истории способствовать тому, чтобы избегать таких ложных альтернатив и вместо этого отнестись к самовосприятию исследователя как к критичному познавательному инструменту и как к шансу покинуть башню из слоновой кости, не впав при этом в ложные идентификации.
Второе: устная история – не просто «другая история», она в определенных областях позволяет добиваться пускай ограниченного, но важного прогресса исторического познания и коммуникации. Но рассматривать устную историю лишь как технику получения данных означало бы недооценивать ее, потому что вызов, который она бросает истории, содержит в себе и принципиальные элементы. Эта дифференциация стала мне понятна тоже благодаря опыту работы над нашим проектом, и поэтому я хотел бы вкратце охарактеризовать ее на примере различных подходов, примененных в разных статьях.
Биография – история жизни
С одной стороны, биографический подход показал свою плодотворность прежде всего при изучении рабочих элит: откуда родом были члены производственных советов на предприятиях горнорудной промышленности (это в Рурской области важнейший слой-посредник между рабочими и промышленной и политической системой)? Какой предшествующий жизненный и политический опыт стал решающим в формировании облика разных поколений и группировок этой элиты? С другой стороны, наши интервью привели нас к тому, чтобы применять этот подход не только ретроспективно, но и проспективно: что произошло с представителями тех или иных политических лагерей рабочего движения веймарского периода в последующие годы? Что стало в послевоенные годы с вожатыми гитлерюгенда и Союза немецких девушек, рекрутировавшимися из рабочих семей?
Повседневность
Реконструкция повседневной жизни в нашем проекте – в отличие от множества прежних исследований по народоведению – была нацелена не столько на описание устойчивых, долговременных структур в социальной среде, еще, так сказать, не превратившейся в общество, сколько на выяснение того, как, справляясь с повседневными обстоятельствами жизни и труда, люди реагировали на зависимость этих обстоятельств от их среды, от социальных и политических изменений, от общих условий войны и послевоенного времени. Жизненные миры рабочего населения индустриального Рурского бассейна в ХХ столетии не вписываются в дихотомию «автономия – колонизация»; они образуются всегда в условиях сформировавшегося общества в постоянном противоборстве автономии и гетерономии (например, когда и какой тип автономии существовал у домохозяек в шахтерских поселках?). Имея это в виду, мы прослеживали на протяжении длительного периода времени ритмы и тенденции перемен в повседневной жизни для отдельных исследуемых групп (например, работа по дому в шахтерском поселке, опыт труда и социальных отношений на предприятии крупной промышленности, соседские отношения). В других случаях рассказы и сведения из интервью годились для «плотного описания» социальных отношений в ближнем окружении человека, его приватном мире, и его субъективного восприятия общих изменений в короткий период времени: такое мы пробовали сделать применительно к профессиональной и общественной инициации молодежи в Третьем рейхе, к обращению с иностранными подневольными рабочими во время войны, к индивидуальным и коллективным стратегиям выживания в период «черного рынка» и к профессиональной трудовой деятельности женщин в 1950-х годах.
Смена перспективы
Третий подход заключался в том, чтобы дать проявиться потенциалу сопротивляемости интервью по отношению к упрощающим обобщениям, например, представлениям о сплошной политизированности и политической раздробленности рабочей среды в Веймарской республике, или об «опустившихся руках» у рабочих-металлистов в 1950-е годы, или о якобы совершенно разном опыте у «изгнанных» [2] и «оседлых» немцев, или о возможности выхода на социалистический путь в первые послевоенные годы. Среди таких упрощающих обобщений были не в последнюю очередь и наши собственные, возникшие из-за того, что перспектива исследователя была далека от перспективы изучаемых субъектов, или из-за того, что мы не учитывали региональных особенностей. В рассказах наших собеседников описывались сложные ситуации, которые, например, показывали, что в рабочей среде существовали и другие важные общие черты и конфликты помимо различных политических ориентаций. В этой сложности материала мы видели – в том числе и в тех случаях, когда для нас из нее еще не вытекал содержательный контртезис, – важный критический потенциал, расширяющий историческое восприятие и противодействующий реификации редукционистских понятий.
История жизненного опыта
В силу нашего исследовательского интереса к предшествующему жизненному опыту респондентов, который обеспечил возможность последующей интеграции этих людей в социал-демократическое движение, мы обращали внимание на такие аспекты, которые можно отнести к «истории жизненного опыта». В ретроспективном интервью, правда, эта история раскрывается с трудом, потому что те толкования, которые выдвигают респонденты, в большинстве случаев отражают то, что они знают сегодня, и невозможно полагаться на их нынешние воспоминания о том, что было им ценно в прошлом. Но во время анализа текста мы обратили внимание на то, что многие важные моменты из пережитого ими люди вспоминают как бы без истолкования, в «сыром» виде. Вместе с тем в воспоминаниях существуют латентные интерпретативные паттерны, ценностные импликации которых противоречат той позиции, которую в остальном занимает индивид: они относятся еще к прежним, частично преодоленным, но частично сохраняющим свое действие структурам. Подобные паттерны можно, по крайней мере иногда, связать с определенными контекстами былого жизненного и социального опыта. Поэтому интервью-воспоминания продуцируют такой материал, который позволяет продемонстрировать различные слои индивидуального и общественного опыта и возможности его переработки. Это мы исследовали на примерах трудового опыта 1930-х годов, различных сфер военного опыта, опыта повседневной жизни оккупационного периода, а также сохранивших свою действенность элементов национал-социалистического формирования юношеской личности.
Эти разнообразные аспекты, которые проявляются с помощью интервью-воспоминаний, могут взаимно поддерживать друг друга. При попытках реконструировать изменения повседневного жизненного мира часто тоже констатируются перемены в плане истории опыта; и наоборот, интерпретации с позиции истории опыта возможны только тогда, когда наши истолкования в точности совпадают с данными исследований по истории повседневной жизни. В таких подходах, как биографический метод и критика идеологии, присутствует та же многосложность, что и в истории повседневности, и тот же элемент вторжения в наши социокультурные зоны «само собой разумеющегося», т. е. вопросы истории жизненного опыта. В целом связующий элемент между отдельными аспектами исследования заключается в том, что в силу самого факта социокультурного контакта и в силу ассоциативного характера интервью-воспоминания респонденты оказывают влияние на познавательный интерес историков, причем в большей мере и с большей неизбежностью, чем это делают другие «источники». Они разбивают барьеры, изначально ограничивавшие этот интерес и задававшие ему направление, и вторгаются в процесс, властно беря на себя долю участия в постановке и перепостановке проблем: ответы порождают вопросы.
О критике интервью-воспоминания
Как можно точно определить исследовательский инструмент устной истории, т. е. производство исторической информации посредством бесед о воспоминаниях, запись их на механический звуковой носитель, обработку и анализ их как исторического источника? Приводимые ниже размышления не призваны заменить отсутствующую методологическую теорию {7}. Я скажу о проблемах, которые в ходе нашей работы оказались особенно трудными. В других проектах практика тоже подводила исследователей к потребности в методологических уточнениях {8}. Основные вопросы таковы: память и взаимодействие в контексте интервью, репрезентативность и нарративность его текста. В то время как в самокритике авторы проектов обычно особое значение придают общению с респондентами, оригинальному тону их высказываний, значению их молчания, их ностальгии и ее роли как фильтра воспоминаний, говорят о связях с психоанализом и этнометодологией, то в критике этих проектов извне на первом месте стоят вопросы силы человеческой памяти и репрезентативности отобранного материала. У меня при этом часто возникает такое ощущение, как будто речь идет вовсе не об исторической работе, которая всегда посвящена тому, чтобы в рамках уже наличествующего научно-исторического знания придавать некое значение следам, оставшимся от прошлого {9}. Между одними исследователями, которые привыкли все демонстрировать на примере импликаций единичного случая, и другими, которые указывают на его изолированность и считают на том вопрос закрытым, трудно найти общие точки для взаимопонимания. Я попытаюсь здесь это сделать, исходя не из единичных историй и не из абстрактных методологических программ или принципов легитимации устной истории, а из ее практики как специфического вида исторической работы.
Опрос и память
О способности человека вспоминать то, что было давно, существует мало исследований и литературы, но зато существуют самые различные предположения. Одни сводятся к тому, что память хранит все, другие – что она не сохраняет в изначальном виде ничего; одни рассматривают долговременную память как избирательное хранилище информации, а другие видят в воспоминании реконструирование прошлого с помощью информации, доступной на сегодняшний день, сегодняшних толкований и сегодняшних общественных установлений {10}. В том, что касается устной истории, общим для всех этих представлений является, как правило, то, что они не учитывают сеттинг {11} интервью. Иными словами: процесс воспоминания рассматривается в отрыве от социально-культурной обстановки, которая его запускает и поддерживает. Это тем более удивительно, что самые интенсивные и самые распространенные в нашей культуре формы организованной работы воспоминания – психоанализ и суд – своими практическими возможностями обязаны не общей теории памяти, а процессу взаимодействия в рамках специфического для каждой из них сеттинга. Поэтому для начала я попытаюсь точнее описать коммеморативный характер устноисторического интервью (специфическую констелляцию из ожиданий участников, социальной обстановки, интерактивной процедуры, цели встречи) в отличие от сеанса психоанализа, судебного допроса и полевого социологического исследования {12}.
При всех различиях между психоанализом и допросом в основе обоих лежат одни и те же базовые предположения относительно памяти: и тот, и другой осмысленны лишь в том случае, если существует такая вещь, как воспоминание. В этом утверждении больше глубины, чем кажется на первый взгляд, если учесть социологические концепции воспоминания как реконструирования прошлого с позиций настоящего {13}. Во-первых, и психоанализ, и допрос предполагают, что в человеке наличествует сохраненная информация о прежних переживаниях и чувственных впечатлениях (по крайней мере, о важных) и что она достаточно жива, чтобы ее можно было представить, изложить или хотя бы опознать, – последнее в том случае, если эта хранимая информация сначала была перекрыта другой, не допускалась до сознания, подверглась вытеснению или отрицанию: если такая оборона была сломлена, то за нею не пустота, а способность идентифицировать реконструированные факт или ситуацию как лично пережитые. Во-вторых, и в психоанализе, и в практике судебных допросов исходным предположением является то, что воспоминание не есть нечто само собой разумеющееся и что на него нельзя сразу и безусловно полагаться: оно может быть забыто, может быть вытеснено, может возникнуть психологическое сопротивление его припоминанию, а, вспомнив, человек может отрицать как сам этот факт, так и содержание вспомненного. В-третьих, сходство между психоанализом и допросом состоит в том, что оба исходят из того, что воспоминанию все же присущ элемент непроизвольности, оно украдкой проникает в сознание сквозь волевую оборону и оставляет там следы в виде ошибок, оговорок или противоречий, которые указывают на изначальное событие и по которым можно к нему придти в процессе расспрашивания. Наконец, общей посылкой психоанализа и судебного допроса является то, что такие живые и активные воспоминания, если их не допускать, могут глубоко нарушить жизнь субъекта и что реинтегрировать их или хотя бы признаться в них – значит внутренне освободиться.
В этой концепции памяти, на которой базируются также церковный институт исповеди и разнообразные формы приватных разговоров, сконцентрирован вековой общественный опыт. Он свидетельствует о присутствии и активности воспоминаний, давая примеры того, как они бывают важны, как они мешают жить, как они обременяют, как они могут быть хотя бы на время заменены забвением, маскирующими воспоминаниями, ложью. Эти примеры, однако, ничего еще не говорят о том, насколько память способна восстанавливать былые впечатления в менее болезненных ситуациях.
Из трех упомянутых в начале сеттингов социологическое интервью, которое в качестве интервью-рассказа часто даже считают синонимом устной истории {14}, – это то, в котором воспоминание постоянно перерабатывается и документируется в виде текста, но вместе с тем в нем же и наименьшее значение придается содержанию воспоминания, а большее – актуальному влиянию на него со стороны окружающего общества. Там, где воспоминания принимаются обществом всерьез как способ подступиться к былой реальности и проверяются в соответствии с общепринятыми правилами, т. е. путем сличения свидетельств, там они высказываются и оцениваются в таких условиях, которые до крайности ограничивают субъективность свидетеля и подчиняют ее представленной в лице судьи перспективе общества. А психоаналитический сеттинг базируется на собственной силе воспоминаний (даже неосознанных) и на такой обстановке, которая призвана обеспечить максимум самостоятельной работы памяти; но за счет действия переноса этот сеттинг вызывает повторную встречу с отрезком первичной социализации; он недоступен для любопытствующей общественности и не порождает никакого текста, способного стать историческим преданием.
При виде такого кривого зеркала работы общественной памяти мне кажется уместной прежде всего позиция информированного скептика в отношении к устной истории, поскольку она заимствует определенные элементы от каждого из трех описанных сеттингов: не превращается ли она из-за этого в «молочно-пушную свинью-несушку», в методологически беспечное смешение добрых намерений, которыми, как известно, вымощена дорога в ад? Или иными словами: как должно быть выстроено и понято интервью-воспоминание, чтобы ответ на этот роковой вопрос не оказался положительным? Прежде всего нужно ясно отдавать себе отчет в том, какие компоненты являются общими для интервью-воспоминания и других сеттингов; затем следует проверить, одинаковы ли они тут и там, не изменяются ли они, не связываются ли они; и наконец, нужно подумать о том, в контексте какой практики мы занимаемся устной историей, потому что историк не может предоставлять никаких терапевтических услуг, у него нет ни власти, ни критериев, чтобы кого-то судить, и он не продуцирует такого знания, которое служило бы руководством к действию.
Общее между интервью-воспоминанием и социологическим интервью {15} – то, что оба являются инструментом науки, т. е. связаны с публичным знанием и воспроизводимыми исследовательскими процедурами. Этим инструментом в ходе разговора создается пригодный для анализа текст. Инициатива принадлежит исследователю, выбор собеседников и содержание интервью вытекают из его исследовательского интереса и из их готовности говорить хотя бы приблизительно на заданную тему. Поэтому разговор носит характер соблазнения или неравного обмена; в случае с интервью-воспоминанием это несколько смягчается за счет того, что многие респонденты в своих ответах усматривают не только любезность по отношению к интервьюеру или к науке, но также отчасти и свое завещание, которое они иначе едва ли смогли бы оставить своему ближайшему окружению. В большинстве случаев за беседой встречаются представители разных социально-культурных групп, каждый со своим особым габитусом, восприятие которого собеседниками определяет стратегию разговора, каждый со своим особым арсеналом способов обмана, которыми он в ходе разговора выманивает или утаивает сведения, и каждый со своими особыми самообманами. Самый частый самообман исследователя состоит в том, что он думает, будто в чем-то превосходит интервьюируемого, а также призван и способен ему как-то помочь. Возможно, это налагаемое им самим на себя наказание за неравный обмен. Самый частый самообман респондентов – особенно при глубинных интервью – состоит в том, что у них поначалу бывают нереалистичные ожидания в отношении исследовательской практики, с которой они сталкиваются, и что потом в ходе долгого интервью у них складываются личные отношения с интервьюером, в результате чего они забывают, что перед ними не только этот человек, но и фигура, представляющая научную работу, индустрию культуры или другие институты, заинтересованные в использовании получаемой от них информации.
С допросом {16} интервью-воспоминание роднит тот опыт, что люди обладают пластичной памятью, которая позволяет им точно описывать впечатления, полученные более или менее давно. Но память эта ограничена непроизвольными утратами (забыванием), а выражение плодов ее работы может изменяться под сознательным, волевым воздействием (ложь, искажение, умолчание и т. п.). С другой стороны, способность человека вспоминать может быть поддержана и расширена с помощью уточняющих вопросов, предъявления ему сведений из других источников и демонстрации противоречий между его словами и этими сведениями либо между разными частями его высказываний. Это значит, что между активной памятью и полным забвением есть еще зона латентных воспоминаний, которые можно активировать с помощью информации и взаимодействия с собеседником. Опыт показывает, что эти зоны невозможно четко отделить друг от друга, поэтому одно отдельно взятое воспоминание, каким бы убедительным, правдоподобным и информативным оно ни казалось, не может на этом основании быть объявлено истинным. Но путем сопоставления нескольких воспоминаний, каждое из которых проверено на непротиворечивость, убедительность, мотивацию и контекст высказывания, реконструкция события или явления может быть насыщена данными. Когда наступит такая степень насыщенности, которая позволит сделать ответственные заключения, с теоретико-эпистемологической точки зрения точно определить нельзя. Эта критическая точка зависит от сложности описываемого явления, от дистанции между исследователем и его предметом, от того, что ему известно из опыта, и от того, каковы конвенции в данной области. В суде принято считать факт установленным, если о нем говорят два свидетеля; в устной истории этого, как правило, недостаточно, ибо в ней невозможно осуществлять строгий процесс доказательства, предусматривающий институционализованную ролевую игру и привилегированный доступ к информации, а кроме того, ее цель в большинстве случаев – реконструировать значительно более сложные и далеко отстоящие во времени факты, нежели прошлогоднее преступное деяние {17}. Но там, где нет других источников информации, вполне разумно предпринимать насыщенную за счет нескольких проверенных свидетельств-воспоминаний реконструкцию (например, реконструкцию общих условий жизни некоей сравнительно гомогенной группы населения некоего региона), если при этом помнить о том, что результат подобной процедуры будет носить приблизительный характер.
Но чаще всего в интервью-воспоминаниях важны не только свидетельские показания по тем или иным фактам, но прежде всего – субъективность участников, проявляющаяся в их характере и ожиданиях, в их особом взгляде, в том, как соединяются друг с другом, казалось бы, совершенно не связанные сферы опыта, и в том, как этот опыт перерабатывается. Ибо эту субъективность, которая в историографии, посвященной господствующим слоям общества, всегда сосуществовала в странном симбиозе со всеобщей историей, устная история стремится вернуть в историю и для других членов общества – даже при том, что от этого может снова развалиться понятие истории, сделанное единым при утверждении буржуазного общества: именно это имеется в виду под несколько беспомощными формулами «история снизу» или «демократическая история» {18}.
Если сравнить сеттинг биографического интервью и психоанализа {19}, то прежде всего становится ясно, чем такое интервью не является: это не терапия, не изучение содержания ранних биографических этапов, не проработка индивидуальных вытеснений и т. д. За счет этого смягчаются ожидания относительно вклада такого интервью в прояснение «субъективного фактора». Но все же видны и некоторые общие черты. Одна такая черта – допуск в сознание всплывающих воспоминаний и установление ассоциативных связей между ними, когда субъект приближается к трудным моментам своей биографии и, ощущая потребность разъяснить свои воспоминания, снова активирует в беседе то, что было забыто. Для этого требуется собеседник, который не заявляет слишком больших ожиданий, не задает схемы, не думает, что все уже знает и просто своими вопросами получает и структурирует примеры и свидетельства, тот, кто с любопытством слушает, идет вслед за рассказчиком окольными путями, внимательно следит за побочными линиями действия и рассказывает о том, что он чувствует и что ему не нравится, дабы рассказчик имел шанс решить – вернуться ли ему к той или иной потерянной нити в разговоре, заполнить ли оставленную лакуну, может ли он и хочет ли он опровергнуть первые приходящие на ум толкования? Эта смесь из сдержанного, но благожелательного внимания и дистанцированной, но восприимчивой позиции слушателя делает биографические рассказы интересными. Правда, она предполагает, что интервьюеру – в отличие от обычного сеттинга интервью – удается частично переложить инициативу на рассказчика, а также, что его восприимчивость и способность по-человечески сопереживать натренированы на анализе собственной биографии.
Другая общая черта устной истории и психоанализа касается концепции биографической субъективности как посредующего звена между ранним воспитанием в лоне семьи и позднейшей жизнью в обществе, так как здесь обнаруживается общая точка опоры и методическая зона пересечения – фаза юношества {20}. Устная история, как и всякая другая, лишь очень редко позволяет увидеть первичную социализацию изнутри, в то время как сеттинг психоанализа разве что в субъективно-урезанном виде допускает воспоминания об опыте общественных конфликтов, пережитых взрослым человеком. Жизненный кризис подростка в общем контексте биографической субъективности с обеих сторон играет все более важную роль, и его следует изучать междисциплинарно, методами как психоанализа, так и устной истории.
Несомненно, между компонентами интервью-воспоминания существуют противоречия. Как можно, например, одновременно быть психоаналитически подготовленным, сдержанным комментатором биографических фрагментов и профессионально подготовленным следователем, расследующим обстоятельства, относительно которых интервьюируемый субъект сообщает лишь одно свидетельство из многих? Как можно стремиться к тому, чтобы использовать асимметричную коммуникативную форму интервью в качестве инструмента для достижения большего равноправия в истории? Спастись от таких противоречий можно было бы, заявив, что могут быть разные формы интервью-воспоминания в зависимости от того, что интересует интерпретатора. И с точки зрения практики это даже так и есть. Но с точки зрения методологии противоречие таким способом не снимается, и было бы ошибкой стремиться полностью его устранить, так как исторический интерес, с одной стороны, эвристически ведет исследователя за пределы того, что он уже знал до интервью, а с другой стороны, стремится скорректировать это знание посредством обращения к источникам {21}. Эта двоякая стратегия историка определяет характер и структуру интервью-воспоминания, и в его практике те элементы, которые кажутся гетерогенными, сплавляются воедино. В результате возникает концепция интервью, согласно которой интервьюер должен быть как можно лучше знаком с изучаемыми фактами и вооружен целой обоймой релевантных вопросов (а также набором стандартных социально-статистических данных), чтобы собирать пригодные для сравнения свидетельские показания и обширный социально-исторический материал, который служит как реконструкции былых реалий, так и имманентной пригодности отчета об интервью для интерпретации. Но не менее важно, чтобы интервьюер выделял своему собеседнику место и уделял внимание, дабы тот мог заполнить их самостоятельно оформленной историей своей жизни и другими ассоциативно связанными с ней воспоминаниями.
Такие свободные пространства для воспоминаний не следует путать с «открытыми вопросами» в полуформализованных интервью, какими пользуются в полевых исследованиях социологи. У них беседа в принципе выстроена по плану – иначе и нельзя, так как стандартизованные фрагменты должны быть сравнимы друг с другом; только после определенных вопросов-импульсов, место которых в структуре беседы заранее задано, оставляются более или менее растяжимые пустые пространства, которые может заполнить сам респондент {22}. В устной истории интервью не подчинено этому требованию измеримой сравнимости, потому что реконструктивный и ассоциативный характер воспоминаний позволяет сравнивать в лучшем случае их содержание, но не форму изложения. Фактические вопросы в таком интервью служат сбору социально-исторического материала, и их стандартизация есть прежде всего подспорье для интервьюера, но он может свободно менять их последовательность {23}. Каждый вопрос, даже если изначально это вопрос о годе окончания школы, в интервью-воспоминании является «открытым» – в том смысле, что допускает все «лирические отступления» памяти, которые могут быть им спровоцированы. Если в ответ на вопрос об окончании школы респондент бормочет, как бы нащупывая ответ, что-нибудь вроде: «Это так чудно тогда было…», то только плохой интервьюер скажет: «Давайте для начала восстановим ход событий. Вы после школы стали учиться дальше?»; хороший же интервьюер для начала отложит свой вопросник и поинтересуется, что именно было тогда чудно, а свои вопросы вновь начнет задавать только после того, как респондент закончит свою цепочку ассоциаций, которая может начаться с какого-нибудь происшествия во время выпускного вечера и увести, например, к судьбе кого-то из одноклассников во время войны.
Итак, в интервью-воспоминании постоянно нужно оставлять пространство для того, чтобы респондент мог нащупать свои воспоминания и облечь их в такую форму, какую сам выберет. Во всяком случае, это необходимо в начале, чтобы человек мог рассказать историю своей жизни первый раз в таком порядке и с такой расстановкой акцентов (и с такими умолчаниями), какие ему привычны или какие он считает уместными для разговора с «агентом» науки или публичной сферы. Это будет не только само по себе такой формой культурной репрезентации, которая достойна исторической фиксации {24}: в высказываниях и лакунах выстроится структура, с которой могут посредством дополнительных вопросов ассоциироваться другие воспоминания. Этот процесс имманентных ассоциаций следует продолжать так долго, как позволят обоим собеседникам их терпение и способность к восприятию. В некоторых случаях этот процесс может затянуться на несколько встреч, между которыми процесс воспоминания зачастую не прерывается, так что к следующему разу интервьюера ждет множество новых историй, а иногда также фотоальбомов и писем. Только тогда, когда этот процесс завершится сам собой, интервьюер вернется к заготовленному списку вопросов, но теперь уже будет достаточно задать только те из них, на которые еще не был получен ответ в ходе самостоятельного рассказа или свободного разговора. Эти оставшиеся вопросы, в свою очередь, тоже могут спровоцировать новые ассоциации. В других случаях респондент с недоверием относится к такой игре, декламирует вначале автобиографию «как для отдела кадров», а на дополнительные вопросы отвечает кратко или вовсе словами «как я уже сказал», и при этом все же говорит потом: «Что еще вы хотите узнать?» Это хорошо, потому что тогда бедный интервьюер может достать свой список вопросов и идти по нему, и в таких случаях респондент, как правило, все-таки рано или поздно незаметно для себя поддается потоку своих воспоминаний и ассоциаций, и игра начинается.
У читателя может возникнуть впечатление, будто таким образом запускаются процессы, которым нет конца. Когда мы приступали к нашему проекту, я опасался, что интервью может перетечь в своего рода психоаналитический процесс, а этого мы за отсутствием собственного опыта брать на себя не могли. Практика показала, что эти страхи имели свою причину скорее во мне, чем в наших респондентах. Сравнение сеттингов показывает, что в психоаналитический сеанс невозможно «скатиться»: для этого требуется значительная собственная инициатива и особая обстановка изолированности от внешнего мира. Хотя здесь наблюдаются культурные и социальные различия, все же в целом люди во время интервью в жанре устной истории вполне отдают себе отчет, кто от кого чего хочет, а работающий магнитофон и регулярная смена кассет напоминают им о том, что рассказанное не останется между ними и интервьюером {25}.
Если в интервью вдруг всплывают воспоминания о травматическом опыте, которые человек обычно вытеснял на периферию своего сознания, то интервью может помочь ему не больше, но и не меньше, чем любой другой разговор: человеческое участие, при необходимости – молчание; по желанию респондента такие эмоциональные фрагменты разговора стираются с пленки. Но многие этого и не требуют, потому что рассматривают эти чувства, после того как те выйдут наружу, в качестве части своей подлинной истории и часто испытывают некоторое облегчение от того, что смогли их выразить. Но социальная ситуация интервью ставит, как правило, более тесные границы для рассказываемых воспоминаний, чем, например, откровенный разговор незнакомых «вагонных попутчиков». Интервьюер в подобных случаях не имеет права покидать свою участливо-пассивную позицию по отношению к ассоциациям респондента и «докапываться». Это этически неприемлемо, поскольку он не сможет ничем помочь рассказчику, если ситуация станет для того эмоционально тяжелой; но это кроме того обычно и неэффективно, поскольку человек немедленно закроется, как только заметит, что нахлынувшие на него эмоционально нагруженные воспоминания и сильные чувства, вырвавшиеся из-под его контроля, собираются эксплуатировать в исследовательских целях. А если проект специально нацелен на изучение специфического травматичного опыта – как, например, у бывших узников концлагерей и других жертв насилия, – тогда есть веские основания для исторического документирования таких эмоциональных рассказов, и оно может соответствовать пожеланиям самих респондентов. Но тогда ни в коем случае нельзя проводить подобные интервью без психологического сопровождения {26}. Ведь предметом разговора является здесь историчность личной травмы, а пережитые людьми унижение или опасность для жизни зачастую бывали такими глубокими, что некоторые из жертв сумели вернуться к самостоятельной жизни только за счет того, что им удалось как бы заключить этот экстремальный опыт в герметическую капсулу в своей памяти. Возможно ли, допустимо ли (и при каких условиях) нарушить этот процесс рубцевания – вопросы, на которые историк отвечать не компетентен. Он может только в той мере сотрудничать с интервьюируемым человеком в деле производства публичного исторического знания, в какой тот может и хочет что-то ему сообщать.
Но, как показывает опыт, в обычных условиях люди могут вспомнить и считают достойным рассказа не столь уж многое. Длительность интервью в проектах по устной истории сильно различается от темы к теме и еще больше – от респондента к респонденту, но чтобы интервью было действительно содержательным, оно требует двух встреч по несколько часов каждая как минимум – но иногда и как максимум. После четырех-пяти встреч в подавляющем большинстве случаев разговор замирает, а договоренности о новых встречах добиться все труднее {27}. Исключения составляют лишь немногие интервью, как правило, ярко выраженного автобиографического характера {28}. А иногда ассоциативный процесс припоминания вовсе не «запускается» – потому ли, что интервьюируемый его избегает, или потому что интервьюер кажется ему несимпатичным, незаинтересованным или не вызывающим доверия; в таких случаях интервью оказывается неудачным, даже если на все вопросы из списка получены ответы.
К числу элементов саморегуляции в сеттинге относится и сама готовность дать интервью-воспоминание. Поначалу у меня были сомнения по поводу того, сумеем ли мы найти достаточное количество «добровольцев», которые согласились бы с нами сотрудничать; этот страх оказался в нашем случае безосновательным: нам очень редко отказывали в интервью те, к кому мы обращались, и был даже целый ряд добровольцев, откликнувшихся на газетные объявления, т. е. проявивших собственную инициативу {29}. И во время разговоров нас часто удивляло, с какой охотой люди вспоминали и рассказывали. Это, должно быть, объяснялось и тем, что опрашивали мы рабочих или тех, кто вышел из их среды, и тем, что в Рурской области приняты открытые формы общения. Если же проанализировать опыт этого и других проектов в том, что касается трудностей с нахождением респондентов и получением от них достаточно обстоятельных сведений, то представляется, что эти трудности связаны с двумя группами факторов: во-первых, таким затрудняющим фактором является принадлежность человека к группе с жестким социальным контролем, который стирает индивидуальное в памяти, подвергает высказывания цензуре или заставляет делать их так, чтобы они не вызывали доверия (например, сохранившееся деревенское сообщество). Во-вторых, это личная неуверенность человека в том, что ему в разговоре с незнакомцем удастся совладать с собственными воспоминаниями {30}.
Все эти ограничения, вытекающие из характера сеттинга интервью-воспоминания, приходится принимать как границы возможностей всей устной истории. Конечно, того или иного потенциального респондента, который сначала отмахнулся от просьбы об интервью, можно убедить с помощью разумного и правдоподобного разъяснения сути проекта, так что он все-таки согласится сотрудничать. Но в остальном рекомендуется избегать всяких попыток раздвинуть эти границы с помощью каких бы то ни было уловок, например, давить на человека с целью принудить его к интервью или во время разговора хитростью вытягивать из него какие-то воспоминания сверх тех, которые он готов сознательно поведать в условиях свободного диалога. Это проблемы этики исследования: народный опыт в истории не следует проявлять в большей степени, чем этого хотят те, кому он принадлежит. Но кроме того, это же и источник ошибок, и ложная экономия в исследовательской работе: человек, который ощущает, что его против воли впутали в ситуацию припоминания {31} (если только дело не происходит на допросе в полиции), имеет массу возможностей выпутаться из этой ситуации: он может вышвырнуть интервьюера за дверь, может спустить интервью на тормозах, может наврать с три короба, а может со всей вежливостью сознательно накормить интервьюера – так, что тот этого зачастую и заметить не сможет, – камуфлирующими воспоминаниями. Интервью-воспоминание – не допрос, а добровольное соглашение, и хрупкие ищущие движения памяти начнутся только тогда, когда в отношениях между собеседниками останется не больше недоверия, чем приличествует подобной встрече.
Если сеттинг со всеми его ограничениями принят, то интервью может дать массу сведений и рассказов о вещах, информация о которых больше нигде не сохранилась. С помощью специального дифференцированного комплекса вопросов эти данные можно проверить на достоверность, а потом, привлекая сопоставимые сообщения, «насытить» их. Особенно щедрыми на подобную информацию оказываются в устной истории два уровня памяти: активный и латентный. На уровне активной долговременной памяти, где лежит то, что постоянно нужно и вспоминается без особых усилий, у людей в нашем обществе хранятся три запаса воспоминаний, которые с большой регулярностью проявляются в ходе интервью-воспоминаний.
Представление человека о своей жизни в целом {32}, состоящее, во-первых, из актуального толкования (принцип конструирования биографии) и, во-вторых, из переработанной реальной информации по нескольким избранным внешним этапам жизни: эта информация никогда не бывает исчерпывающей, но редко бывает ложной. Этот набор можно путем расспросов обычно без труда расширить до более сложного и многостороннего рассказа о внешних условиях жизни (включая последовательность семейных констелляций, профессиональных функций и условий труда, имущественных и социальных статусов и т. д.). Есть обойма стандартных историй, которые рассказывают, как говорится, по любому случаю, и они уже хорошо зарекомендовали себя как коммуникативные блоки. В них могут описываться оригинальные или не оригинальные события и переживания, они могут быть обкатаны вкусами меняющейся аудитории, как галька морской водой. Поэтому их характер слишком произволен и случаен, чтобы их использовать для исторической реконструкции, но они могут содержать в себе интересные свидетельства переработки опыта и установок респондента, а главное – стиля его коммуникации с окружением.
Далее есть латентный уровень памяти, на который в ходе интервью-воспоминания можно попасть через реконструкции и ассоциации. Тут все зависит от специфического взаимодействия между собеседниками, так что ни ход, ни результативность разговора предугадать нельзя. На этом уровне обнаруживаются воспоминания, которые когда-то по некоей (зачастую с трудом поддающейся выяснению) причине были важны; они касаются либо рутинных вещей (т. е. многократно повторяемых в повседневной жизни действий или впечатлений), либо ситуаций приобретения нового опыта (т. е. встреч с чем-то прежде неведомым).
Рутинные действия, ощущения и состояния, которые когда-то были настолько важны, что сохранились в памяти, вспоминаются, судя по всему, образно. Поэтому респонденты зачастую могут с большой подробностью описать их заинтересованному слушателю, который своим вопросом вырвет эти вещи из незначимости будничного и, возможно, даже поможет респонденту их реконструировать, приводя свидетельства из других источников. Эти описания не обладают сами по себе нарративной структурой и не претендуют на статус смыслового высказывания, хотя могут спровоцировать по ассоциации дальнейшие рассказы.
Ассоциативные рассказы, которые (подобно названным выше «стандартным историям») имеют форму сцен или эпизодов, знакомят слушателя с ситуациями, в которых рассказчик столкнулся с чем-то новым, для переработки чего еще не существовало категориального аппарата, и что поэтому отпечаталось в памяти во всей событийной пластичности. Поэтому в биографических интервью, когда речь идет о юности, а затем снова, когда речь идет о чрезвычайных ситуациях (экзистенциальных и общественных кризисах, войне и т. п.), историй рассказывается множество, в то время как фазы нормальной жизни, во-первых, вообще описываются реже и меньше, обычно только после наводящих вопросов, а во-вторых, скорее характеризуются, оцениваются, нежели пересказываются. Набор стандартных историй из фонда информации, пригодной для ассоциирования, ничего не говорит об их исторической оригинальности, наоборот, в той мере, в какой они вообще не выдуманы, а прожиты рассказчиком, они активны потому, что их смысл согласуется с тем, что сегодня думает рассказчик, и/или потому, что то смешное (либо драматичное), что в них заключено, хорошо себя зарекомендовало в процессе коммуникации, а может быть, только в ходе этого процесса и сложилось по-настоящему.
Структура текста и индивидуальность рассказа
Результат интервью-воспоминания – звуковой протокол, т. е. ряд магнитофонных кассет, на которых записаны те звуки, которые во время интервью достигали микрофона. Я так обстоятельно это проговариваю, чтобы подчеркнуть, что такое интервью не только зависит от производственных условий, заданных определенной социальной ситуацией, но и в техническом плане фиксируется лишь в очень урезанной и отчужденной форме. Звуковой протокол ничего не говорит о том, что предшествовало беседе, что говорилось во время смены кассет и после интервью, что сообщалось или комментировалось взглядами и жестами (магнитофонная запись вообще не фиксирует зрительной информации, а та может быть очень важна для взаимного восприятия собеседников) {33}. То, что произносилось в сторону, зачастую столь же трудно разобрать, как и те пассажи, в которых накладываются друг на друга несколько голосов {34}, а какие-то слова, которые интервьюер прекрасно помнит (потому что он внимательно слушал респондента и смотрел ему в лицо, считывая слова по губам), на пленке могут оказаться полностью заглушены звонком телефона, лаем собаки, шумом проезжающего трамвая или звоном чашек.
Кроме того, услышав (особенно впервые) магнитофонную запись собственной речи, большинство людей удивляются или раздражаются, потому что не узнают самих себя. Дело не только в плохом качестве звукозаписи, и не только в том, что человеческий голос по-разному слышится изнутри и снаружи: дело еще и в том, что когда рассказ сводится к своей акустической составляющей, то его языковая форма (интонация, диалектные особенности, артикуляция, грамматика) приобретают такую значимость, которой говорящий не предполагал, пока шла живая беседа, и это вызывает потом эффект отчуждения. На следующей фазе обработки, когда интервью транскрибируется и превращается в письменный текст, происходит дальнейшая редукция и дальнейшее отчуждение, и тогда то, что в виде звучащей речи было понятным, начинает выглядеть так, что может вызвать еще гораздо более сильное раздражение {35}: человек видит свое устное высказывание облеченным в такую форму – форму письменного текста, – в которой он сам высказывался бы иначе.
Этот диссонанс можно при транскрибировании несколько смягчить либо за счет точной письменной передачи звуков устной речи, либо за счет более или менее полного «перевода» сказанного на литературный язык. В первом случае возникает искусственный текст, который сильно отличается от обычного письменного текста, но, как правило, читать его, а тем более с интересом, смогут только лингвисты: для фиксирования исторической информации такая форма малопригодна {36}. Во втором случае возникает другой искусственный текст, который как источник оказывается обеднен, т. е. лишен многих пригодных для интерпретации аспектов и искажен толкованиями переводчика {37}. А если подобные «переведенные» тексты потом еще и публикуются в виде разрозненных фрагментов, где исключены слова интервьюера (т. е. последние указания на то, как данный текст возник), то создается иллюзия оригинального народного текста. Здесь отчуждение конечной формы от изначального интервью достигает своей вершины. Эта частая ошибка особенно легко совершается потому, что в устной истории ставится задача приблизиться к субъектам и оригинальности их опыта (хотя возможности такого приближения ограничены условиями возникновения и передачи информации в контексте интервью-воспоминания), а во-вторых, потому, что акустическое качество и объем сообщаемой в интервью информации служат препятствиями на пути ее анализа и публикации, и, в-третьих, потому, что исследователю трудно иметь дело со сложной структурой текста, который, как кажется, составлен из множества отдельных фрагментов.
И все-таки именно от этого трудно структурированного текста, в котором рассказ сведен сначала к акустической составляющей, а потом и к ее письменной транскрипции, должна отправляться историческая интерпретация, потому что этим сохраняется в пригодном для всех типов анализа виде наиболее сложная из поддающихся традированию форм интервью. Назовем вкратце основные элементы этой структуры текста.
В первую очередь речь идет об отражении акта социального взаимодействия {38}, в котором инициатива исходит от интервьюера, а у интервьюируемого могут быть одновременно несколько адресатов: интервьюер, с которым он имеет дело; через него – общественность или наука как социальный институт; отсутствующие коммуникативные партнеры респондента, когда он воспроизводит либо диалоги с ними, либо уже отрепетированные на них истории. При групповых интервью все это изначально зависит от отношений между интервьюируемыми. В индивидуальных бывает так, что респондент на какое-то время уходит в свои воспоминания и говорит словно бы с самим собой или с каким-то прежним собеседником.
Во-вторых, мы имеем дело с одной или несколькими версиями биографии респондента. Как правило, таких версий две: сначала краткое изложение, какое обычно рассказывают посторонним людям (например, в резюме или при приеме на работу и т. д.), причем отбор данных, которые заслуживают упоминания, позволяет узнать кое-что о культурных ожиданиях и – при сравнении нескольких биографий, относящихся к одной и той же культуре, – о личности респондента. Потом рассказывается расширенная история жизни, в которой сводятся вместе все биографические сведения, содержащиеся в интервью. Вторая версия, которая содержит элементы реконструкции, позволяет более отчетливо разглядеть контуры первой, но тоже остается в рамках того, что относится к биографическому сознанию респондента и, как правило, к его представлениям о том, какая информация не является приватной. Хотя биографические элементы зачастую содержат указания на бессознательные сферы и ключевые переживания детства, интерпретатору все же не следует забывать, что у него, как и у любого другого историка, нет возможностей для валидизации его предположений по этому поводу, но в отличие от других авторов, пишущих исторические биографии, против его интерпретаций и догадок респондент может возразить {39}.
В-третьих, текст состоит из множества сведений; часть их получена в ответ на стандартизованные вопросы, часть – с помощью вопросов в вольной форме, часть содержится в рассказах респондента на другие темы. Из самих этих сведений не ясно, верны они или нет, ведь в неконтролируемости памяти и культурного взаимодействия существует множество мыслимых причин для предоставления неверных сведений. Но в отличие от многих социологических опросов вопрос об истинности сведений в устной истории релевантен, потому что история раскрывает свой критический потенциал именно в процессе соотнесения современных высказываний с имеющимся источниковым материалом. Поэтому необходимо подкреплять сведения, содержащиеся в интервью, независимо от их внутренней непротиворечивости и убедительности, данными из других интервью и сопоставлением с источниками других типов.
В-четвертых, почти в каждом интервью-воспоминании содержатся рассказы, которые непредсказуемым образом распределяются по всей продолжительности разговора. Стиль рассказа может определяться стилем беседы во время интервью, сценической формой самих воспоминаний или коммуникативным кодексом данной культуры. Эти рассказы – самое большое сокровище устной истории, потому что в них эстетически сплавляются воедино фактические и смысловые высказывания. Но вместе с тем их же и труднее всего исторически интерпретировать, потому что момент их сплавления располагается где-то между моментом событий и моментом рассказа о них.
Все эти элементы соединяются в «текст», причем не в планируемом порядке, а хаотически, в такой последовательности, которая вытекает из интерактивного характера разговора и ассоциативного характера памяти. Таким образом, текст обычно не следует вполне ни хронологии, ни намеченному порядку вопросов, ни выдерживаемой рассказчиком канве повествования, ни тематике диалога. Хронологическую канву жизни, как правило, в интервью проходят два или более раз, от случая к случаю нарушая ее, забегая вперед или возвращаясь назад. Тематические группы «вопросника» приспосабливаются к нарративным приоритетам респондента и темам, которые ему приходят в голову в процессе воспоминания. За счет этого интервью получается настолько дробно фрагментированным, что приходится все время заново конструировать предмет и проблематику обсуждения, или те повествовательные «колеи» {40}, в которых рассказчик присоединяет по ассоциации различные предметы к главной теме; т. е. все время делается только шажок вперед и под иным углом зрения сообщаются взаимно перекрывающие и дополняющие друг друга контрольные сведения по одной и той же теме. Это, разумеется, в еще большей степени касается такого интервью, которое продолжается несколько встреч и всякий раз как бы начинается заново.
Эта смешанная формальная структура «текста» интервью-воспоминания отличает его от используемого в социологии нарративного интервью и имеет далеко идущие последствия для его исторического анализа и публицистического использования. В ней проявляется характер устной истории как двоякой встречи: с одной стороны, это встреча между общественным институтом науки и индивидуальным субъектом (как в социологических качественных исследованиях), с другой стороны, это встреча между настоящим и прошлым. Эта последняя, с одной стороны, вызвана вопросами исследователя, а с другой стороны, происходит в субъективных ассоциациях вспоминаемых и сочиняемых историй, поэтому оба уровня встречи пересекаются друг с другом. Разнородные блоки, из которых строится текст: биографическая справка, информационные молекулы ответов на фактические вопросы, миниатюры эстетически завершенных рассказов – возникают в рамках динамики взаимодействия. В ней субъект-носитель опыта определяет, о чем он будет вспоминать и что из этих воспоминаний, в какой форме и в какой интерпретации он хочет передать данному интервьюеру, данному проекту, данной общественности; при этом на протяжении интервью как способность человека к воспоминанию, так и желание поделиться вспомненным могут меняться. А представитель науки {41} в этом взаимодействии определяет, где и как брать на себя инициативу по организации такого интервью-воспоминания, о чем и сколько спрашивать, какие высказывания данного респондента считать в свете своих научных познаний о прошлом достоверными и информативными; в ходе долгого интервью (и проекта) как этот его интерес, так и его познания тоже могут меняться.
Поэтому для анализа полученного в результате интервью текста необходимо его обработать. Такая обработка позволяет воспринимать как целое, так и отдельные блоки, составляющие его, и их интерпретативно связывать друг с другом, со сравнимыми блоками из других интервью и с научными знаниями. Для этого нужны промежуточные ступени редукции (краткое изложение данных, резюме интервью, индексация сообщенных в нем фактических сведений, выписка из него «историй») {42}, которые делают весь текстовый материал обозримым и пригодным для сопоставления, а также обеспечивают возможность учитывать контекст при интерпретации блоков по отдельности. Полные транскрипты не выполняют такой задачи по организации информации (не говоря даже об информационных потерях при переводе в письменную форму); будучи более легки в обращении, чем акустическая запись, вводят в соблазн при анализе полностью избавиться от нее. Частичные транскрипты предполагают такую организацию данных, и через проблематику отбора фрагментов они снова и снова возвращают исследователя к магнитофонной пленке как самому верному и информативному способу фиксации информации. Поэтому, на мой взгляд, им стоит отдавать предпочтение. Вовсе без транскриптов при анализе не обойтись, потому что звуковой протокол оставляет слишком мало времени на осмысление только что услышанного, а кроме того дополнительное отчуждение, возникающее при записывании устных рассказов, может заставить интерпретатора внимательнее отнестись к их содержанию, импликациям, языку и эстетике.
Дело в том, что справедливость по отношению к субъекту опыта, уделение ему подобающего места в истории не требуют просто верить всему, что он расскажет: такая некритическая «вера» (и публикация, перемещающая слова респондента в совершенно иные контексты) была бы абсурдна, если учесть структуры взаимодействия и памяти, и означала бы, что рассказчикам не будет оказана обещанная услуга – ввести их в историю. Скорее для этого необходимы критический анализ и интерпретация, в ходе которых исследователь старается определить, к какому временному пласту относится тот или иной блок текста, сводит и упорядочивает рассеянные данные, проверяет их и делает пригодными для использования при реконструкции условий жизни былой эпохи или при осмыслении важнейших высказываний субъекта. Благодаря этому становится понятна их значимость в их историческом контексте. Но этот важнейший, на мой взгляд, шаг связан по необходимости не только с выходом из имманентности «текста», но и с перспективным сужением его сложности. Ведь этот шаг требует отбора и содержательного структурирования, которых не заменят предпосылки понимания и познавательные интересы исследователя.
В этой точке мы встречаемся с исконной проблемой социологии {43} – в историческом ее варианте: каков тот шаг, который от репрезентации индивидуального и его сложности ведет к познанию его значения и более общих взаимосвязей? Со времен Макса Вебера этот шаг во многих общественнонаучных дисциплинах понимают как шаг от субъективной реальности индивида, в которую исследователь может только вчувствоваться, но не может ее познать, к научной эмпирии. Для нее этот субъект – объект анализа, один случай из многих, сравнение которых позволяет увидеть специфические взаимосвязи между причинами (такими как возраст, происхождение, специальность, доход и др.) и следствиями (такими как установки, поведение). Эти взаимосвязи могут быть сформулированы в виде гипотезы, гипотеза может быть проверена, а ее объяснительная сила – измерена. Потребность в точном измерении возникает в конечном счете из прагматического познавательного интереса – постольку, поскольку изучение социальных закономерностей призвано служить будущему управлению ими. Эти процедуры и интересы, в принципе приходящие извне, в своей противоположности индивидуальному восприятию действительности обеспечивают для позитивистской традиции научность всего предприятия {44}. Устной истории тоже предъявляют такое понимание науки, когда задают вопрос о репрезентативности ее данных.
Такая эпистемологическая модель малопривлекательна для нашего случая: во-первых, устная история не располагает практическими возможностями проверить статистическую репрезентативность своих данных {45}, а во-вторых, она вообще, с одной стороны, предъявляет чрезмерные требования к материалу историка, а с другой – ограничивает его познавательные возможности. Чрезмерны требования потому, что процесс традирования исторической информации весьма сложен и не сводится к количественным аспектам. Ведь то, что дошло до нас от прошлого, – это его следы, зачастую непроизвольные, фрагментированные остатки прежней реальности и традиции: это в устной истории точно так же, как при раскопках развалин древнего города или при исследовании отношений между двумя монархиями. Какие следы сохранились и насколько они до нас дошли – измерить невозможно, в конечном счете приблизительно определять и принимать в расчет это вообще можно только в каждом конкретном случае {46}. Однако, существуют, разумеется, поддающиеся измерениям серийные источники, и их количественный анализ может дать ценные контрольные данные; вместе с тем он может и помочь уточнить неверные данные, как если бы мы измеряли льдину, плавающую в неизвестном океане.
Если бы мы захотели определять соотношение между единичным случаем и его значением только по правилам статистической репрезентативности, то исторический интерес оставался бы прикован к контингентной имманентности определенных фрагментов исторической информации и не мог бы найти ни взаимосвязей в прошлом, ни нашего отношения к ним, и невозможно было бы скорректировать это отношение путем сверки с источниками. Но ограничиваться измеримым не нужно, поскольку применительно к прошлому нет необходимости совершать какие-то поступки, и поэтому уроки истории не заключают в себе никакого руководства к непосредственному действию {47}. Изучение прошлого служит расширению нашего восприятия и корректировке искаженной при передаче информации, а также – наряду с развлечением и наглядными примерами – дает прежде всего понимание некоторых вещей и немножко свободы. Для этой цели годится и помимо измеримой точности любой разумный подход, если он только адекватен материалу и эпистомологически прозрачен.
Поэтому в последние годы в социальной истории (а еще раньше – в социологии, потому что процесс измерения зачастую и в современности исключает сложные постановки вопроса, ориентированные прежде всего на понимание) снова стала чаще использоваться иная эпистемологическая модель: монографическое исследование, микроисследование, качественное исследование. На сравнительно изолированных единичных примерах изучаются связи внутри сложных социокультурных комплексов {48}. Фредерик Лепле – отец этого исследовательского метода {49} – облек свой (и многих, кто занимается устной историей) опыт отчуждения сокращенных предположений и достижения новых осознаваний в оптимистические слова:
...
Когда наблюдение начинается, возникает впечатление, что количество фактов растет бесконечно…; с каждым новым шагом возникают новые сопротивления, и скоро у наблюдателя возникает искушение оставить свою затею. Но если он будет упорен, то в конце концов он доберется до такой фазы, где факты, образно говоря, сами собой разложатся в единую схему {50}.
То, о чем говорит Лепле в первой части процитированного высказывания, мы в нашем проекте назвали «шоком детипизации»: когда исследователь достаточно пристально всматривается в жизненную действительность своих собеседников и их толкования собственных воспоминаний, то он утрачивает уверенность в правильности тех вопросов и представлений, с которыми пришел на интервью; материал ведет его дальше, возникают бесчисленные связки и новые вопросы, причем происходящее невозможно описать как опровержение и переформулирование некоей гипотезы {51}. Скорее это процесс частичного изменения собственной идентичности и собственного видения мира. Процесс этот протекает зачастую почти незаметно, но нередко в итоге все же прорывается наружу эмоциональными взрывами: лихорадкой открытия, депрессиями, чрезмерным отождествлением себя с опрашиваемыми или возникающим чувством злости в их адрес или в адрес других исследователей. Альтернатива «рациональная объяснительная работа (через дистанцирование) versus вчувствование (через приближение)», при которой в обоих случаях исследователь подозревает в неразумии свой объект исследования, а не самого себя {52}, – представляет собой программу борьбы с саморефлексией, потому что в ней сплетаются воедино мысли и чувства. Эмоциональное напряжение невозможно снять одним только усилием разума. Этот процесс прояснения, при котором может оказаться полезной супервизия, необходим для того, чтобы результат работы не состоял из произвольных проекций. Заменить его отступлением на оценивающую дистанцию нельзя, потому что масштабы оценки окажутся тогда неадекватными. Проблема заключается не в том, чтобы обрести дистанцию, а в том, чтобы воспринимать существующую и сделать ее инструментом понимания.
Насколько необходимо для дальнейшей плодотворной работы ученому разобраться с самим собой, настолько же этого одного недостаточно для достижения цели. Многие проекты по устной истории, застрявшие на стадии сбора материала, свидетельствуют о том, что шок детипизации и его преодоление очень трудны. Но то, как описывает Лепле во второй фразе дальнейшую работу, очень напоминает ту рекламу сигарет, в которой говорится, что в затруднительной ситуации надо лишь «наслаждаться всей душой», и тогда «все пойдет само собой». Одного только упорства недостаточно, ведь если факты сами собой раскладываются в единую схему, то значит, что перед нами, скорее всего, либо гениальное озарение, либо рационализированная проекция, и у исследователя нет критерия, чтобы отличить одно от другого. Упорство, о котором пишет Лепле, создает поначалу только творческое напряжение; помимо него сегодня можно назвать еще четыре рабочие операции, которые могут привести исследователя от встречи со сложными единичными случаями к более общим выводам: это содержательное уточнение воспринимаемой чужести, реконструкция ее предпосылок, насыщение ее за счет сравнения и проверка ее по тексту.
Первый шаг называют часто также «взглядом этнолога» {53}. Этнолог не разглядывает объект сквозь очки предзаданных категоризаций или ожиданий: он сначала смотрит, как люди решают и интерпретируют основные жизненные проблемы, такие как рождение и воспитание детей, половое созревание и сексуальное поведение, обеспечение экономического воспроизводства и распоряжение излишками, виды деятельности и привычки, характерные для того или иного пола и возраста, обращение с болезнью и смертью. Этнолог во всех этих базовых ситуациях обращает внимание на видимые социальные связи и отношения, конфликты и проявления власти, разделения труда и социальной эксклюзии. Отмечая то, что его раздражает, исследователь обращает особое внимание на эти вещи, которые представляются ему чуждыми и которых он не понимает; он описывает это и просит объяснить. Во всем, что ему говорят, он прислушивается не только к словам, но и к умолчаниям, хотя еще не знает, скрывается ли за молчанием нечто настолько банальное, что люди не считают нужным проговаривать это, или же какая-то тайна, которую не доверяют незнакомцу. Такой способ восприятия можно в основных чертах перенести из антропологической практики включенного наблюдения в практику проведения и анализа интервью-воспоминаний. В результате возникнет материал, который позволит описывать и истолковывать различие между тем, что считается нормальным в изучаемой социальной культуре, и тем, что представляется нормальным исследователю.
Внимание к структурным различиям {54} возникает, конечно, не «словно само собой», а из попытки объяснить материал, обращаясь к обстоятельствам его возникновения. Что было имплицитно заложено в высказываниях респондентов? Как можно разрешить противоречия? Как то, что поначалу непонятно, можно разъяснить с помощью дополняющих предположений или соединения других сведений, полученных от того же информанта? В рамках какого видения мира, при каких материальных условиях, в контексте каких социальных связей и отношений, в какой грамматике мышления и общения обладает смыслом то, что показалось исследователю необычным, экзотическим или иррациональным? Пытаясь упростить материал или сделать его внутренне непротиворечивым, исследователь выходит на лежащий под материалом или вне его уровень структур, которые предшествуют поступкам и высказываниям индивида, – они и обеспечивают возможность его диалога с окружением и, в частности, с интервьюирующим его незнакомцем {55}.
Но было бы весьма рискованной затеей (особенно в исследовании по современной истории) пытаться описывать содержание и масштабы таких латентных структур на основе одного единичного свидетельства. Потому что в той мере, в какой ослабевает сила формирующего воздействия и уменьшается гомогенность социальных субкультур (условий жизни, характерных для той или иной профессиональной группы, общественно-имущественного слоя или региона), нарастает индивидуальность жизненных историй или они группируются в типы биографий (с особыми ментальными структурами и кодами, социальными и трудовыми отношениями), тонкие различия между которыми уже не так явно отражают тот малый космос, в котором живет каждый данный индивид. Однако не только в таких условиях, но и в жизненных средах, выглядящих стабильными, высказывания субъектов всегда определяются как структурами их социального существования, так и индивидуальностью их биографии. Одно невозможно отделить от другого в сложных высказываниях индивида, но при сравнении нескольких высказываний, принадлежащих членам одной группы, объединенным общими структурами, сходства и различия проявляются более отчетливо, становится видно пространство свободы, которое они оставляют индивиду, и возникает возможность хотя бы в общих чертах распознать различные системы отсчета и границы действия каждой из них {56}. Это насыщение и дифференциация латентных структур путем сравнения осуществляются тем скорее, чем более замкнутой и гомогенной является группа, которой принадлежат опрошенные. И наоборот, степень насыщения и дифференциации очень трудно определить или хотя бы зафиксировать применительно к отдельным сферам опыта, когда биографии очень различны, когда материальные и культурные условия жизни неоднородны и непостоянны, а также когда исследователь существует в тех же самых условиях и поэтому их специфические отличия не бросаются ему в глаза.
Перечисленные до сих пор шаги от особого к общему уводили в сторону от непосредственного восприятия конкретного исторического материала, от наблюдения. Если обнаруженные структуры валидны, то они должны проявляться и в приложении к отдельно взятому тексту. Предлагаемый новый способ прочтения текста призван обеспечить более глубокое понимание его высказываний, учитывающее их исторический контекст. Когда я говорю здесь о «тексте», я имею в виду прежде всего отдельные, завершенные по форме истории. Эти рассказы в рассказе, т. е. в интервью {57}, – плотные, сложные, осмысленные истории – невозможно понять с помощью неопределенного «вчувствования». Подступиться к ним можно на двух уровнях: во-первых, через разработку этого источникового текста, каковая предполагает все вышеназванные шаги и добавляет к ним методы критики источников, формальный и языковой анализ: этот уровень я буду в дальнейшем именовать герменевтическим; во-вторых, через целостное восприятие таких произведений устной литературы: этот уровень я буду в дальнейшем именовать эстетическим.
Герменевтика
Герменевтика как учение о понимании текстов требует прежде всего осуществлять критику источника, т. е. предполагает попытку определить форму изучаемого текста, его положение в контексте и его происхождение, учитывая историю данного интервью, его участников и общую взаимосвязь рассказанного. В историческом анализе интервью-воспоминания главное – это определить, дают ли содержание и/или форма текста указания на тот временной пласт, к которому относится история. Этот шаг в работе не специфичен для устной истории, он – часть стандартного репертуара исторической критики источников {58}.
Если, например, содержание рассказа заставляет предполагать иной смысл, нежели тот, который придается ему за счет использования его в коммуникативном контексте интервью, то будет, как правило, обоснованным предположение, что имела место какая-то более давняя, так сказать, ошибочно примешанная в силу ассоциативного характера памяти история. Если интервьюируемый утверждает, что пересказывает диалог, происходивший пятьдесят лет назад, а в тексте при этом содержатся выражения и ссылки на имена или факты, которые до войны еще не были известны, то интересно выяснить, что имел в виду автор, придумывая (неудачно) якобы подлинный разговор. Но верно и другое: если рассказчик использует слова и образы, принадлежащие позднейшей эпохе или изобразительному языку позднейшего кинематографа, то это еще не обязательно значит, что его воспоминание о травматическом опыте, имевшем место в детстве, во время войны и т. п., ложно. Ведь переживание имело место в словесной форме, и так, не облеченным в слова оно хранилось в памяти, чтобы когда-нибудь быть изложенным с помощью языковых и прочих выразительных средств, имеющихся в распоряжении человека на момент рассказа. Интерпретатору в таком случае следует обратить внимание на те обстоятельства, в которых имели место описываемые события, а также на то, как о них рассказывает респондент (это лучше сделать, слушая магнитофонную запись). При занятиях устной историей на первом месте стоит не «изучение подделок», а стремление более точно определить момент возникновения того опыта и тех смысловых связей, которые описываются в рассказах опрошенных. Если, например, анализируя повествование о некоем предмете, относящемся к 1920-м годам, по его языковой форме и референтным связям удается определить, что смысл этого рассказа возник в коммуникативном контексте 1950-х годов, то для истории человеческого жизненного опыта (Erfahrungsgeschichte) это означает не меньший «улов», чем если бы оказалось, что рассказ «подлинный» в том смысле, что его референтные связи ведут именно в 1920-е годы.
Потом, основываясь на критической оценке текста как источника, можно попытаться более точно истолковать его смысл, полнее учитывая историю возникновения этого текста и коммуникативные особенности его формы. В прежней герменевтике и дройзеновской «историке» {59} считалось, что смысловое понимание текста возможно постольку, поскольку интерпретатор является, как и автор, человеком. Однако такая привязка возможности понимания ко внеисторической видовой категории ничего не дает, потому что человек есть не какое-то живое существо вообще, а в каждом случае культурно, социально и исторически определенное существо. Культурная деятельность, такая как историческая интерпретация, не может абстрагироваться от этой индивидуальной определенности автора и интерпретатора текста, а должна отправляться именно от их различия. Поэтому в более новых версиях герменевтики она понимается не как установление прямой связи между двумя далеко отстоящими друг от друга людьми, а как метод, в соответствии с которым смыслы, соединяющие миропонимание текста и интерпретатора, прилагаются к интерпретируемому тексту и проверяются на совпадения и различия {60}. Но откуда берутся эти смыслы?
Тут нам помогут упомянутые выше шаги: первое – этнологическое восприятие чужести, или различия, второе – объяснение их конструкцией латентных структур, третье – насыщение этих структур и четвертое – ограничение их протяженности за счет сопоставления с другим материалом. Иными словами, интерпретация не должна опираться на туманное и априорное понимание, существующее у интерпретатора еще до начала работы с текстом. Он может проверять на отдельных текстах смыслы, которые происходят из методологически уточненного восприятия самого интервью {61}.
В результате – как, надеюсь, мне удалось показать, – исторический анализ интервью-воспоминаний даже при невозможности статистически репрезентативных утверждений позволяет посредством методических шагов устанавливать связь между текстом единичного случая и историческим контекстом. С одной стороны, эти шаги могут дать ключи к интерпретации отдельных рассказов, так что их тексты откроются для нового, более глубокого прочтения и обретут значимость в рамках более широких исторических контекстов. С другой стороны, благодаря вниманию к различиям, эти шаги позволяют прозрачным образом делать обобщения или утверждения относительно структур. Эти интерпретации и обобщения, однако, суть гипотетические истолкования, которые свидетельствуют о перцептивных предпосылках интерпретатора.
Границы «антропологической» объективации
Заимствования у антропологии в области восприятия и структурирования других культур, предложенные мною как способ вырваться из герменевтического круга, возможны лишь до некоторых пределов. Одна такая граница заключена в опыте самой антропологии, поскольку, добившись понимания структур, эта дисциплина одновременно разучилась видеть способность изучаемых ею культур к автономным изменениям. «История» осталась на стороне европейских наблюдателей, чья конструкция структур жизни «дикарей» гиперрационализировала и деисторизировала эти структуры. Это не бросалось в глаза, пока колониальные власти, стоявшие за спиной антропологов, препятствовали восприятию и осуществлению изучаемыми племенами своей исторической субъектности. Но после начала национально-освободительной борьбы стран третьего мира стало понятно, что эта «мертвая зона» в поле зрения антропологов является критической {62}. Такая устная история, которая стремится познавать в повседневной жизни борьбу за независимость, или даже поддержать ее, должна отдавать себе отчет в этой границе и искать компенсаций, которые проявили бы живой, противоречивый, субъективный элемент в ее свидетельствах.
Вторая граница возникает, когда этнометодология возвращается в современные метрополии: сокращение исторической и общественной дистанции уменьшает и размывает зону чужести между исследователями и их респондентами, а тем самым и эпистемологический ресурс этого модуса исследовательской работы. Если не почти все чуждо (как в случае, когда берлинский интеллектуал два года живет в африканском горном племени), а встречаются два немца, живущие в одном городе и не разделенные даже большой социальной и имущественной дистанцией, то восприятие дистанции требует более тонкой саморефлексии. Она, однако, неотделима от массы общих черт в повседневной жизни и ментальности и не вознаграждается романтикой экзотических приключений. И все же дистанция реально существует, однако исследователь познает ее уже не посредством той «социальной смерти» {63}, которая стимулировала внимание европейца, осуществлявшего включенное наблюдение в полностью чужой культуре: он познает ее через частичное и потому зачастую не полностью осознаваемое раздражение его самопонимания и его предположений относительно респондентов. Только в ходе контакта природа дистанции может быть выяснена, вычленена из клубка дистанцирующих или объединяющих атрибуций; тогда может быть точнее определен и объем возможного понимания латентных структур. Одновременно эта более узко очерченная рамка анализа открывает зону, в которой свидетельства не требуют и не допускают специальной интерпретации в сегодняшней публичной сфере, а могут сообщать о своем смысле напрямую. Определение этой зоны, правда, дело трудное, в частности, потому что будничный язык интервьюируемых людей создает иллюзию непосредственности их воспоминаний, которую те, однако, зачастую теряют при возвращении их в исторический контекст. Здесь перед историком стоит задача: осмысленно отобрать и соотнести друг с другом цитаты и предлагаемые интерпретации.
Тем самым названа уже и третья граница: информанты и исследователи при изучении устной истории средствами «этнологии собственной страны» {64} связаны друг с другом общей (по крайней мере частично) публичной сферой. В отличие от традиционной этнографии исследователь здесь рассказывает «своей публике» не о том, что он обнаружил в мире, совершенно отдельном от его мира и препарируемом в рамках эволюционной теории или этнографического музея, подобно коллекции бабочек, – мире, культурную диалектическую связь которого с этноцентризмом Европы мы только сегодня научились видеть в ретроспективе {65}. Скорее в данном случае общество изучает само себя, и «публика» здесь потенциально и частично является и рассматриваемым объектом, и квалифицированным субъектом одновременно. Такой процесс познания не может быть завершен внутри науки, с тем чтобы его результат был в качестве готового продукта представлен общественности, рассматриваемой как внешняя: участники интервью-воспоминания и его анализа разрабатывают только основу для дальнейшего процесса познания общественной коммуникации.
Эстетическое восприятие
Эти эпистемологические барьеры могут быть открыты для читателя (слушателя, участника семинара и т. д.) и для общественности, когда истории-примеры из интервью-воспоминаний вместе с предлагаемыми интерпретациями историка делаются доступными для эстетического восприятия {66}.
Только бедные, сконструированные истории «раскладываются без остатка», когда интерпретатор к ним прилагает свои категории; такие рассказы после этой операции выглядят опустошенными, в них не остается никакого живого зерна, как в соломе после обмолота. Запоминается «мораль сей басни», а сама она забывается. Хорошие истории (а во время интервью любопытному и бережному интервьюеру, как показал наш опыт, расскажут много хороших историй) описывают удивительные сложные процессы, обладающие множеством связей с другими процессами. Эти связи частично описываются, частично упоминаются, а частично подразумеваются, но никогда не поддаются категориальной редукции; значение описываемого события или процесса для автора раскрывается в общей структуре повествования {67}. Иными словами, смысл истории воплощается в ее форме. Изучение тематических историй, рассказываемых без подготовки и повествующих о пережитых самим рассказчиком событиях {68}, показало, что обычно человек, выстраивая свою историю, должен выполнить три требования: во-первых, он должен из частичных событий и связей между ними выстроить единое целое, передающее замысел его рассказа. Во-вторых, чтобы поддерживать интерес слушателя и направлять его на этот главный замысел, рассказчику нужно сконденсировать описываемый процесс, выделяя важные узловые пункты. В-третьих, он, проходя шаг за шагом вспоминаемый событийный ряд, должен вставлять по ходу дела подробности и пояснения к тем моментам, которые, как он полагает, его слушателю неизвестны (или в большом интервью отсылать его к уже рассказанному ранее).
В силу таких требований к эстетике подобных историй смысловое содержание рассказа поддается вычленению и более или менее краткому выражению (цитированию), а из конкретных впечатлений строятся сложные взаимосвязанные структуры, но не систематические, а генетические. То, что рассказчику представляется интересным в его истории, он пытается наглядно продемонстрировать слушателю. Поскольку он рассказывает незнакомому человеку без подготовки, пользуясь разговорным языком, то наглядность достигается либо путем обращения к распространенным знаниям, зачастую генетически связанным с опытом преодоления повседневных жизненных проблем, либо путем специального описания того, что является уникальным, особым. И то, и другое приходится ради краткости делать лишь намеками, и потому предполагается опора на жизненный опыт, не эксплицируемый в полной мере.
Если в такой ситуации рассказчик не идет путем, описанным выше, т. е. не растолковывает все то, чего слушатель не понимает, и не рассказывает предысторию своей истории, а избирает путь эстетического восприятия, то у исследователя не остается по отношению к прочим слушателям преимущества, даваемого знанием. Наоборот, поскольку в данном случае главное – это то впечатление, которое «охватывает» слушателя при целостном восприятии, то скорее и лучше всего сможет понять сказанное тот, чей жизненный опыт в наибольшей мере пересекается с опытом рассказчика. Ибо понимание, по Дройзену, происходит «как бы непосредственно, сразу, так что мы не осознаем тот логический механизм, который при этом действует. Поэтому акт понимания подобен непосредственному интуитивному наитию, творческому акту, искре, проскакивающей между двумя заряженными телами, акту зачатия. В понимании полностью участвует вся умственно-чувственная природа человека» {69}.
Подобным же образом описывал Пирс предшествующее всякой научной операции и единственно продуктивное «абдуктивное умозаключение», путем которого на основе наглядного восприятия сложной констелляции делается вывод относительно ее главного информационного содержания: он тоже говорил об «интуиции» или о «молнии», с помощью которых через обращение к досознательному опыту можно сразу прийти к точной (хотя еще не доказуемой) расшифровке воспринимаемого {70}.
В один ряд с герменевтическим разбором текста интервью, таким образом, может на уровне эстетического восприятия встать и совсем другое понимание заложенных в нем завершенных микропроизведений устной литературы, – такое понимание, которое вполне адекватно этим историям как сложным выражениям субъективного опыта и к которому непредсказуемым образом способен «всякий».
Этот «всякий», однако, всегда есть некто особый, который по своей индивидуальности, а зачастую и по своей социокультурной принадлежности характеризуется специфическими отличиями и сходствами с респондентом и/или с историком. Поэтому он со своей позиции может обнаружить в рассказываемой истории еще какую-то информацию и какие-то смыслы, не те, что намеревался сообщить рассказчик, и не те, что выявили методические интерпретативные операции историка. Как минимум этот «всякий» может проконтролировать предложенную последним интерпретацию в приложении к некоему конкретному тексту-примеру {71}. Поэтому было бы неправомерным сужением осмыслять процесс производства устной истории как происходящий только в биполярном пространстве между субъектом и объектом, или между субъективностью и объективацией. Скорее его следует рассматривать, схематически говоря, как треугольник отношений, в котором реципиенту, т. е. «всякому», по праву должна быть отведена самостоятельная критическая позиция в социальной коммуникации по поводу истории. Поэтому тот, кто публично презентирует произведения устной истории (как правило, историк), должен следить, чтобы форма презентации давала возможность этому третьему участнику реально осуществить свою ключевую роль в исторической коммуникации.
Чтобы пояснить сказанное, я еще раз кратко рассмотрю альтернативные формы текста с точки зрения реципиента. Звуковой протокол или транскрипт обстоятельного интервью-воспоминания не пригодны для публичной презентации, поскольку их текст имеет смешанную структуру, содержание фрагментировано, степень подробности слишком высока. Их нельзя «прочесть», их можно только прорабатывать: расшифровывать, классифицировать, анализировать, интерпретировать и/или готовить к публикации.
Нередко фрагменты текстов, собранных в ходе проекта, – обычно это истории вышеописанного рода – вычленяют из корпуса и публикуют в книге (или фильме, радиопрограмме, на выставке). То есть публикуются фрагменты устной литературы, которые реципиент может воспринимать эстетически. Если он благодаря специальной профессиональной подготовке или параллельному опыту в целом знаком с тем, о чем рассказывается в этих воспоминаниях, то он может занять позицию по отношению к фактическому содержанию рассказа. Но в любом случае он не имеет того биографического горизонта и того интерактивного контекста, в которых этот рассказ возник, и потому он лишен важнейшего ключа к его исторической интерпретации. Кроме того, если ему не предложено никакой исторической привязки этого текста, никакого критического обобщения и интерпретативного его разъяснения, то у него нет средств, чтобы в рамках исторического знания осмыслить значение рассказа и составить свое собственное суждение. Такой реципиент, ограничивающийся эстетическим восприятием единичных историй, может составить себе наглядное представление о предмете и сделать некоторые изолированные открытия; его можно призвать идентифицировать себя с персонажами; им можно манипулировать, создавая иллюзию подлинности документа; можно его развлечь, вызвать у него потрясение или навести на возвышенные мысли; но лишь в редчайших случаях расширится его историческое восприятие и обострится его способность к суждению.
Однако, ничем не лучше ситуация, когда историк презентирует ему только результаты своей интерпретативной работы, местами подкрепляя или украшая свои слова краткими цитатами из источника. Такие цитаты в большинстве случаев не поддаются проверке и потому, собственно, совершенно ничего не подкрепляют. Кроме того, из массива текста интервью-воспоминания можно вычленить фразы или обрывки фраз, подходящие под любую, даже самую причудливую интерпретацию. «Собственный смысл» источника, которому должна быть адекватна интерпретация, проявляет свою «сопротивляемость» лишь в сравнительно длинных цитатах, которые позволяют проследить либо взаимодействие между интервьюером и респондентом, либо все сложное смысловое и формальное целое рассказа. Если же такие цитаты, причем пригодные для эстетического восприятия посторонним науке реципиентом, не приводятся в публикации наряду с интерпретациями, то реципиент остается полностью во власти интерпретатора, как если бы тот водил его по музею с завязанными глазами. Вполне возможно, что слова экскурсовода оказались бы способны настолько возбудить историческое воображение посетителя, что изолированные экспонаты вернулись бы перед его мысленным взором в те жизненные и источниковые контексты, из которых они намеренно или ненамеренно были вычленены. Сами по себе выставленные в музее шкаф, машина, витраж или мундир мало что говорят. Но если наш реципиент не может видеть эти экспонаты, хотя разбирается в одежде, посуде, картах или механизмах не хуже историка, который в данном случае должен только поставить ему на службу свои познания о другой эпохе, то что произойдет с его интересом, его знанием предмета, его критикой и его представлениями?
Может показаться, что среди методических рассуждений о проведении интервью-воспоминания неуместно приводить указания, какой должна быть презентация. Но только в этой точке замыкается круг, когда мы пытаемся заниматься устной историей с целью внести вклад в развитие демократической историографии, приблизиться к субъективному опыту тех, кто иначе не получит голоса в истории, ибо этот голос нигде не сохранится. Я постарался показать, что простых, прямых путей нет. Услуги исторической науки – даже сравнительно методологически сложные – нужны, чтобы участие тех, о ком рассказывается в истории, в самом деле способствовало расширению исторического восприятия всех. Но надо также избегать и противоположной опасности – опасности неконтролируемой научной экспроприации этой фрагментированной коллективной памяти: как показывает накапливание инструментального знания-власти в некоторых разделах эмпирической социологии и социальной истории, эта опасность реальна.
Я не говорю об утопической ситуации, когда мы, ученые, вдруг оказались бы одарены способностью так представлять результаты своей работы, чтобы всякий мог их понять и с удовольствием и интересом с ними знакомиться. Это, конечно, цель похвальная {72}. Но саморефлексия подводит к осознанию того, что выше головы не прыгнешь и что историки – не наставники нации, что они должны предлагать ей нечто осмысленное, и это нечто зачастую лишь через много промежуточных этапов, после критического отбора, в измененной форме, дойдет до исторической коммуникации в обществе и окажет на нее влияние – а иногда и не окажет. Я же говорю скорее о том, что эти услуги, эти предлагаемые историей обществу интерпретации должны быть сформулированы так, чтобы это были в самом деле предложения, которые отражали бы эпистемологические границы исторической интерпретативной работы и держали бы эти границы открытыми для критики со стороны «всякого» и для его участия, для выражения его точки зрения. Иначе говоря: историческое познание следует понимать не как продукт интеллектуалов, а как социокультурный процесс, который хоть и не движется без вклада интеллектуалов, но все же в нем и другие выполняют свои совершенно отдельные функции. Достижение этих целей, на мой взгляд, лучше всего обеспечивается тогда, когда интервью-воспоминания не превращаются ни в собрания непроинтерпретированных фрагментов, ни в продукты анализа, из которых изгнано живое содержание памяти респондента. Вместо этого следует сознательно сочетать в напряженном соотношении друг с другом углубляющую и обобщающую интерпретацию и эстетику длинных цитат, в которых тексты могут реализовать свое сопротивление неверно приписываемым смыслам, сохранить свою самобытность и историческую субъективность {73}.
Интервенция памяти
Английское словосочетание oral history означает – вопреки своему буквальному значению – не какой-то особый вид истории, который ограничивается устно традированными источниками, а специфическую технику изучения современной истории {74}. Устная история, с одной стороны, позволяет исследовать определенные сферы, по которым нет иных источников или они не доступны, и таким образом, она представляет собою один эвристический инструмент среди прочих. С другой же стороны, она позволяет расширить концепцию недавнего прошлого и историзировать его, в силу чего практика oral history оказывает влияние на понимание истории в целом.
Существуют два распространенных заблуждения. Первое из них – что устная история есть социально-романтический самообман, научно несостоятельный, ибо надежных воспоминаний и репрезентативных высказываний слишком мало, чтобы можно было строить на них серьезное исследование. Второе – что устная история есть универсальная аббревиатура вчерашнего, своего рода instant history, которая годится для всего чего угодно и позволяет понять утраченный мир дедушки, прослушав его последнее интервью, записанное на магнитофон. В противоположность этим двум глобальным предрассудкам функцию oral history в изучении современной истории скорее можно уподобить функции археологии для истории древней.
Это метод, специфичный именно для Новейшего времени, нацеленный на междисциплинарное сотрудничество, позволяющий расширить спектр исторических источников и историческое восприятие, а от других эвристических областей в истории отличающийся тем, что его источники не даны в готовом виде: их характер определяется отчасти тем, как они «добываются». Конечно, сравнение с археологией не совсем удачно, потому что остатки воспоминаний в памяти качественно отличаются от керамических черепков в земле. Но раскопки расширяют наше понимание истории, основанное на текстовых источниках, добавляя к нему пространственное измерение, и разрушают проекции исторической фантазии, предлагая новую возможность восприятия, где все наглядно и все зарисовано гораздо более реалистично, чем прежде воображалось. Подобным же образом интерактивная индукция интервью-воспоминания требует такого представления об исторической науке, при котором мы признаем, что ее данные продуцируются в процессе исследования, что она приближается к перспективе субъективного опыта, препятствует переносу нынешних представлений на прошлое и создает (подобно археологии) из фрагментов и примеров основу для нового восприятия, в данном случае – восприятия такого аспекта, как человеческий жизненный опыт. Поэтому ниже я хотел бы попытаться кратко очертить те сферы, где интервью-воспоминание сулит эвристические приобретения для современной истории, а затем сказать несколько слов о том, почему аспект человеческого опыта исторически важен и в какой мере его интервенция может иметь критическую функцию.
Свидетельство экспертов
Устная история возникла в США вскоре после войны, когда стало ясно, что важные для общества решения все больше принимаются не на уровне высшего руководства, а готовятся в штабах, аппаратах и на заседаниях, так что те, кто за них «ответственны», на самом деле зачастую только повторяют написанное другими и оправдывают это перед лицом общественности. Логика, стоящая за этими решениями, и институциональные процессы, в ходе которых они вызревали, суть порождения мира элит второго эшелона (менеджеров, функционеров, чиновников, экспертов), которые не пишут своей истории, не излагают в ней своих мотивов и связей, а если бы они и писали мемуары, то эти книги не продавались бы. Те письменные тексты, которые эти люди продуцируют, суть лишь конечные морены внутриаппаратных процессов, которые сами по себе все меньше опираются на письменную фиксацию информации. В XIX и в первой половине ХХ века дело обстояло еще совсем иначе: во-первых, число участников было гораздо меньше; во-вторых, им зачастую не оставалось ничего другого, кроме как письменно объясняться друг с другом по поводу их истинных мотивов. Современные бюрократические аппараты во второй половине ХХ века продуцируют все больше бумаг (впрочем, этому процессу роста может положить конец распространение средств телекоммуникации), но все больше решений обсуждается и принимается по телефону или в мобильных рабочих группах, поэтому такие бумаги все меньше годятся для глубокого исторического анализа {75}. Никсоновские магнитофонные записи деловых разговоров в Белом доме и взяточная бухгалтерия Флика [3] обладают такой высокой ценностью не потому, что в них документирован очень необычный способ ведения дел, а потому, что подобная форма фиксации информации о практиках в мире власти и денег в высшей степени необычна.
Однако опыт показывает, что представители этих кругов зачастую и после выхода на пенсию или в отставку сохраняют дисциплину, подобающую их должностям, и лишь немногие из них готовы и способны с достаточной точностью вспоминать детали своей прежней деятельности. Только в исключительных случаях долговременная память не изменяет человеку, когда по прошествии десятилетий нужно в подробностях реконструировать процессы принятия конкретных решений. Это неоднократно показывали допросы свидетелей в процессах по преступлениям нацистов, шедших более чем через двадцать лет после событий. Это обстоятельство испортило репутацию огромной массы письменных свидетельств и записей устных рассказов в области современной истории {76}. Ситуация бывает, возможно, иной в тех случаях, когда подобные процессы принятия решений одновременно означали важные, переломные моменты в биографии самого вспоминающего, но тогда он зачастую не хочет потом ни с кем делиться воспоминаниями о них. Опыт интервьюирования представителей элит на темы, связанные с политическими решениями, привел историков к мысли, что опросы свидетелей надо начинать сразу после значительных событий. Но такие мероприятия по превентивной фиксации исторических сведений быстро наталкиваются на финансовые трудности, а кроме того, они сопряжены со сложнейшими методическими проблемами {77}.
Многие историки, разочаровавшиеся в плодотворности и надежности интервьюирования представителей элит как способа сбора информации о принятии решений, тем не менее считали, что встречи с ними помогали им многое понять из «подоплеки дела». Более крепкой представляется долговременная память в отношении того, что касается социальных отношений внутри аппаратов и между ними, оценок тех обстоятельств, которые определяли принятие решений, и тех кодов, в которых осуществлялась коммуникация; одним словом: лучше помнятся истории из верхних этажей рабочего мира {78}. Поэтому тут вполне можно было бы проводить антрополого-социальноисторические исследования повседневной жизни «человека организационного». Но в качестве информационной подпорки для современной политической истории даже такие воспоминания из организационных контекстов следует признать особо текучими и субъективными данными, которые можно собирать и контролировать только в сочетании с соответствующими архивными разысканиями. В этом смысле процесс такого комбинированного сбора информации сближается с расследованием дел в криминалистике, а интервью – с допросом. Часто для этих целей более пригодны и достаточны разговоры «о подоплеке дела», проводимые без магнитофона, т. е. не оставляющие после себя никакого документа, доступного для текстового анализа.
В проекте LUSIR подобные интервью с представителями элит на темы, связанные с политическими решениями и структурами, проводились только как составные части биографических интервью, сопровождались архивными исследованиями профсоюзных документов, а в качестве респондентов фигурировали прежде всего члены производственных советов и другие представители рабочих элит горнодобывающей и металлургической отраслей. Разговоры «о подоплеке дела», ведшиеся помимо собственно интервью, дали нам очень важные сведения, например для реконструкции политических взаимосвязей {79}. Но та полученная от представителей политических элит информация, которая касается не фактов и структур, а политических идей, ценностей, опыта и кодов, особенно трудна для интерпретации, потому что этим людям приходилось постоянно заново обдумывать и переосмысливать свои цели, так что их память уже многократно прорабатывала и заново интерпретировала воспоминания.
Это я хотел бы проиллюстрировать примером ретроспективной рефлексии одного профсоюзного функционера по поводу вопроса об обобществлении собственности на средства производства в первые послевоенные годы. Свой опыт он сформулировал в таких словах: «Здесь тогда еще время не пришло для тогдашнего времени» {80}. Сначала эта фраза вызывает недоумение. Высказывание, с одной стороны, представляет собой краткую формулу, а с другой стороны, расплывчато и облачено в камуфлирующие понятия («время»), которые к тому же имеют разные значения: это противоречие указывает на то, что это перед нами квиетистский код самопонимания, которым выражена идея, не пригодная для открытого высказывания. Правда, достаточно хотя бы немного знать о том времени, чтобы понять политическое значение этих камуфлирующих понятий. Но фразу, которая в результате такой расшифровки получится, – «общественные отношения здесь тогда еще не созрели для обобществления средств производства», – респондент явно не хотел произносить, потому что это было бы всего лишь затертой левацкой рационализацией поражения социал-демократов и коммунистов. Сказав меньше, он дал понять больше и одновременно это скрыл. Этот человек – сын плотника, разочарованного «старого бойца» СА, – в конце войны был убежденным членом гитлерюгенда, командовал малолетками. Потом убежал от русской оккупации из Центральной Германии в Рурскую область, где уже в 1946 году стал руководителем молодых рабочих на своем предприятии, двумя годами позже вступил в профсоюз, а потом, когда основной его работой стала профсоюзная деятельность, стал членом СДПГ. Послевоенная переориентация привела его в лагерь левых и одновременно способствовала стремительному росту его общественного положения: на сегодняшний день он считается одним из немногих выдающихся левых деятелей среди крупных функционеров своего города. Обобществление средств производства – это для него цель, которая после войны стала прежде всего содержанием его новой жизни; но, глядя из сегодняшнего дня, он идентифицирует ее с тогдашним временем, и при таком дистанцировании она выглядит уже не такой актуальной. От темпорального понятия («тогда») он отделяет пространственное («здесь»): очевидно, тогда же где-то в другом месте время для обобществления уже пришло, но это было в той самой советской зоне оккупации, откуда он сбежал. Из этой искаженной картины общеполитических условий, биографии и приобретенной позднее, ставшей с тех пор не актуальной, но все же сохраненной целевой ориентации возникает процитированная трудная фраза, которая поначалу недоступна для коммуникации, потому что ради сохранения идентичности громоздкие связи с действительностью камуфлируются формулами-пустышками. Но эти формулы-пустышки представляют собой усеченный код и содержат в себе одновременно коммуникативное предложение собеседнику: достичь согласия в рамках просвечивающего общепринятого (для левых) паттерна рационализации.
Этот пример показывает, что интервью с политиками полны подводных камней, особенно в обществах, где политические векторы в недавнем прошлом несколько раз резко менялись. Даже – или особенно – там, где предмет воспоминания не слишком эфемерен для долговременной памяти, а в силу своей личной значимости хорошо в ней сохранился, в интервью лишь в редких случаях рассказываются сырые воспоминания о ценностно нагруженных политических сюжетах. Это превращает их – тем более, что политический процесс, как правило, порождает также другие источники информации, – в богатый фонд данных для изучения индивидуальных и общественных факторов, которые при формировании и переформировании опыта сплетаются друг с другом; но для исторической реконструкции возникающий в результате источник использовать трудно. Впрочем, эта проблематика не столь сильно проявляется в работе со вторым типом экспертного интервью, применяемого для реконструкции сфер современной истории, слабо обеспеченных источниками: я имею в виду реконструкцию условий повседневной жизни.
Значительная часть повседневности, в которой группы и индивиды трудятся, состоят в социальных отношениях, формируют толкования своей жизни или перенимают унаследованные, сама по себе не продуцирует текстовых (а зачастую и вовсе никаких) источников. Хотя именно в этой сфере общественные структуры и политические процессы соприкасаются с жизнью индивида, т. е. история как бы охватывает и пронизывает человека, документирована эта сфера чрезвычайно скудно, и это многих удивляет, ведь повседневность представляется чем-то настолько близким, что кажется, будто источники по ее истории находятся повсюду, а каждый человек – эксперт по собственной недавней истории. На самом же деле история повседневности особенно трудна для изучения и зачастую в большей мере, чем политическая или интеллектуальная история, нуждается в теоретической базе {81}.
Связано это прежде всего с тем обстоятельством, что большинство рутинных действий в повседневной жизни совершается неосознанно: это привычные и едва приметно меняющиеся впечатления и действия, заученные в период социализации. Человеку становится изнутри видна их особость только тогда, когда они перестают быть автоматическими. Неосознанное представляет собой «забытую историю» {82}. Тот факт, что его содержание составляют вещи, когда-то возникшие, не присутствует ни в сознании, ни в воспоминании до тех пор, покуда эти вещи сохраняют свою действенность. Они проявляются на поверхности сознания лишь постольку, поскольку их приходится не совершать машинально, а вспоминать, или если их наблюдает кто-то со стороны.
Поэтому не удивительно, что попытки исторического изучения жизненной практики субъектов сталкиваются с особыми эвристическими проблемами. Остатки прежней повседневной жизни весьма фрагментарны, поскольку в большинстве будничных отношений и процессов господствует устная коммуникация, а отложения материальной культуры, если они вообще собираются и хранятся, не заключают своего смысла сами в себе: они всего лишь технологические элементы и инструменты исчезнувшей жизни. Историческая интерпретация в таких условиях, как правило, вынуждена опираться на сохраненный преданием исключительный случай, который документирует нарушение повседневной практики или преследование отклоняющегося поведения, или же на другие свидетельства внешних наблюдателей. Но адекватно ли отражают такие внешние свидетельства тот «собственный смысл», который заложен в описываемых жизненных условиях, а если нет, то как они его преломляют, – можно проконтролировать только по свидетельствам «изнутри» {83}. По этой причине подавляющее большинство проектов по устной истории сегодня посвящено исследованию таких социальных групп или фаз в истории еще живущих поколений, которые не породили никаких или почти никаких субъективных свидетельств, источников, и цель этих проектов в том, чтобы через интервью-воспоминания сделать эту недавно минувшую повседневность частью истории.
Но и к этой цели нет прямых путей. Если субъектные связи повседневности открываются преимущественно стороннему наблюдателю или воспоминанию, то и интерактивная индукция пассажей в интервью-воспоминании, посвященных истории повседневности, порождает только такие источники, которые полностью раскрывают себя лишь при взаимном контроле обоих измерений. Ведь о повседневности здесь говорится только по двум причинам: либо потому, что об этом спросил интервьюер, – и тогда смысл конституируется спрашивающим, потому что его просьба поточнее описать повседневную практику всегда приводит к тому, что из латентной памяти извлекаются лишь свидетельства, освещающие предмет под одним определенным углом; либо потому, что респонденту захотелось вспомнить не существующую более жизнь, – и тогда преодолеть барьер предполагаемой им тривиальности предмета рассказа он может только за счет чувства сожаления или облегчения по поводу того, что теперь повседневная жизнь в этом и/или других отношениях стала иной. Это чувство (у многих старых людей это ностальгия) {84} – а вовсе не тогдашний смысл воспоминаемой жизненной практики – мотивирует активную память и структурирует смысл сообщения, выдаваемого ею. Но обе перспективы могут дополнять и контролировать друг друга.
Если интервьюер терпелив и уже настолько детально знаком с условиями жизни своего собеседника, что может задавать конкретные вопросы, то респондент, как правило, точно и подробно описывает рутинные повседневные действия {85}, по крайней мере такие, которые относились к основной сфере его деятельности, навыки, владение которыми было ему важно и являлось составной частью его я-концепции. Вопрос о том, почему такие рутинные повседневные операции удается извлечь из памяти, до сих пор, насколько мне известно, наукой не изучен. Но две причины кажутся мне очевидными. Во-первых, важность этих действий для трудовой и прочей жизни субъекта вела к тому, что они в точности запоминались, а длительная практика способствовала тому, что они входили, как говорится, в плоть и кровь. Во-вторых, это в большинстве своем «невинные» знания и умения, которые не приходилось в последующей жизни истолковывать или перетолковывать в отличие, например, от ценностных ориентаций или проблематичного опыта {86}. Точность воспоминания связана не в последнюю очередь с тем, что респондент не может разглядеть связь вопроса со смыслом истории своей жизни. Такой связи, как правило, и нет; смысл вопроса устанавливается аналитически и касается условий жизни некоторой группы. Но косвенно такая связь может возникать при анализе текста интервью, потому что у исследователя есть возможность проверять опыт и оценки респондента на соответствие его же рассказам о повседневной жизни. Если такого человека просят дать сведения о повседневной жизни некоей группы, объединенной какой-то общей практикой, то его наивное воспоминание будет обладать потенциалом плотного описания {87}. В сочетании с воспоминаниями о сравнимых ситуациях это описание можно контролировать и доводить либо до насыщенного и освобожденного от индивидуальных особенностей описания структуры, либо до характеристики некоего габитуса, социального структурирования диспозиций для практики индивида {88}.
Но получать такую информацию посредством бесед – в полевой социологии их называют экспертными интервью – бывает порой трудно. От интервьюера требуется глубоко «входить» в материал, чтобы, с одной стороны, он сам понимал значение своих вопросов для своего исследования и обладал достаточным терпением, чтобы выслушивать подобные описательные воспоминания, а с другой стороны, мог на основе своих познаний задавать достаточно точные дополнительные вопросы, поддерживая процесс воспоминания о рутинных повседневных действиях (какие трудовые операции осуществлялись на том или ином рабочем месте, как проходил среднестатистический день и т. д.), и производить на респондента впечатление человека, которому стоит рассказывать подобные вещи. Для интервьюируемого же трудность заключается часто в том, что он не может понять смысл вопроса (например, такого: как были обставлены те три квартиры, в которых он последовательно жил в детские годы?), или что его раздражает тривиальность предмета, или он предполагает, что интервьюер обладает некими познаниями вообще либо по данной конкретной теме («Ну, девочка моя, вы же знаете, что в хозяйстве делать приходится»), в то время как это может быть не так. Но работа по воспоминанию подробных описаний повседневности предполагает преодоление таких коммуникативных барьеров с обеих сторон.
Субъективность опыта повседневности и паттерны собственного смысла, заложенного в повседневности, невозможно реконструировать из комбинаций воспоминаний таким же образом, потому что они, как правило, подвержены воздействию позднейших или поступающих извне (фактически или на взгляд респондента) толкований, так что сведения, сообщаемые в интервью-воспоминании, варьируют в соответствии не столько с мерой и характером участия респондента в этих повседневных делах, сколько с тем, что он прожил и передумал с тех пор. Но поскольку аспекты повседневности не только являются элементами специфических групповых структур, но и описывают зону практики индивида, то субъективное восприятие их измерений и внутренней структуры имеет особое историческое значение {89}: какого рода проблемы с какими партнерами можно решать в этих рамках? Для чего необходимы организационные или институциональные решения? Является ли восприятие смысла совместимым со структурами повседневности или компенсирующим их? Как приватный мир человека соединяется с более крупными жизненными структурами, которые создаются средствами массовой информации, рынками или центрами политической власти? Поэтому необходимо пытаться скорректировать искажения, вызванные «эффектом ностальгии», когда память реконструирует структуры значения повседневности для субъекта. Для этого существуют главным образом две возможности: по крайней мере постольку, поскольку сообщаемые респондентом толкования отклоняются от тех, что господствуют (фактически или на взгляд респондента) ныне, можно подозревать, что они «правильные», оригинальные. Но кроме этого можно проверять и совпадение между описанием деталей и истолкованием целого: организуют ли они материал, рассказанный человеком в воспоминании о его рутинных повседневных делах? Совместимы ли они с фактами, сообщаемыми в других сохранившихся свидетельствах?
Хороший пример этому мы находим в работах Франца-Йозефа Брюггемайера о культуре шахтеров в эпоху бурного роста горнодобывающей промышленности Рурской области на рубеже XIX-ХХ веков {90}. В беседах со старыми горняками Брюггемайер обратил внимание на то, что в свое нынешнее истолкование тогдашних условий жизни и труда они все время вносили элементы самостоятельности, свободы, трезвого расчета и кооперации. Это противоречило всему, что ученый прежде знал из источников той эпохи, где поведение этих рабочих описывалось как нестабильное и неадаптивное: исследователи интерпретировали его как нецелесообразный пережиток аграрных ценностей и как паттерн поведения, характерный для мигрантов, столкнувшихся с дисциплинарными требованиями индустриального образа жизни. Среднему наблюдателю самоинтерпретация шахтеров во время интервью кажется ностальгическим искажением действительности, потому что он рассматривает условия их жизни и труда как крайне убогие и неустойчивые, в то время как предпосылками для самостоятельности, свободы и т. п. он привык считать материальное благосостояние и уверенность в завтрашнем дне. Однако, точно реконструировав условия повседневной жизни и работы этих людей, исследователь обнаружил, что противоречия вовсе не было, потому что в специфических условиях принятой тогда групповой работы в забое, в условиях вынужденного общежития, в условиях высокой мобильности при большой потребности отрасли в рабочей силе, справляться с бытовыми тяготами можно было только развив в себе повышенную способность к кооперации и самостоятельно управляя собою.
Итак, опыт исследовательских проектов в жанре устной истории учит, что интервью-воспоминание в самом деле позволяет реконструировать повседневные рутинные действия и условия жизни, которые иначе – в отсутствие других источников – пришлось бы считать навсегда утраченными для истории. Кроме того, оно дает возможность получить их осмысление и истолкование из уст самих участников этой жизни. Но этот же опыт позволяет увидеть и границы возможностей такого подхода. Мои заключения на сей счет основаны на единичных наблюдениях и не подкреплены эмпирически, поэтому вполне возможно, что при дальнейшем эвристическом развитии дисциплины удастся преодолеть те ограничения, о которых я говорю.
По моим наблюдениям, повседневная рутина вспоминается и описывается тем лучше, чем она была предметнее и пластичнее, чем больше в ней находили применение практические навыки (в противоположность базовым теоретическим знаниям) и чем в большей мере ее смысл раскрывался в непосредственно проживаемых событиях – таких, как, например, употребление некоего продукта. Работник ремесленной специальности или домохозяйка, ведущая подсобное сельское хозяйство, мне кажется, гораздо лучше могут описать и истолковать свою работу в ходе интервью-воспоминания, чем, например, рабочий, стоящий у конвейера, или конторская делопроизводительница. Когда будни состоят в основном из тривиальных действий, эффект которых абстрактен, а ответственность распылена и смысл производимой работы можно оценить только в контекстах такого масштаба, который недоступен восприятию работника, так что он осмысляет свой труд в основном исходя из его оплаты и социального статуса, в таких обстоятельствах попытки человека во время интервью-воспоминания описать свою работу зачастую оказываются беспомощными, а его рассказ – о социальных отношениях, например, внутри административного учреждения – смешивается до полной неразличимости с показными утверждениями, направленными на поддержание чувства собственного достоинства {91}. Это, впрочем, относится не только к управленческой деятельности, но к большому и все увеличивающемуся сегменту трудовой жизни, организованной по современным стандартам.
Далее, в воспоминании – или в рассказе, адресованном более молодому и незнакомому человеку, каким является интервьюер, – отличия описываются более подробно, нежели сходства. Больше всего стимулируют память и просятся в рассказ именно те феномены повседневной культуры, которые не отвечают нынешним обычаям и ожиданиям, а порой и вовсе уже не встречаются более. А то, что тогда было примерно так же, как сейчас, расплывается в общей картине «обычной жизни», так что менее яркие отличия скрадываются. Четкие контуры достигаются лишь при сильной дифференциации, и в устно рассказанных историях специфику оттенков зафиксировать очень трудно. Опыт – и не только в нашем проекте – показал {92}, что воспоминания и спонтанность интервьюируемого ослабевают, когда рассказ доходит до 1950-х годов и отличия от сегодняшнего дня уже не радикальны, а скорее являют собой лишь количественные градации одних и тех же вещей. Возможно, это – специфика возрастной группы тех, кого сегодня чаще всего опрашивают (т. е. людей старше шестидесяти) {93}, но все же свидетельствует и о том, что в принципе континуитет мешает вспоминать, топя чуть более выпуклые и кажущиеся достойными упоминания вещи в море привычной повседневности.
В более общем плане можно сказать так: реконструкции повседневной жизни с помощью интервью-воспоминаний более успешны применительно к тем явлениям, которые еще имели место в жизни современников, но теперь уже в таком виде более не существуют, нежели к тем, которые возникли на их памяти и продолжают существовать ныне. Это может показаться историку банальностью; важная ограничивающая функция этого положения становится видна только если учесть, что оно относится к специфическому методу изучения современной истории. Потому что если современная история вообще чем-то отличается от прочей, то именно тем, что она изучает события и структуры, с которыми ныне живущие люди еще связаны непосредственными узами опыта и власти.
Опыт субъектов
Устная история – не панацея, но обеспечиваемые ею возможности дифференцированного восприятия как в социальной, так и в культурной истории повседневной жизни еще далеко не исчерпаны. И все же она – не только эвристический инструмент для заполнения лакун в изучении современной истории. Ее основная роль в исторической науке заключается в том, что она начинает демонстрировать исторически обусловленный характер и историческую практику массы субъектов (говоря коротко – «народа» {94}). Это ставит ее в один ряд с другими качественными методиками изучения такой социальной истории, которая находится под влиянием гуманитарных наук, прежде всего антропологии, и выступает все более в качестве критического потенциала в отношении двух так называемых парадигм (т. е. способов овладения организацией всего исторического знания) – традиционного историзма и так называемой исторической социальной науки (historische Sozialwissenschaft).
Традиционному историзму (в той его разновидности, которая стояла на точке зрения, близкой к точке зрения господствующих групп, т. е. считала общество конструктом, созданным антагонистической наукой, а народ как величину пренебрежимо малую оставляла без изучения, произвольно приписывая ему те или иные качества), исследователи, пытающиеся заниматься качественной социальной историей, противопоставляют конкретизированный взгляд с точки зрения народа (или, говоря академическим языком, демонстрируют относительную автономию социокультурных субструктур). Это видение не может быть полностью вписано в картину, как она видится с трона и с кафедры, – разве что в форме резидуальных категорий («антропологических констант») {95}.
Ведущие представители исторической социальной науки, похоже, усматривают некий вызов в том, что в качественной социальной истории их макросоциологический теоретический аппарат оказывается слишком громоздким, устаревшим и некритичным, что их апелляциями к критическому рационализму пренебрегают как практически бесполезным, бесплодным сужением палитры исторических средств познания и что в истории собственный смысл субъектов и миров их повседневного опыта оказывается не намного более удобным для синтеза, «чем в реальной жизни» {96}.
Но в обоих случаях разломы порою кажутся глубже, чем они есть на самом деле. Устная история и другие области качественной социальной истории по необходимости являются составными частями понимающей исторической и социологической науки. В истории они видят культурную зону, которую методами точных наук невозможно, да и не надо, полностью «разложить по полочкам». Представителей этих направлений роднит со многими представителями позднего историзма априорное суждение, что историю творят люди, – только они при этом имеют в виду гораздо большее число людей. Подобно исторической социальной науке, они стремятся расширить научный контроль исторических источников, им дороги демократия (даже в период между выборами) и рациональность (вплоть до познания ее границ), они опираются на традиции Просвещения – впрочем, не на рационализированный в ту эпоху буржуазный бред величия и не на приобретшую структурный характер лавину модернизирующей экспансии европейской буржуазии, а скорее на осознанную в то время необходимость самосозидания и саморефлексии общества {97}.
Что же в таком расширенном контексте означает сказанное выше о вкладе устной истории в прояснение и доведение до общего сведения исторически сложившегося характера и практики массы исторических субъектов? Речь при этом идет не столько о случившейся истории (или о реконструкции былых событий) – это может выяснить традиционная наука, которая есть и никуда не девается. Речь идет об эмпирическом приближении к значению истории в истории. Это я называю историей человеческого жизненного опыта: как переработка человеком впечатлений, воспринятых им ранее, задает структуру для переработки тех впечатлений, что будут восприняты им потом? С этим вопросом связаны наиболее интересные в настоящий момент исследовательские перспективы устной истории. Если же слова «восприятие впечатлений» в первом случае заменить на «габитус» [4] , а во втором случае – на слово «практика», то помимо осознанной связи между знанием, полученным из опыта, и способностью к формированию понятий и к ориентации в зону нашего внимания попадет гораздо более обширная зона социокультурно неосознанного: эта зона глубин относится к области истории опыта, но превращает ее одновременно в область междисциплинарную. И интервью-воспоминания способны внести вклад в ее исследование.
С тех пор, как с изветшанием идеалистической концепции развития «история духа» потеряла свой главный стержень, а экономический редукционизм, признав постулируемую структурализмом «относительную самостоятельность» надстройки, закончил свои дни, не осталось, насколько мне известно, более ни одной теории, которая претендовала бы на всеохватное объяснение связей между материальными, социальными и интеллектуальными изменениями в истории. В условиях такого дефицита в исторической науке экспериментируют со множеством концепций, которые в большинстве случаев представляют собой варианты «истории ментальностей» по модели школы «Анналов» – например, это история представлений или история эмоций {98}. Проблематичным в этих концепциях мне представляется то, что они искусственно изолируют культурный аспект и либо превращают его в статичную структуру, либо изучают его изменения в отрыве от социальных процессов: в первом случае получаются в результате структуры без истории, чья постулированная «большая длительность» в современной истории не могла бы выглядеть убедительно; во втором случае в результате получается расширенная в социальном направлении «история духа», только лишенная своего идеалистического или вообще всякого фундамента.
Понятие опыта в том виде, в котором применил его к социальной истории в 1960-е годы Эдуард Томпсон {99} (и в котором оно тогда вообще стало одним из главных понятий «новых левых»), имеет преимущества перед ними – во всяком случае если его освободить от встроенного в него в свое время оптимизма. Это понятие связывает действующие ценностные традиции и мыслительные структуры с восприятием совокупности структурных условий и происшествий, толкуемых как исторические события. Оно открыто для дальнейших интерпретаций на основе новых впечатлений и соединяет индивидуальные и коллективные впечатления и истолкования, в том числе и те, что приходят извне {100}. Это понятие нацелено не на антикварскую пустоту некоей «ментальности», а на восприятие и истолкование будущих событий и обстоятельств субъектами опыта. Благодаря этому понятие опыта может, с одной стороны, связаться с их (субъектов) практикой, а с другой стороны – исторически – с нашим собственным опытом.
Но, сосредоточившись на эффекте коллективного опыта борьбы, создающего единое сознание группы, «новые левые» разрабатывали только один – так сказать, самый верхний – слой опыта: историю событий и конфликтов. Этот уровень особенно привлекателен и для тех, кто принимал активное участие в событии, и для тех, кто занимается исторической реконструкцией сознания: ведь здесь, под влиянием обстоятельств совместной борьбы, восприятие опыта неизбежно очень плотно проговаривается, обсуждается, на уровне сознания переводится в действие; это подчиняет мыслительные процессы ритму событий и порождает подлинные валы исторических свидетельств, в которых могут потом копаться археологи сознания. Только после событий можно разобраться: в какой мере продуктивность сознания, вызванная борьбой и образованием в ее ходе общностей, проявила также и более глубоко лежащие слои опыта участников (чем и обусловлена ее роль для будущей практики)? Не получилось ли так, что ситуация борьбы стала своего рода опьянением, а потом следует похмелье и возврат в совсем другую повседневность? {101}
Если же для освещения упомянутых «более глубоко лежащих слоев», которые связывают актуальное сознание с более долгосрочными структурами жизненных условий, ввести в анализ структурные концепции из общественных наук или из антропологии, то неизбежно останется мыслительный зазор между экспрессивной субъективностью сознания и сконструированной объективностью структур. В этом зазоре сознания прорастают семена обвинений в «ложном сознании» или «просветительском высокомерии».
Пьер Бурдье, отправляясь от иной постановки проблемы (он хотел в своих этнологических штудиях снять противоречие между структурализмом и феноменологией), попытался закрыть этот зазор с помощью своей теоретической схемы «габитуса» и «практики» {102}. Его основная мысль проста и убедительна: Бурдье указывает на то, что габитус и практика не замкнуты друг на друга, они соединяются при посредстве биографии. Интериоризованные в ходе социализации структуры, которые царят в социокультурном окружении субъекта, становятся его второй натурой. Специфическое для каждой социальной группы своеобразие этой второй натуры Бурдье называет габитусом: это в значительной мере неосознаваемые, долговременные установки, структурирующие будущие действия, но не в качестве вечного механического рефлекса, а в качестве проявления «всего прошлого опыта» {103}. Этот подземный канал второй натуры как забытой истории позволяет Бурдье избежать механиcтичности в описании связей, не впадая при этом в противоположную крайность субъективистского произвола. Он открывает общественные структуры для истории, причем ровно настолько, насколько это необходимо для движения окольным путем через структрурирование опыта субъектов и обусловленное опытом структурирование их практики.
Теоретическая концепция Бурдье прекрасно вписывается в зазор между теми аспектами опыта, которые субъект осознает, осмысливает в своей практике и которые благодаря этому становятся потенциальным материалом исторических источников и поддаются историческому изучению, – и глубинными слоями его характера, обусловленного социокультурными структурами. Историческое и социологическое изучение таких структур, конечно, тоже возможно, однако в биографии связь между ними просматривается с трудом. Под влиянием психоанализа была выдвинута гипотеза, что рано приобретенные установки сохраняются в неосознанном виде и от случая к случаю структурируют практическую деятельность человека, – и в том, что касается первичной социализации (прежде всего применительно к средним слоям индустриальных стран ХХ века), ей найдено множество эмпирических подтверждений. Но c ренессансом психоаналитического интереса к теории культуры (или ко вторичной социализации) возникает критическая ситуация, в которой становятся необходимы междисциплинарные усилия (такие как этнопсихоанализ), поскольку психоаналитический сеттинг, в котором можно ухватить биографическую правду, здесь наталкивается на границу своих возможностей переноса {104}. И схема Бурдье, разработанная на материале сравнительно статичных и элементарных условий, не дает ответа на вопросы: какие структуры и когда обнаруживают свое действие по формированию установок? Как ступени социализации, которые могут быть структурированы различными окружающими средами, соединяются и приспосабливаются друг к другу в опыте индивида? Какие воздействия на соотношение габитуса и практики могут оказывать конкурирующие структуры (например, у лиц, осуществляющих быструю восходящую социальную мобильность) или сильные и долговременные перемены в структурах окружающего мира (например, во время войны или после изгнания)? Список вопросов быстро удлиняется, как только мы начинаем исторически изучать тот или иной габитус {105}.
При таком количестве вопросов без ответов мне представляется тем более осмысленным обратить внимание на историю человеческого жизненного опыта – такую, которая не оттесняется на задний план изучением господствующих структур, а противодействует расплывчатости связанных с таким изучением исторических представлений (вроде «социальные изменения») и фаталистическому блеску сконструированных якобы собственных закономерностей структурных перемен – противодействует за счет того, что биографическим методом исследует реальную силу воздействия этих структур {106}. При этом не только приобретается знание о практических возможностях действия субъектов, но эти возможности расширяются. Ведь если прав Бурдье, говоря, что габитус субъектов, который неосознанно структурирует их деятельность, стал их второй натурой, т. е. что «забытая история» составляет большую часть их опыта, то воспоминание этой истории и ее изучение может повысить способность субъектов к самоопределению. Интервью-воспоминание затрагивает эту область, хотя и не может ее заполнить или структурировать; но оно встречается с проблемами психоанализа на пороге полового созревания, так сказать, с другой стороны {107}.
Мне кажется, что значительная доля интереса к устной истории происходит именно от непроясненных ожиданий в этом направлении. Какой вклад она могла бы внести в такую историю человеческого опыта? Например, она точно не могла бы заниматься изучением второй натуры человека на основе «репрезентативной выборки» жизненных историй, потому что количество интервью-воспоминаний, которые можно провести и проанализировать, всегда невелико, к истории раннего детства респондента и к большей части тех тем, которые он считает приватными, с таким инструментарием подступиться невозможно, а стало быть важные факторы, определившие его личность, останутся вне зоны внимания исследователя. Однако, интерактивная работа памяти в интервью-воспоминании (и в этом его отличие от прочих видов нарративных интервью) выводит на поверхность не только тот опыт, который консолидировался в сознании, но и множество следов забытой истории, указывающих на ту ее сторону, которая обращена к общественной сфере. Большая часть пластичных историй в памяти респондента происходит из встреч с чем-то новым, а значит открывает доступ к интериоризованной допонятийной интуиции, указывающей на отсутствие в тот момент соответствующей предиспозиции. При упорядочивании биографических историй, сложившихся под влиянием сравнимых социокультурных структур, можно обнаружить постпубертатные элементы того, что Бурдье называет габитусом.
В то же время, материал наших интервью показывает, что в условиях переломов, охватывающих все общество и глубоко затрагивающих жизнь индивида, его опыт определяется не только установками, приобретенными в раннем возрасте, но и складывается в процессе постоянного взаимодействия с проблемами и возможностями, которые предъявляет ему общество. Для изучения истории опыта в этом смысле интервью-воспоминания могут создать важную, – а при том, сколько разрывов и переломов в немецкой истории, зачастую и единственную – источниковую базу. Здесь мы тоже можем воспользоваться тем, что в биографическом рассказе излагаются по преимуществу встречи с чем-то новым, не вполне вписывающимся в существующие ментальные структуры, – а таких встреч на переплетающихся жизненных путях, особенно в 1940-е годы, бывало много почти у каждого. С другой стороны, отбор таких рассказов, их комментирование и использование в качестве аргументов, а также обнаруживающиеся в некоторых случаях следы позднейшей их обработки позволяют рассмотреть процессы ретроспективной интерпретации и переработки, которые определяются структурой опыта данного индивида, нормами его группы, существующими в «большой» культуре готовыми интерпретациями и цензурными ограничениями (особенно когда их направленность за время между событиями и рассказом поменялась), а порой и спроецированными ожиданиями интервьюера, которые передались респонденту. Пристальное изучение текста позволяет зачастую обнаружить в интервью следы, на основе которых этот многослойный конгломерат из остатков пережитого, преданий и сегодняшней их обработки можно раскладывать на временные пласты.
Тем самым начинает раскрываться континуитет опыта, сохраняющийся несмотря на все социальные или политические переломы и разрывы, в которых пресекаются или меняют угол освещения архивные данные и которые часто – за счет того, что принятые прежде толкования утрачивали убедительность или становились бесполезными, – обусловливали расхождение между личным опытом и теми интерпретациями, которые предлагало общество. Поэтому для исторического восприятия подводного течения народного опыта необходим «окольный путь» через индивидуальную биографию. Я хотел бы привести два примера из нашего проекта, которые на разных уровнях народного опыта освещают проблему вытеснения и того, как удается его не допустить.
В описаниях того, как люди жили и работали во время войны, на сцене зачастую присутствует огромное число статистов-иностранцев, в то время как при проблематизации национал-социализма, как правило, упоминаются война как таковая и преступления против евреев, но не пригнанные в Германию подневольные рабочие. Если же интервьюер спрашивал респондента именно о них, то лишь в отдельных случаях возникала реальная фигура кого-то из этих иностранцев, наделенная именем, лицом и голосом; в подавляющем же большинстве случаев наблюдалось две стереотипные реакции: во-первых, рассказчик уверял, что частенько приносил подневольным рабочим «бутерброды», а во-вторых, указывал на то, что, освобожденные весной 1945 года, они занимались грабежами и вымогательством. То есть, с одной стороны, подчеркивается собственное человечное поведение перед лицом бесчеловечной системы, но, с другой стороны, эта система в тенденции оправдывается последующим поведением ее жертв. Рассказ о том и о другом позволяет респонденту двояким образом освободиться от требования глубже соединить свой собственный опыт со смысловым и ценностным вопросом об оценке национал-социализма. Однако это – сравнительно поверхностный рефлекс вытеснения: ведь в отличие от вопроса об антисемитизме, который в послевоенное время был обстоятельно проработан институциями, формировавшими общественное мнение, в Германии никогда не ставилась публично проблема подневольных рабочих и военнопленных. Поэтому они, с одной стороны, не вытеснены из воспоминаний о войне, но, с другой стороны, не интегрированы в сознательный исторический опыт. Воспоминания о них респонденты излагают в интервью в необработанном виде, зачастую даже еще с исходной национал-социалистической лексикой и интонацией. Это указывает не только на прошлое – на то, как широко восприняты были нацистские интерпретации этой темы, но и на будущее – на подготовку немцев к приему послевоенных «гастарбайтеров» (это понятие тоже было введено нацистами) {108}.
В качестве второго примера я выбрал три любовных истории Моники Хертель {109}. Рассказывая о своей жизни, работавшая делопроизводительницей госпожа Хертель аккуратно наделяет каждую из этих любовей неким высшим смыслом: ее «первой любовью» был племянник лучшей подруги ее матери. Обе женщины споспешествовали нарождавшимся отношениям, и сегодня Моника думает, что не выбралась бы из них; но она стала последней любовью юноши – в самом начале войны он умер от ранения в живот. «Большая любовь» к некоему архитектору вывела Монику из ее узкого жизненного окружения, пробудила в ней страсть и способствовала ее культурному развитию; но в конце войны ее возлюбленному пришлось надзирать за заключенными из Дахау, работавшими на производстве, и последнее, что госпожа Хертель о нем знает, – это то, что у него были депрессии и что в это время он зачал ребенка с другой. Прошло несколько лет, и она повстречала одного случайного знакомого: он когда-то давно один раз увидел ее на темном перроне и потом писал ей письма из британского плена, а теперь он вернулся, они увидели друг друга при свете дня, и это была «любовь с первого взгляда». Этот мужчина стал ее мужем, но перед этим ей пришлось испытать утрату – утрату уважения и перспектив. Ее друг в годы войны сдал экзамен на аттестат зрелости и прошел ускоренные педагогические курсы, в 1947 году он получил место. А в 1948 году после денежной реформы, когда стали снова брать на службу тех уволенных прежде преподавателей, кто прошел денацификацию и имел на иждивении семьи, его должны были уволить. Чтобы этого не допустить, влюбленные срочно поженились, но у них не было ничего, и прежде всего – своей квартиры. Возвращенная после крушения национал-социализма власть родителей над детьми (она считалась на Рейне антифашизмом) осуществлялась путем распоряжения жилплощадью: живя у родителей, приходилось им подчиняться. Несмотря на официальную регистрацию брака, родители мужа настояли на том, чтобы молодые воздерживались от половой жизни, пока не получили через год собственную квартиру и не смогли обвенчаться в церкви. А в течение этого года свекровь вела себя по отношению к сыну так, будто он все еще был тем подростком, которого у нее почти десять лет назад отобрала война. Отставной офицер-летчик покорялся матери, а жена не хотела потерять свою третью любовь, поэтому подчинялась ханжеской тирании, отказалась от мечты о высшем образовании, а потом и от работы, на которой она зарабатывала больше мужа и которой была довольна. В конце концов они пришли к тому, что стали стандартной немецкой семьей 1950-х годов. Но своим детям госпожа Хертель – именно исходя из опыта трудного начала своего удачного брака – предоставляет больше свободы, поддерживает их любовные отношения, помогает им повышать профессиональную квалификацию. Ее идеалы воспитания – ответ на ту душную семейную атмосферу послевоенных лет, которая грозила покалечить ее третью любовь. Она хочет, чтобы ее детям досталось то, что у нее отняла социальная смерть ее «большой любви». И похоже, что пользуется она при этом теми средствами, которые пролагали дорогу ее «первой любви» до войны.
В этой истории содержатся кусочки мозаики, из которых, соединив их с другими похожими рассказами, можно реконструировать последовательную смену ценностей и поведенческих паттернов, которым подчинялись семейная жизнь и сексуальное поведение в 1930–1940-х годах и которые изменялись во взаимодействии с быстро менявшимися условиями жизни. Но помимо этого эта история демонстрирует удачное, на мой взгляд, построение первичного исторического опыта, в котором утраченное не поглощается сохраненным, воспоминания допускаются в сознание вместе со связями с социальными условиями и наделяются печалью, любовью и смыслом, а опыт прошлого становится обоснованием для взглядов, руководящих поступками. В качестве множества рассказы о схожем опыте могли бы внести вклад в понимание новых стилей воспитания и конфликтов поколений в 1950-е годы и позже, помочь понять их дефицит смысла, когда они отделяются от исторических условий своего возникновения и обоснования и конвенционализируются.
Анализируя одно отдельно взятое интервью с позиций истории человеческого жизненного опыта, нельзя изменить нашу картину современной истории. Интервью само по себе может только продемонстрировать распространенные паттерны и их исторически специфическое воздействие, их усвоение, отвержение или иную переработку в индивидуальном опыте. Эти указания – не доказательства, с помощью которых можно было бы сделать новые тезисы неуязвимыми для критики. Ответы респондентов скорее служат основой для вопросов к нашему историческому знанию; с одной стороны, они способствуют расширению наших исследовательских стратегий, а с другой стороны – вмешиваются непосредственно в историческую коммуникацию как свидетельства субъектов. Но их интерпретация может быть расширена до масштабов социальной истории человеческого жизненного опыта в той мере, в какой исследователю удастся путем анализа многочисленных интервью продемонстрировать регулярность таких установленных соответствий и способов переработки в продольном хронологическом срезе и упорядочить их с позиций социальной истории. Для этого необходима связь с исследованиями по структурной истории (в том числе психоистории), которые могут использовать применительно к более ограниченным отрезкам времени любые фрагментированные виды исторических источников для уточнения наших знаний о структурах условий и действий. С одной стороны, это даст нам принципиальный ориентир для упорядочивания материала, с другой – позволит историзировать эти исследования за счет привнесения в них перспективы субъектов.
Примечания
{1} Интервью с Антоном Кроненбергом, кассета 11, 1. Интервьюер – Александр фон Плато.
{2} Отчетливее всего это можно видеть по двум главным периодическим печатным органам этого направления – журналам Oral History (University of Essex, Colchester, England) и International Journal of Oral History (Meckler, Westport Conn.), по французскому Bulletin d’institut d’histoire du temps present (см., в частности, номер, посвященный круглому столу на тему «Проблемы и методы в устной истории», 1980), а также по сборникам материалов международных конференций: Our Common History: The Transformation of Europe / Ed. by P. Thompson. London, 1982 (Colchester, 1979); Papers presented to the International Oral History Conference. Amsterdam, Oct. 1980 / Hekt. ed. Jaap Talsma u.a.; IVe Colloque international d’Histoire orale. Aixen-Prove nce, Sept. 1982 / Hekt. ed. Philippe Joutard u.a.; V Colloqui Internacional d’Historia Oral: El Poder a la Societat. Barcelona, Mar. 1985 / Ed. Mercedes Vilanova. В немецкоязычном ареале см. сборники: Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis: Die Praxis der Oral History / Hg. von L. Niethammer, W. Trapp. Frankfurt a. M., 1980 (2-е изд.: 1985); Mündliche Geschichte und Arbeiterbewegung: Eine Einführung in Arbeitsweisen und Themenbereiche der Geschichte geschichtsloser Sozialgruppen / Hg. von G. Botz u.a. Wien; Köln, 1984. Классическим введением в проблематику являются работы: Thompson P. The Voice of the Past. Oxford, 1978; Joutard P. Ces Voix qui nous viennent du Passé. Paris, 1983.
{3} Этой статьей мне хотелось бы завершить серию публикаций, сопровождавших подготовку и проведение проекта «Биография и социальная культура в Рурской области, 1930–1960»: Niethammer L. Oral History in USA // Archiv für Sozialgeschichte. 1978. Bd. 18. S. 457ff.; Idem. Rekonstruktion und Desintegration: Zum Verständnis der deutschen Arbeiterbewegung zwischen Krieg und kaltem Krieg// Geschichte und Gesellschaft. 1979. Sonderband 5. S. 26ff.; Idem. Einführung // Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis… S. 7ff .; Idem. Oral history as a channel of communication between workers and historians // Our Common History… P. 23ff.; Idem. Anmerkungen zur Alltagsgeschichte // Geschichtsdidaktik. 1980. Bd. 5. S. 231ff.; Idem. Alltagserfahrung und politische Kultur: Beispiele aus dem Ruhrgebiet // Rheinland-Westfalen im Industriezeitalter / Hg. von K. Düwell, W. Köllmann. Wuppertal, 1984. Bd. 3. S. 362ff.; Idem. Nachindustrielle Urbanität im Revier? Für die Wahrnehmung und Nutzung regionaler Erfahrungen // Die Menschen machen ihre Geschichte nicht aus freien Stücken, aber sie machen sie selbst. Einladung zu einer Geschichte des Volkes in NRW / Hg. von L. Niethammer, B. Hombach, T. Fichter, U. Borsdorf. Berlin; Bonn, 1984. S. 236ff .; Idem. Zur Ästhetik des Zitats aus erzählten Lebensgeschichten // Das Fremde / Hg. von H. Sturm // Jahrbuch für Ästhetik. Aachen, 1985. Bd. L. S. 191ff.; Idem. Das kritische Potential der Alltagsgeschichte // Geschichtsdidaktik. 1985. Bd. 10. S. 245ff.; Idem. Zum Wandel der Kontinuitätsdiskussion // Westdeutschland 1945 bis 1955. Unterwerfung, Kontrolle, Integration / Hg. von L. Herbst. München, 1985.
{4} Проект «Биография и социальная культура в Рурской области, 1930–1960» (Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet, 1930–1960; далее: LUSIR) был осуществлен при финансовой поддержке Фонда Volkswagenwerk и федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в 1980–1983 годах в Эссенском университете и Университете заочного обучения в Хагене, где с 1984 года ведется работа над его расширением. Результаты исследовательской работы в рамках проекта опубликованы в сборниках: LUSIR. Bd. 1: Die Jahre weiß man nicht, wo man die heute hinsetzen soll: Faschismuserfahrungen im Ruhrgebiet / Hg. von L. Niethammer. Berlin; Bonn, 1983; LUSIR. Bd. 2: Hinterher merkt man, daß es richtig war, daß es schiefgegangen ist: Nachkriegserfahrungen im Ruhrgebiet / Hg. von L. Niethammer. Berlin; Bonn, 1983; LUSIR. Bd. 3: Wir kriegen jetzt andere Zeiten: Auf der Suche nach der Erfahrung des Volkes in nachfaschistischen Ländern / Hg. von L. Niethammer, A. von Plato. Berlin; Bonn, 1985; а также в книге: Plato A. von. Der Verlierer geht nicht leer aus: Betriebsräte geben zu Protokoll. Berlin; Bonn, 1984. Над обработкой материалов и написанием статей в рамках проекта LUSIR работали: Анне-Катрин Айнфельд, Ульрих Херберт, Нори Мединг, Бернд Паризиус, Александр фон Плато, Маргот Шмидт, Михаель Циммерман и я.
{5} LUSIR. Bd. 1. S. 7ff., особенно S. 17ff.
{6} Я помню, например, как в тот момент, когда наш проект оказался в кризисе, я прочитал статью своих друзей-этнографов о «социальной смерти» антрополога во время полевой работы и об уничтожении опыта при научной обработке материала. Я был полностью согласен с авторами и при этом нисколько не отдавал себе отчета в том, что это могло также иметь некоторую связь с нашей социокультурной головной болью при работе с устной историей.
{7} См. об этом классические введения в тему, такие как: Thompson P. Op. cit.; Joutard P. Op. cit. В немецкоязычном ареале теоретической работы по методологии нет; в качестве замены ей полезна книга: Fuchs W. Biographische Forschung: Eine Einführung in Praxis und Methoden. Opladen, 1984.
{8} Ср. то, как нарастает удельный вес методологических докладов на международных конференциях по устной истории (примеч. 2).
{9} См.: Ginzburg C. Spurensicherung: Über verborgene Geschichte, Kunst und soziales Gedächtnis. Berlin (West), 1983.
{10} Обобщающие работы в малоразвитой области изучения долгосрочной памяти с биолого-психологической точки зрения: Rahmann H. Die Bausteine der Erinnerung // Bild der Wissenschaft. 1982. H. 9. S. 74ff.; Vester F. Denken, Lernen, Vergessen / 11 Aufl. München, 1984. S. 65ff.; Arbinger R. Gedächtnis. Darmstadt, 1984. S. 73ff.; благодаря этому сохранил свою актуальность тезис Мориса Хальбвакса о реконструкции: Halbwachs M. Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen. Berlin; Neuwied, 1966 (1-е изд.: Paris, 1925) [ Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007].
{11} Я использую здесь это понятие не в ограниченном пространственно-временнóм смысле, в каком оно применяется в литературоведении или (в уточненном виде) в психоанализе, а для того, чтобы сравнить социальные обстоятельства, обстановку, среди которой в различных общественных сферах в типизированных, т. е. отчасти строго нормированных процессах интеракции, активируются и рассказываются долгосрочные воспоминания.
{12} Далее я исхожу из нескольких самых общих предположений относительно этих трех сеттингов, которые я по отдельности не буду рассматривать, а только вкратце назову. Психоаналитический сеттинг отграничен и защищен от публичной сферы, для того чтобы способствовать восприятию бессознательного и осуществлению переноса. Клиент по собственному желанию вступает в отношения с психоаналитиком и оплачивает его услуги, состоящие в том, что аналитик играет двоякую роль, к которой он подготовлен теоретическим обучением и, прежде всего, собственным интенсивным опытом пребывания в подобной ситуации: с одной стороны, он выступает наблюдающим и интерпретирующим комментатором, с другой стороны – человеком, на которого могут в строго отделенных от повседневной жизни условиях переноситься вспоминаемые чувства. Процесс воспоминания распространяется при психоанализе на пространства, недоступные контролю сознания, например, с помощью свободных ассоциаций, толкования сновидений или восприятия неосознанных действий, которые выступают в качестве следов, ведущих к вытесненным воспоминаниям. Истинность воспоминания человека, проходящего психоанализ, заключается в расширенном самовосприятии фрагментов его биографии (как правило в детской ее части) и в согласии с аналитиком по поводу значения этих фрагментов.
Допрос есть процесс сбора агентами государства информации об особого рода фактах, предшествующий осуществлению государственной монополии на насилие. Как правило, допрашиваемый подвергается этому процессу не добровольно. Воспоминания свидетеля вызываются следователем с помощью вопросов и предъявления ему различных свидетельств, а затем проверяются на внутреннюю непротиворечивость и согласованность с другими имеющимися сведениями по рассматриваемой теме; релевантность этих воспоминаний зависит от того, соответствует ли расследуемый факт некоему установленному законом составу преступления и от того, может ли его совершение быть приписано свидетелю или другим подозреваемым.
Истинность воспоминания устанавливается независимо от воспоминающего другими лицами в ходе регламентированного процесса расследования и оценки доказательств и зависит от совпадения данных, полученных разными способами, и от убедительности и правдоподобия показаний.
Интервью в социологии, как правило, предоставляется человеком из любезности, а иногда и за плату; инициатором его выступает исследователь, который связан с публичной сферой, с деятельностью научных институтов или с более специальными интересами и ради них старается произвести текст, доступный для соответствующего вида обработки. Респондента спрашивают не как носителя собственной персональной индивидуальности, а обычно как носителя связи между его социально-демографическими характеристиками и его мнениями, поведенческими паттернами или типом высказываний, потому что на основе этого интервью будут делаться выводы относительно более общих социальных обстоятельств. Эта связь может представлять собою количественное отношение между заранее установленными индикаторами: тогда необходимо проводить по репрезентативной выборке множество интервью, которые по своей структуре сравнимы друг с другом, т. е. стандартизованы, и взяты в условиях всемерной нейтрализации личного взаимодействия между интервьюером и респондентом. Но может быть и так, что изучаемую связь еще только предстоит искать и найти или она настолько сложна, что не поддается редукции к количественным параметрам. Тогда проводится небольшое количество глубинных интервью, при которых личное взаимодействие между интервьюером и респондентом интенсивнее, благодаря чему удается получить более сложные высказывания, зачастую целые рассказы. Все высказывания респондентов в интервью содержат в себе продукты работы памяти, однако эти воспоминания интересуют исследователя обычно не с точки зрения их содержания как высказываний о прошлом, истинность которых субъективно засвидетельствована респондентом, а с точки зрения социальных референций их актуальной формы. Поэтому анализ материала таких глубинных интервью открывает теоретически структурированное пространство, в котором истинность высказываний респондента устанавливается исследователем по правилам науки. Поскольку этот процесс исследования может полностью отделяться от субъективной реальности респондентов, некоторые исследователи пытаются преодолеть этот разрыв с помощью так называемой коммуникативной валидизации своих выводов: они знакомят с ними респондентов, чтобы те высказались по их поводу и сказали, понятны ли они им.
{13} См.: Halbwachs M. Op. cit., а также более актуальный пример: Berger P.L. Lebenslauf und Lebensläufe: Vergangenheit nach Maß und von der Stange // Idem. Einladung zur Soziologie. Ölten, 1970. Прагматичный обзор см. в работе: Fuchs W. Op. cit. S. 167ff.
{14} Об этом наиболее важная работа: Schütze F. Die Technik des narrativen Interviews in Interaktionsfeldstudien, Arbeitsberichte und Forschungsmaterialien der Fakultät für Soziologie, Universität Bielefeld, hekt. 2 Aufl. 1978. Важная статья об анализе данных: Sieder R. Geschichten erzählen und Wissenschaft treiben // Mündliche Geschichte und Arbeiterbewegung. S. 203ff. (здесь S. 206f.), но ее проблема в том, что автор приравнивает друг к другу нарративное и биографическое интервью.
{15} Об этом классический текст: Scheuch E.K. Das Interview in der Sozialforschung // Handbuch der empirischen Sozialforschung / Hg. von R. König. 3 Aufl. München, 1973. Bd. 2. S. 66ff., а актуальный обзор литературы по качественным методам в социологических исследованиях см.: Fuchs W. Op. cit. S. 224ff.
{16} О технике интервью-воспоминания в юриспруденции см., например: Arntzen F. Vernehmungspsychologie. München, 1978; Trankell A. Der Realitätsgehalt von Zeugenaussagen. Göttingen, 1971.
{17} Психология допроса почти не занимается теми воспоминаниями, которые относятся к очень давним периодам жизни человека, однако в ходе второй волны процессов против нацистских преступников в 1960-х годах эта проблема стала актуальна: показания свидетелей зачастую ставились под сомнение за счет того, что доказывалось наличие ложных или неточных деталей в их воспоминаниях. На фоне опыта устной истории такие ошибки не удивляют, поскольку свидетели по прошествии столь долгого времени помнят только основные сцены или слова, а при рассказе вынуждены «заново инсценировать» весь эпизод. Интересная работа о вытеснении субъективных воспоминаний фильтром судебного процесса по политическому обвинению: Portelli A. The oral shape of the law: The “April 7” case in Italy (доклад на Международной конференции по устной истории в Барселоне в 1985 году).
{18} Призывая к смене перспективы, я, разумеется, не имею в виду, что на место гомогенной истории систем или истории власти надо поставить другую фантастическую картину, например, идеального обобщенного потребителя. Необходимо опереть восприятие различных взглядов на историю и тем самым покончить с их гомогенизацией, которую неизбежно осуществляет власть, и сделать их пригодными для обсуждения и усвоения. Поэтому совершенно справедливо про такие взгляды говорят, что они ставят под угрозу возможность исторического синтеза. Мне кажется не случайным то, что этим спорам предшествовало установление (прежде всего благодаря исследованиям Райнхарта Козеллека) такого представления об исторической науке, согласно которому единство ее предмета не является естественной данностью, а связано со специфической буржуазно-просветительской конъюнктурой.
{19} Я опираюсь на обобщающие научно-популярные описания: Mitscherlich A. Der Kampf um die Erinnerung: Psychoanalyse für fortgeschrittene Anfänger / 2 Aufl. München, 1984. S. 99ff.; MalcolmJ. Fragen an einen Psychoanalytiker. Stuttgart, 1983.
{20} За обращение психоанализа к подростковому периоду жизни выступают: Erdheim M. Die gesellschaftliche Produktion von Unbewußtheit: Eine Einführung in den ethnopsycho analytischen Prozeß. Frankfurt a. M., 1982. S. 271ff.; с социологических позиций: Döbert R., Nunner-Winkler G. Adoleszenzkrise und Identitätsbildung. Frankfurt a. M., 1975.
{21} См., например: Droysen J.G. Historik / 4 Aufl. Darmstadt, 1960. S. 332 (Grundriß, § 19).
{22} См.: Scheuch E.K. Op. cit. S. 82ff.
{23} На профессиональном жаргоне список тем и вопросов, которые нужно обсудить в интервью, называют «топик-гайдом» (англ. topic guide). Его целесообразнее всего делать в виде стопки карточек с блоками связанных по содержанию вопросов и стимулов на каждой, чтобы интервьюер мог менять их порядок, приспосабливаясь к ходу мысли респондента.
{24} Даже в тех случаях (в нашем проекте они встречались крайне редко), когда респондент решительно не знает, что рассказать о своей жизни, или отвечает отказом, считая такую просьбу неприемлемой. Второй случай несколько чаще встречался, когда с просьбой рассказать свою жизнь мы обращались к женщинам. Дело было, однако, не в том, что у них не было ретроспективного представления о собственной жизни, а, как правило, в том, что от историков, работающих в университете, эти женщины ожидали другого познавательного интереса – направленного не на их индивидуальную, а на общую историю или на то, что в обществе принято считать исторически значимым. Если удавалось этот барьер преодолеть, то получавшиеся в итоге интервью не сильно отличались от прочих. В целом можно сказать, что мужчины чаще структурировали хронологическую канву своей биографии датами из своей профессиональной сферы, женщины – чаще датами из истории семьи.
{25} Иногда респонденты просят выключить магнитофон, так как хотят сообщить интервьюеру нечто «не для протокола». Мне не известен в рамках нашего проекта ни один случай, который можно было бы истолковать в том смысле, что респондент хотел принципиально сменить сеттинг в сторону большей доверительности и собственной инициативы. Скорее дело было в том, чтобы в одной какой-то точке (например, когда человек хотел пересказать непроверенный слух или сплетню) выйти из-под непрерывного социального контроля, воплощением которого выглядит магнитофон. Таким образом, речь идет скорее о том, что такая просьба демонстрирует осознание респондентом публичного характера диалога. Порой возникало даже впечатление, что просьба выключить магнитофон служила способом подчеркнуть последующее сообщение – как в административном аппарате бывает надо поставить штамп «секретно» на документ, чтобы его наконец все прочли.
{26} Литературу по этой тематике см.: Lohmann H.-M. Psychoanalyse und Nationalsozialismus. Frankfurt a. M., 1984; Pollak M. L’experience concentrationnaire: ressources de pouvoir et sens d’identité // V Colloqui Internacional d’Historia Oral. P. 353sqq. Психологическое сопровождение следует понимать не как резерв для оказания первой помощи респондентам, а как супервизию для участников проекта, имеющую целью стимулировать и контролировать их саморефлексию.
{27} Исключение составляют крайне одинокие респонденты, которым разговор с интервьюером заменяет иные социальные контакты. Но для таких случаев следует порекомендовать не продолжение интервью, а специальные отдельные визиты.
{28} См., например: Samuel R. East End Underworld: Chapters in the Life of Arthur Harding. London, 1981.
{29} Поиск респондентов-добровольцев через объявления в средствах массовой информации, как показал наш опыт, для исследования по устной истории при отсутствии психологической супервизии несколько проблематичен, потому что за потребностью этих добровольцев многословно рассказывать о себе порой скрывается потребность в помощи или непроработанный опыт. В таких случаях велик риск для историка выйти за пределы своей компетенции и в плане помощи, и в плане интерпретации.
{30} Когда мы в рамках проекта LUSIR расширили круг респондентов, включив в него мелких предпринимателей, представителей свободных профессий и административных служащих, мы столкнулись при достижении договоренностей об интервью с гораздо более серьезными трудностями, чем когда имели дело с изначально выбранными категориями населения. Среди тех, в свою очередь, члены производственных советов, рабочие и домохозяйки легче шли на контакт, чем служащие. Очевидно, чем выше уровень образования, дохода и социальной включенности (за исключением тех элит, которые в профессиональном плане обречены на публичность, как в данном случае освобожденные члены производственных советов), тем больше люди стесняются говорить о связях своей частной жизни со всеобщим историческим опытом и в особенности с тем, который имеет отношение к национал-социализму. Рабочие и домохозяйки из рабочего класса в данном отношении явно подвержены менее строгому социальному контролю и меньше отделяют приватное от публичного; кроме того, они, видимо, чувствуютсебя менее ответственными за свое место в истории. Впрочем, таких предварительных наблюдений не достаточно, а специального исследования на данную тему нет.
{31} Как правило, интервьюеры, берущие интервью-воспоминания у пожилых людей, сами младше их на одно-два поколения, т. е. обладают гораздо меньшим и менее сложным жизненным опытом, а кроме того, у них отсутствуют (в отличие, например, от психоаналитиков) профессиональные квалификация и опыт работы с биографией; все, что у них есть, – это способность вставить материал в исторический контекст. Поэтому при таком разговоре скорее респондент может разгадать невысказанные мысли интервьюера, чем наоборот.
{32} В ходе интервью принцип выстраивания биографии может измениться. Ведь при первом знакомстве люди, как правило, избирают наиболее общепринятую форму изложения истории своей жизни (у мужчин образец обычно – автобиографическая справка для поступления на работу, ориентированная на этапы профессиональной карьеры) или тематическую краткую биографию, если им кажется, что разговор посвящен той или иной конкретной теме. Затем, по мере углубления в разговор и в историю жизни, а также установления все более плотного контакта с интервьюером, эта наносная структура порой может быть отброшена, а за ней проявится своя, обычно хуже поддающаяся связной формулировке, система биографических смысловых связей.
{33} Поэтому в некоторых проектах интервью записывают на кино– или видеопленку. Но, хотя короткая съемка и может обогатить магнитофонное интервью, все же, на мой взгляд, полностью заменять видеозаписью магнитофонную пленку нецелесообразно: дороговизна лишает интервьюера терпения, чтобы подробно расспрашивать и не спеша слушать, когда респондент ощупью идет по следам своей памяти. Громоздкая аппаратура, требующая внимания, а также участие нескольких человек раздражают многих респондентов и удерживают их постоянно в квазиофициальной роли. А при интерпретации текста воспоминаний зрелище старого человека в его нынешнем окружении порой бывает скорее помехой, чем помощью в восприятии чуждости и дистанции (хотя может и помочь избежать ошибочного восприятия воспоминаний как «голоса прошлого»). Есть, правда, среди респондентов и такие сильные личности, применительно к которым всего этого можно не опасаться: хорошим примером тому служит фильм «История жизни шахтера Альфонса С.» студии Ruhrfilmzentrum Witten (тексты фильма опубликованы в книге: Lebens-Geschichte des Bergarbeiters Alfons S.: Textbuch zum Film / Hg. von J. Stiiber. Bremen, 19S0).
{34} Это, в частности, одна из причин, по которым в исследованиях по устной истории редко проводятся групповые интервью. Кроме того, они были бы проблематичны еще и потому, что взаимная стимуляция воспоминаний, как правило, с избытком компенсируется механизмом специфической групповой цензуры памяти и обедненным набором средств выражения в группе. Это, конечно, не относится к случаям, когда исследование касается структуры коллективной памяти.
{35} Первичную ориентацию облегчает: Fuchs W. Op. cit. S. 26911.; см.: Ehlich К., SwitaUa R. Transkriptionssy sterne – eine exemplarische Übersicht // Studium Linguistik. 1976. Bd. 2. S. 78ff.
{36} Но и в устной истории лингвистически точное восприятие текста может открыть важные возможности для интерпретации. Для этого, как правило, нужно работать со сравнительно короткими отрывками текста интервью. В некоторых проектах магнитофонные записи приходится стирать (например, по требованиям охраны личной информации); в таких случаях рекомендуется производить точное транскрибирование звукового ряда, чтобы сохранить его пригодным для анализа в будущем.
{37} Некоторые респонденты, после того как впервые увидят транскрипт своего интервью, даже усматривают задачу историка в том, чтобы полностью переработать текст в стилистическом отношении и то, что хотел выразить респондент, «пересказать» так, чтобы его свидетельство о собственном опыте не могло из-за его языковой формы подвергнуться дискриминации по сравнению с другими источниками или историческим контекстом. См.: Graf W. Das Schreibproblem der Oral History // Literatur @@ Erfahrung. 1982. H. 10. S. 100ff. Но при этом становится совершенно неконтролируемой опасность искажения, потому что в результате возникает интерпретация, которую уже невозможно будет перепроверить. Компромисс между удобочитаемостью исходного текста и его верностью следует, на мой взгляд, заключать как можно ближе к оригиналу. См. ниже об эстетике цитаты.
{38} Этот распространенный в социологии аспект ввел в литературу по устной истории прежде всего: Grele RJ. A Surmisable Variety: Interdisciplinary and Oral Testimony // American Quarterly. 1975. Vol. 27. P. 275ff., особенно 286ff. Он подчеркивает при этом прежде всего связь с гегемониальной культурой, какова бы ни была конкретная персональная интеракция. С точки зрения этих различных структур связей интервью-воспоминание в самом деле не отличается от иных форм социологического глубинного интервью.
{39} «Симптоматическое чтение» легко может скатиться в произвольный отбор материала и принять характер обличительства, когда плотность релевантных пассажей в тексте биографических интервью невелика, а у интерпретатора отсутствует профессиональная психоаналитическая подготовка. Возможно, более адекватный материалу способ приближения к базовым структурам личности предлагает в данном случае так называемая объективная герменевтика, предусматривающая последовательное отделение «шелухи» социокультурных черт, носящих всеобщий характер, от индивидуальной истории жизни. См.: Oevermann U. et al. Die Methodologie einer “objektiven Hermeneutik” und ihre allgemeine forschungslogische Bedeutung in den Sozialwissenschaften // Interpretative Verfahren in den Sozial– und Textwissenschaften / Hg. von H.-G. Soeffner. Stuttgart, 1979. S. 352ff.; см. также: Fuchs W. Op. cit. S. 147ff. Правда, введение индивидуальности как резидуальной социальной категории тоже не намного продвигает вперед биографический анализ.
{40} Lehmann A. Erzählstruktur und Lebenslauf: Autobiographische Untersuchungen. Frankfurt; N.Y., 1983.
{41} Исследователь при этом, с одной стороны, повинуется требованиям науки, но, с другой стороны, он тоже является субъектом, который, как правило, намеревается извлечь из исследования некоторую пользу для себя.
{42} В рамках проекта LUSIR такие операции проводились с помощью простых персональных компьютеров и обычных текстовых редакторов. Для каждого интервью составлялся так называемый информационный лист (частично на основе материала интервью, частично вместе с опрошенным в ходе разговора), в котором в стандартизованной форме фиксировались данные, например, о составе семьи и его изменениях, профессиональной карьере, сменах места жительства, принадлежности к организациям и т. д. Этот лист служит прежде всего для социально-статистического анализа тематической выборки, делаемой из набора интервью для исследования. Резюме интервью начинается с краткой биографии в стиле статьи для энциклопедии «Кто есть кто?», в которой сырые данные биографии препарируются таким образом, чтобы они могли служить для первой ориентировки и их легко можно было запомнить: так интерпретатор может в виде ключевых слов удержать в голове комплекс сведений. Резюме повторяет на основе записи ход интервью по вопросам интервьюера: содержание каждого отрывка индексировано ключевыми словами из топик-гайда интервьюера так, чтобы их можно было легко отыскивать (проще всего – с помощью заглавных букв), а при них указывается соответствующее место на кассете (номер кассеты, сторона, метр). В резюме включаются и оригинальные формулировки или небольшие нарративные эпизоды, записанные словами респондента, если они представляются интересными для анализа. Они обозначаются как цитаты. В результате возникает текст длиной 10–20 страниц (плюс информационный лист), впрочем, его объем может быть и больше, если респондент во время интервью рассказывает много. Такой текст показал себя удобным рабочим материалом для анализа. Его можно читать в виде распечатки и использовать в электронном виде в компьютере для отбора эпизодов по заданным темам и/или признакам. Если во время анализа проводится транскрипция фрагментов записи, то их можно включать в текст резюме или присоединять к нему в качестве приложения. В принципе к этому материалу должен был бы прилагаться еще отчет об интервью или выписка из рабочего дневника интервьюера, но в рамках нашего проекта они велись только в отдельных случаях и на поздней фазе работы.
Подобный метод обработки интервью возможен только в тех случаях, когда респонденты согласны, чтобы анонимность их рассказов не соблюдалась вовсе или обеспечивалась только на стадии публикации. Если защиту приватной информации осуществлять в более полном объеме, то требовалось бы стирать магнитофонные записи и анонимизировать данные уже в ходе транскрибирования текста. Для социологических исследований это приемлемо, но принципам историко-архивной работы противоречит и может сделать профессиональный исторический анализ материала затруднительным или даже вовсе невозможным. Поэтому следует, на мой взгляд, при проведении биографических интервью договариваться с потенциальным респондентом и вести разговор так, чтобы опрашиваемый не настаивал на анонимности самого содержания беседы. Это же – одна из важных причин, по которым биографическое интервью носит «полупубличный» характер, отличающий его от более «интимных» видов глубинных интервью и особенно от психоаналитически ориентированных жанров.
{43} См. к нижеследующему пассажу: Bonß W. Die Einübung des Tatsachenblicks: Zur Struktur und Veränderung empirischer Sozialforschung. Frankfurt a. M., 1982, особенно Kap. 4.
{44} Как формируется эта позиция, наглядно показывает: Bonß W. Op. cit. S. 141ff. на примере статьи: Weber M. Zur Methodik sozialpsychologischer Enqueten und ihrer Verarbeitung // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1909. Bd. 24. S. 948ff. О каноне см., например: König R. Die Beobachtung // Handbuch der empirischen Sozialforschung… S. 19f., где говорится, что понимание («исследовательское, временное, иллюстративное») следует рассматривать только как вспомогательное средство для социологического наблюдения, потому что оно не сулит «вообще никакого надежного познания, имеющего значимость для более чем одного человека».
{45} Когда я писал статью: Niethammer L. Oral History in USA…, особенно S. 485f., я в этом отношении под влиянием исследований Пола Томпсона (см., например, его статью в книге: Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis… S. 371ff.) занимал не столь скептическую позицию, как сегодня. Тогда я лишь указал на то, что для построения выборки представляет собой помеху тот факт, что, как правило, нельзя выяснить возможную взаимосвязь между предметом исследования или воспоминания и тем обстоятельством, что информант остался жив. Даже когда эту взаимосвязь удается контролировать или она не релевантна для данного исследования, все равно даже приблизительно репрезентативная выборка может быть построена практически только для ретроспективных «срезов» (подобных работам Томпсона или некоторым исследованиям быта и условий повседневной жизни в ту или иную эпоху). Но как только исследователь решает работать с биографиями, взрывообразно увеличивается число признаков, подлежащих учету, так что размер выборки пришлось бы увеличить до нескольких тысяч респондентов.
{46} В переводе на язык клиометрии это значит: тексты интервью представляют собой данные, продуцированные в ходе исследования, однако если они не используются для анализа современной культуры – например, паттернов интерпретации истории (см. об этом статью: Grele R.J. Ziellose Bewegung // Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis… S. 195ff.), – а служат для реконструкции содержания воспоминаний, они представляют собой данные, сохраняемые в индивидуальной памяти во фрагментарной форме и продуцируемые в процессе исследования, причем их соединение в единую цепочку или картину представляется еще гораздо менее вероятным, чем data linkage при работе с серийными данными из разных источников.
{47} Современная историческая наука основана на том, что борется с использованием исторического знания в качестве аналогии, служащей руководством к действию (см.: Koselleck R. Historia Magistra Vitae // Idem. Vergangene Zukunft / 4 Aufl. Frankfurt a. M., 1985. S. 38ff.). А из знания теорий глобальных исторических процессов вытекают в лучшем случае ограничения для деятельности, а не ее цели. Поэтому прагматическая ориентация социальных наук и скептическое внимание историка к рамочным условиям и случайным факторам взаимно дополняют друг друга, сцепляясь в плодотворном противоборстве за сознание субъекта, вершащего общественное действие.
{48} См. сжатое изложение позиций и программы: Ginzburg C, Poni C. Was ist Mikrogeschichte? // Geschichtswerkstatt. № 6. Göttingen, Mai 1985. S. 48ff.
{49} См.: Bonß W. Op. cit. S. 115ff. О биографии cм.: Brooke M.Z. Engineer and Social Scientist. London, 1970; а также вводное эссе Шарля де Риба в книге: Ribbe Ch. de. LePlay, d’apres sa correspondance. Paris, 1884. Его метод переняли в то время в Германии прежде всего Шнаппер-Арндт и А. Шеффле.
{50} LePlay F. Les ouvriers europeens / 1ere éd. Paris, 1855. P. 21.
{51} Такая чуждая способу работы историка, предельно упрощенная эпистемологическая модель часто становится мишенью критики в адрес антропологически ориентированной социальной истории, см., например: Kocka J. Historisch-anthropologische Fragestellungen – ein Defizit der Historischen Sozialwissenschaft? // Historische Anthropologie / Hg. von H. Süssmuth. Göttingen, 1984. S. 73ff.
{52} Об индивидуалистической редукции реального у Макса Вебера см.: Bonß W. Op. cit. S. 139ff. Этому соответствует попытка изоляции рациональности исследователя, которая заставляет его либо ригидно вытеснять из сознания децизионистскую практику, либо оттеснять ее на периферию.
{53} Leiris M. Das Auge des Ethnographen. Frankfurt a. M., 1978. Если этот взгляд по идее предполагает достаточно большую дистанцированность от предмета исследования, то в силу одного этого он еще не становится «объективным», подчеркивает, например: Kramer F. Verkehrte Welten: Zur imaginären Ethnographie des 19 Jahrhunderts. Frankfurt a. M., 1977; Devereux G. Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften. Frankfurt a. M., 1984. Для ориентации в предметах и подходах исследования см.: Greverus I.-M. Kultur und Alltagswelt: Eine Einführung in Fragen der Kulturanthropologie. München, 1978 (она цитирует Филипа Бока: «Культура в самом широком смысле слова – это то, что делает тебя чужаком, когда ты далеко от дома») или обзор литературы, такой как: Girtler R. Kulturanthropologie. München, 1979.
{54} О рефлексии как способе обходиться с собственным раздражением при встречах с культурными различиями см.: Nadig M. Macht und Ohnmacht – von der Lebensgeschichte zur Kultur: Ethnopsycho analytische Gespräche mit mexikanischen Bauernfrauen. Phil. Diss. Zürich, 1984. Frankfurt a. M., 1985.
{55} О значении структуралистского подхода в устной истории см.: Grele RJ. Ziellose Bewegung // Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis… S. 195ff., особенно S. 205ff. Автор вслед за Пиаже описывает «структуру» как «систематическую совокупность саморегулирующихся трансформаций». (Там же см. ссылки на другую литературу.) Это понятие можно использовать не только для изучения актуальной идеологии, но и переносить на социально-исторические и бытовые структуры.
{56} В качестве примера из проекта LUSIR см., например: Plato A. von. Op. cit.
{57} О критериях выделения таких фрагментов в рассказах см.: Schütze F. Narrative Repräsentation kollektiver Schicksalbetroffenheit // Erzählforschung / Hg. von E. Lämmert. Stuttgart, 1982; примеры – в статье «Частная экономика» в настоящей книге. Если вся повествовательная структура нарративного интервью (к каковым, однако, интервью-воспоминания в силу своей смешанной структуры принадлежат лишь отчасти), несомненно, принадлежит современности, то тот временной слой, к которому относятся нарративные молекулы интервью-воспоминания по своему предмету, интерпретации, форме и отнесенности к тому или иному адресату, отнюдь не всегда определяется однозначно.
{58} Droysen J.G. Op. cit. S. 114ff. уже писал об этом в своей «Критике более раннего и более позднего».
{59} Ibid. S. 22ff.
{60} Обсуждение новых философских подходов с исторических позиций см.: Faber K.-G. Theorie der Geschichtswissenschaft. München, 1971. S. 109ff.; Sywottek A. Geschichtswissenschaft in der Legitimationskrise. Bonn; Bad Godesberg, 1974. S. 26ff. (там же ссылки на прочую литературу). Критику самой радикальной и последовательной на сегодняшний день попытки посредничества между герменевтическими и аналитическими подходами к интерпретации текстов о социализации – указанной работы Эвермана (Oevermann U. et al. Op. cit.) – см.: Fuchs W. Op. cit. S. 295ff. Принципиальное возведение герменевтики в ранг скептической жизненной позиции см.: Soeffner H.-G. Hermeneutik – Zur Genese einer wissenschaftlichen Einstellung durch die Praxis der Auslegung // Beiträge zu einer Soziologie der Interaktion / Hg. von H.-G. Soeffner. Frankfurt a. M.; N.Y., 1984. S. 9ff., особенно S. 44ff.
{61} В статье «Частная экономика» в настоящей книге это продемонстрировано на примере удивления, в которое повергло немцев дружелюбие негров во время оккупации: немцы ожидали совсем иного поведения, поскольку верили в то, что в случае поражения перевернется фашистская расовая иерархия и их будут насиловать «недочеловеки».
{62} См.: Kramer F. Die social anthropology und das Problem der Darstellung anderer Gesellschaften // Gesellschaften ohne Staat. Bd. I: Gleichheit und Gegenseitigkeit / Hg. von F. Kramer, Chr. Sigrist. Frankfurt a. M., 1978. S. 9ff. и статью: Ranger T. Persönliche Erinnerung und Volkserfahrung in Ost-Afrika // Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis… S. 100ff.
{63} Erdheim M., Nadig M. Größenphantasien und sozialer Tod // Kursbuch. 1979. Bd. 58. S. 115ff.
{64} Обзор см.: Greverus I.-M. Op. cit. S. 119ff. Нечеткое различие легко смывает границу, отделяющую этот жанр от импрессионистических эссе, подобных книге: Rutschky M. Ethnographie des Inlands. Frankfurt a. M., 1984.
{65} Kramer F. Op. cit.
{66} К нижеследующему пассажу см. мое эссе: Niethammer L. Zur Ästhetik des Zitats…, где показана содержательная связь этой проблематики с нашим проектом.
{67} Меня интересует в историческом контексте определение формы (непротиворечивый рассказ, исторический анекдот) того, что в социологическом контексте называют «систематическим тематическим анализом» (Faraday A., Plummer K. Doing life Histories // Sociological Review. 1979. Vol. 27. P. 773ff., особенно p. 787).
{68} Schütze F. Op. cit. S. 568ff.
{69} Droysen J.G. Op. cit. S. 26.
{70} Sebeok T.A., Umiker-Sebeok J. “Du kennst meine Methode”: Charles S. Peirce und Sherlock Holmes. Frankfurt a. M., 1982, особенно S. 35ff.
{71} В отличие от социологии, возможности так называемой коммуникативной валидизации в устной истории ограничены, потому что повторное комментирование текста интервью респондентом само по себе порождает только продолжение этого же интервью, в то время как свои комментарии относительно интерпретативных усилий историка, посредством которых последний устанавливает связи с другими свидетельствами или наличным историческим знанием, респондент в большинстве случаев делает, не зная этих связей. Поэтому, строго говоря, речь идет не о валидизации, а о процессе совместного обучения, из которого после длительной работы может возникнуть третий продукт. Хорошим примером такого процесса является книга: Hochlamarker Lesebuch: Kohle war nicht alles. Oberhausen, 1981. Обсуждение интерпретаций, связанных с личностью и социокультурным окружением респондента, скорее соответствует образцу коммуникативной валидизации и может помочь историку произвести важную коррекцию собственных проекций. Если такое обсуждение происходит не в ситуации интервью-воспоминания, а в ином социальном контексте, то оно может легко превратиться в социальную цензуру респондента или интерпретатора. Чтобы критичные воспоминания или интерпретации не подавлялись, все участники должны быть готовы к длительному процессу совместной работы.
{72} При чтении публикаций по устной истории чувствуется расстояние, отделяющее нас на практике от этой цели, и наша неуверенность, особенно там, где сталкиваются друг с другом тексты историков и цитаты. В языке зачастую заметны тогда неосознанные попытки адаптации или отторжения.
{73} Пример такой попытки см.: LUSIR. Bd. 2. S. 1 7ff.
{74} Об истоках oral history и ее соотношении с «устным преданием» см. мою статью: Niethammer L. Oral History in USA… и тематический раздел «“Es war einmal…” Vom Wandel mündlicher Überlieferung» в Journal für Geschichte (1984. Bd. 5. H. 3).
{75} Артур Шлезингер-мл. уже в 1967 году выразил это формулой: «Распространение пишущей машинки привело к бурному росту количества текстов на бумаге, в то время как распространение телефона привело к стремительному сокращению значимости этих текстов. С тех пор производится все больше документов и в них все меньше значимого» (Schlesinger A., jr. On the Writing of Contemporary History // The Atlantic Monthly. March 1967. P. 69–71).
{76} Репрезентативна работа: Benz W., Müller M. Geschichtswissenschaft. Darmstadt, [s.a.] 63ff.; а также раздел Der Zeuge в книге: Scheurig B. Einführung in die Zeitgeschichte / 2 Aufl. Berlin, 1970. S. 40ff.
{77} См. Niethammer L. Oral History in USA… S. 480. Основная проблема с историческими интервью, проводимыми на короткой временной дистанции от политических событий, о которых они призваны собирать информацию, состоит в том, что требования экономии научно-исследовательской работы приходят в столкновение с требованиями охраны тайн. Если опрос проводится вне контекста власти, то у него отсутствуют критерии того, ради чего стоит заниматься устной историей, и в результате получается своего рода переходная историография, которая ввиду высокой затратности устной истории привлекает скорее публицистов, нежели историков. Исключения случаются тогда, когда интерес исследователя направлен на конкретное и в высшей степени скандальное событие и исследование проводится на манер уголовного расследования, потому что тогда в случае успеха получится скандал, в котором власть имущие для самообороны вынуждены будут отказаться от привычного засекречивания информации (пример: расследование Уотергейтского скандала газетой Washington Post). Если же опрос проводится изнутри контекста власти, то на области, которые будут нужны будущей истории, можно не обратить внимания, но не хватает ни критичного взгляда, который мог бы измерить их значение и сформулировать соответствующие вопросы, ни свободы от цензурных механизмов организации при анализе материала. Очень редко случается, чтобы политик, ставя ученому такую задачу, одновременно давал ему и привилегии, и свободу. Таким исключением является краткий и запоминающийся рассказ (Baring A. Machtwechsel. Stuttgart, 1982. S. 13ff.) о том, как он работал с сегодняшней политической документацией и интервью, а также насколько они оказались полезны для исследования.
{78} Изучать с помощью методов устной истории этнографию элит Латинской Америки (elitelore) впервые предложил на конгрессе фольклористов в 1967 г. Willkie J.E. Postulates of the Oral History Center for Latin America // Journal of Library History. 1967. Vol. 2. P. 45–54.
{79} Plato A. von. Wer schoß auf Robert R.? // Unsere Geschichte / Hg. von H. Heer, V. Ulrich. Reinbek, 1985. См. также: Baring A. Op. cit. S. 16f.
{80} Интервью с Конрадом Фогелем. Кассета 1, 2. Интервьюер Александр фон Плато. История жизни респондента пересказана: Plato A. von. Der Verlierer geht nicht leer aus… S. 180ff.
{81} См.: Niethammer L. Anmerkungen zur Alltagsgeschichte…; Lüdtke A. Rekonstruktion von Alltagswirklichkeit – Entpolitisierung der Sozialgeschichte? // Berdahl R.M. et al. Klassen und Kultur. Frankfurt a. M., 1982. S. 321ff. Исчерпывающие и дополняющие друг друга ссылки на литературу в книге: Schindler N. Spuren in die Geschichte der anderen Zivilisation // Volkskultur / Hg. von R. v. Dülmen, N. Schindler. Frankfurt a. M., 1984. S. 13ff.; Tenfelde K. Schwierigkeiten mit dem Alltag // Geschichte und Gesellschaft. 1984. Bd. 10. S. 376ff.
{82} Bourdieu P. Entwurf einer Theorie der Praxis auf der Grundlage der kabylischen Gesellschaft. Frankfurt a. M., 1976. S. 171.
{83} Когда индивид выпадает из своих социальных связей и начинает действовать против правил общества, в ходе судебного и административного преследования зачастую возникают источники, позволяющие заговорить молчащей массе обстоятельств и прочим безмолвствующим субъектам. Пример см.: Schulte R. Feuer im Dorf // Räuber, Volk und Obrigkeit / Hg. von H. Reif. Frankfurt a. M., 1984. S. 100ff. Правда, для таких исследований необходимо, чтобы причастные к делу организации проявили хотя бы минимум любви к истине и небезразличия. Но такое, как правило, не встречается в случае массовых преследований, и в особенности репрессий и геноцида ХХ века, которые выбирают себе жертв независимо от их субъективных качеств; одновременно судьба жертв не является репрезентативной или показательной для судеб тех – в остальном похожих на них – людей, которых не преследовали. Если в таких случаях из свидетельств оставшихся в живых жертв не создается потом задним числом предания, то их история будет стерта из памяти. При этом соображения историка относительно экономии или точности, которые имеют право на существование только в соотнесении с другими формами преданий и других источников, не играют никакой роли, потому что документы преследовавших в подобных случаях абсолютно слепы в отношении субъективных качеств и опыта преследуемых. Таким образом, здесь перед нами – важная сфера задач для устной истории. Но в этой статье я вынес эту тематику за скобки, потому что возникает целый ряд дополнительных проблем в связи с глубокой травмированностью потенциальных респондентов, которая была отмечена при изучении, например, преследуемых индейских племен, при изучении евреев, переживших холокост, и при наконец начавшемся теперь изучении опыта преследований немецких цыган. См. отчет о недавнем проекте по изучению жизни французских женщин в Освенциме: Pollak M. Op. cit. Р. 353ff.
{84} Проблема ностальгического искажения в последнее время интенсивно обсуждается в методологии устной истории. См., например: Leydesdorff S. Identification and Power in the Formation of the Romantic Memory // Ibid. S. 309ff. В нашем собственном проекте, мне кажется, этим аспектом долгое время пренебрегали. Мы были так увлечены исследованием многочисленных вспомненных респондентами случаев позитивно нагруженной приватности и активности во времена фашизма, что, возможно, не достаточно внимательно относились к звучавшим в рассказах интонациям второго плана, в силу которых эти рассказы, возможно, иногда представали, например, воспоминаниями-прикрытиями невыносимого опыта угнетения или беззащитности.
{85} См., например, исследования Даниеля Берто и Изабель Берто-Виам об учениках пекарей и о горничных, а также Неллеке Баккер и Яапа Талсма о швеях: Botz G. et al. Op. cit. S. 235ff.; или статью Доротеи Вирлинг о служанках: Oral History. 1982.
Vol. 10. 4.2. P. 47ff.; или, например, статьи Анне-Катрин Айнфельдт о работе по дому, выполняемой женами шахтеров, и Михаеля Циммермана о молодых горняках (LUSIR. Bd. 1).
{86} Общей чертой феноменологических и марксистских теорий повседневной жизни является тезис, что повседневная жизнь состоит из рутинных практик, которые опустились с уровня сознания на более низкий, подсознательный уровень, но все же поддаются обнаружению и описанию (см.: Niethammer L. Anmerkungen zur Alltagsgeschichte…). «Невинность» этих знаний в отдельных случаях сомнительна, например тогда, когда респондент настолько переосмыслил собственную биографию, что при опросе вынужден изобретать и посторонние ему повседневные жизни.
{87} Гирц показывает, что не этнография как систематизация повседневной жизни далеких народов, а только «плотно» (т. е. понятно) описанные в контексте повседневности общественные события, паттерны поведения, институты или процессы могут служить предметом изучения при исследовании культуры (Geertz C. Dichte Beschreibung: Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt a. M., 1983 [ Гирц К. Насыщенное описание: о природе понимания в культурной антропологии // Антология исследований культуры. СПб., 1997. Т. 1], особенно S. 21). Иными словами: изучение повседневной жизни незаменимо, но его одного недостаточно. Однако историческая наука (в отличие от этнографии) не может обеспечить себе знание обстоятельств повседневной жизни путем наблюдения, а когда она добывает это знание из импликаций, заложенных, например, в сообщениях о событиях, то ее невозможно использовать при их толковании в качестве контролирующего коррелята. Поэтому следует согласиться с Гансом Медиком (см.: Medick H. “Missionare im Ruderboot”? // Geschichte und Gesellschaft. 1984. Bd. 10. S. 295ff., здесь S. 313f.), когда он пишет о необходимости реконструировать повседневность былых эпох с применением новейших техник, чтобы реконструкция была адекватна тому, что он называет несколько двусмысленным термином «аборигенная теория исторических субъектов».
{88} О понятии габитуса у Бурдье см.: Bourdieu P. Op. cit., особенно гл. «Структура, габитус, практика» [ Бурдье П. Структура, габитус, практика // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Том I. Вып. 2]. См. также: Idem . Zur Soziologie der symbolischen Formen. Frankfurt a. M., 1974, особенно S. 42ff. (“Klassenstellung und Klassenlage”). Изначально концепция Бурдье не лежала в основе проекта LUSIR, однако постепенно показала себя подходящей теоретической системой координат для анализа.
{89} В современной истории часто налагаются друг на друга несколько социокультурных систем координат, в каждой из которых могут устанавливаться свои смыслы и значения и между которыми перемещается индивид. Сосуществование этих систем настолько очевидно, что тот, кто говорит об изолированных субкультурных средах или об однолинейном процессе «колонизации жизненных миров» (Хабермас), тот недооценивает противоречивость опыта и ту свободу маневра, какой пользуются индивиды. См. также полемику между Альфом Людтке и Детлефом Пойкертом: Lüdtke A. Kolonisierung der Lebenswelten – oder: Geschichte als Einbahnstraße? // Das Argument. 1983. Bd. 140. S. 536ff; Peukert D. Glanz und Elend der Bartwichserei // Ibid.
{90} См.: Brüggemeier F.-J. Leben vor Ort. München, 1983.
{91} Во время интервью в рамках проекта LUSIR в подобных случаях на место социальных отношений, проявляющихся на работе, часто заступали те отношения, которые окружали респондента на рабочем месте (например, служебные романы), в то время как рассказ о самой работе сворачивался до внешнего описания трудовых операций (например, «счета выписывать» или «ну, чем в управлении занимаются»).
{92} См.: Herbert U. Die guten und die schlechten Zeiten // LUSIR. Bd. 1. S. 67ff.; а также, например: Lequin Y., Metral J. Auf der Suche nach einem kollektiven Gedächtnis // Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis… S. 339ff.
{93} Заниматься устной историей можно ведь и с более молодыми респондентами, например, такими, у которых юность пришлась на 1950-е годы. При этом проявляются два феномена: во-первых, память индивида сохраняет впечатления того периода, когда складывается система его опыта, а такие впечатления особенно многочисленны именно в юные годы, даже при сравнительно стабильных общественных условиях; во-вторых, эти условия в воспоминаниях людей, бывших в то время молодыми, предстают не такими стабильными, как у тех, кто тогда уже прибыл в гавань своей мечты, и особенность того времени эти респонденты хотят объяснить последующему поколению, как показывают, например, юношеские воспоминания людей 1968 года.
{94} См.: LUSIR. Bd. 1. S. 10.
{95} Такая оценка возможна только ex silentio, поскольку позднеистористское правое крыло и неоистористское левое не дискутируют друг с другом: методологических разногласий между ними нет, а предметы изучения и исследовательские интересы почти не пересекаются. На Берлинском историческом конгрессе 1984 года, посвященном истории и антропологии, значительная часть старшего поколения не присутствовала на заседаниях секций либо интересовалась социально-биологической антропологией.
{96} См.: Kocka J. Klassen oder Kultur? // Merkur. 1982. Bd. 36. S. 955ff.; Idem. Historisch-anthropologische Fragestellungen – ein Defizit der Historischen Sozialwissenschaft? // Ibid.; Idem. Zurück zur Erzählung? // Geschichte und Gesellschaft. 1984. Bd. 10. S. 395ff.; Wehler H.-U. Preußen ist wieder chic…. Frankfurt a. M., 1983. S. 99ff.; Idem. Geschichte von unten gesehen // Die Zeit. 1985. 5 mai. № 19. S. 64. Тон этого фрагмента спровоцирован тирадами против «истории повседневности», которыми с некоторых пор разражается там и сям Ганс-Ульрих Велер, сваливая в кучу серьезные аргументы с огульными полемическими заявлениями, призывая защищать разум Запада от зеленой опасности и отказываясь вступать в диспут, который он называет шоу-бизнесом. Вполне серьезно на это реагировать невозможно. Но я попытался это сделать, прежде чем мне стали известны новейшие его заявления, см.: Niethammer L. Das kritische Potential der Alltagsgeschichte…
{97} Эта амбивалентность нагляднее всего у Канта: Kant I. Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht // Idem. Gesammelte Schriften. Berlin, 1912. Bd. 8. S. 15ff. [ Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Сочинения: В 6 т. М., 1966. Т. 6]. Я не уверен, что так называемый проект модерна (Projekt der Moderne) или «неурезанную рациональность» (unverkürzte Rationalität) в целом можно спасти для истории за счет того, чтоб их господствующие формы отсечь как патологии. См., например, введение к сборнику: Stichworte zur “geistigen Situation der Zeit” / Hg. vonJ. Habermas. Frankfurt a. M., 1979. Bd. 2. S. 7ff.
{98} См., например: Schulze H. Mentalitätsgeschichte – Chancen und Grenzen eines Paradigmas der französischen Geschichtswissenschaft // Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. 1985. Bd. 36. S. 247ff.; а в качестве экспериментальной программы для медиевистики, например: Goetz H.-W. Vorstellunggeschichte // Archiv für Kulturgeschichte. 1979. Bd. 61. S. 253ff.; Dinzelbacher P. Über die Entdeckung der Liebe im Hochmittelalter // Saeculum. 1981. Bd. 32. S. 185ff.
{99} Thompson E.P. The Making of the English Working Class. London, 1963. В предисловии к этой работе Томпсон так формулирует свое понимание класса: «Класс происходит, когда некоторое количество людей в результате общего (наследуемого или разделяемого) опыта ощущают и формулируют тождество интересов как между собой, так и по отношению к другим людям, чьи интересы отличны от их интересов (и, как правило, им противоположны). Классовый опыт по большей части определяется производственными отношениями, в которых люди оказываются по рождению или в которые попадают не по своей воле. Классовое сознание – это то, как люди в культурном отношении обходятся с этим опытом». См. критику Томпсона со стороны Дитера Гро во введении к немецкому изданию его книги о моральной экономии: Thompson E.P. Plebeische Kultur und moralische Ökonomie. Frankfurt a. M.; Berlin; Wien, 1980. S. 25ff.
{100} Поэтому понятие опыта может включать в себя и те темы, которые сформулированы на основе теорий научения и социализации. Например, Фестер попытался схематически разделить описываемый Э. Томпсоном процесс складывания британского рабочего класса на циклы обучения в ходе классовых битв (Vester M. Die Entstehung des Proletariats als Lernprozeß. Frankfurt a. M., 1970). На этой основе он, в противоположность Энгельсу и Марксу, выводил предрасположенность к таким битвам не из ухудшения и гомогенизации материального положения трудящихся, а из различия между этим процессом и теми притязаниями, по которым это материальное положение мерилось. Таким образом, он действовал в том же русле, что и позднейшие историки, занимавшиеся эмпирическими сравнительными исследованиями в рамках теории революции – или, точнее будет сказать, теории избежания революции.
{101} В этом отношении показательно, что «новые левые» в своем развитии пришли к пониманию значимости опыта повседневности. См.: Negt O., Kluge A. Öffentlichkeit und Erfahrung. Frankfurt a. M., 1972. Мне всегда было интересно, что получилось бы, если бы исследование опыта английского рабочего класса продолжить до времени после чартизма, т. е. года до 1880-го? В каком-то смысле наш проект был посвящен параллельной теме – тому, что было после героической фазы в истории рабочего движения в Германии.
{102} Bourdieu P. Op. cit., особенно гл. «Структура, габитус, практика», S. 139ff. [ Бурдье П. Указ. соч.]. См. также: Idem. Zur Soziologie der symbolischen Formen. Frankfurt a. M., 1974, особенно S. 42ff. (“Klassenstellung und Klassenlage”).
{103} Ibid. S. 169. Исходя из результатов своих исследований по современной истории, я склонен подчеркивать значение биографической индивидуации социальных форм габитуса для структурирования специфической практики. Это такое прочтение Бурдье, которое у него скорее имплицитно заложено и возможно, чем эксплицировано. Однако, он пытался «порождающую грамматику», которая связывает схоластику с готикой, соединить с инновацией аббата Сугерия – см. его послесловие к работе: Panofski E. Gothische Architektur und Scholastik. Это же послесловие под заголовком «Der Habitus als Vermittlung zwischen Struktur und Praxis» напечатано в изд.: Bourdieu P. Zur Soziologie der symbolischen Formen… S. 125ff., особенно S. 155ff.
{104} См., например: Das Unbehagen in der Psychoanalyse. Eine Streitschrift / Hg. von H.-M. Lohmann. Frankfurt a. M., Paris, 1983. В этой книге выдвигается призыв к возрождению психоаналитической теории культуры, но не разбирается актуальное содержание этой теории. После участия в конференциях, которым я обязан Марио Эрдхайму («Этнология науки», Цюрих), Герману Штурму («Эстетика и Чужое», Эссен) и Регине Шульте («История и антропология: восприятие Другого», Лондон), у меня сложилось впечатление, что части психоанализа, антропологии, социальной истории и прочих дисциплин осознают, что нуждаются друг в друге ради преодоления своих внутренних трудностей и кризисов, однако за редкими исключениями еще не нашли общего языка, на котором они могли бы соединить друг с другом свои вклады в сотрудничество в области изучения культуры.
{105} См., например: Groh D. Base-processes and the problem of organization: outline of a social research project // Social History. 1979. Vol. 4. P. 265ff., особенно p. 279f. В рамках проекта LUSIR, который ограничивался гораздо более скромным периодом и нацелен был не на то, чтобы исследовать сами макросоциальные структуры и процессы, а лишь на то, чтобы учитывать их как факторы при интерпретации, мы индуктивно подошли к проблематике операционализации габитуса, не опираясь на Бурдье. Проблемы касались, во-первых, определения предрасположенностей по признакам социального диапазона, временнóго пласта и связи с происхождением, а во-вторых, – различения между индивидуально-семейными особенностями, которые в биографическом интервью часто лишь угадываются, и социоисторическими паттернами и событиями, которые обращены в сторону публичной сферы и в ней отражаются более отчетливо.
{106} Так называемые «общественные структуры и процессы» (Ю. Кока) или «системная интеграция» (Д. Гро) в истории общества не так статичны, как этнологический структурализм, но они суть точно такие же конструкты. Когда им на смену приходит (или априорно ставится над ними) мышление и деятельность исторических субъектов, они легитимируются как фантастические автоматы. История утратила бы в таком случае своего адресата, осталась бы нужна в лучшем случае как катехизис социального приспособления. Поэтому я полагаю, что микроистория в расширенном ее понимании не только может ввести, так сказать, целый мир в локально-исторические пространства, расположенные «под» историей общества, но и обладает способностью на примерах объяснять, как и почему функционировало господство и где имелись альтернативы и возможности сопротивления ему в повседневной жизни.
{107} См.: Erdheim M. Op. cit., особенно S. 271ff.
{108} Herbert U. Apartheid nebenan // LUSIR. Bd. 1. S. 233ff.
{109} Подробнее см. в cтатье «Частная экономика» в настоящей книге.
I Запад
2 Тыл и фронт. Военные воспоминания рабочих из Рурской области: попытка интерпретации
I. О методе
Хотя о Второй мировой войне написаны целые библиотеки, сказать что-то о социальном значении военного опыта и последствий войны, по всей видимости, очень трудно {1}. В официальных сообщениях о войне ее образ формируется, но не изучается. Кинематографические источники – прежде всего хроникальные киножурналы Wochenschau – деиндивидуализируют переживание войны и одновременно драматизируют его. Однако война по большей части состоит не из стальных гроз под музыку Чайковского, и такая эстетика мало что говорит о восприятии и переработке войны теми, кто оказались в нее вовлечены.
Военный опыт буржуа, офицеров и интеллектуалов, который часто зафиксирован в дневниках и им подобных документах {2}, нельзя обобщать: война в них предстает, как правило, в виде противоположности (желанной или внушающей страх) повседневного опыта – не только в том отношении, что это сгусток насилия, но и потому, что война означает дисциплину, подчинение чужой воле и телесность. Однако, туристический аспект войны для буржуа не так уж нов и скорее расширяет сферу уже знакомого. Такие структуры восприятия нельзя переносить на рабочих и работниц в Рурской области {3}, где по сравнению с остальным рейхом больший процент мужчин оставался в годы войны дома (поскольку они были нужны на предприятиях военной промышленности), а большой процент женщин был перемещен в другие районы страны (поскольку эта область подвергалась особо сильным бомбардировкам). До войны эти люди редко путешествовали, а телесность, в некоторых дозах также и насилие, а тем более подчиненность чужой воле были частью их повседневной жизни. Поэтому их опыт был, видимо, устроен иначе, и его надо заново записывать, выслушивать и истолковывать.
Подобные же искажения можно продемонстрировать и на других источниках, которые на первый взгляд кажутся весьма близкими к документальной фиксации военного опыта; прежде всего это относится к письмам, доставленным полевой почтой {4}. Но их информация изолирована, она не показывает связи между пережитым на войне и историей жизни пишущего, а производят они впечатление своей кажущейся конкретностью, которая лишена контекста. Кроме того, солдатские письма проходили цензуру, и авторы их прекрасно об этом знали, ведь начальство им даже зачастую давало рекомендации: что следует сообщать домашним, чтобы способствовать укреплению тыла, а что писать ни в коем случае нельзя. В конце концов многие солдаты, садясь писать письмо домой, пребывали в заботливом и героическом настроении. Многие хотели не слишком тревожить родных, а наоборот, приободрить их и самих себя; а «большой брат» все время смотрел на них.
Иным образом искажен военный опыт в романах о войне, написанных в послевоенное время {5}: они прошли через фильтр мышления интеллектуалов, а также через фильтр интенций авторов, которые имели в виду произвести своими книгами некоторый эффект: предупредить или истолковать – таковы были их главные задачи; а наиболее общеприемлемые формулы, к которым они сводили свои истолкования, были – «бессмысленность» и «пассивность». Эта цель, естественно, не предполагала поиска скрытого смысла военного опыта, ведь «смысл» здесь означает не тот позитивный смысл, который отсутствует при «бессмысленности», а те структуры восприятия и интерпретативные паттерны, которые отчасти предшествовали войне и ее опыту и которые отчасти, сохраняя постоянство или изменяясь, структурировали интеграцию и переработку войны сознанием, а значит и восприятие послевоенного времени.
Если здесь предпринимается подобный шаг на основе вторичного анализа десяти интервью из опросного материала, собранного в рамках нашего проекта, то надо сразу сказать, что делается это без всякого притязания на то, чтобы подступиться наконец-то совершенно новым способом к объективной реальности войны {6}. С самого начала должно быть ясно, что четыре десятилетия, прошедшие с тех пор, о которых идет речь в интервью, структура личности и ее опыт, а также ситуация воспоминания в разговоре с младшим по возрасту интервьюером представляют собой фильтр, который отделяет восприятие от реальности не менее сильно, хотя и по-иному, нежели при других упомянутых выше способах получения информации. И отключить этот фильтр невозможно. Еще более очевидно то скверное для нас обстоятельство, что люди, которые на войне погибли, ничего не скажут. При беглом чтении текстов интервью или при прослушивании кассет я выбирал такие фрагменты опыта и интерпретации, которые либо самими интервьюируемыми были обозначены как ключевые, либо были выделены содержательными или формальными повторами {7}. Далее, здесь речь не идет о «реконструировании» реальности войны, речь идет о том, чтобы средствами истории человеческого опыта постигнуть значение этой войны для общества, пережившего ее. Поэтому при интерпретации интервью меня не так уж интересовало, правда ли то, что опрашиваемые люди рассказывали о пережитом в годы Второй мировой, и может ли это быть кем-то подтверждено. Мне важнее было расшифровать рассказываемые истории-воспоминания и понять их место в контексте целого: как воспринималась война, какие уроки были из нее извлечены, что удалось переварить, а что осталось в памяти в виде необработанных, непроницаемых кусков, и можно ли обнаружить следы вещей, которые так плохо удавалось переварить, что их вовсе вычеркивали из памяти? {8}
Истории, рассказанные нам десятью свидетелями о пережитом ими во время войны, сами по себе в большинстве случаев лишь отчасти поддавались расшифровке, несмотря на самое внимательное чтение. Поэтому для их истолкования интерпретационную рамку приходилось расширять, включая в нее все содержание каждого разговора, и собирать из транскриптов интервью и пленок все цитаты и сокращенно пересказанные места, которые казались необходимыми и полезными для расшифровки той или иной истории. В большинстве случаев мои попытки интерпретации не выходили за пределы первых подступов. В то же время, моя цель и заключалась не в сквозном анализе индивидуальной биографии, а в «симптоматическом прочтении» ее с точки зрения существующих в обществе потенциала опыта и паттернов его переработки. В ходе биографического приближения к историям о пережитом во время войны обычно выявлялось то, что «объективные герменевты» {9} назвали бы латентной структурой смысла, в которой условия восприятия и результаты переработки опыта указывают друг на друга. В них частично снимается индивидуальность опыта, потому что возможности восприятия и интерпретации указывают на коллективные условия бытия и мыслительные паттерны, обладающие внутренней согласованностью и исторической специфичностью. Поэтому несмотря на произвольность источниковой базы, ограниченной десятью случаями, можно надеяться, что на основе нижеследующих историй удастся определить базовые возможности опыта рабочего класса Рурской области.
II. Опыт и интерпретация
1. Хроника потерянных лет
В начале интервью с 65-летним рабочим цинкового производства Фрицем Харенбергом {10} происходит следующий диалог:
...
Интервьюер: Каковы были, на Ваш взгляд, главные вехи на Вашем жизненном пути?
Фриц Харенберг (колеблется): Ну… Вы имеете в виду, что…
И.: …что было важным.
Ф.Х.: …было важным…
И.: …наложило главный отпечаток.
Ф.Х.: Важно… важно… Да, многое сделал бы иначе, чем сегодня, да? Скажем так. Понимаете?
И.: Да.
Ф.Х.: Не, ну [прокашливается] чем старше становишься, тем больше ведь ума набираешься, и смотришь совсем по-другому. Во-первых, тогда бы все это, что с нами случилось, с этим боролись бы, с нацизмом, тогда. Главное – чтоб как теперь, чтоб не могли любого взять сразу в оборот и сказать: «Вот, ты – в солдаты», как тогда с нами делали. Я с 37-го и до конца 45-го, всю дорогу, солдатскую лямку тянул. Да, вот против этого бы сопротивлялся бы, как нынешняя молодежь делает.
И.: Тогда ведь условия совсем другие были, верно?
Ф.Х.: Да. И тогда еще, по-нашему сказать, духу не хватало, чтоб против все это выступить. А сегодня это по-другому совсем думаешь, ведь это все потерянные годы, которых сегодня не хватает. Все вот годы, военные годы и годы срочной службы, и так дальше, трудовая повинность, так, все это теперь не хватает, и годы эти не знаешь, куда теперь вставить [долгая пауза].
Глядя из прошлого, господин Харенберг завидует сегодняшней молодежи, которая может участвовать в движении за мир и тем самым попытаться уклониться от посягательств властей, пытающихся заставить ее принимать участие в организованном насилии. Ему понадобилось состариться, чтобы поумнеть. Если бы в свое время он понимал, что к чему, то стал бы бороться против нацистов. Однако обосновывает он это понимание не политическими, а личностными доводами. И говоря о «потерянных годах», Фриц Харенберг имеет в виду не то, что они не идут в зачет при начислении пенсии, он имеет в виду дефицит биографического смысла: он не знает, куда эти годы вставить. Это был тот возраст (в его случае с 20 до 28 лет), когда обычно решается, как пойдет дальше профессиональная и личная жизнь человека, и когда социализация и опыт сплавляются в личностную позицию. А Фриц Харенберг в те годы был лишен такой возможности, и потому они для его жизненной истории оказываются потерянными, ему не хватает их. И то, что в его биографии зияет эта дыра, заполненная не поддающимся структурированию опытом, оказывается одновременно и самым важным в этой биографии.
После этого вступления Фриц Харенберг коротко рассказывает о своем пути: сначала он был мальчиком на побегушках при цинкоплавильном заводе; потом до 1933 года без работы и без пособия, потому что у отца еще была работа (он был старшим плавильщиком); потом четыре года рабочим в литейном цехе на фабрике крепежных материалов; потом трудовая повинность; потом рабочим-сдельщиком на родном цинкоплавильном заводе – без малого год; потом военная служба в Вестфалии, в казармах. В армии Фрицу понравилось больше, чем в «Имперской трудовой повинности» в Люнебургской пустоши:
...
Надо сказать, честно говоря, в армии – что касается казармы, а не что потом было, – мне больше понравилось, чем когда на трудовой повинности был. На трудовой нас тягали больше, чем в армии.
Потом Фриц еще немного рассказывает о работе в «Имперской трудовой повинности», главным образом о том, как ему нравилось чувство силы и общности в отряде, состоявшем из рабочей молодежи: они работали лучше и быстрее, чем отряд слабаков-студентов, и потому получали добавочные пайки, в то время как интеллигентов заставляли работать дольше. Во время же обучения в казармах, подчеркивает он вновь, напрягаться приходилось меньше, а содержали и кормили лучше; этим же военная служба отличалась и от обычной работы Фрица. Отчуждение человека от дела, а также ограничения, существующие в военных и допризывных организациях, он вовсе не упоминает, потому что не в этом состояло их отличие от нормальной для него повседневной жизни.
...
Как я вначале сказал: когда в армии служил, в казарме, мне лучше понравилось, чем когда на трудовой повинности. Может, в еде дело было? Кормили нас очень хорошо. Отбивная – размером, можно сказать, с крышку унитаза – в самом деле – потом салат, картошка, соус и все такое прочее. И не раз в неделю, а по нескольку раз в неделю.
Присказка заняла едва ли десять минут, рассказ про трудовую повинность и военную подготовку – чуть больше четверти часа. А потом Фриц Харенберг битых два с половиной часа рассказывает про войну – почти без всяких стимулирующих слов со стороны интервьюера (на пленке слышны только его подтверждающее хмыкание и изредка уточняющие вопросы). Потом интервью продолжается еще почти три часа – речь идет об условиях жизни и труда в годы до и после войны, – но тут все рассказы начинаются только после соответствующих вопросов интервьера. А о войне – не так: Фриц рассказывает сам, ровным голосом, почти не теряя хронологическую нить. Часто он разыгрывает небольшие диалоги, иногда имитирует крики своего «старшого»; но потом сценка завершается, и Харенберг движется дальше по военным дорогам. Рассказ в основном структурируется неизвестно от кого поступившими приказами: «И вдруг сказали…» – сказали отправляться в другую страну или вернуться из отпуска, наступать или отступать, а под конец, когда немецкие военнослужащие в Шлезвиге-Гольштейне в английском плену получили возможность остаться в строю, Фрицу «вдруг сказали», что он теперь – солдат 16-го Шотландского пехотного полка и его отправляют на восточноазиатский театр военных действий. Нередко этот необычный, словно текущий неспешным потоком откуда-то изнутри рассказ делится на части позитивными вводными фразами или оценками: «И тут мне очень повезло…» или «славное вообще-то было время»: например, судьба пощадила Харенберга или его на время оставили в покое. Эти отрезки отделены от ожидаемого – по умолчанию негативного – хода событий: таким же необъяснимым образом, каким анонимные командующие отправляли его туда или сюда, вдруг ему выпадало пожить в хороших условиях или испытать что-то приятное, но лишь ненадолго.
...
Вот так все и шло. Да, а потом вдруг сказали: во Францию снова. И мы прибыли снова во Францию, оккупационные части. Да, и радовались, честно скажу, что туда поедем, там ведь все было опять в порядке. Да, французы вернулись во Францию. Там хорошо мы пожили… Под Нанси. И там по вечерам, как служба кончалась, шли в кабачок, там шампанское было по пятьдесят пфеннигов бутылка. И когда из-за стола вставали, то стол был весь уставлен, и мы были набрамшись под завязку, ясное дело… И там были кинотеатры для солдат, и дома солдата, как их называли, там можно было поесть и так далее. А потом вечером той же дорогой обратно. А мы там стояли в большом замке, распределили нас… Женщины-то они так в городе в самом были, да, и там уже и бордели ввели – ну устроили – для рядовых. Да, и вот там очень повезло мне, дали три недели отпуска. Неделю дома пробыл, получаю телеграмму: немедля обратно в часть. Ну я думаю – че такое? Вернулся – а все еще ведь абсолютно в мирном были настроении… Че такое? «Да вот, другим ведь тоже в отпуск надо». Получили другие тоже по неделе отпуска. Ну вот, более или менее все в отпуск сходили в части, и тут вдруг сказали: «Тревога! Готовсь! Встать!» А никто еще и не знал, что творилось. Ну мы теперь были уже ведь моторизованные {11}, поехали значит. Франция, Австрия, Венгрия – так я три раза весну видал. В самом деле. Первый раз во Франции, как сейчас, деревья все распускались. А потом в Вену прибыли, там снегу вот столько было, никогда не забуду, через мост в Вене. Да, и тут сказали: остаемся здесь, это было за городом, совсем рядом. Устраивайтесь сами, а на транспортерах холодно было… да, ну мы у людей, а там уже и в сенях лежали несколько, и в комнате лежали, нам только в курятнике место осталось… На другое утро, спозаранку выгоняют – снова на машины. И тут вдруг сказали: «Марш, дальше!» Едем в пусту, в Венгрию. Ну, и тут я пусту как следует повидал, в самом деле, как там цыгане пиликали. Большие кукурузные поля, бесконечные, сколько глаз хватал. И по ним все свиньи большие ходили, все хрюкали, возились. И там вот была вторая весна. Да, через всю пусту, в Югославию.
Так Фриц приехал в третью весну. На Дрине его часть на некоторое время застряла, потому что они не могли погрузить пушки в те небольшие лодки, на которых переправлялись пехота и саперы. Потом наконец прибыли крупные понтоны и Фриц Харенберг попал в Сараево, а незадолго перед этим ему «крупно повезло»: он нашел склад вражеской техники и боеприпасов, которыми он, будучи ответственным за «оружие и техническое имущество», смог пополнить свои запасы.
...
…до Сараева, где убили императора, на мосту, там у нас парад был… Нам же платили все время хорошо, боевые, каждый день, наверно, сколько-то марок. И вот выплатили нам наши деньги; много накопилось у нас денег… Распределили по квартирам. У меня хорошая квартира была. Да, а потом – в город… Первый магазин был – шоколад. Закупил шоколаду. Вторая лавка – часовщик. Часы купил, колец купил жене {12}. У нас деньги-то были, а у них там это все ничего не стоило, я там потом еще и фотоаппарат себе купил, Agfa такой… Сукно – ну, матерьял жене на пальто, красивое пальто ей вышло. Потом там еще много было этих мусульман в этих ихних шапочках, так мы тоже непременно такие хотели, и я две купил. Это я все как следует упаковал и потом – жене, так, а ей из них красивых шляп наделали. И чудесный английский матерьял я купил, совсем дешево, настоящий английский – вот это был матерьял: я бы мог в нем неделю спать, и ни одной складки бы на нем не было, такой хороший матерьял. Ну, и безделушки, все что можно было вообще купить. Но у меня с этим, с населением там хорошие были отношения, очень хорошие. Иногда бутылку вина с собой прихватывал для хозяина квартиры – он банковский служащий был, в банке работал. И мы по вечерам сидели с ним… А еще там, в Сараево, было большое трамвайное депо, оно было еще за городом, еще за этим мостом, где императора-то убили. Так его из моей квартиры как на ладони видать было. И еще гора там такая была, это кладбище было, еврейское. И вот постепенно пришли из Германии войска СС, следом за нами, и гестапо, все разместились там. И кто-то гестапо рассказал, что на еврейском кладбище там столько всякого было закопано – хорошие деньги и хорошие вещи. Да, ну гестапо согнало евреев, пришлось им копать. Много достали, много нашли. Свои же соотечественники выдали.
Мы там тоже где-то месяца полтора простояли. Потом мы ушли. Потом опять вернулись. Потом пришли в один город – как же он назывался, короткое такое название у него было, в нем сплошь фольксдойче жили – и там мы снова расположились. Нда, там тоже мы пожили как сыр в масле…
И так далее. Опущены только боевые действия в начале, во время «зицкрига» – они в тылу, где располагались позиции артиллерии, не отличались особым драматизмом, если не считать накалявшихся докрасна орудийных стволов, – и долгие дневные переходы с артиллерийским обозом на конной тяге. И еще всякие побасенки про то время, когда часть снова стояла в Германии и под Лейпцигом имела проблемы с полицией из-за того, что артиллеристы привезли с Балкан свиней и устраивали погромы в местных пивных, если им не доставалось вдоволь пива, которое тогда продавали в ограниченных количествах. «Старшой» спасал дебоширов: он их прятал, и приехавшая полиция убиралась ни с чем. За первые два года войны самое глубокое впечатление (если судить по сравнительной длине эпизода) на Фрица Харенберга произвела юбка шестнадцатилетней дочери одной из его квартирных хозяек: он даже взял девушку с собой в Саксонию на полковой праздник, потому что эта плиссированная юбка была скроена из шестнадцати метров ткани.
Воспоминания господина Харенберга о первых годах войны можно описать как последовательность картин-сцен, идущих друг за другом на ленте времени. Их содержание и форма подобны несмонтированному любительскому фильму, снятому во время отпуска. Череда кадров отражает те впечатления, которые врезались в пассивную память в качестве наиболее запоминающихся; эта последовательность картин не скреплена и не структурирована какой-либо мысленной конструкцией, которая перерабатывает воспринятое, оценивает его, устанавливает связи, остраняет за счет смены перспективы или включает в более общие контексты. Перед нами – похожие на хронику, идущие друг за другом отражения, а не размышления. Иначе не могло бы быть этой столь же пластичной, сколь и удручающей последовательности описываемых сцен: поездка, парад победы, поход по магазинам (с валютой, курс которой завышен) и преследование евреев; подробность и точность этих запомненных сцен сделали их документом восприятия, который сохранился лишь фрагментарно, но зато почти не тронут позднейшей обработкой. Коммуникативная переработка послевоенного времени заметна разве что в долгом рассказе о походе по сараевским магазинам: возможно, на его характер и акцентировку оказал влияние опыт таких походов по югославским магазинам в 1950–1960-е годы, когда многие немцы стали проводить в Югославии свой отпуск.
Раздражающую увлекательность такого пестрого набора картинок военной жизни, в тысячах вариантов встречавшегося в рассказах 1950–1960-х годов, невозможно вытеснить, отмахнувшись от нее как от уличной песни о хмельной жизни завоевателей. Как было зафиксировано в начале, Фриц Харенберг начал свою летопись с грустного, важного и самокритичного соображения: «Духу не хватало, чтоб против все это выступить». Задача же состоит в том, чтобы понять отрывочность его впечатлений и необработанность его воспоминаний, руководствуясь при этом его же собственным указанием на то, как он, никем не наученный, смутно воспринимал и принимал происходившее с ним. Тот факт, что рефлексия обращена при этом только на оценку итогов пережитого, а не на каждое отдельное переживание, говорит об условиях, в которых эти переживания сохранялись в сознании Харенберга: по всей видимости, его никто никогда не побуждал к политической, нравственной или хотя бы эксплицирующей переработке его отрывочных воспоминаний, потому что окружавший его мир после конца войны сохранял неизменность с точки зрения его восприятия. Иными словами, то, что тогда было для Фрица понятным и естественным, либо не изменилось вовсе, либо менялось так неприметно, что нужды в новом истолковании этого фильма памяти не возникало, его можно было прокручивать и дальше в том же виде, снабдив лишь общим вступительным словом, в общих выражениях заявляющим дистанцию рассказчика по отношению к его содержанию.
Фриц Харенберг был аполитичным рабочим, пока не надел форму; более или менее аполитичным оставался он и после войны; он не знал ничего, кроме очень тяжелой работы и футбола. Его отец был активистом христианского профсоюза, но во время кризиса вынужден был отказаться от этой деятельности, потому что стал старшим плавильщиком и, поскольку он был кадровым рабочим со стажем, за ним по милости хозяина было в период массовой безработицы сохранено место на закрывшейся фабрике. Свои непосредственные интересы там отстаивать было до какой-то степени можно, однако отчуждение и анонимность как отношений господства-подчинения между рабочими и начальством, так и самих условий труда были там схожи с армейскими, так что этот опыт мог быть перенесен на иерархию и субординацию военной машины.
Фатальная безымянность странствий солдата, которого направляли то туда, то сюда, не разбавлена в рассказе Фрица Харенберга ни упоминаниями каких-либо политических или хотя бы стратегических взаимосвязей, ни даже следами какого-то недовольства. Подобное отношение к жизни вошло в кровь и плоть рабочих, влачивших отчасти наполненное внутренним сопротивлением, однако лишенное перспектив существование: оно научило их не восставать против того, что их труд и сама жизнь не связаны с какой-то высшей целью и зависят от чужой воли, научило принимать власть тех, кто отдавал приказы, и даже, возможно, чувствовать облегчение от того, что им не предлагалось ни разделить ответственность, ни участвовать в обдумывании решений, – по крайней мере, они не считали, что могут что-то изменить; это существование заставляло их приспосабливаться к обстоятельствам и делало каждого из них управляемым. Фриц Харенберг дослужился до унтер-офицера, т. е. стал начальником; он долгое время питается из солдатского котла гораздо лучше, чем привык питаться дома; он получает едва ли не больше денег, чем может потратить; благодаря статусу оккупанта перед ним открываются такие потребительские возможности, о которых он может только мечтать: вот он, империализм настоящий и осязаемый. Время от времени, правда, приходится замечать и теневые стороны, например когда прямо перед его окном согнанных евреев заставляют осквернять и разграблять их собственные кладбища. Но есть достаточно официальных объяснений и официозных слухов, с помощью которых такие впечатления можно одновременно и сохранить, и отделить, так чтобы собственная идентичность осталась, так сказать, не затронутой этой тенью. Сможет ли эта психологическая структура существовать дальше, если тень падет на жизнь самого человека?
Чтобы найти ответ на этот вопрос, я беру из рассказов Фрица Харенберга о войне тот эпизод, в котором он описывает, как закончилось его участие в войне против России в 1943 году. Уже сам тот факт, что подобный рассказ существует, отличает эту часть воспоминаний Харенберга от воспоминаний о блицкриге. Выбранный фрагмент довольно объемист и представляет известную сложность, поскольку в нем налагаются друг на друга три разные нарративные структуры: история о том, как остался жив сам Фриц, летопись военных воспоминаний и ответ на вопрос. В летописи он рассказывает о запряженной пони повозке, за которой сначала гнался русский танк и которая потом попала в руки к немцам и оказалась интендантским транспортом со всякими товарами, в том числе с австрийскими сигаретами. Описывая дележ этих товаров, Харенберг особо выделил сигареты, марку которых он «никогда не забудет». Потом следует вышеупомянутая история:
...
И вот с этими сигаретами-то я потом и провернул одно дельце. Меня ранило, и я попал в С. в госпиталь.
Это история самой важной сделки его жизни. Госпиталь был переполнен, русские войска подступали все ближе, Харенберг считался нетранспортабельным, но ему удалось подкупить страдавшего никотиновой зависимостью санитара этими сигаретами, так что «с последним транспортом» он был отправлен в тыл. После этой истории снова следует летопись: раненых везут в вагоне для скота, у Фрица начинается опасная для жизни лихорадка, в Днепропетровске ее обнаруживают врачи, он попадает в госпиталь, а потом на современном санитарном поезде отправляется в Прагу. Там – маленькие сценки: Харенбергу отказывают в отпуске, так как считают его недостаточно транспортабельным; выздоравливающих унтер-офицеров бюрократы тылового района обязывают дневалить, а Фриц, ссылаясь на свой авторитет раненого фронтовика, отказывается исполнять эту повинность; к нему приезжает его девушка, у которой в путевых документах недостает одной печати, и потому ее арестовывают и отправляют на Градчаны; возврат: они еще в 1941 году хотели пожениться, но все время не давали отпусков, например из-за Сталинграда, и вот теперь они снова решили пожениться в ближайшую Пятидесятницу (на дворе весна 1943 года); следующая сцена: тыловой бюрократ, сделавшийся теперь уже закадычным другом Фрица, вынужден дать ему отпуск, увидев, что тот служит уже 28 месяцев без перерыва; чтобы отпраздновать дома свадьбу, Фриц добывает в Праге шнапс. Когда интервьюер спрашивает, почему он хотел вступить в брак, Харенберг отвечает, что ведь уже в 1941 году обещал подруге, что женится на ней; кроме того, у замужних женщин, особенно когда они вынуждены были жить одни, было больше прав, чем у незамужних, к тому же ей как жене солдата дали денежное довольствие.
И вот в летопись вплетается история о женитьбе Фрица, которая начинается как бег с препятствиями, а потом приходит к хэппи-энду: поскольку в документах о заключении брака не хватает визы командира, Харенбергу приходится ехать в свою запасную воинскую часть, которая в это время уже дислоцируется в Вуппертале. Описание города после массивной бомбежки и гигантского пожара: обгорелые трупы в подвалах, в реке Вуппер тоже множество трупов. Сцена сменяется: грубовато-комичные сцены в казарме; разрешение на брак выдает случайно зашедший офицер; когда Харенберг возвращается в свой город, чиновник, ведающий актами гражданского состояния (офицер СС), уже собирается уходить домой, поскольку суббота и предпраздничный день; соседка, дав взятку – опять же сигаретами, – уговаривает его задержаться на службе; чиновник знает жениха, потому что его брат раньше забивал свиней у родителей Фрица. На следующий день – венчание. Отец заказал белый свадебный экипаж с белыми лошадями, но накануне вечером в конюшню попадает бомба. Поэтому процессия идет пешком мимо шахты к церкви, погода отличная. Вечером авианалет, бомбоубежище. На другой день назад в госпиталь, там еще шесть недель, пока Франц не начинает ходить без костылей. Потом он вызывается добровольцем на отправку в часть, отражающую вторжение с Запада, – он записывается для того, чтобы его не отправили снова в Россию {13}.
Такова последовательность эпизодов летописи, скрепленная историей про сигареты, и то, что было потом. Ее течение нарушается вопросом интервьюера, который в самом начале, сразу после приведенной выше цитаты, просит подробнее рассказать, при каких обстоятельствах Харенберг был ранен. Тот с готовностью исполняет просьбу и описывает позицию своего орудия. Оно стояло между домами; на той стороне реки было несколько русских танков; шла перестрелка. Орудие уже было настолько разболтано, что все шаталось. Затем Фриц долго рассказывает о том, как ремонтировали пушки, в том числе в подробностях описывает самые частые ремонтные операции, которые он производил сам. Затем он возвращается к той перестрелке и комментирует качество боеприпасов: немецкие снаряды хорошие, а русские часто не разрываются.
...
Тут мы тоже палить стали. Я в оптическую трубу гляжу. Говорю: «Внимание! Выстрел!» И вот как сказал я «выстрел», тут сразу и полетел через люльку – это где ствол при отдаче ходит. На ту сторону перелетел. Это он мне прямо между левым колесом и щитком всадил – снарядом значит – и тот насквозь прошел, и мне прямо по пистолету. Не разорвался, видать, снаряд. Коли взорвался бы он, так меня ж разнесло бы, так? А пистолет мой – тот плоский стал, как газета. И весь боеприпас, что у меня там был, – у меня восемнадцать патронов было, девять в этом самом – у нас тогда ноль восьмые были – так вот, девять было в пистолете и девять в резервной обойме. И все они теперь были во мне. И они дыру у меня вот тут прорвали, рана была примерно 18 на 12, т. е. в длину вот так и в ширину вот так. У меня вот тут весь бок оторваный был. Ну, перевязали меня там. И тут вдруг загорелся один танк…
Пришла из соседней деревни подмога, заставившая русских отступить. Господин Харенберг объясняет, почему подбить танк смогли именно подошедшие товарищи, а не его собственное орудие; он дает подробные выкладки относительно качества боеприпасов и рассеяния снарядов. Его принесли на дивизионный перевязочный пункт, куда поступали и другие раненые, из других дивизионов («кто без ноги, кто без руки»), там ему обработали рану, и на следующее утро большой тягач по глубокому снегу оттранспортировал раненых в соседний город в госпиталь. Тем самым создан переход к истории про сигареты, которая после этого и следует.
Чем отличается этот эпизод от хроники блицкрига, рассмотренной вначале? Базовая структура у них общая: последовательность описываемых сцен, которая почти никогда не сопровождается оценкой, хотя положительные переживания (удача в несчастливых обстоятельствах, хорошая погода во время свадьбы и т. д.) обладают в воспоминании эмоциональной окрашенностью, в то время как печальные переживания производят странное впечатление словно бы застывших, например, рассказ о разрушениях и о жертвах бомбежек в Вуппертале, где в начале еще идет речь о задержавшейся свадьбе, а ужас проявляется в виде неспособности к рассказу, которая, впрочем, длится едва секунду, потому что затем господин Харенберг рисует очень точные и выразительные картины-сцены. Рассказ начинается так:
...
Приехал я в Вупперталь – ой-ой-ой: все разрушено. Казарма-то стоит, а домов всех нет. А Вуппер – это вообще описать нельзя, в ней люди лежали, кого еще не выловили.
Хотя с точки зрения стиля в повествовании по-прежнему доминирует пестрый калейдоскоп военной жизни, в нем уже ничего не осталось от рассказа туристических впечатлений; вместо этого описываются ужасы войны. Новым элементом является усиленный интерес к технике, но он связан с тем, что Харенберг был в это время ответственным за «оружие и техническое имущество». В конце концов и личный опыт добавил драматизма в эту последовательность сцен, хотя в нормальной форме рассказа (она здесь нарушена) ранение, которое едва не привело к гибели рассказчика, фигурирует только как некое вводное обстоятельство, обретающее значение в связи с радостными событиями: спасением жизни через подкуп санитара, женитьбой вопреки Сталинграду и бомбежкам, уклонением от отправки обратно на Восточный фронт. Отлитая в форму отдельного рассказа история про сигареты свидетельствует о коммуникативных нормах послевоенного общества: о войне надо было говорить, но не погружаясь в собственные кошмары, а формируя из своих воспоминаний фрагменты саги о том, как удавалось выжить. В информации о ранении, которую Фриц выдает в ответ на вопрос интервьюера, собственный опыт полностью отсутствует: в ней нет воспоминаний о боли, не говорится ничего и о том, стало ли ранение отправной точкой размышлений о войне, будь то в личностном или политическом плане. Вместо этого – театральные сцены, в которых моменты бурлеска сочетаются с бесстрастностью описаний и множеством военно-технических подробностей. Судьба приняла теперь форму военного снаряжения и боевых ситуаций; она превратилась, так сказать, в бесконечный заводской цех, и потому никаких вопросов к ней быть не может. Участие в боевых действиях на Восточном фронте больше не дает никаких привилегий – ни там, по отношению к мирному населению, ни у себя в тылу. Это опасная работа, зачастую в ужасных условиях, с постоянным высоким риском для жизни и весьма скудным социальным обеспечением: жалование переводят домой, купить почти ничего нельзя, отпуск не дают больше двух лет. Это оказывается испытанием для долготерпения Харенберга: пока он на фронте, он выполняет эту работу и не замечает ее бессмысленности, будучи увлечен техникой или тем, как удается на ходу эту технику чем-то заменять, а в остальном живет счастливыми случаями. Но как только предоставляется возможность поменять это место работы на другое, лучшее, на Западном фронте, он этой возможностью пользуется. Это вопрос условий труда и жизни работника войны, а не вопрос политики.
2. «Единственное, что было плохо в Гитлере»
...
Единственное, что плохо было, – это что мы проиграли войну. И это он [Гитлер] сам себе свинью подложил. Нельзя ему было начинать Барбароссу [нападение на СССР]. Ему надо было в Англию, чтобы аэродромы там захватить.
Бывший горняк Герман Пфистер {14}, который после угольного кризиса основал небольшую фирму грузовых перевозок, неоднократно в течение интервью подчеркивает этот тезис; в другой раз он связывает его с крупными бомбардировками Рурской области британской авиацией: самое плохое во всей войне было то, говорит он, что нас бомбили. Само по себе это вполне понятная защитная реакция для человека, который пережил войну, будучи рурским шахтером. Но все равно странно, что поражение, на его взгляд, – единственное, что было плохо в Гитлере. Госпожа Пфистер в годы нацизма отказалась от Материнского креста, хотя уже родила к тому времени многих из своих семнадцати детей; сам Герман, который, подобно своему отцу, до и после нацизма был центристом, в 1935 году стал членом Движения католических рабочих и, когда в 1944 году на шахте было введено обязательное приветствие «Хайль Гитлер!», он отказывался его произносить – по крайней мере до тех пор, пока ему не стало страшно. У него были хорошие отношения с остарбайтерами, лагерь которых располагался рядом с его свинарником; они брали у него взаймы велосипед, аза это отдавали ему ворованные инструменты или угощали водкой. Надо полагать, у него были основания видеть в Гитлере и еще что-то плохое кроме того, что мы проиграли войну?
Рассказы господина Пфистера и во многих других случаях неожиданно «сходят с рельсов». Так, например, он, который во время войны на арендованной у церкви земле держал своих свиней, а после войны на дешевой церковной земле построил себе дом, он, который «уже хотя бы из благочестия» не спал со своей женой в течение четырех месяцев между гражданским бракосочетанием и венчанием, подытоживает приобретенный под землей политический опыт следующим образом:
...
Многие мои товарищи под землей до 33-го года были христианами, потом стали нацистами, а после 45-го снова стали христианами. У меня такого не было. Я свою веру и по сей день высоко держу. После 33-го года коммунистов не слышно стало. Разных там вылавливали. Один еврей как-то раз две недели [в шахте] работал. Он никогда не работал голым. В этом деле еврей щепетилен.
Он хочет этим сказать: христиане не сформировали бы сопротивления; сам он – скорее исключительный случай. Уж скорее сопротивлялись бы коммунисты, но их было не слышно. А евреи – те были, так сказать, еще на шаг дальше, чем коммунисты. В других местах своего рассказа он приписывает коммунистам такие же добрососедские качества, как христианам и нацистам: если не говорить о политике, то с ними прекрасно можно было иметь дело. Но евреи – они другие, и дело тут не только в их непонятной стыдливости:
...
Весь этот мировой экономический кризис в те годы был самодельный. Его организовали все демократические правительства по всему миру, и прежде всего кто? Евреи. Евреи тогда на 75 % в экономике были и заправляли экономикой. Чего они надеялись от этого кризиса получить, я и по сей день не знаю. А что кризис самодельный был – это доказано было, когда Гитлер, пробыв два года у власти, ликвидировал безработицу.
Раз чья-то добрая воля в рамках одной отдельно взятой страны смогла кризис устранить, значит чья-то злая воля его породила. А что сегодняшний экономический кризис, согласно утверждениям Гельмута Шмидта, не «самодельный», – в это господин Пфистер не верит, ибо он – рабочий, мыслящий национально. Интервью начинается так:
...
Первое событие у меня в жизни было при французах, в 1923 году, когда мне было десять лет. Вступали французы, а мы с одним приятелем показали им неверную дорогу и заманили их прямо в яму, куда откачивали грязь из шахты. Там их подводы застряли. Мне досталось колотушек от отца, который опасался мести французов. Он три дня прятался в сарае. В это время школы были закрыты на несколько дней. Когда учителя узнали о моем поступке, вся учительская шатия-братия радовалась.
Первое запомнившееся событие – только в десять лет? Во всяком случае, в тот момент он был национальным героем, по крайней мере в школе, – странно только, что побили его не французы, а отец, который в душе его поддерживал (в 1932 году он как безработный вступит в нацистскую партию), но был труслив. Быть вынужденным подчиняться авторитету отца для Германа было тем неприятнее, что авторитет этот теперь обесценился; в последние годы Веймарской республики сам Герман несколько раз оставался без работы, уже после двух лет учебы – из-за недостатка рабочих мест – и хуже всего было для него то, что он при этом оказывался в зависимости от отца и брата. Вырваться из этой зависимости он смог только благодаря тому, что нацистская партия послала его на работу на восток Германии; вскоре он снова пал жертвой этой зависимости, но потом наконец получил неполное рабочее место при нацистском авиационном корпусе. Тем не менее, оглядываясь в прошлое, господин Пфистер не радуется и похвале учителей-нацистов: они – «шатия-братия», т. е. отметаются презрительным собирательным понятием, которое Герман ни разу не употребляет по отношению к шахтерам. И все же главное в рассказе – это именно учителя, которые становятся на его сторону. Эти различные смысловые и референтные системы, которые одновременно и привлекаются, и отметаются, и образуют необычный контраст с пластичностью описаний личного опыта, пронизывают все интервью. Как же получается, что интерпретации Пфистера выглядят такими определенными, а в контексте целого оказываются непоследовательными, бессвязными и произвольными?
Герман Пфистер родом из мира, в котором ценности, символы и точки зрения были очень важны, но в его опыте уже не могли быть сведены к рудиментам. Он вырос в семье шахтера с национал-католическими убеждениями в районе, считавшемся «красным». Коммунисты в самом деле были там самой мощной силой в 1920-е годы, однако среди рабочих были и католики, и социал-демократы, и национал-социалисты, и сторонники Немецкой национальной народной партии. Между ними сохранялись своего рода мирные пролетарские соседские отношения, но в дни выборов улицы заполняли потоки конкурирующих знамен, и если заходили разговоры о политике, то бывало, что дело заканчивалось дракой.
...
Христиане, социал-демократы и коммунисты мирно жили вместе. Но если дело шло о политике или о забастовке, то они друг друга дубасили. А так все время вместе держались. Мой отец был центрист, и я тоже, а который рядом с нами жил, он был из Хорватии, это был хорват, так вот он был коммунист.
А с ним в одном дворе жил один из Померании, так тот был вовсе даже за Немецкую национальную и за кайзера, он и усы свои накручивал точно так же, как раньше. А дальше на углу, там жил один, который ходил со значком [НСДАП], но решиться открыто значок носить ему нельзя было. Под конец, в 32-м, из него бы отбивную сделали. Я как-то раз видал, как одного схватили и все мордой непрерывно по грязи возили, потому что он тоже нацист был. Тут очень надо было внимательным быть. Потом были эти выборы в рейхстаг, и тут пошли флаги. Всех сортов знамена из окон висели, а самые гигантские знамена были «Железного фронта» – от самой крыши вниз, опа, до самого тротуара – красная тряпка, а на ней три черные стрелы, как такой частокол, вроде того; это было ответвление СДПГ.
Словно этой пестрой смеси еще недостаточно, Герман Пфистер попадает на полевые работы, а потом обязательный трудовой год, очевидно, по программе помощи крестьянам, которую НСДАП осуществляла еще до 1933 года. Прибыв в Восточную Пруссию, ребята из Рурской области знакомятся с неведомым миром: квазифеодальные отношения между юнкерами и деревенским населением, столкновения между рабочими без всякой классовой солидарности. С инакомыслящими расправа короткая; например, у хозяина, у которого работает Герман, батрак – коммунист, который протестует против марша СА криками «Хайль Москау!», а его за это забивают насмерть. Хозяин – нацист, еще до 1933 года ставший бургомистром, – отметает протесты Германа. Кровать, в которой истек кровью батрак, не перестилают заново. Парни-шахтеры здесь снова оказываются в зависимости от кого-то, но вместе с тем обнаруживают и свою инаковость, своеобразие. Всю неделю они радостно предвкушают воскресную драку с местными и солдатами. Когда их заставляют выполнять роль добровольной пожарной команды, они с удовольствием пользуются возможностью дать сгореть дому одного из местных. Когда время Германа вышло, он не может вернуться на родину, потому что там нет работы, и остается в Восточной Пруссии. На Рождество он получает отпуск, едет домой, и там познает заботу национал-социалистов: ему дарят билет в оперу с оплаченной поездкой на такси. На него это производит глубокое впечатление. Потом он снова уезжает на восток Германии, а когда в конце концов возвращается, он на самом деле, конечно, по-прежнему безработный. Только трижды в неделю по вечерам у него есть работа в одной нацистской организации, и его единственное утешение в том, что в мундире национал-социалистского авиационного корпуса он выглядит «как адмирал» и что он может наконец хоть что-то «швырнуть на стол» родителям.
Шахтером Пфистер становится в итоге не потому, что живет так, как принято в Рурской области, а потому, что переносит туда те самые квазифеодальные структуры, которые еще так недавно с удивлением и насмешкой наблюдал в Восточной Пруссии: он пишет прошение на имя директора тех шахт, где когда-то работал его отец. И его в самом деле берут, и он оказывается дельным рабочим, усердным сверх меры, так что быстрее обычного продвигается вверх по карьерной лестнице. Теперь и жениться можно, но только на правоверной католичке. Возникает конфликт ценностей: в то время как нацисты почти полностью покончили со сбивающим с толку плюрализмом политических течений, Герман чувствует себя представителем оппозиционной – церковной – культуры, хотя в принципе согласен с Гитлером; он связан пролетарской солидарностью с другими рабочими, но в то же время получил место оппортунистическим феодальным путем, подлизавшись к директору. Ссуду, выдаваемую государством парам, вступающим в первый брак, родители «выплачивают детьми», но в то же время жена Пфистера отказывается принять Материнский крест и продолжает рожать детей даже среди руин: один раз, во время войны, Герману приходится бежать со своей беременной женой по горящему предместью, потому что больница, куда она шла рожать, на их глазах оказывается охвачена пожаром, и они, несмотря на начавшиеся схватки, вынуждены отправиться в другую. Но это не просто признак жизни, противопоставляемый смерти и разрушениям войны: постоянная беременность жены Пфистера продолжается с середины 1930-х годов по середину 1950-х. В общей сложности она рожает семнадцать детей, из них в живых остаются двенадцать. Очевидно, у этой женщины травма, поскольку она сама – незаконная дочь, рожденная матерью от французского солдата и отданная на воспитание приемным родителям. Но и Герман тоже ищет убежища от политических трудностей и превратностей в жизни, в ее производстве и сохранении, в превращении семейной жизни в профессиональное продолжение рода.
Здесь получают развитие все его деловые качества: он раздает взятки «павлинам» (нацистским чиновникам), занимаясь нелегальной торговлей яйцами; он разводит мелкий домашний скот; он вывозит свою семью в Гарц, а потом, симулировав болезнь, в дни крушения рейха сам пробирается к ней; он дважды перестраховывается, поддерживая хорошие отношения с остарбайтерами; временное обиталище на церковной земле он перестраивает в такой дом, где можно очень неплохо жить. Почти каждый день Пфистер работает сверхурочно и зарабатывает едва ли не больше всех, кто трудится под землей. Да, именно здесь он добивается своих настоящих успехов: хотя якобы благотворительные пакеты с американской помощью как таковые использовались в Рурской области в качестве премий для повышения производительности труда, и хотя Герман и после войны оставался национально мыслящим центристом и антисемитом, он был в состоянии посреди кампании по наращиванию производства взять фиктивный больничный и тем не менее пойти в свой коммунистический производственный совет и получить от него пакет от американской благотворительной организации CARE: «Только открыл его – так вся моя родня тут как тут».
Злая интонация этой фразы – лишь верхний слой краски, скрывающий гордость семьянина и его наслаждение отвлеченной от мира семейной жизнью. Герман Пфистер создал свой собственный космос, и в послевоенное время ему удалось в него спрятаться: политический центр умер, и Пфистер ничем его не заменил. «Почему я должен поддерживать ХДС?» Генрих Любке, с точки зрения Германа Пфистера, был свинья, потому что, будучи министром сельского хозяйства земли Северный Рейн-Вестфалия, отправлял продовольствие в Баварию. Но об Аденауэре, Хейсе, Эрхарде Пфистер может говорить только восторженно, очевидно, потому, что эта надпартийная троица наконец-то оставила людей в покое.
...
Эрхард только одну ошибку сделал – что перешел с угля на нефть. Это была погибель ФРГ.
СДПГ для Пфистера – тоже не соблазн, потому что, как он говорит, она никогда не соблюдала собственную программу «Свобода, равенство, братство». Из профсоюза («После конца войны меня из Немецкого трудового фронта перевели в Промышленный профсоюз горняков») он в середине 1950-х годов тоже ушел, когда увидел, как профсоюзные функционеры кутили на курорте; его реакция была резкой: «Функционер не имеет права быть выше члена профсоюза». Союз рудокопов-католиков, в котором он состоял, и тот распался, так что теперь, в старости, Герман свободен от всяких политических забот.
Теперь господин Пфистер уже никто и ничто, он лишь патриарх и католик. С одной стороны, он научился отбиваться от посягательств политиков, которые так сильно повлияли на его молодость. С другой стороны, он усвоил по ходу дела ряд глобальных объяснений, позволяющих ему уживаться со своим противоречивым опытом и сопротивляться посягательствам политиков, как положено главе семьи. При ближайшем рассмотрении эти объяснения оказываются условными и хрупкими, но они помещают слепое подчинение высшей силе в величественный контекст. Процитированные в начале слова Германа Пфистера о войне – это одна из трех больших компенсаторных фантазий, которые структурируют его биографию. Вторая – это антисемитизм, посредством которого он разрешает для себя загадку экономического кризиса, для которой нет другого решения в том католически-националистическом мире, в котором он вырос. Не причисляя себя к нацистам, Герман благодаря антисемитским идеям может одновременно и выразить свое восхищение Гитлером, и по-пролетарски дистанцироваться от фашизма. Третья фантазия – это восхищение отцами экономического чуда, сделавшими так, что в 1950-е годы мир Германа Пфистера снова пришел в порядок. И это свое восхищение он должен как-то примирить с тем фактом, что потом этот его мир во время угольного кризиса снова сошел с рельсов. Об Эрхарде (как и об Аденауэре и Хейсе) он может говорить лишь восторженно, но все-таки именно Эрхарда он считает виновным в погибели ФРГ. Мостиком между величайшими достижениями и ответственностью за худшее прегрешение является фраза «только одну ошибку сделал». Людям свойственно ошибаться.
В голове Германа Пфистера существуют запреты на некоторые мысли, и эти запреты заставляют быть изобретательным. Он неспособен на аналитическую социальную критику не в силу своих убеждений или лояльности системе. Авторитеты, как выясняется при ближайшем рассмотрении, для него мало значат: трус-отец, учительская шатия-братия, штейгеры, избивающие иностранных рабочих, убийца-бургомистр, лживые церковные власти, вожди нации, которые своими «ошибками» ввергли всех в катастрофу… взгляд наверх для Пфистера – это взгляд в нечто, сильно напоминающее комнату ужасов. Его критический потенциал не получает развития – не столько из-за недостатка образцов критического мышления вокруг, сколько из-за того, что эти образцы, которые всегда имелись, предлагались всегда не тем политическим лагерем. Господин Пфистер принадлежал к лагерю католиков. Критика общества для него – это критика личностей, которая исходит из существования структур как чего-то как бы естественно данного; критиковать эти структуры значило бы для него примерно то же самое, что участвовать в сборищах соседей-коммунистов. Общая повседневная жизнь пролетариев не исключает того, что их мысли могут быть несовместимы друг с другом, и более того, она допускает усиленное формирование иммунитета к образу мыслей других. Какие-то мысли запрещены собственному сознанию. Эти запреты имеют свои издержки, которые проявляются в фантастических объяснениях взаимосвязей между мировыми явлениями. Для господина Пфистера критика капитализма запретна не потому, что ей противоречит его собственный социальный опыт, а потому, что у соседей-товарищей она играла роль эрзац-религии. Ему ближе оказывается такое внутримирское объяснение мирового экономического кризиса, которое более сродни католицизму, а именно обвинение евреев. Сама церковь с ее доктриной не может объяснить Пфистеру, почему он остался без работы, хотя и в 1931 году, и в 1961-м именно ее люди были в Германии канцлерами.
Так, в фантазии преодолевая социальные мыслительные запреты, господин Пфистер идеализирует политиков, подобных Гитлеру и затем Эрхарду, которые, с одной стороны, творили едва ли не чудеса, а с другой – привели его собственный мир к катастрофам. Единственное, что сделал плохого Эрхард, – это то, что он заменил уголь нефтью. А единственное, что плохого сделал Гитлер, – это то, что он проиграл войну, точнее – то, что он напал на Россию, вместо того чтобы сначала расправиться с Англией. Ведь если бы немцы сперва заняли Англию, то англичане не смогли бы нас потом бомбить. Объяснение это не оригинально, оно заимствовано из национал-социалистской дискуссии 1941 года. В центре его стоит подчеркивание важности работы в тылу. Германию не победили на Восточном фронте: ее поставили на колени бомбардировками. Это представление об истории и о роли в ней «фронта в тылу» могло бы спровоцировать вопрос: а почему же господин Пфистер получил бронь как незаменимый работник? Конечно, он был шахтером и был, возможно, необходим военной промышленности. Он рано женился, и начиная с 1936 года у них с женой каждый год прибавлялось потомство. Но на момент начала войны Герману Пфистеру было 26 лет, о проблемах со здоровьем нигде ни слова не сказано, – да и едва ли они могли бы быть у человека, работавшего в забое. В таких обстоятельствах про бронь стоило бы сказать, однако в интервью она не упоминается. Война для Пфистера – скорее история о бомбах: когда объявляли тревогу, шахтеров злонамеренно не выпускали из шахты, так что они неоднократно оставались по несколько дней под землей. Пфистер был командиром отряда противовоздушной обороны, насчитывавшего 43 человека, – там были учителя, адвокаты, врачи и прочие, кому тоже удалось получить бронь как незаменимым работникам. Но они никогда не являлись по тревоге к месту сбора, так что однажды Пфистера даже привлекли за это к ответственности. Иными словами, по-настоящему уклонялись от военной службы те, кто были в высших слоях общества, – так отвечает рассказчик на вопрос, которого ему не задавали. Его собственная семья была переправлена в безопасное место за городом, а когда дело приняло плохой оборот, то он, сказавшись больным, тоже сумел вырваться туда. Главное в рассказе Пфистера – это бомбы. По сравнению с ними остальная война в общем-то совсем не так уж и страшна. Ее, собственно, не проиграть, а выиграть надо было.
3. «Надо быть мужественной»
...
Ну, что еще в памяти осталось? Война? Когда большой налет был, мне пришлось вместе с другими раненых перевязывать. Жутко было. Меня тоже вместе с другими первой помощи обучали. Я все говорила: «Без толку, я ж сама рядом с ним лягу, как кровь увижу». Но странное дело: когда надо быть мужественной, то все можешь.
Рассказав о первых 30 годах своей жизни, о войне, переездах своего завода, разрушениях, Эрика фом Энд {15} еще раз перебирает то, что сохранилось у нее в памяти, и приходит к этому выводу, касающемуся не только работы в Красном Кресте. С 1946 года Эрика – домохозяйка, сегодня [1983] ей под семьдесят, но говорит она молодым и деловым голосом, гладко, точно, гордо. Когда надо быть мужественной, говорит эта женщина, то все получается; а во время войны надо было быть мужественной – в самом прямом смысле слова, ведь мужчины, работавшие на металлообрабатывающем заводе, куда она до войны поступила конторщицей, были мобилизованы в армию. Это было время, когда Эрика фом Энд продемонстрировала свой большой профессиональный потенциал.
Насколько позволяли возможности, Эрика всегда была впереди. Ее отец был взрывником на шахте в Гельзенкирхене и в сорок с небольшим лет остался в середине 1920-х без работы; к этому времени семья успела выкупить у шахты съемный дом, но теперь денег не стало, а детей было пятеро, и необходимо было, чтобы они как можно скорее пошли работать. Эрика перескочила один класс в школе и поступила в дополнительный класс (для подготовки выпускников народных школ к экзамену на аттестат зрелости), так как учителя советовали родителям дать девочке художественное образование или отправить ее в университет. Но денег на это не было, так что из художественных наклонностей вышла не профессия, а хобби. В 1926 году Эрика поступила в небольшую фирму на производственное обучение, после которого, несмотря на дефицит рабочих мест во время экономического кризиса, ее в числе немногих других приняли на работу; на этой фирме она проработала еще несколько лет конторщицей и познакомилась со всеми отделами, так что приобрела основательную и широкую профессиональную квалификацию. Жила она по-прежнему с родителями. На этом предприятии, однако, работа была бесперспективной: жалование небольшое, возможностей для продвижения никаких, ликвидных средств не хватало. Ради большего жалования Эрика перешла в страховую компанию, но работа там ее не удовлетворяла: одна машинопись, и результаты работы определялись не по счету, а по весу. Год спустя Эрика перешла на вышеупомянутую металлообрабатывающую фабрику, сравнительно крупное предприятие, где больше платили и где она сначала стала работать машинисткой-стенографисткой в отделе продаж, но уже в скором времени была переведена с повышением в центральное управление секретаршей начальника отдела, и ей стали поручать функции делопроизводителя.
...
Так это продолжалось несколько лет, а тем временем началась война. Потом одного нашего сотрудника, который заведовал в правлении отделом кадров, призвали в армию. А он мне еще до того сказал, чтобы я так понемножку и его работой занималась. Показал мне, как там что делается, помогал мне, и к тому времени, когда ему пришла повестка, он меня уже полностью ввел в курс дела, и мне дали отдел кадров, руководить; жалование выдавала… Под конец я была единственная девушка, которая получала самое большое жалование. Я же знала, сколько кто зарабатывал, я ведь выдавала жалование. Ну и мне платить должны были соответственно, и поскольку это была ответственная должность и я очень большими деньгами ведала, то я и получала тоже много.
Война для нее поначалу просто внешнее условие, обеспечившее ее подъем на следующую ступеньку; в ее собственную жизнь война со своими политическими последствиями пока не вторгается. Кстати, 1933 год как дату политически значимую она тоже не упоминает. В профессиональной биографии Эрики важными годами были 1930-й и 1936-й. Когда началась война и многим молодым служащим легкой промышленности стала грозить мобилизация, руководство перешло к стратегии оптимизации: фирма не могла в условиях войны расширяться, но путем перебазирования производства могла усложнять свою структуру. Таким образом, первая задача заключалась в том, чтобы удерживать опытные кадры в руководящем звене и оптимально их использовать. Эрику фом Энд использовали еще не оптимально: хотя она выполняла функции делопроизводителя, ее энергия и рвение были столь велики, что она смогла без труда освоить и функции руководителя подразделения. Это был для нее огромный карьерный шанс: самостоятельная и ответственная работа, руководящие функции, оправдание доверия, оклад втрое больше того, с какого она начинала. Начальнику отдела, который предложил ее на эту должность, дело представлялось, возможно, более щекотливым, но по зрелом размышлении кандидатура Эрики все же была оптимальной: пусть ему было непросто смириться с мыслью, что его должность могла исполнять и секретарша, но он мог утешаться тем, что это была особая секретарша, работавшая у директора и пользовавшаяся большим уважением; возможно, его утешала также мысль о том, что она – человек надежный и хорошо поддающийся эксплуатации, т. е. можно было рассчитывать, что она снова освободит для него эту должность, когда он вернется. Оставить в качестве заместителя женщину – это во время войны было главной социальной гарантией для мобилизованного.
И Эрика фом Энд использовала свой шанс, сумев обойти конкурентов-мужчин, пользовавшихся нечестными средствами.
...
И до того однажды дошло, что один мой сослуживец, который – не хочу сказать позавидовал, но, наверное, недоволен был, что я, женщина, выше него, – он стал меня слегка травить, что я политически небезупречна. При выплате жалования – мы платили ведь и солдатам, членам семей солдат, – они приходили, когда у них были каникулы, и благодарили, когда отпуск получали. И вот когда мы разговаривали с ними про то, как там дела на фронте, они рассказывали довольно откровенно. И вот этот сослуживец сказал, что я, дескать, выведываю у солдат информацию. А это тогда было, если тебе просто скажут такое, то ты политически небезупречен; тут я испугалась, думаю: вот это да! И тогда я пошла к нашему генеральному директору и доложила ему так, что я там больше работать не хочу, у меня было еще другое место, куда я могла поступить. Говорит: «Об этом и речи быть не может!» И в скором времени этот мой сослуживец, который до того имел бронь как незаменимый работник, получил от меня приказ о призыве в армию, мобилизовали его. [Колеблется.] Не очень-то приятно мне было, но я и поделать ничего не могла.
История трудная, и Эрика сама это ощущает. Она ведь не была национал-социалисткой, но, правда, никак и не противодействовала режиму. Она была активной католичкой, но когда однажды рискнула открыто высказать свою позицию, шеф ей сказал: «Это вы можете думать, но не говорить вслух!» Необходимо было соблюдать осторожность. Эрика хотела, собственно, добиться успеха только ради того, чтобы оградить себя, и с этой целью воспользовалась своими прежними секретарскими каналами. Ее саму несколько пугают страшные последствия ее победы: такого она не хотела. Но вместе с тем она не может и устоять перед таким признанием ее личных заслуг: конкурентом жертвуют ради того, чтобы сохранить ее. И благодаря этому почти забывается тот факт, что она – женщина, секретарша – получила свою должность лишь в порядке замещения отсутствующего сотрудника.
Война – это жертвы, в том числе и в тылу. Бомбардировки сказываются на работе: для одних они означают смерть, для других – утрату рабочего места с самыми разными последствиями: кто-то удерживается на работе и выполняет разовые поручения или трудится на разборе развалин, кого-то переводят в районы, менее подверженные нападениям с воздуха, кто-то утрачивает статус незаменимого работника и бронь. Эрика фом Энд вспоминает о первом большом налете на ее завод в ноябре 1943 года:
...
Мы первый раз были в бомбоубежище, а когда вышли, то довольно много чего было разрушено. Стекла разбиты, конечно, и здания были повреждены, но завод еще стоял. И работа продолжалась. У нас на заводе при первом налете человек тридцать погибло, – рабочих, которые не пошли в бомбоубежище, продолжали работать, и в общем в них попало, и, короче, должна была быть траурная церемония. Приходили члены их семей, и было так оговорено, что они [гробы с телами погибших] будут установлены для торжественного прощания. Но все это потом так и не состоялось. На другой день был самый большой налет, завод наш был разрушен, и от погибших все равно потом ничего не нашли. От завода ровное место осталось.
Подавляющее большинство работников остались в живых, укрывшись в штольне шахты. То, что осталось от завода, перевезли потом в другие районы города и в другие регионы. Здание правления выгорело дотла, сейфы с деньгами погибли, и то, что осталось от администрации, было перемещено в пригородный особняк поблизости от входа в штольню, проходившую под горой породного отвала.
...
Там были генеральный директор, два директора по продажам, мой шеф, заведующий административным отделом, потом отделы, секретарши там были и я с отделом кадров. Да, и вот так жизнь там потихоньку продолжалась: все время то немножко что-то делаем, то в подвал спускаемся, если до бомбоубежища уже не получалось… По ночам, когда я дома была, если бывали налеты, то нам всякий раз надо было через улицу идти – там был завод, и у них были клоповники, как их называли, такие шалаши из гофрированной жести построены, так немножно в земле выкопано, а сверху как укрытие эти шалаши. Никакое это было не укрытие. Но, во всяком случае, ощущение там было, что ты немножко защищен. И вот там по ночам сидели. И так каждый день – туда-сюда. Ни минуты покоя нам не было. Работа все время продолжалась. Жалование надо было все время выплачивать. Другие тоже что-то там понемножку делали. [Смеется.] Много-то не сделать было уже в то время.
Под конец уже вовсе нечего стало делать, только отдел кадров еще функционировал. Все управление фирмой сократилось до деятельности Эрики фом Энд, которая – между бомбоубежищем и подвалом – выплачивала жалование. «И так это и продолжалось все время». Ни конец фашизма, ни оккупация не упоминаются. Потом вдруг, рассуждая о том, какую хорошую пенсию она вообще-то заработала в те годы, Эрика говорит:
...
Я ведь, пока с работы не ушла, там работала. И вскоре после того, как кончилась война, вернулся этот мужчина, поженились мы, я ушла. Теперь-то не так, теперь не уходят. Тогда у меня самая большая зарплата была, я получила бы отличную пенсию, если бы дальше там работала.
Только позже в ходе интервью становится понятно, что «этот мужчина» – это не тот сослуживец, который оставил ей руководство отделом кадров и благодаря которому она пережила самую большую победу в своей трудовой биографии: что стало с ним, в рассказе не сообщается. Нет, за кулисами карьеры была еще и личная жизнь: знакомый по стенографическому обществу и молодежным церковным кружкам, тоже конторский служащий, был в армии, куда она ему слала ободряющие письма; во время отпуска он приезжает домой, и она с ним обручается, а в сентябре 1945-го он возвращается, и через несколько месяцев они женятся, после чего она уходит с работы. На заводе повода для увольнения, похоже, не было. Ее место получает сначала сын владельца фирмы, вернувшийся с войны, но для него эта должность слишком хлопотная, и он быстро становится директором.
А мужу Эрики, наоборот, вернуть свою прежнюю должность оказывается нелегко, но с помощью производственного совета в конце концов удается. Детей у них поначалу нет, квартиры своей тоже, они живут в доме родителей мужа. Во время медового месяца муж с лопатой в руках превращает общественный парк в личный огород, а она в качестве единственной причины прекращения своей трудовой деятельности указывает поначалу на то обстоятельство, что ей как хозяйке дома в то время целыми днями приходилось стоять в очередях. Совместная жизнь со свояченицей была просто адом; родная мать использовала освободившуюся от работы Эрику в качестве прислуги. Но решение госпожи фом Энд уйти со службы навсегда было безальтернативным.
...
И мысли другой не было, не то что нынче. Да, сейчас если так подумать, то я бы уже этого не сделала, я бы дальше работала.
А позже она добавляет:
...
Странное было чувство, я ж ведь все эти годы, девятнадцать лет, работала и вдруг – все. Это так скверно было. Не знала совершенно, что с собой делать.
Муж говорит:
...
И тут ей пришлось заботиться о том, чтоб каждый день на столе что-то было, так?
А она еще раз возвращается к сказанному:
...
У меня вдруг совсем стала другая жизнь. Раньше у меня столько денег в распоряжении было. Я там зарабатывала… я из девочек больше всех зарабатывала. Я зарабатывала больше, чем женатый мастер с детьми. У меня тогда очень много денег было в распоряжении, это было тогдашними деньгами 375 марок, это и теперешними было бы очень много… Как бы то ни было, у меня денег было очень много в распоряжении, я могла деньгами разбрасываться. Я постоянно ездила в отпуск и ни в чем себе не отказывала… и вдруг у меня вообще ничего в распоряжении не стало. Все у меня кончилось.
Профессиональная травма вышедшей замуж женщины: в какой мере можно считать ее воспоминанием о войне? Может быть, случай Эрики фом Энд – лишь один из множества примеров так называемого женского жизненного цикла, отличающийся от прочих, может быть, только тем, что эта женщина особенно хорошо работала и особенно хорошо умеет рассказывать? Но так называемая стандартная женская биография и есть та завеса, которая покрывает профессиональные качества работающих женщин. Отклонения от стандарта в случае Эрики фом Энд – другого рода, исторические: поворот наступает поздно, замужество в 33 года – это редкость, особенно среди детей рабочих. Работа в жизни этой женщины оказалась не просто временным эпизодом: жена достигла в профессиональной сфере больше, чем муж. Уход на роль домохозяйки поначалу гнетет ее, шансов на возвращение в профессию после того, как дети встанут на ноги, немного. Однако карьерный взлет Эрики объяснялся не только поздним замужеством, но – и даже в большей степени – условиями военной экономики: частично он был вызван необходимостью поддерживать работоспособность предприятия, частично – стремлением сохранить за мобилизованным работником-мужчиной возможность возвращения на должность. Оба эти обоснования впоследствии оказались иррелевантными: завод был разбомблен, а ушедший на войну сотрудник не вернулся. Зато госпожа фом Энд закрепилась на месте, показала себя с хорошей стороны, в тяжелейших внешних обстоятельствах (а войну она может воспринимать только как внешнее обстоятельство) сделалась почти незаменимой и наслаждалась достигнутым положением и окладом.
Но одновременно она на протяжении пятнадцати лет поддерживала знакомство с мужчиной, отношения с которым прежде были не очень близкими – их всегда считали братом и сестрой, – а во время войны наконец с ним обручилась. Благодаря этой другой стороне своей женской роли она вступает в конфликт со своими профессиональными интересами, усиливающийся из-за ее происхождения из католической пролетарской среды. Война делает ситуацию сверхнапряженной, и выхода из конфликта поначалу не видно: для вернувшегося солдата эта женщина все еще коллега по работе и по стенографическому обществу, которая теперь, после того как война сделала ее на время заведующей отделом, должна – и хочет – в полной мере стать женщиной. Оба они правоверные католики и не допускают, чтобы их жизни помешала диспропорция между хорошим профессиональным положением жены, которая должна теперь с работы уйти, и жалким профессиональным положением мужа, от которого теперь все будет зависеть. Молодые расписываются за пять месяцев до настоящей свадьбы, т. е. венчания в церкви, чтобы за это время приобрести право на квартиру в родительском доме: какой фантастический проект в условиях послевоенной разрухи!
...
Он: Да, а потом мы поженились.
Она: Тогда у нас на двоих было меньше, чем до того у меня одной было. Все по-другому стало!.. Так, чуть-чуть на хозяйство…
Он: Я помню, как я хотел, чтоб мне отпуск дали на свадьбу, я тогда всего три месяца проработал в отделе. Пошел к шефу. «Что? – он говорит – Жениться захотели? В такое время? Если вам женщина нужна, так их везде навалом!» А я ему сказал: «Господин Б., вы ничего не слыхали про то, что супруга вверяется человеку Богом?» Он глядит на меня, молчит. Напротив сидел господин К., который тоже верующий был, так он ухмыльнулся. Ну я и пошел. А потом женился. Отпуск дали.
4. Чем все кончилось
Бабетта Баль {16} жила в шахтерском поселке на севере Рурского бассейна, ее отец и тогдашний муж были горняками, а сама она до того, как в 1934 году вышла замуж, служила в разных местах.
...
Появилась малышка, и мы получили еще от государства 250 марок, т. е. от Гитлера… «Никаких долгов, – говорит муж, – теперь заживем». И еще дочь у него была, гордость его. А чем все кончилось? Война пришла. Во время войны мы еще неплохо жили, дети все получали карточки, по которым масло давали, а муж мой на шахте тоже карточки получал, и потом у нас сад большой был. Питались-то только из сада…
По сравнению с послевоенным голодом пропитание во время войны не было проблемой. Политических неприятностей у Бабетты тоже не было, потому что она верила в Гитлера, хотя в победу в войне и не верила; а муж ее был в НСДАП и в СА (она взносов туда не платила) и в отряде охраны шахты. И тем не менее госпожа Баль во время войны жила хуже своих сестер, однако виновата в этом была главным образом не война. Одна сестра получала очень хорошую пенсию за мужа, который в начале войны погиб в результате несчастного случая на шахте, будучи одним из наиболее высокооплачиваемых работников. Муж другой сестры погиб на фронте; как вдова воина с тремя детьми она получала пенсию в целых 330 марок ежемесячно. А муж Бабетты, которого в армию не призвали, в 1943 году заболел диабетом; будучи инвалидом, он в 31 год получал пенсию 45 марок, и еще столько же семья из пяти человек получала от службы социального обеспечения. Жить на такие деньги было трудно, но, по всей видимости, можно. Им разрешили остаться жить в шахтерском поселке, в небольшом доме на две семьи. Сначала они там жили вместе с родителями мужа, а после того, как тех эвакуировали, госпожа Баль с детьми могла пользоваться всем домом одна; муж часто лежал в больнице.
А в остальном, рассказывая о войне, Бабетта Баль говорит о бомбежках, привычных действиях во время тревог и налетов, об акушерской станции в бомбоубежище (там ее сестра незадолго до окончания войны родила близнецов), о соседской взаимопомощи и о том, что во время бомбардировок, убегая в подвал, люди не запирали входные двери и никогда ни у кого ничего не было украдено; вспоминает состоятельных людей, которые хранили свое серебро, замаскированное под «перевязочный материал», в общем бомбоубежище, подневольных рабочих из России, которым она всегда прямо на улице давала хлеб и которые жили в лагере, «сметенном с лица земли» незадолго до прихода американцев, и последнем авианалете на Страстной неделе в 1945 году, когда бомба попала в их дом, – тоже перед самым приходом американцев.
О своем поведении во время бомбежек Бабетта Баль сообщает как о бесстрашной, профессиональной, рутинной деятельности: у нее был особый слух на самолеты, она умела различать их типы и национальную принадлежность, знала, каких надо особо опасаться; как правило, она только спускалась в подвал, а не шла, как почти все остальные, в бомбоубежище; благодаря этому она видела больше других и не ощущала себя запертой в замкнутом пространстве. Часто она предчувствовала приближавшийся налет еще до того, как на шахте объявляли тревогу. Когда по вечерам ждали тревоги и убивали время за играми, то после объявления предварительной тревоги на шахте играли еще одну партию в «Не сердись!» – после этого как раз оставалось достаточно времени для того, чтобы добежать до бомбоубежища. Взаимодействие с вездесущей смертельной опасностью оставляет воспоминания, которые отличаются интенсивностью переживания и одновременной притупленностью восприятия человеческих отношений:
...
Я сижу в бомбоубежище, а наверху там была такая большая камера, там отдельно роженицы были, там была акушерка, и сестра моя там лежала, и тут бомбоубежище закачалось, люди закричали, люди закричали и акушерка, а там сверху была такая дыра для воздуха, это они пробили, потому что так-то там дыры никакой не было, и тогда акушерка сказала, она и до того у нас была, меня-то не она принимала, а мою сестру она принимала, и детей моих она принимала, и у сестры моей детей она принимала, и теперь она там тоже в бомбоубежище была с остальными женщинами. «А ну, Бетти, – говорит, – сходи-ка там наверху закрой крышку»; там была такая пробка железная с такой цепочкой, и вот на такой комод-умывальник, старый такой, мамочки мои, это мне надо было бы на цыпочки встать, чтоб… я доверху не достала, потому что очень высоко было. Она говорит: «На, вот ящик, – говорит, – встань на него». И я эту крышку не смогла туда засунуть, из-за давления воздуха, и она мне обратно по голове как даст, но знаете, раньше никогда ничего не знали, если что случалось, знаете, я эту крышку сумела засунуть, и вдруг она говорит: «Бог ты мой, женщина-то кровью истечет, женщина кровью истечет, что мне делать, тут женщина кровью истекает…»
В этой истории, где сплавились бытовые подробности и героические стороны борьбы за выживание в импровизированном родильном отделении бомбоубежища, самое загадочное – это последняя фраза. При первом прочтении я подумал, что поранилась, закрывая люк в потолке, сама рассказчица, однако из последующего хода рассказа вытекало, что она же потом и привела к истекавшей кровью женщине врача. Но остается непонятно, кто и почему истекал кровью: была ли это ее сестра, которая рожала близнецов, или другая женщина? Была ли она ранена при сотрясении бункера взрывной волной или, может быть, даже осколками, залетевшими через вентиляционное отверстие, или она только что родила? Взаимосвязь опасностей стала иррелевантной, точно так же, как стали взаимозаменяемыми действующие лица. История держится только на рассказе о действиях самой Бабетты и акушерки, осуществляющей родительскую власть в этом по-соседски открытом, как бы семейном сообществе товарищей по несчастью. Воспоминание живет именно этим описанием активности, и ее материальные инструменты (крышка, умывальник, ящик) встают перед глазами гораздо конкретнее, чем люди, ради которых совершаются действия.
Этот диссонанс между ярким воспоминанием о предметах и бледным о людях в ситуации сверхнапряженной борьбы, которая отчасти и велась ради выживания этих других людей, нередко встречается в рассказах госпожи Баль о войне. Например, когда она долго говорит о разных степенях воздушной тревоги и типах самолетов, но лишь походя упоминает, что во время бомбежек она, как правило, не находилась вместе со своей семьей, потому что муж с детьми шел в бомбоубежище, а Бабетта «редко в бомбоубежище бывала, честно вам скажу, мне всегда надо было все видеть». Другое воспоминание – о лагере иностранных рабочих, который был «сметен с лица земли» под конец войны; он располагался там, где сегодня стоит электростанция, поодаль от города. В истории рассказывается о том, как она уже после оккупации вместе с соседями с фонариком ночью отправляется в этот лагерь, потому что кто-то сказал, что помнит, где там в подвале находилась кухня, и они хотят утащить или перепрятать в надежное место оставшиеся там картофель и другие продукты. Мысль о людях здесь молчит: о том, что Бабетта увидела в лагере, говорится всего одной фразой:
...
Понимаете, я ведь там бывала тоже. И я это видела и всякий раз думала: «Бог ты мой». Но там все сметено было… Там картошка была…
И продолжается рассказ о том, что они, испугавшись американцев, все-таки сбежали, а другие нашли ту кухню, но взятым оттуда маргарином не поделились.
Наиболее выпукло такая структура воспоминания проявляется в рассказе госпожи Баль о последних двух неделях войны на Пасху 1945 года, когда один авианалет сменял другой, большинство людей вовсе не выходили из бомбоубежища, а она и трое ее детей, надев на себя по два слоя одежды, боролись с холодом и сидели дома, рискуя утратить все свое имущество; в конце концов на их улице упало несколько тяжелых бомб, одна из которых разрушила их дом. Рассказы о бомбардировке дома, о попытках спасти его от пожара, о бомбе, которая, не разорвавшись, пробила дом насквозь, о том, как семья нашла пристанище у родни и восстанавливала дом, слишком подробны, чтобы их цитировать. Достаточно одного-двух фрагментов:
...
Там ни одной черепицы на крыше не осталось. Там ни одного стекла в окнах не осталось, ничего. Вся квартира была оконным стеклом усыпана. И началось: сначала из стойла сняли перегородки, покрыли крышу. Дыру закрыли, где бомба прошла. Другой сосед, у того был там наверху такой… кухонный шкаф, можете себе представить, спальня его вся разнесена была. А мы раньше этот кухонный шкаф… я вам так объясню: тут вот у нас был такой большой шкаф, прямо сквозь него бомба прошла, сквозь шкаф, только дыра, потому что у моей соседки, т. е. вот тут рядом со мной, прошла через кухню, одни щепки и все, у них внизу там была мойка и у меня на другой стороне мойка, и там у нас кафель был, на земле тоже такие толстые каменные плиты, и там она застряла, там она грохнула. И вот теперь лежала там тварь эта… Потом уже оккупация была…
В Страстную субботу, т. е. явно не позже, чем через день-два после бомбардировки поселка, она вместе со своей сестрой, жившей в уцелевшем многоквартирном доме-казарме неподалеку, попыталась сходить в свой прежний дом.
...
Я говорю: «Давай, – говорю, – приберем… Ой, бегом отсюда, – говорю, – там бомба лежит у соседей». Выбежали обратно. К сестре моей пошли. Страстная суббота была. У моей сестры наверху. Ну, там еще ничего было. Огонь развели и так далее. Тем временем муж мой умер, в Страстную пятницу. Знаете, как все это выглядело, такой кавардак, все было все равно, знаете, все друг другу, совершенно это не осозналось даже.
Бабетта Баль в одном предложении упомянула, что в Страстную пятницу умер ее муж. Поскольку больше она к этому не вернулась, интервьюер спросила ее, умер ли ее муж именно в Страстную пятницу. «Да, да, в Страстную пятницу». «Но не от бомбежки», – уточняет интервюер.
...
Нет-нет, так. А мы тогда были там у сестры. И там у бомбоубежища столько погибло, там на убежище бомбу сбросили. И тогда, раз муж мой умер, они сразу и его тоже на кладбище забрали. Понимаете. Только вот они лежали все не в морге, а перед моргом. Это я вам скажу, это, это, это я в жизни не забуду. Ну вот, а потом я там у сестры своей…
Можно предположить, что господин Баль во время или после налета оставался в бомбоубежище и там умер от сахарного диабета; возможно, погиб он и иначе. Мы этого не знаем. Бабетта Баль рассказывает дальше – о том, как обезвреживали бомбу, как восстанавливали водопровод, как встретились с солдатами оккупационных войск, как жили вместе с родственниками. Но мы знаем, что человек, который умер «так» в Страстную пятницу, был «большой любовью» Бабетты: это она в другом месте неоднократно подтверждает в ответ на вопросы интервьюера, добавляя с характерной для этих мест будничностью:
...
Да, надо сказать, у нас взаимопонимание было.
Мы также знаем, как Бабетта вышла замуж. Она была «прислугой за все» в пивной, где ее эксплуатировали сверх всякой меры, так что ее друг сказал: «Все, хватит, женимся». Он хоть и состоял в СА, но был безработным, так что отец не хотел дать согласия на свадьбу, покуда друг Бабетты не найдет себе работу. А 20 апреля 1934 года она пошла в соседнюю пивную за плоской фляжкой для отца, у которого был день рождения тогда же, когда у Гитлера.
В пивной сидели люди из СА, и один из них спросил у нее, что это случилось с ее другом. И она пожаловалась на свое горе, и этот человек – он горняк был – сказал, чтобы ее жених назавтра пришел на шахту. И действительно, ему дали работу – сначала кокс грузить. После этого наконец состоялась свадьба, а Бабетта смогла бросить работу. Муж признал ее внебрачного малолетнего ребенка, а потом у них появилось еще двое детей. Будучи нацистами и рабочими, они чувствовали себя в шахтерском поселке очень вольготно, отношения с соседями были идиллические. Но как только муж умер и пришли американцы, связи распались и ничего не осталось, кроме ближайшей родни, уцелевших вещей и злейшей ярости:
...
А теперь подумайте только, у нас такое взаимопонимание было, помогали друг другу по-соседски, один за другого чуть не в огонь шли, можно сказать. А как война кончилась, как тут стрельба пошла, так они все на улице стояли, коммунисты все. «Вот американцы идут, с полевой кухней, сейчас нам хлеба дадут, сейчас накормят нас»… а тут я еще говорю соседке одной: «Мария, смотри не ошибись, такое будет – удивишься. Хрена они тебе дадут, по-нашему говоря. Не будет ни тебе полевой кухни, ни тебе жратвы с хлебом». И права я оказалась. Они просто через нас прошли, понимаете, маршем прошли, сначала бомбили, а потом прошли дальше, туда в Реклингхаузен. И на другой день, мы за работой пришли: «Мария, ну где же полевая кухня, где твой хлеб?» И тут они себя показали, понимаете, тут ты и свинья нацистская, и все такое, понимаете… Обзывали они меня. И те, которые так много получали {17}, тоже. И свиньей нацистской, и кем только еще не обзывали. И тогда я – знаете, я раньше-то так поскромней держалась, – а тут я как пошла, нахально так стала говорить: «Слушай, – я говорю, – вы отребье проклятое, кем ты стала, что у тебя есть? Все твое приданое, все твои шмотки, вся твоя мебель – откуда это все у тебя? От Гитлера, – говорю, – по моему же совету получено. А теперь меня свиньей нацистской обзывать будут, еще чего. Знаешь что, – говорю, – тут еще столько бомб лежит (а у нас еще много бомб лежало), так я их все вам под жопу засуну ночью!» Потом у нас там один отъявленный коммунист был, знаете, тут они все в кучу собираются, понимаете. И тогда я пошла к соседу, говорю: «Ханнес, если меня еще кто хоть раз обзовет свиньей нацистской, – ты меня знаешь. Я ни одному человеку ничего плохого не сделала, и так далее, и так далее. Я говорю: я соберу все бомбы тут с улицы, всех вас подзорву, и себя тоже, и детей тоже, – говорю, – чтоб тихо стало, вот так!»
5. «И – в Россию»
«А тридцатого июня случилось самое худшее, что у меня было за всю мою жизнь. Мы прочесывали один лесной район», – рассказывает 66-летний служащий Вернер Паульзен {18}. Это было в 1941 году, через неделю после нападения на Россию. Паульзен к тому времени был уже унтер-офицером. Получив профессиональную подготовку в конторе одного адвоката-еврея и проработав некоторое время на фирме Круппа, он в 1937 году был мобилизован в Имперскую трудовую повинность, потом в армию, был в Польше и во Франции; служил он посыльным, ездил на велосипеде и в основном был в тылу, а не на передовых позициях. Когда для него наступал перерыв в войне или когда его посылали на бельгийское побережье, чтобы тренироваться с приставными лестницами штурмовать дуврские скалы («неблагодарное занятие»), для него это было «вообще-то прекрасное времечко». А теперь, в 1941-м, он был командиром пехотного взвода, и в то время, как танковая дивизия СС «Лейбштандарт» двигалась по шоссе на Житомир, его рота должна была прочесывать окрестные леса и болота и прикрывать фланг.
...
И вдруг со всех сторон по нам – огонь. Спереди. Сзади. Всюду грохотало. А мы не видели русских… Мы даже не знали, откуда огонь был. Они там на деревьях сидели. Мы были вот как тут. Метров так двести-триста была открытая местность. И они дали нам как следует выдвинуться туда – на открытую местность. А там стали и спереди стрелять, и сзади стрелять. Тут мы не знали… остановились… куда лучше бежать? Вперед? Ну вот, и тогда я забежал на такое поле с колосьями и там лег и лежал. А ночью все слушал – русские, так, только по-русски все. Совсем тихо ведь ночью-то, когда они разговаривают… А потом я попытался, когда темно было, попытался где-нибудь – где машины едут? А? Где машины едут? Там же дорога должна быть какая-нибудь. И я так все в сторону дороги полз или бежал там… Совсем один там был. А на следующий день пришли немцы. Танки приехали по дороге. И тогда я на эти танки сел.
За один этот час погибли 92 человека; из взвода Паульзена, насчитывавшего 50 человек, выбрались из этой засады всего четверо. Интервьюер спрашивает его, был ли это первый раз, когда он видел, как умирали товарищи.
...
Не, вообще ничего. Я только – слева кто-то упал, справа кто-то упал. Это ж было – бах, бах, бах. И все лежат. Это было так быстро, там невозможно было… Потом-то я слышал: один из нашей роты [остался в тылу при батальоне охраны]… и на следующий день ему пришлось наших товарищей хоронить. И вот то, что он там увидал, – это был кошмар. Я не знаю, делали ли раньше эсэсовцы тоже такое. Тут не могу ничего сказать. Но что он нам рассказывал! У нас ведь было уже несколько человек с наградами – Железный крест второй степени, первой, штурмовой значок, еще из Польши и из Франции – все это было срезано. Глаза повыколоты. Половые органы отрезаны. Конечно, я имею в виду, они это сделали – и наши, конечно, тоже точно так же, потом.
Господин Паульзен рассказывает скорее отстраненно. Он, как правило, сохраняет единство времени или темы, рассуждает по поводу своих оценок – это видно, например, в конце только что приведенной цитаты. Но качественное отличие нападения на Советский Союз от прежних комфортабельных молниеносных военных триумфов, суровость противника, элементарные реакции – все это сконцентрировалось для него в одной сцене, к которой вновь и вновь возвращает его память. Речь петляет вместе с ним, когда он ищет выход из ловушки; страх поглощает всю его способность к восприятию, так что смерть товарищей приобретает призрачную абстрактность. Куда подевалось все, чему его учили относительно обязанностей командира, ведь остались одни рефлексы выживания. Правда, требует объяснения конец истории – то, как в своем рассказе господин Паульзен говорит о лишении мужского достоинства и воинской чести, которому его погибших товарищей подвергли нападавшие на них русские, сумевшие осуществить оборонительную контратаку и посредством примитивной жестокости к жертвам продемонстрировать, насколько бесчестным было нападение. Прежде всего примечательно, что сам рассказчик сначала об этом не заговаривает; и он не интерпретирует это как доказательство зверства, присущего «азиатским ордам». Лишение его товарищей чести и мужского достоинства он называет «кошмаром» – это понятие, которое описывает ощущение воспринимающего, а не заключает в себе оценку или объяснение. Размышления о том, дали ли эсэсовцы русским повод для мести, признание того, что немцы впоследствии творили нечто подобное, – разве всем этим господин Паульзен не извиняет в какой-то мере русских, выходя за пределы общепринятых в Западной Германии представлений о войне на Востоке? Вернер Паульзен, активный протестант, завершает свой рассказ такой сентенцией: «К сожалению, было тогда так: как ты мне, так и я тебе. Это было неправильно».
Он хочет интегрировать свой непостижимый опыт четырехлетней войны в России в свою картину мира – картину мира человека просвещенного, трезво и взвешенно мыслящего, готового к принятию ответственности и стремящегося к гармонии, служащего в концерне, который занимает ведущие позиции в области международной торговли, в том числе и торговли со странами Восточной Европы. Ту сторону вопроса, что немецкие войска, на чьем пути встало беззаконное право национальной партизанской войны, пришли в Россию с целью грабежа и уничтожения, он стремится замолчать. Правда, он не утаивает, что при формировании его части для осуществления плана «Барбаросса» не было никаких сомнений относительно предстоящих боевых задач: еще за несколько недель до отправки, находясь в Германии, они получили немецко-русские словари. Но потом он говорит просто: «И – в Россию!» Никакого нападения со стороны Германии, никаких русских бестий. Для этого у Вернера Паульзена есть эсэсовцы: может быть, это они первыми начали. Тем самым вытесняется то обстоятельство, что дорогу для массовых убийств, осуществлявшихся СС, подготовил вермахт.
Вернер Паульзен явно заинтересован в том, чтобы представить немецко-русские отношения политически беспроблемными. Этот интерес тесно связан с его личным опытом, который как бы служит подтверждением верности, а не искусственности этого представления: в конце рассказа о пребывании в России это даже еще заметнее, чем в начале. Вкратце этот рассказ включает следующее: продвижение вперед до Киева – тут он особое внимание уделяет тому, как боялся расстрела, положенного за дезертирство; потом возвращение в Лемберг (Львов); потом зимняя боевая подготовка в Австрии и отправка в Финляндию, сквозное ранение голени; поездка в Германию на поправку; потом – Кавказ и производство в фельдфебели, «с последним самолетом» выбрался оттуда, вернулся в Германию, женился; в июле 1943 года послан под Харьков и снова ранен, но менее тяжело; до декабря в окружении под Черкассами, сквозное ранение в руку, снова поездка на поправку в Германию. В середине 1944 года фельдфебель Паульзен был направлен в часть, получившую приказ держаться до конца и полностью разгромленную, а потом – во вновь созданную 6-ю армию, которая во время большого советского наступления в августе 1944 года обратилась в бегство, и Паульзен вместе с сотнями тысяч других попал в плен. Сначала лагерь под Москвой, где их используют на работах по спрямлению реки. Потом отправка за Урал, 300 км к северу от Свердловска, по 60 человек в вагоне; из трех тысяч половина, по его словам, умирает в пути от холода и жажды. Так в конце октября Вернер Паульзен попадает в лагерь при танковом заводе, где раньше были русские заключенные. Но ему удается устроиться в ГУЛАГе, и отношения с русскими у него складываются разные, а точнее сказать в принципе хорошие: «Ну, надо сказать, это было прекрасное время – там», – говорит он сразу после того, как рассказывает о своем прибытии в Сибирь, о работе на очистке песка, на лесопилке и на строительстве домов. Когда интервьюер в замешательстве переспрашивает его: «Вы говорите, что это было в целом прекрасное время?» (на самом деле он даже и не сказал «в целом»), он высказывается несколько сдержаннее, но не намного: «Да, прекрасным назвать нельзя. Это было бы преувеличением. Но я имею в виду – по отношению к тому, что я так от других… У нас же лагерь был первоклассный. Может, и в начальнике лагеря дело было. Он был еврей». Был строг, но позволил им самим обустроить лагерь. Собственная бестолковая бюрократия уже приучила солдат к тому, что здесь было нормой жизни: все надо «доставать», проще говоря: «Значит, крепеж мы тырили». Достав белую и темно-зеленую краску, бригады маляров красили бараки, наполовину вкопанные в землю, радуясь, что не надо было выходить на мороз. Все, что было нужно, «доставали» бригады, работавшие за пределами лагеря. Постепенно были доделаны один за другим все бараки, в каждом жило обычно бригад по десять, в бригаде было по 10–20 человек. «Даже картины были у нас – вся Германия», – очевидно, стараниями маляров. Правда, внутри, несмотря на две печки, температура часто бывала ниже нуля; в одну январскую ночь, говорит господин Паульзен, было минус 53 градуса: «Ох, тут все-все в кучу сползлись. Ни один человек не остался один в койке. Нас и так всегда по трое на две койки было. Но это потом тоже лучше стало. Многие ведь поумирали тогда – и потом вдруг у каждого появилась своя койка».
Конечно, были внутренние конфликты – прежде всего по поводу распределения хлеба в бригаде («Кому сегодня крошки?»), а также по поводу привязки ужина к выполнению нормы, где все зависело в основном от усмотрения русского надсмотрщика: если работа была хорошая, он записывал перевыполнение, а это значило – на ужин получишь суп или даже кашу с растительным маслом; при грубом обмане он записывал 90 %, т. е. никакого ужина.
Шапка и обувь в сибирском климате жизненно необходимы, а стало быть их часто крадут; поэтому спят прямо в шапке, а ботинки привязывают к голове. Всякий раз, когда интервьюер предлагает поговорить о тех или иных невзгодах, господин Паульзен дает понять, что все это было, конечно, очень тяжело, но в принципе терпимо. В ответ на вопрос о морозе рассказчик начинает говорить о лете. А еда? «Слишком мало, чтобы жить, но слишком много, чтобы умереть», – отвечает господин Паульзен и описывает необычайно скудное меню, в котором преобладают хлеб, Kapusta и Kascha. От дистрофии и цинги у него на лице и на ногах образовались огромные оспины. Тем не менее рассказ о своей болезни он начинает со слов: «Мне же там повезло», – неработоспособность делала свободным. Последствия изнурения работой и недоедания русские приняли за симптомы заразных болезней и уже в октябре 1945 года отправили его домой; при этом он попал даже не в самый первый этап.
Первое, что ему довелось пережить, вернувшись в Германию: на какой-то станции незнакомая женщина, у которой тоже ничего не было, отдала ему свой суп. Это проявление человечности заставляет его еще раз, без всяких вопросов со стороны интервьюера, вернуться к опыту общения с русскими:
...
Но тут я должен еще раз вернуться к Сибири. Нас однажды вывезли куда-то, и мы там работали. И тут: русские женщины – всегда приходили несколько человек русских, и женщина одна с ними была, – и эта русская, она увидала, что у одного нет носков. Это, правда, не зимой было, а летом… И тогда она взяла свои носки, сняла и парню тому отдала. Он как ребенок выглядел, ему семнадцать лет было.
Русские – люди, господин Паульзен признает это, а многие из его товарищей по плену впоследствии это либо отрицали, либо соглашались, но с гораздо более пренебрежительной интонацией, словно русские – помесь человека и добродушного ярмарочного медведя. Более того, Вернер Паульзен свидетельствует, что, несмотря на необъяснимые постановления их бюрократов, с русскими можно вступать в отношения обмена и при этом на них полагаться:
...
У нас бывало иногда немножко мыла. Давали в лагере. Не много, но чуть-чуть было. А русским совсем не давали. И вот они нас уже спрашивали, нельзя ли им мыльца? Мы сказали: «Ладно, а что нам принесете?» И вот они нам принесли: вареную картошку [которой в сибирском лагере вообще никогда не давали]… Они нам – вареную картошку, а! И когда мы на стройке бывали, то они приходили и [картошку] просто роняли на землю. А мы потом клали свой кусок мыла.
И он снова подчеркивает, что эти русские рабочие, с которыми они вели меновую торговлю, получали еды не больше, чем они, и мыться им, по всей видимости, было нечем. Когда интервьюер в конце концов еще раз выказывает изумление – ему еще никогда не доводилось слышать, чтобы кто-то так говорил про положительный опыт в русском плену, – господин Паульзен реагирует едва ли не возмущенно:
...
Я же не стал бы рассказывать, если бы этого не было. Ведь это было бы странно, если бы существовали русские женщины и русские мужчины, у которых не было бы сердца, как у других. Конечно, и звери тоже были там… Но были и очень милые русские, которые и нам же тоже кое-чего приносили.
Все правы. У господина Паульзена опыт такой, и у многих других военнопленных он мог бы быть таким же, а у многих таким и был, но они редко его описывали так дифференцированно и с таким выделением позитивных сторон. И все же оправдан вопрос: что дало ему возможность приобрести именно такой опыт и так о нем рассказать? Хотя Вернер Паульзен делал карьеру конторского служащего, он был вместе с тем сыном сантехника из центра Рурской области. Его не так-то легко убедить, что люди, с которыми ему хорошо вместе работалось, – недочеловеки. В его восприятии играет роль некая принципиальная рабочая солидарность, которая не исчезла по мере его карьерного возвышения, а только стала более отрефлексированной. Кроме того, он активный протестант, уже много лет выступающий в ФРГ за «примирение над могилами». Примирения с СССР достичь не так просто. Ведь «самое худшее», что у него было за всю его жизнь, он связывает с воспоминанием о нападении Германии на Россию, а потом, менее часа спустя, говорит:
...
Я ж хотел туда поехать. Я хотел на Олимпиаду поехать. Но когда это случилось, они ж нам все поломали. Да, прямо перед этим вошли в Афганистан. Не надо им было этого делать! Десять, двадцать тысяч немцев точно поехали бы туда.
6. «Партия – грязное дело»
На вопрос, в каком возрасте его просветили на темы секса, 64-летний служащий Йозеф Пауль отвечает {19}:
...
Да, ну тут я хочу сказать: нас вообще не просвещали. Просветили нас, как мы в 38-м школу кончали, за две недели до выпуска, в субботу с полудня до 8 вечера воскресенья в монастыре Блаженной Девы Марии в Холстерхаузене, такой доклад нам сделали. А как в солдаты попали, нам тоже мать ничего не сказала. Но как в армии были, там мы с этим, помню, ближе познакомились. Мы тогда в учебной части – я в Страсбурге, в Эльзасе в учебной части был, – тогда прибыли первые раненые из Сталинграда. И насколько я помню, тогда многие из этих солдат, которые не хотели больше в Сталинград, они добровольно заражались венерическими болезнями. Предпочитали на стройку. И через это мы впервые обратили внимание на все эти игры.
Эта история – типичный пример того, как война вторглась в важнейшую фазу жизни Йозефа Пауля, когда формировались его взгляды, и исковеркала их. О том, что это не случайное явление, можно судить по двум другим фрагментам интервью, где он говорит об отношениях между полами. Скажем, о своей первой любви. Господин Пауль рассказывает, что в июне 1944 года, вырвавшись из Черкасского котла, он приехал на краткосрочную побывку домой (после двух месяцев обучения его отправили под Сталинград и он там был ранен, но, проведя несколько месяцев в госпитале, поправился). Итак, в родном городе в кинотеатре он познакомился с девушкой, которую после сеанса проводил домой, в рабочий поселок. Когда на крыльце он хотел ее поцеловать, его кнутом прогнал ее отец. Однако этим бурным началом возможного романа все и ограничилось: через пару дней Йозеф Пауль уже снова на фронте и, получив новое ранение, окончательно становится инвалидом. В это время ему двадцать лет.
Или вот, например, как он познакомился со своей женой, на которой женат уже 28 лет. Господин Пауль подробно описывает свою работу в Обществе инвалидов войны и рассказывает о том, как они с коллегами в 1951 году впервые снова попытались устроить карнавал, «где мы бы снова могли как следует пошуметь». На бал инвалидов один из товарищей Йозефа по обществу привел свою сестру: «…и так было угодно случаю, что мы сели рядом, и я как сел рядом со своей женой, так и остался».
Очевидно, у сестры товарища Йозеф Пауль нашел понимание, которое было ему особенно важно потому, что, когда он вернулся домой в конце 1945 года, его родители и его собственная сестра, с одной стороны, были рады, что он остался жив, но, с другой стороны, «не могли преодолеть боль по поводу моего ранения». К тому же рана все никак не заживала. Несколько раз в течение трех лет Йозеф подолгу лежал в больнице с нагноениями, пока наконец не смог как следует ходить с протезом. Во время пребывания в больнице ему пришло сообщение об увольнении с фирмы «Крупп», где он когда-то обучался на электромонтажника и был в отпуске для прохождения воинской службы, а потом пропустил срок, в течение которого нужно было подать заявление о возвращении из отпуска для сохранения права на рабочее место. Поначалу ему дали место в городской администрации, но его он потерял, после чего хотел было поступить в фирму, делавшую слуховые аппараты, однако в 1951 году снова получил предложение от городской администрации поступить на службу – правда, из-за тяжелой инвалидности пока только в составе кадрового резерва. И так началась новая жизнь вместе с женщиной с «инвалидного бала».
В начале своей административной карьеры он посещал вечерние курсы мастерства устной речи, чтобы научиться получше говорить. И научился: он говорит, словно докладывает: быстро, ровно и чересчур отчетливо, почти как робот, и обильно нашпиговывает свой «доклад» фактами и датами. Слушая пленку с его интервью, невозможно не предположить, что он все написал на бумаге и читает вслух. На самом же деле он почти не готовился и, даже отвечая на вопросы, не теряет этой своей манеры, разве что говорит менее однообразно. Историю о том, как война поломала его жизнь, господин Пауль излагает с хладнокровной точностью. Очевидно, он уже неоднократно все это описывал, так что рассказ принял официозную форму, очищенную от всякого чувственного опыта, – за исключением одного места, где, пусть в бреду, он позволяет себе маленький бунт, за который, однако, тут же оказывается сурово наказан. Пожалуй, надо прежде еще сказать, что Йозеф Пауль с самого начала без энтузиазма относился к войне; будучи активным членом католических молодежных кружков, он обходил и даже открыто нарушал требования дисциплины в школе и в гитлерюгенде – явно не в последнюю очередь потому, что его сводный брат уже в 1942 году погиб под Сталинградом. А потом, после восьми недель в учебной части, после Сталинграда, ранения, госпиталя, строительства мостов на Рейне, Черкасского котла, выхода из окружения и случившейся во время побывки первой любви, летом 1944 года Йозеф Пауль оказался вместе с остатками 6-й армии на Балканах:
...
…это было так – операции против Тито, против партизан, против банд, против партизан. И в ходе этого я потерял левую ногу, очнулся, лежа в военном госпитале в Салониках. В Салониках мне ампутировали левую голень, а правая, кстати сказать, была тоже сильно повреждена. После двухнедельного пребывания там меня на самолете «Физелер Шторьх» отправили в Землин [под Белградом], там я пролежал несколько дней, пока формировался санитарный. Этот санитарный поезд шел в Вену и по пути был обстрелян штурмовиками. Нас погрузили на местных лошадок и отвезли к Дунаю, а оттуда на углевозе в Венгрию. В Венгрии снова пустили санитарный поезд и привезли нас в Магдебург под Винер-Нойштадтом, в госпиталь. Там я находился до ноября 1944 года и попал в Вену. Там мне ампутировали еще часть ноги и 9 декабря 1944 года перевели в санитарный поезд, поскольку в Венском округе госпитали с тяжело ранеными надо было освобождать. Мы надеялись, что нам, может быть, где-нибудь в Тюрингии или в Баварии где-нибудь в каком-нибудь госпитале удастся найти пристанище, но напрасно. Санитарный поезд в конце 44 года, а именно почти под Рождество, привез нас во Франкфурт-на-Одере. Там мы находились дней пять или шесть, или десять, этого я уже точно не помню, и там нас уже сортировали: наземные войска отдельно, Люфтваффе отдельно, СС отдельно и офицеры отдельно. Потом нас должны были еще на санитарном поезде отвезти в Германию [имеется в виду, вероятно, еще не оккупированная часть Германии], но это не удалось, потому что я в приступе лихорадки послал главврача на… – я сейчас говорю так, как я привык. И этот болван, черт подери, оставил меня лежать там. И вот так я в начале февраля 1945 года попал в русский плен. Я оставался во Франкфурте-на-Одере в так называемом госпитале имени Хорста Весселя до конца апреля – начала мая 45 года, когда русские взяли почти весь Берлин. Тогда нас отвезли в Фюрстенвальде, и там я оставался примерно до июля-августа 45-го, из Фюрстенвальде меня отправили в Йену – в Тюрингию… В октябре 1945 года… [нам] пришлось возвращаться во Франкфурт-на-Одере. Там нам выдали освобождение из русского плена. Я так около 15–16 декабря 1945 года вернулся из русского плена домой через лагерь Фридланд, а потом на эшелоне с углем и дальше на конных повозках я прибыл сюда.
Лишь один раз в течение этого рассказа о своей совершенно пассивно претерпеваемой одиссее господин Пауль немного повышает голос и запинается, разрешает себе говорить, как привык, и называет главврача, который за неосознанное нарушение субординации оставил при отступлении неходячего раненого, «болваном». В принципе судьба Йозефа Пауля безымянна: он не знает, на кого может возложить ответственность за свои изуродованные ноги. Военная машина израсходовала его; даже мелкие надежды на то, что тяжелораненых из Вены переместят хотя бы в мирные внутренние районы Германии, разрушены, и никто не знает почему. Только за добавку к войне – плен – Йозефу Паулю есть кого винить; он ненадолго вырывается из роли пассивной жертвы событий, говорит «я», говорит «болван», говорит «черт подери». Но это – лишь маленькие струйки пара, спускающие давление; будучи долгое время вынужден принимать данность, он так привык к этому, что приятие вошло в его характер {20}. Места своих страданий он помнит точно, а о самом страдании не говорит ни слова.
В начале 1950-х годов господин Пауль смог устроить свою жизнь, и в ней теперь его должность в окружной управе и известность, которой он пользовался у себя в районе, заменили ему иные перспективы, которых после войны уже не было. Итогом войны для него стало не только увечье: это еще и исчезновение перспектив, и такой фундаментальный опыт навязанной пассивности, что ее едва ли возможно компенсировать собранностью и самоотверженной работой на порученном небольшом участке.
В Третьем рейхе, школьником, он был активным членом католических юношеских кружков (его самое первое и самое прекрасное детское воспоминание – поездки на экскурсии с хором мальчиков от церкви Вознесения святой Марии), сознательно занимал и отстаивал позицию, в частности, против гитлерюгенда, где все же вынужден был состоять, чтобы иметь возможность получить профессиональное образование после школы. В церковь он никогда не переставал ходить. Но теперь он говорит: «Мы ходим по воскресеньям в церковь, мы отдаем свою лепту, а потом – все, домой».
Его отец был активным деятелем католического движения наемных работников, создал вместе с другими горняками католическое домостроительное товарищество. А сам он в 1950-е годы пошел не в профсоюз государственных служащих, работников транспорта и торговли, а в союз коммунальных служащих, потому что там членские взносы являлись одновременно взносами в похоронную страховую кассу. Отец и дед были активными членами социал-демократической партии, а он говорит, что даже не может за нее теперь голосовать, потому что отца за активную социал-демократическую позицию в 1931 году уволили с крупповской шахты. И тот сказал ему в 1945 году:
...
Послушай-ка, парень, ты теперь совершеннолетний, можешь делать, что хочешь. Но одно я тебе скажу: я кое-чему у партии научился, и из-за партии я чуть не потерял работу. И если ты тут пойдешь в какую-нибудь партию, то получишь от меня по ушам. Потому что партия – грязное дело.
«Без меня». Дело не обязательно в разбитых надеждах на национал-социализм; скорее дело в том, что членство в партии – все равно в какой – требовало бы от него быть субъектом исторического действия, а он этого не хочет, ибо в действительности всегда был лишь объектом, который швыряло туда и сюда в историческом пространстве. Господин Пауль, чей рассказ в остальном так точен, мирится с тем, что ссылка на отца, который после падения фашизма сделал вывод «больше никакой СДПГ», здесь оказывается бессмысленной: Йозеф Пауль и не ищет смысла в политике, он отвергает ее целиком. В коммуникативной сети маленького мирка своего предместья он нашел себе тихую безопасную гавань, его там знают, он – представитель чиновничьей аристократии средней руки, эксперт по вопросам снабжения. Он высказывает сожаление, что добрососедские отношения, которые он хотел было опять установить, переехав на новую квартиру, теперь уже никто как следует не поддерживает, и что молодежь считает эти маленькие мирки скучными и уклоняется от их контроля и дисциплины.
Поэтому господин Пауль в качестве хобби стал заниматься историей своего предместья. Ведь и коммуникативная сеть, очевидно, теперь уже не та, что сохранялась еще в послевоенные годы, когда он жил под девизом «без меня»; даже эта коммуникация теперь переродилась в тягостную повинность: он занимался в окружной управе пенсиями и работал в Союзе инвалидов и родственников погибших, так что все постоянно что-то от него хотели, и повседневное общение с соседями потеряло для него свою защитную функцию и свой смысл. Сегодня, когда ему 64 года, он разрывается между представлением о том, что его долг – присутствовать в нынешней соседской коммуникационной сети, и прежними представлениями о соседских отношениях:
...
Ни в одно общество я теперь больше не вступлю, потому что очень уж горький опыт у меня есть. Одно-единственное, что меня сегодня еще интересует, и это вам все соседи здесь – вы же слышали только что, опять в дверь звонили, – все подтвердят: если кто-нибудь сюда приходит и я могу помочь, будь то в управе или еще где, то я это делаю с удовольствием. Но: пускай мне грязными ботинками не топают здесь по всей квартире. Сейчас же все моду такую взяли. А мне этого больше не хочется. В старости хочется же немножко отключиться. А так я больше всего хотел бы своим хобби заниматься.
7. Страх и активность
Эльза Мюллер {21} боготворила своего отца, шахтера. Его дом располагался в одном из лучших жилых кварталов города, поэтому ребенком ей очень часто приходилось общаться с «лучшими семьями». Свою мать она описывает как святошу, женщину работящую, строгую и нетерпеливую, часто и жестоко ее лупившую и больше любившую ее сестру; а потом сразу заявляет:
...
Мой отец был работящий, уважаемый, умный, философский, человечный, веселый, нежный, верующий, сдержанный, с ранней молодости состоявший в профсоюзе, но с партийными пристрастиями.
В 1946 году она вышла замуж за коммуниста, работавшего на шахте слесарем, который никак не мог сравниться с этим авторитетным призраком; после того как он вследствие кризиса угольной промышленности оказался на обочине жизни, госпожа Мюллер стала не только главной в семье, но и вне дома заняла главенствующие позиции. Во время войны она пошла работать санитаркой (эту специальность она получила еще до войны) и в 1960-е годы быстро дослужилась в больнице до старшей сестры отделения для частных пациентов. Ей поручили руководить обучением медицинских сестер, она стала активной социал-демократкой и членом совета трудового коллектива больницы. Если не считать отца, то решающим фактором в ее социализации стала война. Ей было пятнадцать, когда она началась; война – это ее годы учения. В это время она набирает тот потенциал энергии и организаторских способностей, который в эпоху Аденауэра, когда она была домохозяйкой, оставался латентным (правда, не совсем, потому что она, например, параллельно заведовала общежитием учеников, проходивших обучение на шахте), а потом позволил ей столь же быстро, сколь и успешно возвратиться в профессиональную жизнь и развернуться в ней.
В 1938 году Эльза Мюллер закончила школу и вступила в Союз немецких девушек, но, поскольку ее родителям-католикам это пришлось не по вкусу, она ограничилась спортивными занятиями в секции гребли на каноэ, хотя ей нравилось быть в коллективе и руководить. Одновременно она отрабатывала обязательный для девушек трудовой год в качестве помощницы по дому у одной учительницы. Потом стала учиться в женском монастыре на санитарку, но прервала обучение после того, как у ее отца обнаружили пневмокониоз, и к тому же настоятельница выставила ее на посмешище перед соученицами, когда она во время менструации запачкала кровью постель. Вернувшись в родной город, Эльза прошла профессиональное обучение в крупной фирме, занимавшейся розничной торговлей. Потом – трудовая повинность, ее послали в крестьянское хозяйство в Шлезвиг-Гольштейне; там она хорошо справлялась с работой и стала доверенным лицом у майденфюрерин [5] . После возвращения в Рурский бассейн Эльза в 1942 году стала военнообязанной и проходила службу в трудовом ведомстве, в отделе, занимавшемся незаменимыми работниками, которым полагалось освобождение от призыва; здесь она впервые узнала, какими методами были согнаны в Германию работавшие там украинцы; тогда-то, – думает она теперь, – и зародился в ней критический образ мыслей по отношению к политике.
Там, в центре Эссена, она попала в 1943 году под первый крупный авианалет:
...
Он меня привел в полнейший шок. Мы уже не могли ничего потушить. Там были такие крытые галереи… там полно было дерева, и мы уже не могли гасить, воды не было. И я побежала в сторону вокзала, был перерыв, двадцать минут [между налетами]… Всюду грохот, осколки, пожары. Я побежала и оказалась в какой-то момент совсем одна. Бежала через город… Горел опрокинутый трамвай, вокзал горел… а самолеты опять уже появились, опять новая волна уже, и опять сирены с громким воем, и тут на меня кто-то закричал: «Вы с ума сошли? Идите в убежище!» И я спустилась на Роландштрассе за Парк-отелем в убежище. И все рекой, рекой стекались в убежище. А потом снова ковром стали падать бомбы. А потом раздался страшный грохот. В общем, выйти из убежища мы уже не могли, нас там завалило. А я обнимала молоденькую девушку, незнакомую молоденькую девушку, мы так крепко-крепко вцепились друг в друга. А у кого-то сделался нервный срыв, а одной женщине пришлось детей оставить снаружи, у нее двое детей было. Она все время кричала: «У меня дети на улице, у меня дети на улице!» Тут молятся. Там орут. Там воют. А я и эта молоденькая девушка, мы обнялись, мы сидели в ловушке. А потолок – так он все время так трясся, он прямо-таки качался при каждом новом взрыве. И в это время я только думала, мои родители и все это у меня в мыслях было. А потом я услыхала шум воды. И я сказала: «Господи, не дай мне утонуть!» Потому что мы все время читали про авианалеты в газетах: где-то люди утонули, потому что трубы лопнули, а люди боролись до последнего, пока уже совсем под потолком не плавали, и в итоге все-таки тонули. Как они боролись! А когда их потом находили в этих убежищах!.. И тут я сказала: «Господи, не дай мне утонуть!» Я слышала шум воды. «И пусть лучше потолок рухнет и меня прибьет, но только не тонуть», – так я сказала. Это было мое последнее желание. И еще: как меня найдут? Я еще раз всю свою жизнь перед собой увидела и прямо завершила ее. Да, завершила, надо сказать… А потом мы услыхали, как колотят, стучат, зовут, а потом вспомогательная служба безопасности – они вогнали брусья в подвальное окно, чтобы подпереть, и вытащили нас. И там все горело, вся ведь Роландштрассе превратилась за ночь в груду развалин… И у меня здесь еще шрам остался. Здесь мне потом тоже обожгло, брови мне сожгло. Волосы вот тут на голове тоже сожгло. Какой-то человек мне что-то набросил на голову и сказал: «Беги, девочка! Давай, беги!» И тогда я побежала вниз, в сторону «Феррошталя», в сторону «Хохтифа», в сторону пивоварни. А потом ничего больше не помню. Первый и единственный обморок в моей жизни был. Я была без сознания. А потом я очнулась, лежала в зале [в здании городского собрания, которое было рядом]. Вокруг меня крик, кутерьма, все кричат, своих ищут. Деточка моя! Это был один крик. Я до этого-то не глядела, как и что, а тут думаю: «Ой, все ли цело у меня?» Потом я захотела встать. Сказали: «Лежите, не вставайте!» То есть за мной ухаживали. А потом дали мне шнапсу. И я сказала: «Со мной все в порядке, ничего у меня нет!» Я все оглядела: ничего у меня не было… А потом все время этот крик вокруг, все ищут своих, раненые кругом. Я была как-то не в состоянии помогать, я только глядела… [Потом, в сумерках, она в разорванной одежде и со спущенными чулками, на трамвае поехала в свое предместье.] Выхожу на станции «Городской парк», а тут мне навстречу один коллега, у которого сердце больное было… из отдела труда коллега навстречу мне идет, с горы спускается. На нем безупречный поплиновый плащ, элегантная мягкая фетровая шляпа, ремень туго затянут. Я его по сей день перед собой вижу: туго затянутый ремень, папочка под мышкой, как будто он в чудный осенний денек идет на службу. Спускается, видит, как я подхожу, смотрит на меня, разглядывает и говорит: «Да… что у вас за вид?» Как если бы я где-то шаталась ночью и в канаве валялась. Тут я закричала. Я так кричала… Я побежала в гору, последний отрезок вверх, и все кричала громко. Я прибежала наверх, вбежала в дом, так что моему отцу пришлось меня крепко-крепко обнять. Говорит: «Детка, успокойся, детка, успокойся!» Я говорю: «Отец, там горит, горит, все разрушено, все разрушено». Только так это из меня наружу выходило.
Этот рассказ, приведенный здесь лишь с небольшими сокращениями, обладает рельефностью непереработанного ночного кошмара. И по сей день, спустя почти четыре десятилетия, все «только так наружу выходит». Эльза Мюллер – личность, как уже было сказано, необычайно сильная, умеющая настоять на своем, – в этом интервью извлекает из своей памяти документальную запись своего тогдашнего страха: это документ, аутентичный именно благодаря тому, что он не поддается переработке. Он же одновременно является и документом вынужденной пассивности, в нем только в начале присутствует элемент активности, когда рассказчица пытается во время перерыва между бомбежками убежать через весь город как можно дальше от своего горящего завода. Потом следуют элементы, которые поразительно напоминают стадии человеческой смерти, единообразно описываемые реанимированными людьми: она перестает управлять собой; реагирует бессознательно; воспринимает окружающее только в виде эмоциональных тонов и картин; панически бежит от опасности; подчиняется голосу разума, который направляет ее в первый попавшийся бункер; она готова и хочет прижаться телом к незнакомым людям; ее восприятие ограничивается собственной персоной, которая страхи окружающих еще замечает, но отгораживается от них; она испытывает панический страх перед смертью, выраженный в боязни какого-то определенного варианта гибели, обесценивающего всякую активность; она спорит и торгуется с Богом; видит, подобно фильму, всю свою жизнь, и наконец – отключка. Все это потом прокручивается еще раз в обратную сторону: она заново переживает эгоцентрическую редукцию после второго спасения; ощущает настоятельную потребность покинуть место второй катастрофы даже вопреки совету и указаниям авторитетного лица; сосредоточивает все силы на бегстве; срывается на истерический крик при встрече с нормальной жизнью и вверяет себя спасительному институту или лицу, сводя пережитый опыт к ключевым словам: «горит», «разрушено».
Через год после того, как Эльза Мюллер пережила этот смертельный страх, ее отправили на фронт против ее воли или по крайней мере не туда, куда она хотела: она предпочла бы обучаться на радиолокационной станции под Веной, а ее послали на аэродром под Гамбургом. Интервью предоставляет нам еще три возможности проанализировать тему страха в ее воспоминаниях о войне: эпизод с обучением среди более квалифицированных сослуживцев; эпизод с кражей картофеля; эпизод с установкой прожекторов против авиации союзников.
Эпизод I. Курсы прожектористок, ноябрь 1944 года. Молодым женщинам предстоит сменить унтер-офицеров, прошедших два года базовой подготовки и еще дополнительное обучение; на замену берут только абитуриенток и студенток в надежде, что они быстрее обучатся. Эльза Мюллер – единственная на всем курсе, кто не учился в гимназии. Это наполняет ее гордостью и страхом одновременно. Муштра «жестокая», но тут она не отстает от остальных; однако там, где требуются прежде всего знания из курса математики, она пасует. «И тут я разуверилась в самой себе».
Но из тыла она получает поддержку: когда она пишет отчаянное письмо домой, отец утешает ее: «Даже если ты сто раз провалишься, ты все равно останешься нашей девочкой». Кроме того, среди девушек – «классное товарищество… 18 человек в одной комнате… отличная компания». Ей помогают заниматься, и при первом отсеве она не вылетает, в то время как некоторым абитуриенткам приходится возвращаться на обычную трудовую повинность. Победой на самом деле она обязана не своему честолюбию, а своей популярности: «Это был спор: сумеешь или не сумеешь; я то не хотела, я то хотела уйти. На самом деле это меня группа с собой тянула. Только группа. Они просто не хотели, чтобы я из группы уходила, и полностью взяли меня на буксир».
Коллективизм и воля к свершениям позволяли этим девушкам выполнять задачи и делали их пригодными для использования на войне, хотя они были против нее – правда, как правило, не с самого начала, но теперь-то уже точно были против. Становилось все очевиднее, что война проиграна, и, выступая против нее, они выступали и против Гитлера. По ночам «отличная компания» пародировала «обращения к народу» нацистских вождей с третьего яруса кроватей:
...
«Что у нас есть? У нас нечего есть», так, и «Хотите ли вы тотальной войны? Нет, не хотим мы ее»… Настоящим пораженчеством там занимались… т. е. сначала были сомнения, в 43-м, потом где-то в начале 44-го для нас, для меня война была проиграна, да, когда мы узнали, что фронты – повсюду: и тут невозможно удержать, и там – безумие.
Война – сумасшествие, но в Пиннеберге главными были самосохранение и коллективизм. Во время обучения постоянно проводились тактические занятия на карте, в которых ключевая роль всегда отводилась позиции Хольм, а по окончании курса прожектора распределяли по позициям.
...
Когда говорили «позиция Хольм, позиция Хольм», то всегда говорили, что кому, значит, она достанется, ну тот может себя поздравить. Все управление военно-воздушного округа только и говорит, что о позиции Хольм. И знаете, как потом стали распределять, кому досталась позиция Хольм? Мне досталась позиция Хольм! Я думала, я упаду сейчас, быть такого не может.
Платой за страх является вытеснение сомнений – по крайней мере в том, что касается непосредственных задач по командованию прожекторной установкой. Эльза Мюллер говорит о множестве трудностей, с которыми было связано занятие позиции, однако не совсем понятно, в чем они заключались. Из текста следует, что она пребывала в конфликтном треугольнике: с одной стороны, большинство девушек, как и до того (когда они все вместе жили в одной комнате), были против войны; с другой стороны, ей досталась заместительница, которая еще до нее была на этой прожекторной установке и которая занимала «очень твердую позицию» – очевидно, противоположную; а кроме того, «обеспечение функционирования позиции»: это было непременное требование (на вопрос о сомнениях и неповиновении она отвечает: «Нет, это приказы, нет, такого не было!» И еще раз: «О том, чтоб сбежать, – нет, я не думала»). Решение проблемы она нашла в товарищеском и заботливом отношении к подчиненным, иными словами: она укрепляет боевой дух войск, добивается доверия со стороны девушек и переживает глубокое разочарование, когда одна из них сбегает, не посвятив ее в свои намерения.
Эпизод II. Эльзе Мюллер без малого 21 год и она должна быть командиром и примером для остальных; от стресса во время обучения она стала курить, но теперь бросает, потому что «некоторые девочки ведь моложе были», а она не хотела от них ни в чем таиться.
...
Но эти тяготы, которые я сама вынесла, этот настоящий страх и то, что войне конец скоро должен был настать, и нужда… а потом я еще получила извещение, что муж моей сестры погиб, понимаете, все эти вещи мне приходилось одной носить в себе, и я часто сменяла часовых и ходила патрулировать. Девочек отправляла спать и стояла на посту, а мысленно бродила по городскому парку. Это из-за того, что не могла спать, я стала ходить в караулы. И тогда я узнала, что на летном поле была заложена в бурты картошка…
Поскольку от крестьян уже ничего больше получить не удавалось, она стала каждую ночь ходить с рюкзаком и выкапывать картошку, рискуя быть замеченной часовыми Люфтваффе. «Вся команда» наедалась досыта, и Эльза Мюллер как командир, ставший матерью своим подчиненным, на шаг приблизилась к идеальному образу отца.
...
Каждую ночь я туда ходила и там тырила картошку, хоть и боялась ужасно. И не разу не заметили! А девочки говорили: «…До чего вы так дойдете!» Я говорила: «Деточки, достаточно будет, если меня поймают». За это ведь расстрел был. Это был для меня смертельный риск. Это же был немецкий посевной фонд… все время же только и слышно было: вредитель расстрелян, повешен, расстрелян, вредитель, и так бы я была, я ведь в этом смысле вредитель была.
Эпизод III. Бой. С радара поступают данные, которые используются для наводки большого, автоматического прожектора, который надо только включить, а затем эти данные передаются группе, которая вручную наводит меньший прожектор. В это время Эльза Мюллер стоит у прибора для наводки и руководит действиями расчета. В случае налета штурмовиков расчет («24 человека и один солдат Люфтваффе», кроме него все женщины) может прыгать в одиночные окопы, так называемые лисьи норы.
...
Я помню только, что мне лично не было страшно во время налетов, что я – я стояла там у прибора наводки, где и телефон был, где я получала свои команды, и у самого прибора, где я на очень хорошем устройстве… могла наблюдать и получала передаваемые данные. Я выкрикивала их на свой 150-й прожектор – двухметровый-то получал данные с радара. И тогда я кричала только: «Свет!», так, «свет» – моя команда. И вот однажды я пошла к ним – свет у прожектора не зажегся. Они по окопам разбежались… это я не могла понять. Это было просто: мне не было страшно. У нас же стальные каски были. Так что мне не было страшно. Я не могла понять страх девочек, настоящий страх, подлинный, физический страх – не могла я понять. Я только тогда поняла его, когда позже как-то раз засекла один штурмовик и хорошо видела его в прицел: он так прямо на меня летел и стрелял в меня. Тут мне впервые стало действительно страшно. Ладно, мы днем в окопы прыгали и так далее, но по-настоящему бояться за свою жизнь мне довелось только позже, когда я была замужем, когда была матерью.
Последние слова есть, вероятно, намек на травмирующее чувство покинутости, которое она пережила при рождении своего единственного ребенка в больнице в 1947 году: этот весьма запоминающийся эпизод она рассказывает позже в интервью. Это снова то самое пронизывающее переживание беспомощности и брошенности на произвол судьбы, которое она уже описывала в рассказе о том, как ее засыпало в бомбоубежище во время налета. И то, и другое переживание (в убежище и в родильном отделении) характеризуются наглядностью воспоминаний и неуправляемостью реакций; от них обоих окрашенные страхом эпизоды на фронте отличаются хотя бы уже высокой степенью дискурсивности, восприятием и просчитыванием окружающего, а также личной инициативой. Третий эпизод показывает, что понадобился летящий на бреющем полете и стреляющий прямо в нее штурмовик, чтобы опасность, грозивщую в бою всем, она осознала как свою. Ведь она настолько была занята техникой и отданием команд, что страх не мог возникнуть, а если возникал, то его можно было прогнать с помощью самых абсурдных рационализаций («стальные каски»).
В двух других эпизодах речь идет о страхах, которые лишены важнейшего признака – элемента безысходности: никто ведь не помешал бы Эльзе Мюллер провалиться на экзаменах, быть отчисленной с курсов и тем избавить себя от стресса, связанного с повышением статуса и командирской должностью, стать снова простой работницей «Трудовой повинности». Никто не заставлял ее поднимать боевой дух своих подчиненных, воруя картошку, а кроме того, очень маловероятно, чтобы солдаты Люфтваффе поставили к стенке за вредительство активную женщину, командира взвода только потому, что она раньше них нашла картофель, принадлежавший местным крестьянам. Страх в этих случаях играл скорее роль подстегивающего адреналинового удара, позволяющего добиться наивысших достижений. Прорыв выпускницы народной школы, дочки рурского шахтера на позицию всеми любимого и уважаемого командира прожекторной установки в ключевом пункте – это первая кульминационная точка в биографии этой молодой женщины. Здесь она открыла в себе личностную силу и социальный потенциал, которые в течение следующих полутора десятилетий, когда она вела жизнь домохозяйки, кажутся как бы блокированными, пока она не разворачивается снова во всю мощь, работая в больнице.
Шок, испытанный ею дома во время бомбежки, на фронте уходит: активное участие, необходимость показывать хороший результат, расширившийся горизонт опыта и ответственности помогают вытеснять страх, который так реален и так оправдан; в результате она встраивается в военную машину в роли не только исправно функционирующей, но и вносящей собственную дополнительную динамику детали. При этом она может вполне осознавать безумие войны; сопротивление так называемой тотальной войне в Эльзиной компании представляется мне правдоподобным. Впоследствии госпожа Мюллер выходит замуж за коммуниста, и, хотя она держится на расстоянии от Коммунистической партии и оказывает мужу сопротивление, храня верность социал-демократии, все же в эпоху Аденауэра ей хочется, чтобы коммунисты прошли в бундестаг («как щука – чтоб караси не дремали»), она ходит на демонстрации против ремилитаризации и вооружения бундесвера атомным оружием. Эльза Мюллер против войны, и я думаю, она была против нее и в 1945 году. Но для того, чтобы осознать это, надо было сначала пройти через очевидную бесперспективность войны. Это осознание осталось на некоем когнитивном уровне и было оттеснено в сторону, когда Эльзе предложили участвовать в деле и развернуть свой личностный потенциал.
8. «Хуже всего это было для солдат-отпускников»
Родители Герды Герман {22} развелись в 1937 году. Ее властная мать была учительницей и членом НСДАП. Во время войны Герда обручилась с однокашником, который был летчиком.
...
Он сначала был в транспортной авиации, летал на Ю-52. Это приносило ему, как он тогда выразился, слишком мало орденов. «Вот закончится война, а у меня будет слишком мало побрякушек: тогда моей карьере конец, я не смогу стать тем, кем собрался». И он переквалифицировался на скоростные истребители, хотел попасть в ночную истребительную авиацию, и во время третьего своего учебного вылета [в Силезии] разбился. Это была ужасная, трагическая история.
Несчастный случай со смертельным исходом на пути к карьере, сопряженной со многими рисками. В мае 1944 года, когда это произошло, Герде было 20 лет.
...
Я молилась господу Богу, чтобы у меня откуда-нибудь появился ребенок, откуда – я и сама не знаю. Вы себе это и представить не можете: такой зажатой меня воспитали. […] Ничего не объясняли. […] Поцеловаться было уже безумным грехом, которым действительно мучились.
Военная невеста, которая хочет хотя бы ребенка и не знает, откуда берутся дети. И героическая смерть как профессиональный риск… Интересно, как сильно воспоминания отличаются от литературных и прочих фантазий, которые в послевоенное время формировали наше представление о войне. Не правда ли, мы бы скорее ожидали, что женщина будет сексуально просвещенной, а мужчина пожертвует собой ради националистической идеологии? А он хотел побрякушек, чтобы после войны иметь возможность остаться кадровым офицером. Почему это так важно – после войны, которая в его расчетах явно фигурирует как война победоносная? Что это – просто мальчишеское желание продлить увлекательную игру с военной техникой? Или дело было в том, что она им гордилась, потому что «он в форме хорош был – ну просто умереть можно»? На это у истории есть и третий конец – в другой части интервью: в 1943 году Герду Герман из Союза немецких девушек перевели в ряды НСДАП. Это происходило автоматически, она поначалу этому не сопротивлялась, носила партийный значок на лацкане и ходила на партийные собрания, которые проводились в бомбоубежищах. Жених, приехав в отпуск, требует это прекратить:
...
«Я с тобой на улицу не пойду, если ты эту штуку не снимешь, по крайней мере пока я здесь»… Я спрашиваю: «А что такого в партийном значке? Я вообще не понимаю, почему ты так сердишься». Он: «Я такой ужас видел, я был в Варшаве, и там я видел, как людей, евреев, сгоняли – женщин, детей, мужчин. Мужчины стояли с бичами и загоняли их в вагоны». Это, по его словам, было нечто ужасное. Мне кажется, он принадлежал, вероятно, к такому кругу офицеров, где не были согласны с этим режимом… Тут моя мать пришла в ужас, возмутилась и сказала: «Как этот парень может такое рассказывать? Это вранье. Невероятно, в какое вранье он поверил». Он потом еще несколько подобных высказываний сделал… Когда он разбился, я все время думала, он сделал какое-нибудь глупое высказывание, наверняка его расстреляли, он вовсе, может, и не разбился. Но он на самом деле разбился, там ничего не было. Но он явно знал больше…
Внезапно их отношения оказываются вообще призрачными, вовсе не близкими. Влюбленные мало знают друг о друге, мало могут друг другу доверить. Может быть, он вовсе не побрякушек искал, а стремился в офицерский корпус, чтобы быть защищенным и иметь возможность действовать? Или, может быть, сведения, подобные тем, что ее жених привез из Варшавы, не производят никакого эффекта, а приводят только к тому, что человек сворачивается, как еж, замыкаясь в своем узком мирке, – потому, например, что воздушный бой истребителей вызывает героические чувства, а его последствия абстрактны? Солдатским невестам было тяжело; дело было не только в том, что они сами постоянно подвергались опасности и боялись за своих любимых. Они еще и знали их все меньше и меньше, чем дольше жили с ними в разных мирах, с разным опытом. И побывка в таких условиях часто становилась мукой: люди жили в мирах, развивавшихся в разных направлениях, и встречались друг с другом, словно находясь по разные стороны стекла, а одновременно чувствовали себя обязанными проявлять особую интенсивность чувств и особую близость, как если бы это свидание было последним. Но то, что происходит в последний раз, редко бывает прекрасным. Если к этому добавлялся еще и сексуальный аскетизм, который исключал возможность чувственной разрядки, то велика была опасность, что влюбленные будут заботливо разыгрывать друг перед другом спектакль, поверхностно развлекаться, а может быть, вызывать друг у друга чувство одиночества, даже будучи вдвоем.
Позже Герда Герман еще раз встречается с летчиками, на сей раз союзной авиации, которые не так хороши в форме, зато она видит их в деле. Американцы стоят уже в соседнем городке, и, чтобы укрыться от их артиллерии, люди перебегают из комнаты в комнату:
...
Потом еще было очень плохо, когда налетали штурмовики: они ведь действительно обстреливали людей на балконе. Кошмарно. […] Это было страшно. Они действительно стреляли в людей, которые бежали в бомбоубежище. Одной соседке пятку отстрелили, она от дерева к дереву бежала в бомбоубежище. За нами действительно охотились штурмовики.
До того Герде с матерью неоднократно доводилось переживать тяжелые авианалеты. «Хуже всего это было для солдат-отпускников, они дрожали и молились. По сравнению с ними женщины держались отважно».
Однажды ее чуть ли не насмерть затоптала толпа, в панике бежавшая в убежище. В другой раз, снова упав по дороге в убежище, она не смогла встать, в то время как все остальные уже были в бункере, а в небе висели осветительные ракеты. Никто ей не помог, и она в конце концов дотащилась сама до нижних ступенек лестницы, ведшей в подвал, но внутрь уже не попала. Она напялила себе на голову жестяное ведро и молилась, чтобы ее не засыпало, когда после каждого разрыва все вокруг качалось. После отбоя воздушной тревоги она увидела, как в долине горела «как факел» та фирма, в которой она работала секретаршей. Она бросилась туда и была среди первых, кто начал тушить огонь еще до прибытия пожарных. Двери склада раскалились; она тем не менее пошла туда и, тронув дверь руками, больше не могла их оторвать. «За тушение этого пожара мне был присвоен крест „За военные заслуги“. Это было событие», – говорит она смеясь.
Когда конец становится близок – а это замечают по тому, что удирает живший через пару домов руководитель городской партийной организации, – гражданскому населению приказывают выдвигаться пешим маршем в Зауэрланд. Когда выясняется, что кольцо американцев плотно сомкнулось и у колонны беженцев никаких шансов на прорыв нет, все начинают радостно обниматься, хотя раньше им говорили, что американцы – «людоеды». Мать, непреклонная национал-социалистка, тоже теряет веру в победу нацизма, в то время как отец, который всегда дистанцировался от нацистов, еще за несколько недель до этого писал с Восточного фронта о «чудесном оружии фюрера». В конце концов остается одна лишь жизнь.
...
Конец войны мы с матерью застали здесь. Как входили американцы. Бывают такие моменты в жизни, которые не забываешь, от счастья или от печали. Это был вот такой момент, когда мы увидели, как появился первый американский танк на Франкенштрассе, они пришли со стороны Штеле, 9 апреля 1945 года. Мы примерно за час до этого услыхали в воздухе какой-то страшный шум и не понимали, в чем дело… Мы стояли, как зачарованные, на балконе, шум становился все страшнее, пока не показался первый американский танк с желтой звездой. С Франкенштрассе был широкий обзор, на весь разгромленный Эссен. Мы пригнулись и подумали: «Сейчас нас застрелят». Фольксштурмовцы перед этим несколько дней строили противотанковые заграждения из спиленных деревьев. Мы боялись, что там еще будут перестрелки. Так они их летящим галопом взяли. Тут мы друг другу на шею бросились – все позади, снова нас пронесло.
Позже госпожу Герман в другой связи еще раз спрашивают о том, какое значение имело для нее окончание войны. Она подтверждает:
...
…что мы в живых остались. Самое первое. Потом, когда вся правда всплыла, мы были настолько заняты тем, чтобы утолить голод, тогда тоже главное было – выжить. Мы тогда действительно на брюкве жили.
Эта сосредоточенность на чистом выживании не позволяет потом, в решающие годы ее жизни, одуматься, оглянуться на собственный опыт, тем более публично. Удивляться по поводу тех впечатлений, которые остались у нее в памяти (например, как она ребенком увидела евреев, которых сгоняли на вокзал, и на свои вопросы не получила от бабушки никакого ответа), и встраивать их в исторический процесс она начинает только тогда, когда политика снова ее «достает». В конце 1950-х она замечает, что у нее на заводе применяются противоправные методы слежки за работниками. Когда она в конце концов начинает этому сопротивляться, возникает трудовой конфликт, который в конце концов побуждает ее заняться политической и профсоюзной деятельностью и мало-помалу перерабатывать изолированные фрагменты своих воспоминаний в рассказ о своем жизненном опыте. «Мало-помалу» в том смысле, что сначала она отказывается дать нам интервью, говоря, что ее жизнь не так уж интересна. Потом зато получается одна из самых долгих бесед.
9. «Я и не знал, кто такой Тито»
...
Моя мать взяла у польских гастарбайтеров на попечение двух младенцев, которых ей на самом деле нельзя было у себя держать… ей вообще нельзя было никаких контактов с ними иметь. Она взяла их на попечение. У нас никогда об этом не говорили, что это… было просто… они были у нас, и в это время обе девушки-польки и отцы этих детей часто приходили к нам в дом. То есть они приносили продукты от крестьян, у которых они работали, а потом оставались на чашку кофе. Отношения с этими людьми были совершенно естественные, без пафоса, без чего-то там такого, это были люди, которые бывали в доме. Дети их были у моей матери, и они приходили, ну и это больше не обсуждалось. А я приходил с дежурства, т. е. в форме, с дежурства в гитлерюгенде. Я тогда… а они – они меня поддразнивали: «Ты еще победить рассчитываешь?» и так далее, и так далее. И говорили совершенно открыто про Сопротивление в Югославии и про Тито. Я и не знал, кто такой Тито. То, что партизаны были, это было общеизвестно, об этом газеты писали, и то, что они были недочеловеки, и так далее, и так далее. Так вот, они говорили про партизан в Югославии и совершенно открыто их поддерживали и говорили, почему они их поддерживали. А я безумно возмущался по этому поводу, и, когда я сегодня оглядываюсь назад, – тогда одно слово руководителю городской партийной организации или еще кому-то – достаточно бы, чтобы этих людей постигла совершенно ужасная судьба. И я еще раз повторяю, я был убежденный юнгцугфюрер [6] , и я над этим разговором безумно долго размышлял, но не говорил о нем, ни с кем о нем не говорил. И теперь, оглядываясь назад и оценивая, да, надо подумать, не пошла ли тогда уже трещина, или тогда начало ей было положено, или… в общем, я не могу теперь уже мысленно это восстановить, но все же это было для меня, если на прошлое оглянуться, ключевое переживание.
Густав Кеппке {23}, который рассказывает эту историю, после войны стал секретарем городской организации Коммунистической партии в своем рурском городке, в 1956 году отправился за свою партию в тюрьму, а одновременно своими товарищами по партии, т. е. радиостанцией Sender 904 в ГДР, был объявлен агентом Запада. После этого он никакой общественной деятельности не ведет, самое большее – играет с некоторыми из соседей в кегли, да и это дело, как он говорит, оставил бы, если бы они вдруг решили избрать себе председателя. Его отец, умерший в 1938 году от профессионального заболевания, был горняком, как и его отчим, за которого мать вышла год спустя; оба до 1933 года были коммунистами. Они жили в квартале для многодетных семей в шахтерском пригороде на реке Эмшер. Мать Густава – аполитичная крестьянка, как он ее называет, приехала с Востока. Во время войны ее вызывают в партийные инстанции и делают строгое внушение за то, что она просто поговорила с иностранными рабочими, которые живут в лагере неподалеку. Антифашистская идиллия? А к чему тогда привело Густава Кеппке его ключевое переживание? Только обходными путями удается получить прямую линию биографии, потому что в Третьем рейхе родители не могут открыть детям свою оппозиционную сущность. Отчим, правда, придерживается иных взглядов, чем пасынок – член гитлерюгенда, это становится понятно, поскольку, по воспоминаниям, он не говорил в знак приветствия «Хайль Гитлер!»; но он и не возражал против деятельности юноши.
...
«Хрустальную ночь» я помню совершенно ясно. Синагога горела, а пекаря Шварца арестовали, когда он пек булочки. Мне было тогда девять лет. Шествия СА производили ужасно сильное впечатление. В 1935 году, когда я в школу пошел, было гигантское шествие. Я был на стороне сильнейших, а евреи – это были они. Между нашим рабочим предместьем и гитлерюгендом не было совершенно никаких противоречий. Знаете, этот процесс – гитлерюгенд, «народ» – это нельзя рассматривать так, как будто это был тогда какой-то выбор, который мы, молодые ребята, делали – за что-то или против чего-то; не было ничего другого. Это было единственное, что было, да, и кто хотел чего-то достичь, тот вступал… Униформа гитлерюгенда – это было в детстве что-то положительное. Я ее бесплатно получил.
В 1941 году Густав приезжает к своему деду в Вартегау [7] , где тот – этнический немец из Галиции – при разделе больших поместий получил небольшой участок. Здесь у мальчика (ему в то время 13 лет) возможностей выбора тоже немного; его тетка получает повестку после того, как она только раз посидела за одним столом с польской прислугой. Через два года Густав возвращается на берега Рура, а потом детей отправляют из города в сельскую местность, и он попадает в Баварию. Потом туда же приезжает его мать, и получается, что это была эвакуация. Здесь, в Нижней Баварии, а потом в Швабии, он ходит в школу; от пимпфа [8] поднимается до фенляйнфюрера [9] ; потом его отправляют на оборонные работы на оружейную фирму, которая в качестве источника рабочей силы использует, помимо всего прочего, филиал концлагеря Дахау; оттуда ему, однако, вскоре удается перейти на командирскую должность в организации детей, привезенных в деревню из города. Не достигнув еще и 16-летнего возраста, он записывается добровольцем в учебную часть дивизии «Гитлерюгенд», которую в 1945 году крестьяне разоружают, предотвращая опасное безумие. После этого Густав без документов пробирается через всю Германию домой, однако вскоре возвращается в Баварию, узнав, что его родной город превратился в гигантский лагерь для перемещенных лиц. Вернувшись в Верхнюю Швабию, он вместе с одним товарищем поселяется у мясника, который их хорошо кормит, не смущаясь тем, что у них нет документов; наоборот, за это они должны с утра до глубокой ночи работать, а если не слушаются, то получают по паре ударов кнутом. Но и эта линия, кажущаяся прямой, обманчива.
Дело в том, что вышеупомянутое «ключевое переживание» имеет место не в шахтерской колонии, где люди тайком придерживаются коммунистических взглядов, и не в этнической мешанине Вартегау, а в маленькой деревеньке в Баварии. На берегах Рура Густав – сын коммуниста – вступил в нацистскую детскую организацию, в Польше стал вожатым, в Баварии он поднимается еще на несколько ступенек в иерархии гитлерюгенда. Вместе с тем он сталкивается там и с тихим, но упорным сопротивлением крестьян той политике, которую стремится проводить Берлин; он знакомится с менее плотной, менее удобной для контроля атмосферой в деревне, где иностранные рабочие живут не скученно, в многотысячных лагерях, а по крестьянским усадьбам, в качестве батраков и прислуги, так что по отношению к ним отдельный немец еще может выступать в качестве отдельного человека, т. е. вести себя по-разному и, может быть, даже поступать вопреки запретам. А «аполитичная» крестьянка-мать, у которой и первый, и второй муж были коммунистами и которая в эвакуации живет вместе со своим сыном, убежденным и активным членом гитлерюгенда, после того, как другой ее сын погиб при отправке в деревню? Она использует представившуюся ей свободу действий и поступает с непритязательной, но решительной гуманностью, так что даже сыну-нацисту не приходит в голову восставать против присутствия в доме польских детей и визитов их родителей. А его ровесники в деревне прекрасно чуют, откуда дует ветер: «Ты еще победить рассчитываешь?» – дразнят они приезжего паренька, который, родившись в местах, лишенных традиций, оказывается в силу этого легкой добычей для нацистских организаций и их слепого безумия. Критическая точка оказывается достигнутой только тогда, когда они начинают еще и говорить о политике. Наследие отцов достигает рурского паренька в Баварии, когда польские рабочие и местные жители, сидя у его матери, выражают восхищение балканским героем-коммунистом и то, о чем Густав читал в газетах как о коварных бандитских вылазках, расхваливают как партизанское движение Сопротивления. И вот он лежит без сна и гадает, должен ли он донести на своих родных и знакомых. Он и по сей день не может описать, что тогда произошло, как и почему его юношеская картина мира вдруг перестала быть черно-белой и в ней появились новые возможности выбора. Он помнит лишь, что это произошло. И все же тогда он через это перешагнул, пошел в дивизию «Гитлерюгенд». Но появилась некая опорная точка, веха в сознании, к которой он мог потом вернуться.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что не было никакой прямой дороги с односторонним движением, которая вела бы от этого ключевого переживания к членству в компартии в послевоенные годы. В 16–17 лет Густав дважды возвращается на берега Рура. Во второй раз устраивается шахтером на ту же шахту, где работает отчим, чтобы получить документы. Но он бунтует: сначала против работы в забое – уходит оттуда учеником на стройку, а потом и там бунтует против того, что ему, 17-летнему, платят пять марок в неделю. Не через политику он приходит к политике, а через протест против условий жизни – протест, который он, будучи национал-социалистом, поначалу обращает против победителей:
...
Это я разбирался с теми временами, которые настали: есть нечего, социальных возможностей никаких, окружение, которое вообще ничего не давало, – у всего этого должна ведь была иметься какая-то причина. И сначала причиной была оккупационная власть. Вы поймите, я тогда думал не так, как мы с вами теперь думаем. Тогда-то я был воспитан во времена национал-социализма и видел мир так, как нам его тогда показывали, как нам его представляли. А тут вдруг все оказалось не так. Вдруг все стало по-другому. И это был протест против того, что все стало по-другому, и вот я начал разбираться: почему это по-другому стало? Оттуда и пошло, что я с коммунистами соприкоснулся.
Густав Кеппке начинает осваивать традиции своей среды и своей семьи – но какими окольными путями! Конечно, его национал-социалистское мировоззрение надломлено и дает ему все меньше объяснений, однако с ним сперва надо справиться. Во множестве других рассказов о первых послевоенных годах постоянно встречаются ссылки на необходимость каждодневно бороться за выживание, которая оттесняла всякую политику и всякую рефлексию; похоже, эта ситуация не во всех случаях бывала такой уж безвыходной: у Густава Кеппке борьба за хлеб насущный не затмевала мировоззренческих вопросов. Для него началось время обсуждений – «безумно прекрасное время», несмотря на то, что получал он на стройке пять марок в неделю.
...
Там, где я жил, где я работал, этой встречи было просто невозможно избежать. Я мог либо стать католиком, либо остаться тем, кем был. И потом стал разбираться. Но… это не за одну ночь произошло, это не так было, что вчера я был вожатым в гитлерюгенде, а нынче я коммунист: это был очень тяжелый процесс.
В качестве примера он приводит дискуссию с Хайнцем Реннером, коммунистом, который сначала был поставлен союзниками обербургомистром, а позже вошел в состав земельного правительства. Тот пришел на публичную дискуссию, устроенную в здании школы в их шахтерском предместье. Присутствовало человек 50–80:
...
Тема дискуссии была: добр человек или зол? Является ли человек продуктом своей среды, своего социального окружения и своего воспитания? И я был с этим не согласен. Мое мнение было: человек добр или плох, и среда влияет на это только в ограниченной степени. И мы раскочегарились, и это был диспут с криками «долой», с аплодисментами за тех и за других, это было как на арене. В общем, он рассердился и сказал: «А почему ты тогда не идешь в католики?» А я подумал: «Да вот – потому, что мне ближе то, что ты говоришь». Но потом пошло по-новой. И продолжалось до глубокой ночи, понимаешь, это было не то что сегодня: правление представляет отчет. Телевизоров не было, и газет не было, и книг не было, была дискуссия. Обсуждать, спорить, разбираться – это тогда огромную роль играло. И тогда быть коммунистом значило ведь – занять позицию. Кто коммунист был, тому не надо было ни с кем заговаривать: с ним сами заговаривали, спрашивали. А если он что-то говорил, то люди это подвергали сомнению. И такой именно и была моя встреча с коммунистами, т. е. я с ними сталкивался, я их спрашивал, они отвечали, я подвергал это сомнению, и получилось в итоге, что я стал членом коммунистической партии.
Густав Кеппке не переметнулся от одного мировоззрения к противоположному и не ушел в мелкие заботы повседневности после того, как понял, что его, наивного идеалиста, обманули. Те альтернативные ориентации, которые были заложены в его жизни, в момент его «ключевого переживания» впервые явились ему в виде развилки дорог, возможности выбора. И теперь он исследует их, спрашивает, не удовлетворяется ответом, который, возможно, кажется ему общим местом. Благодаря этой своей потребности и своему опыту вожатого он становится пропагандистом, участвует в публичных диспутах в годы, когда в послевоенном рабочем предместье действительно всерьез принимаются только две позиции: католическая или коммунистическая. Чем в итоге закончилась та дискуссия в содержательном плане, мы не узнаем, но так или иначе при посредстве Хайнца Реннера он через некоторое время стал партийным функционером. Однако не менее важной, чем содержательные вопросы, была для Густава Кеппке общественная деятельность коммунистов в предместье и те публичные дискуссии, которые они проводили и в которых сами участвовали. В том, что в конце концов он встает на их сторону, играют свою роль отчасти и классовая принадлежность, но отчасти и молодость, и решительность. Но прежде всего в этом проявляется способность сделать и обосновать в дискуссии выбор в пользу рискованной альтернативы, которая в момент «ключевого переживания» впервые разрушила его детскую безальтернативную картину мира.
10. «Удар по носу» в Бухенвальде
...
В 1943 году, 15 марта, я стал солдатом… И сначала я попал в Веймар-Бухенвальдский запасный танковый полк… И там я получил первый удар по носу. Если вы эти фотографии видали… [Интервьюер переспрашивает] Ну, мы могли, например, когда на крыше казармы сидели, заглядывать в каменоломню. И известно ведь, как там люди, они ведь должны были там… 50 человек, скажем, впряжены в повозку, и тащить вверх на гору. А справа и слева ходили надсмотрщики и дубасили по ним.
И.: И какое впечатление это на вас произвело?
Потрясение, потрясение.
И.: Я действительно не хочу вас…
Нет-нет. «С точки зрения того времени», «не думали» – ну-ну… Для меня в тот момент точно мир рухнул. Я ведь тогда, понимаете, мы ведь честно тогда… Не знаю, как вам сказать. Это ж на самом деле. Это было потрясение. Хотя пытались нам, естественно, разъяснить, что это недочеловеки, русские военнопленные, евреи и кто его знает, кого они там еще нагнали. Но было опять-таки это первое столкновение с реальностью нацизма, и это было для меня потрясением, я был в полном смятении [долгая пауза]. Я должен сказать, я потом через это, конечно, перешагнул, так, и [вздыхает] через это потом перешагивали. Меня потом в Россию послали.
И.: И сколько же вы пробыли в Бухенвальде?
Ну, я был там, наверное, месяца три. Но тут я должен сказать, мы были не в самом концлагере, а в казармах. А казармы стояли в принципе за пределами концлагеря, но можно было, значит. И там ходили, естественно, люди, и они ж должны были, если лагерник приходил и если я, молодой пимпф, шел мимо, то они должны были, он должен был шапку сдергивать. Так я никогда не смотрел в ту сторону. Я всегда – в другую. Это представить себе невозможно. [Пауза.] Например, парикмахеры или кто еще, которые нас там стригли, да? [Пауза.] Так с этими людьми тоже не разговаривали. Сегодня я тоже могу понять: для тех людей было слишком опасно с нами разговаривать. Ведь мы по дурости своей еще заложили бы их. [Интервьюер спрашивает о других впечатлениях, ответ отрицательный.]
Слушайте, мы же были рекруты, нас же с утра до вечера гоняли. У нас же не было там так уж много времени, чтоб раздумывать. Мы тогда, рекруты, во всяком случае в СС – не знаю, было ли в других местах по-другому, – мы тоже не сильно отличались [от заключенных]. Если вы до того еще думали, что это почетное дело – пасть солдатом за Родину, – то там это из вас выбивали. Но, наверное, там иначе не бывает: первым делом лишают человека воли.
Слесарь Гисберт Поль {24} работает на крупном предприятии, в последние 10 лет – освобожденный член производственного совета, куда избирается более 20 лет подряд; уже 15 лет он – член правления местного профсоюза, пять лет – председатель окружной организации СДПГ в рабочем районе. В процитированном интервью он вспоминает о том, как в возрасте 18-ти лет бросил учебу по специальности, чтобы добровольцем пойти в войска СС. Господин Поль любит выражаться открыто, он скорее склонен провоцировать, чем сглаживать острые углы. Уже при первом кратком изложении своей биографии он сказал, что был активным членом юнгфолька и добровольно вступил в войска СС, что он – один из тех, чьим юношеским идеализмом злоупотребили, один из тех, кто только после войны научился по-настоящему мыслить политически. О том, что его учебная часть находилась в Бухенвальде, он упоминает в так называемой второй фазе интервью, когда интервьюер задает дополнительные информационные вопросы. Перед этим господин Пауль рассказывал о родительском доме, где никогда не говорили о политике.
Его отец, по вероисповеданию протестант, был слесарем, во время Первой мировой войны поднялся в военно-морском флоте до старшего техника и стал сторонником Немецкой национальной народной партии, а потом опустился до продавца газет и, подобно другим членам семьи, присоединился к нацистам. Такое, говорит Гисберт Поль, было отнюдь не редкостью в рабочем районе, где они тогда жили (он состоял в основном из домов, принадлежащих оружейному концерну), – антифашистами ведь большинство стали только после 1945 года.
В 1935 году Гисберт вступает в юнгфольк и там делает карьеру; наполовину все это игра в приключения, наполовину – начальная военная подготовка. После окончания школы, в начале войны, он пошел работать посыльным, а потом получил профессиональное образование; к этому времени он стал уже фенляйнфюрером, т. е. имел в подчинении 150–200 «человек» (в возрасте от 10 до 14 лет), думал, что он – кум королю, считал себя убежденным нацистом и без проблем получал на заводе отгулы всякий раз, когда мог сослаться на политические дела. В его воспоминаниях об этом времени главные понятия – «палаточный лагерь», «военные виды спорта», «набеситься вдоволь», «подрастающее поколение». Дома ничего не было для него прекраснее, чем когда отец рассказывал про войну: «Тут у меня слюнки текли. Это было что-то!» Сразу, как только возраст позволил, он записался добровольцем в войска СС и ради этого бросил профессиональное обучение. А потом – Бухенвальд.
Это ведь опять не то же самое, что сказать с вызовом: «Весь мир старается забыть фашизм, и только я признаю, что был солдатом войск СС, потому что таков мой долг перед товарищами, которых, как и меня, соблазнили и обманули, но которые остались лежать там…» Член производственного совета Поль говорит тише, чем обычно, делает большие паузы, и интервьюер иногда вынужден возвращать его к разговору.
Интервьюер указывает господину Полю на то, что в памяти у него, вероятно, должна была остаться не одна картина, а больше. Тот признает это, но потом снова уходит в сторону: казармы-то располагались «в принципе за пределами концлагеря» – имеются в виду казармы войск СС. Он хочет подчеркнуть дистанцию: он же был не в караульных отрядах дивизии СС «Мертвая голова», он был в учебной танковой части, которая там стояла. Но конечно же лагерь был на виду, и заключенные тоже – они ведь обслуживали солдат, стригли их, привозили еду, они были повсюду. Описание встречи: заключенный должен срывать шапку перед молодым рекрутом; эсэсовцу неловко, он спасается, отводя взгляд. Что происходило на самом деле, теперь невозможно себе представить. Это такая ситуация, когда уже невозможно избавиться от тягостного ощущения, даже если вступить в разговор с человеком в полосатой одежде. Недоверие заключенных было вполне обоснованным, но это Гисберт Поль смог понять только позже. Другой фактор, парализовавший его мышление, он почувствовал тогда сразу же: его обучали, гоняли, муштровали. Обучаясь на соучастника преступлений, он и самого себя воспринимает как жертву, он чувствует себя кем-то, не сильно отличающимся от заключенного. Юношеские фантазии насчет сражений, гибели и почета из молодых рекрутов выбивают еще до того, как начинаются какие-либо сражения. Они замечают, что здесь творится не «почетное дело»: их «лишают воли».
Можно было бы утверждать, что это превращение будущего соучастника преступлений в жертву – прием, который господин Поль применяет в ходе диалога, чтобы уклониться от дальнейших расспросов, требующих новых воспоминаний, и не брать на себя ответственность за то, что не мог показать себя человеком, когда это требовалось, а глядел в другую сторону. Очень может быть. Но это не означает, что он не начал уже тогда осознавать проблему человеческих отношений по-новому – как проблему собственного взгляда и способности воспринимать. Если бы Гисберт Поль смотрел не в другую сторону и признавал бы, что видит именно то, что видит, то ему пришлось бы разбираться с увиденным, и к концу обучения он не стал бы настоящим эсэсовцем, полностью годным к выполнению боевых задач. Учебные части войск СС, наверное, не зря часто располагались в концлагерях или возле них. Обучение эсэсовцев должно было осуществляться не за счет идеологических наставлений, а за счет слома прежних образцов (пусть даже воспринимавшихся как нацистские, но пронизанных моралью), за счет подавления человеческого восприятия себя и других, за счет того, чтобы из страха перед утратой себя человек бежал – но бежал не из строя, а в строй.
И все-таки Гисберт Поль стал пригодным к выполнению боевых задач эсэсовцем – наводчиком на танке. Два раза его танк подбили под Харьковом – сам он не был ранен, но терял большую часть экипажа. Потом был отпуск, приезд к уже эвакуированным родителям, первые сексуальные контакты с разными женщинами – старше его, замужними: добиться их не составляло труда при его привлекательной эсэсовской форме и наградах. Потом на новом танке – в Польшу, там снова подбили. Потом, во время восстания, направили в Варшаву.
...
То есть прежде всего, как я уже сказал, когда я все эти дела там в концлагере увидал, – я не хочу это сейчас преувеличивать, словно бы я все это тогда понял и стал антинацистом. Пока я получил предупредительный выстрел. А что я это понял, что это было просто, – я просто не мог бы это понять. То есть я твердо убежден был: так нельзя, мне хотелось сказать: «А фюрер-то знает об этом?», или что-то в этом роде, или, если хотите, то так не го… я… не годится], т. е. это вещи были, которые я не понимал. Ну а потом – дело молодое, очень быстро это перешагнул. Мы ведь в Россию прибыли, хотели здесь – недочеловеки – т. е. я был твердо убежден в своей задаче, убежден, что я прав. [Все это произнесено очень быстро, теперь пауза, затем медленнее.] А потом когда до дела доходит, то вы уже не особо-то и раздумываете, там выбора нет, там вы знаете: либо он, либо я. Я твердо убежден в том, что тот Иван на той стороне точно так же трясся, как и я. И можете мне поверить: мне все время было страшно, все время. И если мне кто будет рассказывать, что ему не было страшно, то это бред.
Затем, после паузы, господин Поль рассказывает – твердым голосом и все более и более обстоятельно – о том, как он дослужился в СС до роттенфюрера, т. е. обер-ефрейтора, о том, как он 8 мая в Австрии попал в плен к русским, был твердо уверен, что его «кокнут», сбежал, пробрался к американцам, там снова был взят в плен и «продан» французам.
О том, что он видел и что делал на фронте, господин Поль в этой части интервью не рассказывает, и даже в ответ на последующие наводящие вопросы тоже говорит немного. Переживания тех месяцев, возможно, скрываются за произнесенным скороговоркой пассажем, который я только что процитировал. Он малопонятен – как в акустическом, так и в смысловом отношении. Сначала господин Поль несколько понижает значение, которое имел «удар по носу», полученный в Бухенвальде, для его поведения на войне; потом он пытается сделать непостижимое постижимым, а именно объяснить, как это, с одной стороны, впечатления, полученные в эсэсовской части в Веймаре, привели к тому, что он перестал полностью идентифицировать себя с СС, но, с другой стороны, он был твердо убежден в правоте своего дела, воюя против «недочеловеков» в России. В бешеной спешке он перебирает множество обрывочных фраз и все их отбрасывает, с тем чтобы в конце концов объяснить то, что он еще даже не описал, при этом приводя сразу три объяснения: молодой человек ко всему легко приспосабливается; человек имеет право на необходимую самооборону; ему страшно. Второй аргумент (необходимая самооборона) в данном случае трудно поддается интерпретации, потому что даже не упоминается ни одной сцены поединка с врагом. А первый и третий аргумент (приспосабливание и страх) отсылают друг к другу. Если я правильно понимаю, Гисберт Поль хочет сказать, что «предупредительный выстрел», полученный им в Бухенвальде, не лишил его принципиальной готовности приспосабливаться к СС, но все же это приспосабливание не дошло до полного безумия: он сохранил в себе зерно стихийной человечности, которая проявляется здесь в виде способности признаваться самому себе в том, что ему страшно.
К концу войны Гисберту Полю было 20 лет, и в духовном плане он пришел к полной опустошенности. Когда он рассказывает о том, как ждал, что победители его «кокнут», в его словах не звучит упрека. Те, кто воспитывал его, учили, что высшая цель – героическое самопожертвование во имя нации; но юноше пришлось признать – и не только в Бухенвальде, – что к практической самоотдаче ради других людей у него совершенно нет способности. За два года войны на Восточном фронте его героизм настолько убавился, что в доказательство своей человечности он вынужден сослаться на то, что у него вообще сохранилась способность к человеческим движениям души и рефлексам. А войска, в составе которых он должен был покорить мир, он наблюдал главным образом бегущими от врага. В сводках с фронта это называлось «маневренной обороной»; он говорит проще: «Тут уже только бежали. И, как я уже сказал, я тоже бежал, все мы бежали. Уже только бегом, ничего уже нельзя было удержать».
Однажды другая эсэсовская часть пустила в бой захваченный у русских танк Т-34, нарисовав на нем немецкие опознавательные знаки. Едва завидев его, солдаты вокруг Гисберта побросали все и кинулись наутек. Если и неверно применять к 1945 году в истории Германии понятие «нулевого часа» [10] , начала нового отсчета времени, то для Гисберта Поля в самом деле одно время кончилось и должно было начаться другое. У него ничего не осталось, кроме стремления выжить, и даже это его изумляло; в голове у него все смешалось.
И только в плену – он попал сначала в Южную Францию – он заметил, что «вообще-то ничего не знал о мире». Среди немецких рядовых солдат-военнопленных (офицеров в лагере не держали) он впервые познакомился с «гражданскими» – интеллектуалами, христианами, а также профсоюзными деятелями и социал-демократами. Они создали нечто вроде лагерного народного университета, а единственным имевшимся материалом для чтения была Библия. Вместе, рассказывает господин Поль, они пропахали Ветхий Завет, но от этого он не стал более религиозным, но стал больше думать и стал терпимее. Он впервые соприкоснулся с поэзией, они ставили спектакли, он – как один из самых младших – всегда на женских ролях. Те, кто был постарше, делали доклады о Веймарской республике. Общаясь с людьми, придерживавшимися иных политических взглядов, он стал восприимчив к новым «лозунгам и идеалам». Хоть он и видел Бухенвальд, масштаб совершенных Германией преступлений, о котором он узнал в плену, его потряс. Но ни в какой политической деятельности он там еще не участвовал; для этого ему понадобилось сначала вернуться на родное предприятие и познакомиться с мастером – социал-демократом, который стал ему кем-то вроде второго отца. И в остальном тоже не стоит преувеличивать значение плена в плане переориентации; это не была идиллия. Трижды он удирал («Это спорт такой был, домой хотелось»), и трижды его ловили. Главной темой был сначала голод, потом тоска по женщинам. Однако в человеческом отношении, оглядываясь назад, он испытывает скорее разочарование от того, что, хотя в лагере, где сословные границы были стерты, люди обещали друг другу держаться потом в жизни вместе, обеты эти ничего не значили после возвращения домой, в прежние классовые структуры. В культурном же отношении плен стал для Гисберта Поля как бы вторым рождением. Его кругозор расширился, его способность мыслить и общаться отточилась, были заложены новые структуры переработки опыта, которые продемонстрировали свою способность развиваться, хотя и не позволяли ему, конечно, детально переработать свой военный опыт и реконструировать то, что было упущено уже в момент восприятия. Не сформировав новые структуры мышления, он едва ли в послевоенные годы смог бы сознаться в своем эсэсовском прошлом и одновременно встать на новый политический путь: скорее он выбирал бы между неофашистской регрессией и демократическим оппортунизмом, если бы вообще нашел в себе достаточно внутренней свободы, чтобы заниматься общественной деятельностью.
Где-то посреди рассказа о товарищах по плену, которые указали ему путь в «новый мир», и о своем культурном росте Гисберт Поль говорит: «Вообще я рад, что у меня есть эти хорошие воспоминания и опыт, – это то время, что я был в плену».
III. Несколько общих наблюдений
Такая глава не может завершаться выводами, которые можно свести к обобщенным тезисам. Практика биографической устной истории имеет своей целью не выработку знания, пригодного ко всеобщему использованию, а эмпирическую интервенцию в процесс формирования исторического сознания, будь то на уровне его научного обеспечения или же на уровне традиции. На уровне традиции уже сама по себе фиксация фактов, исследование и изложение воспоминаний будут служить критическим ферментом, который вернет забытое и сделает его доступным для обсуждения, а устоявшиеся ложные интерпретации «расшатает». На уровне научного процесса необходимо сведение к понятиям, однако нужно отдавать себе отчет в том, что в конце игры в вопросы и ответы, каковую представляют собой интервью в качественных исследованиях, стоят не глобальные ответы, а скорее более точно сформулированные вопросы. Потом они могут быть плодотворно использованы в соединении с менее дорогостоящими и допускающими больше обобщений исследовательскими методиками. В качестве таких вопросов и следует рассматривать несколько общих наблюдений и выводов, сделанных на основе всех десяти историй, рассмотренных здесь.
1. Переживание, воспоминание, опыт
Всякий, кто пережил войну, вспоминает ее, и, как правило, люди готовы рассказать что-то из своих воспоминаний. В послевоенные годы существовали – прежде всего среди мужчин поколения фронтовиков – даже твердые коммуникативные обряды, в ходе которых передавались воспоминания о войне и возникшие на их основе истории: в кругу друзей за столом в пивной, в перерыве на заводе, в канцеляриях и в учительских, на встречах ветеранов (в том числе войск СС) налицо была как готовность слушать, так и – возможно, в еще большей степени – потребность рассказывать истории про войну. Не в таких институционализированных формах и не так часто, но свои истории рассказывали и те, кто пережил войну в тылу. Между этими двумя группами существовала скрытая стена предубеждений, из-за которой им трудно было слушать друг друга: те, кто были на фронте, считали, что их свершения и их страдания заслуживают особого признания, в то время как в тылу люди войны по-настоящему не испытали. Те, кто были в тылу, зачастую воспринимали фронтовые истории как проявления мужского бахвальства, считали, что они перегружены солдатским жаргоном, техническими и тактическими подробностями, да и вообще фронтовики, по их мнению, были недостаточно чутки – не только по отношению к тем, кто был по другую сторону, но и по отношению к собственным чувствам. Истории о войне люди рассказывают друг другу и по сей день, но теперь уже значительно реже: отчасти, возможно, дело в том, что утолена потребность высказаться, но главным образом в том, что поколение людей, переживших войну, слабеет – одни, состарившись, смещаются на периферию коммуникационных зон, другие уже умерли. Молодежные протесты 1960-х годов лишили рассказы о войне той аудитории, которая обеспечила бы им прочное место в обществе, а нарастающее движение борцов за мир едва ли добавило им слушателей – новых, критически настроенных.
Поскольку в послевоенном обществе были повсеместно распространены рассказы о войне как форма воспоминания о ней, то уместен вопрос об их источниках, их смысле и их соотношении друг с другом. Источником аутентичного воспоминания о войне является пережитый на войне опыт – почти бесконечный ряд ситуаций, запечатлевшихся в памяти, которая может восстанавливать их: одни активно, другие – благодаря конкретному вопросу или другой стимуляции, обычно в виде картин или сцен. Эти сцены могут быть описаны в словах, причем автор при этом часто пользуется заимствованными выразительными средствами {25}. Большинство этих сцен, слава богу, оказываются забыты – прежде всего, наверное, такие, на которые было обращено меньше внимания, а также те, которые постоянно повторялись с неким автоматизмом, не затрагивая чувств, – они по крайней мере теряют свою пространственно-временную специфичность. Среди сохраненных в памяти сцен, очевидно, есть большой фонд таких, которые при наличии запроса на них могут быть заново активированы, но в основном пребывают в латентном состоянии, потому что для носителя памяти не связаны ни с чем значительным или потому что в коммуникативных контекстах послевоенного общества их демонстрация представляется нецелесообразной. Часто, однако, такие выделенные блоки информации, видимо, с трудом поддаются вытеснению, так что обходными путями или в завуалированной форме они проникают в коммуникацию и там начинают выделяться своей принципиальной или контекстуальной несовместимостью. Остаются достойные рассказа военные воспоминания, хроника ярких, трагичных, веселых и приковывающих внимание своей новизной или эмоциональной напряженностью впечатлений.
Это формальное определение обретает историческую значимость в том случае, если учесть, что в жизни большинства участников войны было всего две фазы с сопоставимой концентрацией подобных впечатлений, а именно период ранней социализации и война. И точно так же, как люди обычно обращаются к рассказам о своем детстве и своей юности, чтобы представить себя и объяснить свои особенности, так в послевоенные годы существовала накопившаяся масса переживаний, субъективно казавшихся достойными рассказа, которые на одном уровне были призваны объяснить, например, перемену, произошедшую с вернувшимися фронтовиками, но на другом уровне сами искали некую структуру, в рамках которой они могли бы быть соединены друг с другом, оформлены и сведены к понятиям, чтобы стать доступными переработке и обрести смысл. Иными словами, массе незабываемых военных переживаний надо было трансформироваться в осмысленный опыт, чтобы ее можно было аппроприировать в качестве особой ступени социализации. Но общество послевоенных лет не могло предложить для этого никаких публичных смысловых структур, – во всяком случае, таких, которые обещали бы много славы или утешения или еще по какой-то причине были бы приемлемы; а фашистские смыслы для большинства людей больше не существовали {26}. Те варианты осмысления, которые в послевоенные годы предлагало общество, с точки зрения жизненной практики помогли большинству западных немцев обрести частично новое личностное и социальное самосознание. Однако они не могли способствовать решению исторической задачи интеграции воспоминаемого опыта войны и фашизма в осмысленный социогенез этого общества, потому что эти варианты осмысления были либо общенациональными, но обращенными только в будущее (Запад), либо открытыми в прошлое, но лишенными объяснительной силы в общенациональном масштабе (например, семья) {27}.
Наши истории показывают, как культура послевоенного восстановления оставила большинство наших собеседников один на один с неразрешимой задачей: вписать то, что им лично довелось пережить на войне, в некий социально релевантный опыт войны. В первых трех рассказах перед нами глобальные интерпретации и рассказы о серийных переживаниях. Интерпретационный подход госпожи фом Энд («как человек показал себя с лучшей стороны в тяжелой ситуации») наиболее мощно, по сравнению с остальными, структурирует ее воспоминания; он формален, сосредоточен на «я» рассказчицы, окружающее общество он оставляет полностью в тени, и потому может оставлять без истолкования как вопрос о том, почему тогда «надо было быть мужественной» (и почему потом стало «не надо»), так и историю про то, как был лишен брони сослуживец, чья зависть была политически опасной. Благодаря такому узкому взгляду госпожа фом Энд обеспечивает себе неожиданно позитивный опыт, который, правда, заканчивается падением в необъяснимую мрачную пропасть домашней эксплуатации в мирное время. Господин Пфистер использует свои – поначалу очень политизированно звучащие – глобальные интерпретации («единственное, что было плохо в Гитлере/Эрхарде») в качестве щита, чтобы не подпускать социум к своему личному миру, состоящему из сверхурочной работы, большой семьи и католицизма. Объяснительной силы этих глобальных интерпретаций хватает ровно настолько, чтобы назвать ответственных за те катастрофы, жертвой которых он, несмотря на свой уход из социума, оказался. По сравнению с этим интерпретационный подход господина Харенберга гораздо шире, он позволяет пропустить без цензуры многие воспоминания, однако он представляет собой одновременно и свидетельство о полученном озарении («надо было сопротивляться»); ретроспективно он конструирует общественный контекст, но нигде не объединяет его со своей личной жизненной хроникой.
Вторая группа тоже включает три истории – три варианта индивидуальных попыток переработки опыта: госпожа Баль, с одной стороны, не отказывается от некоторых политических компонентов своих тогдашних переживаний, но, с другой стороны, вытесняет мысль о том, что они связаны с ее собственной судьбой, и срывает свою ярость по поводу этой судьбы на соседях-коммунистах, которые, вполне возможно, ей весьма досаждали. У господина Пауля из-за полученного на войне увечья пространство действия ограничено, а вместе с ним он резко ограничил и свое пространство восприятия. В этом небольшом пространстве он обустроил себе новую жизнь, в то время как его судьба в целом остается безымянной: у него нет названия для тех сил, которые управляли им. Господин Паульзен благодаря своей активной религиозной позиции и своему профессиональному успеху в состоянии открыто и связно излагать свои военные воспоминания и подчеркивать в них то, что объединяет народы, – а путь к этому он видит в редукции истории к человеческому индивиду и игнорировании политики.
В третьей группе объединены четыре истории представителей более младшего поколения, в которых мы видим, как люди начали движение в сторону общественно-активной позиции, более или менее эксплицитно связывая это свое движение с опытом войны – в качестве если не причины, то подготовительного этапа. Это движение ни в одном из четырех случаев не началось непосредственно с какого-то военного переживания. Господин Кеппке столкнулся с восторженным отношением своих знакомых к Тито, господин Поль в учебной части в Бухенвальде утратил свои иллюзии касательно СС, куда только что вступил, госпожа Герман услышала рассказ о депортации евреев из Варшавы и заподозрила, что ее жениха убили по политическим причинам, а отличная компания бравых помощниц Люфтваффе под командой госпожи Мюллер едва скрывала свои пораженческие настроения: все эти переживания разрушали верность людей системе, но еще не делали их негодными для использования на войне. Однако пережитое стало опорной точкой, которой, как показывают биографии, можно было воспользоваться, когда понадобилось в послевоенные годы связать новую политическую ориентацию с прежним опытом. Эта новая ориентация – здесь она во всех четырех случаях носит социал-демократическую, коммунистическую и профсоюзную направленность – приобретается не сразу, а лишь в процессе трудных дискуссий после войны, в процессе, для которого требовалась публичная сфера. Но и потом во всех четырех случаях некоторое количество невостребованных военных воспоминаний оставалось за пределами новой мировоззренческой рамки.
2. Тыл и фронт
Половина событий, описанных рассказчиками, происходит в Рурской области; среди них всегда фигурируют, а порой даже занимают центральное место тяжелые авианалеты. Если рассматривать все случаи в целом, то прежде всего становится очевидно, что традиционное разделение «фронт = защита = сражение = мужчина» и «тыл = защищаемый дом = очаг = женщина» устарело. Характерные особенности Второй мировой войны – континентальный империализм и бомбардировки – отменяли различения, выработанные в Европе в Новое время ради ограничения войны: они упраздняли, например, различение «воюющих» и «невоюющих», равно как и представление, что опасности, создаваемые боевыми действиями, не должны распространяться за пределы четко очерченного театра военных действий.
Уже одни только статистические данные показывают, что в Рурской области особо плотным и повсеместным стало переплетение традиционной обыденной жизни и чрезвычайной ситуации войны: агломерация важных в военном отношении звеньев экономики; количество авианалетов – особенно с 1943 года – выше среднего; процент не призванных в армию немецких рабочих – выше среднего; повышенная концентрация иностранных рабочих; рост доли работающих женщин (которая прежде была ниже средней) – выше среднего; высокий процент эвакуированных жителей и детей, отправленных в сельскую местность. Рурский бассейн – особенно и прежде всего он – был тем, что нацисты называли «тыловой фронт». Поэтому сейчас вышеизложенные истории будут рассмотрены еще раз – с точки зрения того, как в них отражается соотношение тыла и фронта.
Деятельность женщин
У всех четырех женщин в рассказах о том, что им довелось пережить во время войны, варьируются две темы: бомбежки и самостоятельная активность рассказчиц. Война непосредственно затрагивает их в форме авианалетов. В хронологическом отношении это значит, что изменение их жизни в связи с войной приходится на период с весны 1943 года по весну 1945-го. До этого времени ни в одном из четырех случаев война не вторгается непосредственно в существование женщин как разрушающая сила – в виде, например, гибели родных или близких. О положении с жильем и питанием применительно к тому времени или не говорится вовсе, или оно описывается как благополучное. Потом, когда весной 1943 года начинаются массированные бомбардировки Рурской области, они порождают переживания, направленные в две противоречащие друг другу стороны. Во-первых, это чувство незащищенности и невозможности убежать, паника, страх за свою жизнь, порой переживания, подобные состоянию умирающего человека, а также чувство изнасилованности, беззащитности и пассивности, т. е. чувства, которые подчеркивают беспомощность человека, вызванную нагромождением экстремальных ситуаций, и затрудняют обретение уверенности в себе {28}. Во-вторых, это постепенное привыкание к угрозе бомбежек: поведение при воздушных тревогах превращается в рутину. Такой привычки, как правило, нет у солдат, приехавших домой на побывку, о чем и говорит цитата из интервью госпожи Герман, вынесенная в заглавие параграфа. Госпожа Баль отправляет мужа с детьми в бомбоубежище, а сама хочет смотреть на самолеты. Она считает подвал дома достаточным укрытием, и прежде, чем пойти в бомбоубежище, играет еще одну партию в «Не сердись!». Госпожа фом Энд перемещается между конторой и штольней, квартирой и временным убежищем, в промежутках между налетами продолжая выдавать зарплату. Госпожа Мюллер руководит прожекторной установкой по твердо установленной схеме, так, как если бы не она представляла собой самую заметную цель для вражеских самолетов во всей округе. Эта двойственность опыта, связанного с бомбежками, – в момент прямого нападения деваться некуда, но можно и приспособить жизнь к повседневному присутствию опасности, – является общей для мужчин и женщин: в нашем собрании интервью есть и свидетельства нескольких мужчин, освобожденных от призыва как незаменимые работники, которые говорят о том же, да и в рассказе господина Пфистера встречается указание на это. Разница между полами обнаруживается, во-первых, в том, что по большому счету среди немецкого населения Рурской области в средних возрастных группах эту двойственность познало больше женщин, чем мужчин, а во-вторых, в том, что переживания и рассказы женщин, связанные с темами страха и рутинного взаимодействия с опасностью, более ярки.
Это, возможно, связано со второй темой, доминирующей в военном опыте женщин, а именно с темой усилившейся – или ставшей более значимой – самостоятельной активности. Эта тема в таком виде не встречается в рассказах мужчин, работавших в тылу: у них скорее преобладает ощущение непомерной эксплуатации, измотанности, уныния, частично – потребность в самооправдании, что-де на тыловом фронте было более тяжко, чем на передовой. А женщины воспринимают войну, которую они, как правило, пережили в тылу, в том числе и как своего рода испытание. Она ставила перед ними такие проблемы и задачи, с которыми они в мирное время не сталкивались; реакция их почти во всех случаях – мобилизация не использовавшихся дотоле способностей, о чем они и по сей день рассказывают с ощущением гордости, с ощущением того, что они выдержали испытание и раскрыли свой потенциал. Делать им в этом отношении приходилось две вещи: во-первых, переходить на более высокие должности (и прочие институциональные позиции), которые прежде были закреплены за мужчинами (начальник отдела кадров, командир позиции Хольм), и успешно с ними справляться; особенно для девушек из рабочих семей это означало повышение социального статуса и ощущение собственной кадровой ценности, каковое им до и после войны испытывать не приходилось либо вовсе никогда, либо не в таком юном возрасте. Во-вторых, им доводилось выдерживать неформальные испытания, добровольно включаясь в экстремальные ситуации на тыловом фронте: например, госпожа Баль во время авианалета выходит из убежища и бежит через весь городок, чтобы привести врача к истекающей кровью женщине; госпожа Мюллер ворует картошку для вверенных ее попечению девушек; госпожа Герман пытается голыми руками спасти горящий склад своей фирмы; госпожа фом Энд, которая обычно при виде крови падает в обморок, внезапно оказывается способна перевязывать раненых, потому что «надо быть мужественной». А вот среди всех интервью с мужчинами – как с теми, что были на фронте, так и с теми, что оставались в Рурском бассейне, – мне не встретилось ни одного, где кто-то из рабочих хвастался бы повышенным героизмом; в большинстве случаев проблема геройства вообще не затрагивается или же интервьюируемый подчеркивает, что он заботился о выживании – своем и других. Три девушки из рабочих семей смогли преодолеть во время войны два препятствия на пути к раскрытию своего потенциала (рабочее происхождение и женский пол) и заняли в основном весьма активную позицию в жизни; дочь учителя несколько уступала им в динамизме.
И наконец, нужно констатировать, что ни одна женщина – ни в этих, ни в других известных мне интервью – не связывает этот опыт раскрытия своего потенциала во время войны с понятием «эмансипация». Причин тому, видимо, четыре: во-первых, особенно в отношении наиболее преуспевших – это госпожа фом Энд и госпожа Мюллер – было очевидно, что их карьерное возвышение было обусловлено войной и было временным. Во-вторых, это возвышение не изменило их взглядов на роль женщины как домохозяйки и жены. Лишь потом, оглядываясь назад, они частично подвергают их критическому пересмотру. В-третьих, в качестве долгосрочной перспективы общие условия жизни и труда во время войны никоим образом не казались привлекательными, так что мало кому хотелось сохранять их. И, в-четвертых, интеллектуальных импульсов и дискуссионных контекстов, которые могли бы способствовать эволюции гендерных норм, до окончания войны не было вовсе, да и после тоже было совсем невелико.
Необходимость справляться с ежедневными экстремальными ситуациями и возможность занять должности, прежде закрепленные за мужчинами, приводили к тому, что женщины, чувствовавшие себя профессионально недооцененными, приобретали, повышали свою квалификацию и расширяли сферу ответственности, но не получали больше прав и перспектив. Где-то между 1945 и 1950 годами, видимо, большинство подобных женщин снова сделали своим основным полем деятельности дом и семью, тем более что их позиции на брачном рынке выглядели благоприятнее, нежели на рынке кадров среднего и высшего звена. Еще одна причина могла быть связана с двойственностью опыта (с одной стороны, повышенная квалификация, с другой – беззащитность во время бомбежек): в рамках традиционных гендерных стереотипов эта двойственность могла быть компенсирована «крепким плечом». Правда, тогда возникало застаивание накопленного потенциала квалификации и чувства ответственности, которое легче всего было канализировать путем превращения роли жены и домохозяйки в более динамичную и связанную с профессиональной деятельностью.
Пассивность мужчин
Можно ли так же свести к базовым констелляциям фронтовые переживания молодых людей? Перед нами представители старшего поколения – Фриц Харенберг и Вернер Паульзен, которые участвовали в войне от начала до конца, на всех фронтах; затем Йозеф Пауль, который с 1942 года воевал в России, а потом – на Балканах, где потерял ногу; и наконец Гисберт Поль, который в 1943 году пошел добровольцем в войска СС, проходил подготовку в Бухенвальде, а потом воевал в России, Польше и Венгрии. Все они побывали в плену. Все – из рабочих семей, трое получили рабочие специальности, один еще до войны был конторским служащим, другой стал таковым после нее. В воспоминаниях этих мужчин о войне я обнаруживаю только одну общую тему. Ее, правда, очень трудно описать неким общим понятием; для начала мне хотелось бы назвать это бессилием и пассивностью, которые лежат в основе всех действий. Остальные же тематические аспекты демонстрируют специфику, связанную с особенностями социализации и принадлежностью к тому или иному поколению.
На примере экстремального случая лучше всего можно наблюдать подобное обесценивание собственной воли и самоуважения: Гисберт Поль относится к тому поколению мальчиков из гитлерюгенда, которые хотели участвовать в завоевании всего мира и записывались добровольцами в войска СС. Его положение в учебной части, уже морально его компрометирующее, но не открывающее никакого простора для мысли и действия, разрушает его взгляд на мир, спокойствие его совести, его доверие к себе и к группе, так что остатки его самоуважения основываются на подчинении элитному военному коллективу: даже первым сексуальным опытом он, по его словам, обязан своему мундиру. А за всю остальную его деятельность ответственность возлагается на рефлекс выживания: «или ты, или я». Его действия в бою, которые подразумеваются, но о которых он не говорит, сопровождаются постоянным страхом. Отсюда до формулы Фрица Харенберга «и тут вдруг сказали…» – континуум опыта собственного бессилия, принимаемого человеком без сопротивления. Это принципиальное подчинение военной организации, естественно, не означает, что наши собеседники тогда – в условиях фашизма, носившего системный характер, и в условиях полученного ими воспитания – видели альтернативы, но не воспользовались ими; не означает оно и того, что опыт солдат на войне всегда был опытом пассивности. Как раз хроника господина Харенберга показывает, что армии он обязан опытом в таких сферах, как потребление, страноведение, техника и организационная деятельность, и что в армии у него имелось пространство для самостоятельной деятельности – при пополнении своих материальных запасов и при обслуживании своих артиллерийских орудий. Но у других итог выглядит уже гораздо печальнее: например, господин Паульзен за несколько минут теряет почти всех своих товарищей по взводу и чувствует себя так, словно его превратили в кролика; а господин Пауль вообще однажды приходит в себя в госпитале в Салониках и обнаруживает, что его ноги раздроблены и он теперь полностью зависит от других людей, которые тащат его через пол-Европы и в конце концов отпускают, предоставляя ему вести усеченную жизнь.
Но независимо от того, какой характер носят конкретные события, которые довелось пережить солдатам, – активный, расширяющий их пространство действия, или пассивный, сокращающий его, – эти события всякий раз указывают на то, что сами по себе они не имеют смысла и могут быть истолкованы только той же институцией, которая стала их причиной. Имели ли они тогда, когда нашим свидетелям пришлось их пережить, этот производный смысл, установить сегодня уже невозможно; подступиться к ответу на данный вопрос историческая наука могла бы только путем изучения массовых синхронных источников. Но, во всяком случае, этот производный смысл в ходе войны разваливался по мере того, как терпел поражение фашизм. Воспоминания утратили связующий контекст и свидетельствуют по сей день о бессилии солдат, о неспособности встроить эти воспоминания в новый единый интерпретационный контекст. Для господина Поля мир рушится, и только благодаря удачному стечению обстоятельств в плену в этот решающий момент у него в сознании закладывается фундамент нового мира. Для господина Пауля мир съеживается до размеров его предместья и его хлопот о тех, кому так же досталось на войне, как и ему. У господина Паульзена осталась лишь идея любви к ближнему, и он на религиозно-моральном фундаменте строит новый интерпретационный контекст «добрых людей», в который, однако, не включается политический аспект. Господин Харенберг самые богатые опытом годы своей жизни «потерял».
Если сравнить эти латентные смысловые структуры в воспоминаниях четырех женщин и тех четырех мужчин, которые побывали на фронте, то бросается в глаза, что в одной точке они совпадают и в другой – расходятся. Все они – на фронте ли, в тылу ли – попадали в «стальные грозы» и переживали интенсивнейшие моменты страха перед смертью, которые господин Паульзен и госпожа Мюллер все еще помнят так хорошо, словно бы это было сегодня. Если прибавить сюда то, о чем сообщают господин Поль и опять-таки госпожа Мюллер, а именно, что чувство опасности и страх можно вытеснить, если участвовать в отражении нападения, как в поединке, – то похоже, что ощущение уязвимости перед лицом насилия в тылу было даже более частым и неотступным, чем на фронте.
Вместе с тем, существует принципиальное различие между воспоминаниями женщин, где подчеркивается их самостоятельная деятельность и в основном сохранена осмысленность действий, хотя она и изолируется от политического контекста, и фронтовыми воспоминаниями солдат, в которых последние настолько полно поглощены военно-политическим контекстом, что все их поступки указывают на их бессилие перед этим контекстом, который уже ничего не добавляет к их индивидуальности.
На более общем уровне можно было бы сказать, что война нарушила основополагающие буржуазные гендерные стереотипы {29}, которые в ХХ веке в значительной мере действовали для всего общества в целом, а фашизмом пропагандировались в особенно акцентированной форме. На общем фоне, состоящем из опасности для жизни и из насилия по отношению к индивиду, женщины, которые в непосредственном осуществлении насилия не участвовали, вспоминают опыт своей самостоятельной деятельности. А мужчины, которые, по своей воле или против нее, участвовали в агрессивном насилии, сохранили в памяти преимущественно рефлексы своего бессилия. Ни в одном интервью, однако, не содержится какого бы то ни было указания на то, что тогда реальный опыт взломал гендерные стереотипы как социальную норму. В этом противоречии, возможно, находит свое социокультурное обоснование символически заостренный поздний, послевоенный вариант традиционного гендерного стереотипа {30}: эталон, усвоенный обоими полами и не поставленный под сомнение никакими публичными дискуссиями, был вновь введен в действие, и противоречащее этому эталону влияние войны на личностное самопонимание людей было объявлено преходящим эпизодом.
Меньшее единообразие, нежели в этом аспекте, воспоминания четырех фронтовиков обнаруживают в отношении того, насколько прежний социокультурный опыт и ожидания повлияли на особенности восприятия и переработки военного опыта. Воспоминания более молодого поколения – господ Пауля и Поля – беспросветно мрачные: у одного – судьба человека, который был «против», у другого – разочарование человека, который был «за». Проведя некоторое время в учениках на производстве, они попадают в армию. Они не познали трудовых будней, их школой жизни были церковные или нацистские молодежные организации; сексуальных отношений они до службы в армии тоже не имели. Хоть они и дети рабочих, не это составляет ядро их самопонимания. Когда они попадают на войну, многие люди уже начинают менять свои взгляды; войска отступают; большая часть солдат воюет на Восточном фронте. В воспоминаниях и того, и другого война – вовсе не «прекрасное время», она не образует позитивной противоположности рабочим будням; воспоминаний о таких аспектах войны, как путешествия и товарное потребление, у них не сохранилось. Война – это только идеология и насилие.
Совершенно иначе обстоит дело с двумя более старшими рассказчиками, господами Паульзеном и Харенбергом: оба начали получать свое профессиональное образование в условиях экономического кризиса, завершили его, проработали по специальности год или два. У обоих также за спиной долгий период институционального привыкания к армии, поскольку до войны они прошли через полгода трудовой повинности и два года срочной военной службы. Оба в период блицкригов уже унтер-офицеры, оба участвуют в боевых действиях, но не на самой передовой, а чуть позади. Обоим в военное время выпадают дальние путешествия и длительные периоды отдыха от боевых действий в Западной Европе. Потом оба с самого начала принимают участие в российском походе, только одному удается после ранения перевестись в оккупационные части во Францию, а другой длительное время воюет в Австрии и Финляндии, прежде чем ему приходится все же вернуться в Россию. Оба были не очень долго – меньше полутора лет – в плену. Поэтому у обоих в воспоминаниях о войне осталась цепочка неоднородных впечатлений: армейская рутина для них, имеющих опыт работы в подчиненном положении, не стала шоком; пищевое и материальное довольствие, равно как и многообразие ощущений, по крайней мере поначалу, отличаются в лучшую сторону от того, к чему они привыкли; во время блицкригов они пользуются выгодами, которые дает им привилегированное положение оккупационной элиты; в иерархической структуре они занимают в армии более высокую ступень, чем в гражданской жизни; по сравнению с работой в родном городе военные будни в спортивном и техническом отношении интереснее – если только нет боев, но они оба всего около трети срока своей армейской службы провели там, где шли бои. Это не значит, что те ужасы, через которые они прошли на войне, были мелочью. Сказанное призвано лишь показать, что за разным опытом стоит разная реальность и что готовность этих двоих мужчин к принятию того, что с ними происходит, предполагает привычку к отчуждению и встраиванию в институты, но в то же время и привычку к улучшению условий жизни, обеспечиваемому военной службой.
Индивидуализация как фрагментация
Разумеется, необходима осторожность: не следует стремиться выделить из особенностей нескольких автобиографических рассказов-воспоминаний эссенцию регионально-классового опыта. Но если использовать наши интервью в качестве лозы, чтобы нащупать течение подземных рек социально-политической истории, то они могут кое-что рассказать нам о смысле послевоенных настроений в Рурском бассейне. Это станет особенно ясно, если принять во внимание, что в послевоенные годы – после первого, переходного периода, в течение которого доминировало еще старшее поколение, – вес продуктивных (т. е. младшего и среднего) поколений рабочих-мужчин возрос как никогда прежде. Ведь для женщин существовали ограничения на миграцию и репатриацию, а влияние высших слоев общества поначалу было формально и неформально ущемлено в силу того, что они политически скомпрометировали себя в годы нацизма; количество же мужчин-рабочих росло, их даже рекрутировали в других регионах.
В младшем поколении люди, жившие под лозунгом «Без меня!» и категорически отказывавшиеся снова предоставлять себя в распоряжение власти для каких-то общенациональных целей, соединились с растерявшимися национал-социалистами, которым нужна была новая ориентация, способная обеспечить хотя бы частичную переработку того, что им довелось пережить на войне, в какой-то опыт. В среднем поколении было много вернувшихся домой рабочих, которые во время войны были объединены неотрефлектированной на первых порах смесью, состоявшей из опыта империалистических привилегий и индивидуально-этических выводов, из натренированной готовности к принятию происходящего и так же выработанной способностью отгораживаться от него; с этими людьми говорить о чем-то было трудновато – наверное потому, что они уже привыкли к бессмысленности.
Эта характеристика получает дополнительный акцент, если включить в рассмотрение тех двух представителей этих поколений, которые не были на фронте, – господина Пфистера и господина Кеппке. Для них берега Рура тоже становятся своего рода фронтом, особенно после начала массированных бомбардировок: семью одного – старшего – эвакуируют в Гарц, другой – младший – растет у родни в Восточной Германии, а потом его отправляют в деревню; таким образом, Рурский бассейн для них – не тыл. В остальном же эти два случая весьма различны и, конечно, не репрезентативны для представителей этих поколений – ведь они оба не были на фронте; однако принципиальная структура их воспоминаний, несмотря на особенности, обнаруживает общие черты с другими.
Если сравнить рассказ господина Пфистера с рассказами женщин, тоже остававшихся во время войны в Рурском бассейне, то в качестве общего элемента мы увидим доминирующее значение бомбежек. Но его повествование отличается тем, что в нем нет описания позитивно воспринимаемой необходимости проявлять повышенную самостоятельную активность. В плане работы для господина Пфистера мало что меняется, он по-прежнему отрабатывает сверхурочные смены, только теперь в дополнение к ним ему приходится еще и дежурить в гражданской противовоздушной обороне, а его условия жизни становятся все хуже и хуже: дом разбомблен, семья далеко; чтобы его как католика оставили в покое, ему приходится идти на компромиссы; он поносит верхушку, работает сверхурочные и поддерживает отношения с иностранными рабочими, живущими у него в районе. Война – это для него уже слишком; все свои силы он сосредоточивает на том, чтобы оставаться в посюстороннем мире. Когда война остается позади, его мир съеживается до работы и семьи, занятия мелким звероводством и посещения церкви; все остальное шаг за шагом отпадает. Он остался в католической рабочей среде, но она утратила свое политическое значение.
В случае же господина Кеппке, которому на момент окончания войны было 16 лет, социализация в условиях фашизма приводит к противоречию между его семейной связью с шахтерской средой и радикальной политической традицией в ней, с одной стороны, и его осуществляющейся вне Рурской области политической карьерой в нацистской молодежной организации и службой в дивизии СС «Гитлерюгенд» – с другой. В нишах общества, переживающего крушение, он в личном общении с людьми встречает гуманное поведение и начинает видеть политические альтернативы, попадая из-за этого в конфликт лояльностей. Это заставляет его задуматься, но не обязательно пересмотреть свои взгляды. И все же после возвращения на берега Рура он имеет некую опорную точку, позволяющую ему связать предлагаемые ему новые политические ориентиры с собственной биографией, и в этой точке заложен потенциал развития. В этом развитии нет ничего автоматического, наоборот, оно скорее необычно: его условиями являются существование публичной сферы, равно как и то, что человек пытается сориентироваться и у него есть силы, чтобы выдержать дискуссию, и что в его среде на его экзистенциальные вопросы кто-то дает ответы, лично ручаясь за их правильность. О том, насколько необычен подобный интенсивный процесс переориентации, можно судить по тому, что он в кратчайшие сроки приводит человека в профессиональную политику.
«Вообще это роковое для Германии обстоятельство, – пишет одному своему другу в 1946 году 70-летний Конрад Аденауэр, – что повсюду на руководящие посты приходится идти старшему поколению. Среднее поколение почти целиком отпадает, потому что было в партии. Младшее поколение ничего не соображает – ни в политике, ни во всем остальном. Его надо полностью перевоспитывать…» {31} Оценка, несомненно, в целом правильная применительно к буржуазии, но и применительно к рурскому рабочему классу, среднее поколение которого по большей части в партии не было, ее тоже нельзя назвать неверной. Ведь значительная доля представителей этих двух поколений в момент окончания войны или находилась за пределами Рурской области, или они были изувечены, дезориентированы, заняты лишь тем, чтоб выжить. Те же, кто еще до прихода фашизма выбрали иную политическую позицию, но несмотря на это уцелели, вынуждены были взять на себя лидерство, однако их позиции мало что значили для женщин, мобилизовавшихся во время войны, и для молодежи с ее фронтовым опытом. Попытка организовать по месту жительства и работы комитеты для коллективного преодоления послевоенных проблем заключала в себе надежду, что в рамках коллективной политической практики удастся интегрировать то, что довелось пережить младшему и среднему поколениям, в общий процесс переработки опыта и таким образом создать интерпретативную связку между будущим и прошлым {32}. Но потом оккупационные власти держав-победительниц и старые элиты «другой Германии» совместно повернули страну назад в сторону политики институций и крупных организаций, а этот путь для большинства не означал призыва к совместной, публичной и привязанной к практике переработке опыта. Их воспоминания остались их личным делом.
Примечания
За критическое чтение одной из более ранних версий этой статьи и за рекомендации по ее усовершенствованию я, помимо членов проекта, благодарю: Франца Брюггемайера, Дитера Фридрихса, Ингрид Кляре, Ютту Пирштат, Ханса-Георга Зеффнера и, прежде всего, Додо Вирлинг.
{1} Показательно, что в проблематике исследований ведущего западногерманского специалиста по Второй мировой войне социальный и культурный аспекты войны вообще не фигурируют. См.: Hillgrub er A. Endlich genug über Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg? Düsseldorf, 1982. S. 57ff.; это же было характерно уже для более ранней работы: Probleme des Zweiten Weltkrieges / Hg. von A. Hillgruber. Köln; Berlin, 1967. Даже там, где социальноисторические проблемы войны затрагиваются (чего нельзя не поставить авторам в заслугу), такие аспекты, как история опыта и история действия остаются почти без рассмотрения. См.: Zweiter Weltkrieg und sozialer Wandel / Hg. von W. Dlugoborski. Göttingen, 1981; или применительно по крайней мере к Германии: Marwick A. War and Social Change in the Twentieth Century. London; Basingstoke, 1978. Интересные моменты в этом плане можно найти в книге: Steinert M.G. Hitlers Krieg und die Deutschen, Stimmung und Haltung der deutschen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg. Düsseldorf, 1970.
{2} О Второй мировой войне нет книги, подобной: Kriegserlebnis: Der Erste Weltkrieg in der literarischen Gestaltung und symbolischen Bedeutung der Nationen / Hg. von K. Vondung. Göttingen, 1980.
{3} Если в дальнейшем будет идти речь о «рабочем классе», то это понятие будет использоваться без теоретической нагрузки, просто как собирательное обозначение мужчин, женщин и детей из числа рабочих и служащих. Минимальная информация об особенностях Рурского бассейна в годы Второй мировой войны содержится, в частности, в книге: Pietsch H. Militärregierung, Bürokratie und Sozialisierung. Duisburg, 1978. S. 16ff.; Seebold G.-H Ein Stahlkonzern im Dritten Reich. Wuppertal, 1981. S. 159ff.
{4} См. публикацию источников с информативным введением: Das andere Gesicht des Krieges. Deutsche Feldpostbriefe, 1939–1945 / Hg. von O. Buchbender, R. Sterz. München, 1982.
{5} См.: Pfeifer J. Der deutsche Kriegsroman, 1945–1960. Königstein, 1981 (с библиографией по теме).
{6} Такие попытки – разной степени успешности – предпринимались прежде всего в англосаксонских странах, например: Lidz R. Many Kinds of Courage: An Oral History of World War II. N.Y., 1980; Lucas J. War on the Eastern Front, 1941–1945: The German Soldier in Russia. N.Y., 1980; Baker M. NAM: The Vietnam War in the Words of the Men and Women who Fought there. West Caldwell, N.J., 1981; Fräser R. Blood of Spain: An Oral History of the Spanish Civil War. N.Y.; Harmondsworth, 1981.
{7} Сначала я сформировал две возрастные группы: первые пять респондентов родились между 1912 и 1918 годами, т. е. это «военные дети», которые в 1933 году были уже взрослыми, хотя и молодыми людьми, а в 1945-м им между 27 и 33 годами. Они здесь представляют те возрастные когорты, которые на производстве и в армии образовывали костяк младшего начальствующего состава в годы Второй мировой войны; их важнейшие впечатления, связанные с социализацией, пришлись на период до 1933 года, и потому для них время национал-социализма не характеризовалось такой безальтернативностью, как для более младших поколений. Другие пять респондентов родились между 1924 (трое) и 1929 годами. Они ходили в национал-социалистическую школу, и к концу войны им было от 16 до 21 года. Они здесь представляют так называемое скептическое поколение, которое приобрело свой главный политический опыт, как правило, на войне или благодаря ей. Из десяти респондентов пятеро происходят из католических семей, трое из националистических или национал-социалистических, один из коммунистической и один из социал-демократической; их собственное политическое развитие во всех случаях, кроме одного (в котором человек сохранил свою католическую и политическую ориентацию), совершило крутой поворот: двое открыто говорят «Без меня!», один в 1950-е годы был активным членом компартии, одна ориентировалась на СвДП, которая пользовалась тогда дурной славой пронацистской партии, а пятеро рано или поздно пришли к СДПГ. Двое из социал-демократов, коммунист и сторонница свободных демократов во время войны были более или менее убежденными нацистами. Таким образом, в обеих группах очень хорошо представлен политический спектр населения Рурской области – только, может быть, трансформация взглядов слишком ярко выражена. Почти все опрошенные происходят из рабочих семей: из их отцов шестеро были горняками, один – монтером на шахте, один – рабочим-металлистом, еще один тоже сначала был рабочим-металлистом, потом стал мастером, поднялся до чиновника, а потом снова опустился, став продавцом газет; из матерей одна была учительницей. Восемь опрошенных закончили народную школу, одна сверх того еще дополнительный класс для подготовки выпускников народных школ к экзамену на аттестат зрелости; двое получили аттестат о среднем образовании. Кроме одной респондентки, которая работала в разных местах прислугой, все прошли профессиональное обучение: пятеро по рабочим специальностям (два шахтера, два металлиста, один электрик), четверо стали служащими (трое в конторах, одна в торговле). Одна женщина осталась домохозяйкой и вышла замуж за рабочего; один металлист остался металлистом; один шахтер после угольного кризиса стал владельцем небольшой фирмы грузоперевозок; еще один металлист уже много лет заседает в органе рабочего представительства у себя на предприятии в качестве освобожденного функционера. Двое рабочих стали конторскими служащими низшего и среднего звена. Один служащий дорос до руководящей должности, другая так и осталась в конторских служащих, еще одна стала домохозяйкой (женой служащего), а четвертая, пробыв довольно долго домохозяйкой (женой горняка), прошла переподготовку и заняла руководящую должность на среднем уровне обслуживающего персонала в больнице.
И, наконец, несколько слов о положении, занимаемом во время войны: если говорить о последних по времени позициях, то в старшей группе мы находим одну домохозяйку, замужем за освобожденным от призыва шахтером, состоявшим в отряде охраны предприятия; далее идет один освобожденный от призыва горняк, состоявший в отряде гражданской противовоздушной обороны; одна служащая руководящего звена на небольшом предприятии; один фельдфебель и один унтер-офицер. В младшей группе – один обер-ефрейтор, одна – командир прожекторной установки (т. е. руководительница группы работниц «Имперской трудовой повинности», помогавших Люфтваффе), один роттенфюрер войск СС (т. е. обер-ефрейтор танковых войск) в дивизии СС «Лейбштандарт». Во время войны преимущественно в тылу находились шестеро опрошенных, шестеро были по крайней мере долгое время вдали от дома по причинам, связанным с войной, четверо воевали на театрах военных действий за пределами Германии, в том числе все четверо – в России, где для двоих война и закончилась. Все четверо были на фронте ранены, трое из них неоднократно, один потерял ногу. Пятеро попали в плен – двое в советский, один в английский, один в американский и один во французский. Из тех, кто оставался в городе, у двоих были разбомблены дома; трое остальных тоже лично пережили массированные бомбардировки, которые им пришлось частично провести вне бомбоубежища или во время которых они были в бункерах, где оказались на какое-то время завалены.
{8} См. различные подходы к проблеме военного опыта в аналитических и документальных исторических публикациях: Woesler de Panafieu Ch., Germain X. Kriegserfahrungen von Frauen – Ans Licht geholt // Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis. München, 1982. Bd. 7. S. 45ff.; Weyrather I. Die braune Fassade // Literatur @@ Erfahrung. Berlin, 1982. Bd. 10. S. 38ff.; Becker M., Heerich S. Vom Kampfflieger zum Intellektuellen // Errungenschaften / Hg. von M. Rutschky. Frankfurt a. M., 1982. S. 154ff.; Lebensgeschichten / Hg. von P. Dahl, R. Kremer. Bornheim-Merten, 1981, особенно S. 97ff. («Даже в тылу нет спасения от войны»); Heer H. Fischerhuder Totenbuch // Terror und Hoffnung in Deutschland, 1933–1945 / Hg. von J. Beck. Reinbek, 1980. S. 79ff.; Köhler J. Klettern in der Großstadt. Berlin, 1979; Hochlarmarker Lesebuch “Kohle war nicht alles”. Oberhausen, 1981. S. 170ff. Найденные в архиве наивные ранние воспоминания о разговорах про войну в семье обработаны в книге: Als ich 9 Jahre alt war, kam der Krieg. Schüleraufsätze, 1946 / Hg. von H. Heer. Köln, 1980. Две важные для данной темы работы, созданные на основе интервью, вышли в тот момент, когда настоящая книга была уже в печати, так что я могу здесь только упомянуть их: Steinbach L. Ein Volk, ein Reich, ein Glaube? Ehemalige Nationalsozialisten und Zeitzeugen berichten über ihr Leben im Dritten Reich. Berlin; Bonn, 1983; Lehmann A. Erzählstruktur und Lebenslauf. Autobiographische Untersuchungen. Frankfurt a. М.; N.Y., 1983, особенно S. 120ff.
{9} См.: Oevermann U. u. a. Die Methodologie einer “objektiven Hermeneutik” und ihre allgemeine forschungslogische Bedeutung in den Sozialwissenschaften // Interpretative Verfahren in den Sozial– und Textwissenschaften / Hg. von H.-G. Soeffner. Stuttgart, 1979. S. 352ff.
{10} Интервью с Фрицем Харенбергом, пенсионером, 1916 г.р., проведено 29 марта и 2 апреля 1982 года. Интервьюер – Бернд Паризиус, всего семь кассет. Чтобы не перегружать примечания сотнями указаний на те места на пленках, где записано то или иное высказывание, всякий раз в начале параграфа дается одно указание на интервью, из которого взяты все использованные цитаты и фактические данные.
{11} За несколько месяцев до этого он участвовал в кампании в Северной Франции. Тогда артиллерия была на конной тяге, а к тому моменту, о котором идет речь здесь, его часть была отведена в тыл и моторизована.
{12} Он имеет в виду девушку, с которой он познакомился, находясь дома, и на которой через три года женится.
{13} Затем снова следует хроникальный монтаж, покрывающий оставшиеся два военных года и рассказывающий о формировании части, о том, как его в это время послали в Гамбург закупать технику и вооружение, о долгом времени, проведенном на фронте в Нормандии, об отступлении через Францию и низовья Рейна и, наконец, о том, как в Шлезвиге-Гольштейне он был взят в плен. Здесь характер хроники снова во многом напоминает хронику блицкригов, хотя и несколько чаще возникают в интервью сцены нападений с воздуха или артобстрелов.
{14} Интервью с Германом Пфистером, владельцем фирмы грузоперевозок, 1913 г.р., и его женой проведены 20 декабря 1981 года и 28 июля 1982 года. Интервьюер – Бернд Паризиус, всего девять кассет.
{15} Интервью с Эрикой фом Энд, домохозяйкой, 1913 г.р., проведено 26 февраля 1981 года (в конце интервью принимал участие ее супруг). Интервьюер – Маргот Шмидт. Всего пять кассет.
{16} Интервью с Бабеттой Баль, домохозяйкой, 1911 г.р. Интервьюер – Анне-Катрин Айнфельдт. Всего три кассеты.
{17} Она имеет в виду, что соседи получали в больших количествах «зимнюю помощь» от нацистов. Сама она этой возможностью не пользовалась, но сообщила о ней соседям.
{18} Интервью с Вернером Паульзеном, пенсионером, бывшим руководящим работником в крупном концерне, 1896 г.р., проведено 23 и 27 июня и 4 июля 1981 года. Интервьюер – Ули Херберт. Всего десять кассет.
{19} Интервью с Йозефом Паулем, административным служащим, 1924 г.р., проведено 23 сентября 1980 года. Интервьюер – Бернд Паризиус. Всего две кассеты.
{20} В этом рассказе есть еще два примера подобной структуры, которые бросаются в глаза, потому что эмоциональные взрывы такого рода очень редки в очень дисциплинированных рассказах Йозефа Пауля. В первом из этих случаев он рассказывает о своей школе: учили плохо, в церковь водили мало, преподавание было политизированное, телесные наказания были в порядке вещей – авторитарная школа времен фашизма, безымянный злой рок. И вдруг какого-то одного учителя он называет «очень плохим», а про директора, сбежавшего в 1945 году, говорит, что тот был «еще большая свинья». Перед нами снова – добавочная порция судьбы: своему преподавателю закона божьего члены католической группы на день ангела сделали из пфеннигов христограмму; вмешался вышеназванный учитель-нацист, они воспротивились его требованиям, за что им пришлось в течение четырех недель оставаться после уроков в те дни, когда послеобеденное время было свободным. О директоре, исчезнувшем без указания причин, рассказчик отзывается хуже, чем о том учителе, наверное потому, что в послевоенное время по желанию церкви детям пришлось его простить: несмотря на затяжную дискуссию, местный прелат даже призвал школьников выдать этому учителю для комиссии по денацификации свидетельство, что он «чист»; поэтому история заканчивается словами, что этот учитель, «к большому сожалению», уже в 1953 году скончался. Во втором случае Йозеф Пауль говорит о Круппе. Как уже упоминалось, Крупп в разгар мирового экономического кризиса за социал-демократическую деятельность уволил с шахты его отца (соответствующая бумага демонстрируется во время интервью). Его самого Крупп тоже вышвырнул, после того как он с раздробленными ногами попал в больницу и в 1946 году пропустил установленный Контрольным советом срок для восстановления на работе. Оба эти происшествия Йозеф Пауль отмечает бесстрастно, в своем обычном стиле. Но в какой-то момент, собравшись с духом (как-никак, он был работником фирмы в третьем поколении), он говорит: «Пусть на меня кто-то, может быть, обидится, если я скажу об этом несколько слов: фирма „Крупп“, или шахты Круппа, ведь людям деньги на самом-то деле просто одалживали». И потом он рассказывает о заводских магазинах, о крупповских благотворительных базарах, о заводских квартирах и говорит, что на руки выплачивали вообще только остатки после всех вычетов. Он хочет осквернить святыню Круппа – его систему благотворительности, – разоблачив ее и показав, что это была система оплаты труда натурой. По сути это тоже попытка взорваться, только она не удается: стремясь разоблачить систему, он проговаривается, что квартиры, которые Крупп предоставлял рабочим, были лучше и дешевле других, да и маргарин тоже.
{21} Интервью с Эльзой Мюллер, санитаркой, 1924 г.р., проведено 30 и 31 октября и 3 ноября 1980 г. Интервьюер – Бернд Паризиус. Всего девять кассет.
{22} Интервью с Гердой Герман, служащей, 1924 г.р., проведено 1 октября и 11 декабря 1980 года. Интервьюер – Александр фон Плато. Всего десять кассет.
{23} Интервью с Густавом Кеппке, начальником строительного участка, 1929 г.р., проведено 21 декабря 1981 года. Интервьюер – Бернд Паризиус. Всего четыре кассеты.
{24} Интервью с Гисбертом Полем, освобожденным членом производственного совета, 1925 г.р., проведено 30 сентября 1981 года и 20 января 1982 года. Интервьюер – Александр фон Плато. Всего десять кассет.
{25} См. мою статью: Niethammer L. Oral History in USA // Archiv für Sozialgeschichte. 1978. Bd. 18. S. 454ff. Подчеркивавшийся М. Хальбваксом и другими реконструктивный характер процесса припоминания, равно как и многочисленные повествовательные приемы интервьюируемых, смоделированные, вероятно, по кинематографическим или литературным образцам (на что указал мне Ханс-Георг Зеффнер), говорят, на мой взгляд, не только о том, что рассказ составлен под влиянием контекста – такого, например, как ситуация интеракции. Ведь использование языковых цитат для перевода картин памяти в текст возможно и даже вероятно – уже хотя бы потому, что многие аутентичные переживания имели место не в вербальной форме. Поэтому проверять соотношение устойчивости воспоминания и его контекстуальной непротиворечивости нельзя ни обобщенно, ни на основе реальных или предполагаемых цитат, а необходимо рассматривать каждый данный случай, и, на мой взгляд, нельзя приписывать воспоминаниям фиктивный характер, пока не опровергнута их достоверность.
{26} Как показывают наши интервью, почти всем немцам в последние два года войны было ясно, что она будет проиграна; и тем не менее почти все участвовали в осуществлении политики «Держаться до конца!» – под влиянием внешних или внутренних механизмов, принуждавших их к конформности; важнейшими из этих механизмов, как представляется, были реальная или мнимая угроза применения силы, с одной стороны, и недостаток практических или опробованных альтернативных моделей действия – с другой.
{27} О недостатках общественных интерпретаций литературных образцов см.: Pfeifer J. Op. cit. S. 187ff.
{28} Вспомним, как завалило госпожу Мюллер, как госпожу Герман затаптывали по пути в убежище или как за ней охотились самолеты, – о том же рассказывает в одном не процитированном здесь пассаже и госпожа фом Энд, которая укрывалась вместо убежища в шалаше из гофрированного железа. Вспомним, как cузилось восприятие и как блокировалась способность к выражению своих эмоций у госпожи Баль, внешне державшейся молодцом в минуты страха. Человек, переживший бомбежки, испытывает скорее ощущение отчаяния и безнадежности, чем жажду мести, потому что у него нет ни средств, ни адресата, чтобы выплеснуть свою агрессию: это футуристическая война без возможности открытого или организованного подпольного сопротивления. Это весьма проницательно подметил Коул в пассаже, который, правда, посвящен наследию национал-социализма в Западной Европе: «Когда тебя бомбят, это плохо; но это совершенно невозможно сравнивать с тем, когда тебя оккупируют и порабощают, – тем более что тот, кто бомбит, не являет себя изо дня в день в зримом человеческом обличье. Он подобен не человеку, а стихийному бедствию, на которое невозможно злиться так, как на тирана, ходящего по земле. Было бы нелепо ожидать, чтобы народы, перенесшие оккупацию, не испытывали гораздо большего озлобления…» (Cole G.D.H. The Intelligent Man’s Guide to the Post-War World. London, 1947. Р. 1086).
{29} Здесь – в том смысле, как об этом пишет Хансен: Hausen K. Die Polarisierung der “Geschlechtscharaktere” // Seminar: Familie und Gesellschaftstruktur / Hg. von H. Rosenbaum. Frankfurt a. M., 1978. S. 161ff.
{30} См., например, сборник документов: Die Pubertät der Republik / Hg. von N. Jungwirth, G. Kromschröder. Frankfurt a. M., 1978; или: Frauenalltag und Frauenbewegung im 20 Jahrhundert / Hg. von A. Kühn, D. Schubert. Frankfurt a. M., 1980, bes. Bd. 4. S. 58ff.
{31} Письмо Аденауэра Паулю Сильвербергу от 23 апреля 1946 года, цит. по: Schwarz H.-P. Die Ära Adenauer. Stuttgart; Wiesbaden, 1981. S. 27.
{32} См.: Arbeiterinitiative, 1945 / Hg. von L. Niethammer, U. Borsdorf, P. Brandt. Wuppertal, 1976. S. 699ff.
3 Частная экономика. Фрагменты воспоминаний об ином перевоспитании
1. Переобучение
Когда ведутся дискуссии о том, изменились ли немцы после разгрома фашизма, чаще всего проблему ставят неправильно. Из-за такой неверной постановки проблемы в политику перевоспитания, проводившуюся союзниками, оказалось заложено противоречие между демократизацией, осуществляемой диктаторскими методами, и превращением коллективной вины в индивидуальную. Эта же узкая постановка проблемы была принята и в исследованиях о «перевоспитании», где главное внимание уделялось политике оккупационных властей в области воспитания и средств массовой коммуникации, а также институциональным изменениям. Оценивая результаты этой реформаторской политики, авторы, как правило, приходили к выводу, что увенчалась она умеренной неудачей {1}. Но при таком подходе не учитываются два самых главных вопроса: во-первых, была ли учебная программа, по которой проводилось перевоспитание немцев, адекватна проблеме, иначе говоря, был ли успех фашизма в Германии следствием недостатков в массовом воспитании и массовой культуре? Этим вопросом я здесь заниматься не буду {2}. А во-вторых: способна ли была эта учебная программа структурировать процесс обучения, соответствовала ли она тем условиям, в которых немцы должны были учиться? Отсутствие ответов на эти два вопроса не компенсировалось и проверкой итогов перевоспитания, которую проводили в 1950-е годы, например, путем социально-психологических опросов населения и элит {3}. Ведь измерение эффективности воспитательных процессов, с одной стороны, осложнялось теми же проблемами, что и постановка целей, а с другой стороны, его технология не позволяла отфильтровывать такие высказывания, которые были продиктованы лишь рациональным осознанием или конформизмом и потому не давали надежной информации о том, в какой мере немцы усвоили демократические поведенческие установки. Кроме того, при этих исследованиях не учитывалось и еще одно фундаментальное обстоятельство, известное из эмпирических исследований педагогической практики: наряду с официальной учебной программой, которую можно реформировать, существует еще и скрытая, никем не задуманная учебная программа, возникающая как отражение институциональных и коммуникативных условий обучения (например, в школе). Наряду с официальным учебным процессом протекает множество латентных, обладающих порой более мощным и более долговременным воздействием на учащихся, чем он {4}. Ниже я попытаюсь приложить этот вывод к попыткам исследовать изменения менталитета немцев в период оккупации, с тем чтобы представить этот период как пространство научения [11] и искать в нем ситуации, в которых это социальное научение происходило.
В силу только что сказанного, подобное исследование должно быть направлено не на изучение намерений реформаторов и не на изучение восприятия реформ их адресатами. Исключается также реконструирование реальных условий повседневной жизни – а стало быть, и условий обучения, – так как это потребовало бы учета бесконечного множества разнообразных факторов. Но автобиографические интервью открывают нам другую возможность, показывая – фрагментарно, разумеется, – что из заучиваемого осталось в сознании, и тем самым позволяя узнать кое-что об условиях и содержании неформальных процессов обучения. При этом я исхожу из того, что ситуации научения в жизни человека его память фиксирует интенсивнее и рельефнее, чем те рутинные операции, которые потом осуществлялись по усвоенным при обучении программам {5}. Такая исходная посылка позволяет рассматривать рельефные, тесно переплетенные с другими жизненными обстоятельствами автобиографические воспоминания о второй половине 1940-х годов как индикаторы индивидуальной социализации. Если сравнить эти индикаторы у нескольких человек, то по критерию частоты упоминания можно образовать тематические группы, структурирующие пространство социализации. Я отобрал такие темы, которые, судя по частоте и интенсивности рассказов, представлялись наиболее важными либо для германской истории вообще, либо конкретно для нашей группы опрошенных. Правда, за скобками пришлось оставить такой важный опыт, как плен или «изгнание», поскольку это сложные темы, требующие отдельного исследования {6}. Что касается показательности полученных результатов, то надо признать неустранимый недостаток автобиографических интервью: они как источник репрезентативными быть не могут.
Поэтому я и не пытался сформировать из имеющегося у нас фонда записей группу, которая репрезентировала бы население всей ФРГ или Рурской области. Я выбрал ряд интервью, возникших в ходе реализации нескольких подпроектов: частично это очень подробные автобиографические беседы с 28 женщинами и 36 мужчинами, которым в изучаемый период было от 12 до 50 лет. Примерно треть опрошенных родились до 1910 года, во время или вскоре после Первой мировой войны. Женщины в среднем значительно моложе мужчин. Большинство (54 из 64) родом из рабочих семей, они изначально получили рабочие специальности. По своему последнему месту работы двое опрошенных – индивидуальные предприниматели, двое – служащие на руководящих должностях, 17 – служащие среднего и нижнего звена, 14 – домохозяйки, 9 – рабочие; из 20-ти остальных большая часть – тоже из рабочей среды, но ко времени нашей встречи уже стали освобожденными членами производственных советов или профсоюзными функционерами. Примерно одинаковые по величине группы, каждая из которых включает около пятой части опрошенных, образуют респонденты родом из семей, принадлежавших, соответственно, к лагерям коммунистов, социал-демократов и политических католиков. В том, что касается нынешних политических ориентаций, больше всего – свыше двух пятых – там приверженцев социал-демократии, а две другие группы составляют вместе одну пятую всех опрошенных {7}.
Ни на какую количественную репрезентативность эта выборка не претендует. И все же можно сказать, что наш набор интервью покрывает широкий спектр послевоенного опыта одной из главных групп населения Рурской области, а именно – работников тяжелой промышленности и тех, кто представляет их интересы. Обстоятельства и содержание процессов социализации, протекавших у многих опрошенных в годы оккупации, и будут в дальнейшем предметом нашего рассмотрения. При этом в принципе внимание уделяется наиболее часто встречающимся темам, однако в каждом из этих интервью содержится индивидуальный опыт повседневной жизни и индивидуальные особенности биографии. Кроме того, благодаря переработке опыта каждая такая история превратилась в хороший рассказ, т. е. она содержит в себе нечто большее, чем то, что можно свести к простым понятиям. В этих рассказах видна структура – плотная сеть внутренних взаимосвязей. Каждая тема в них существует не в изоляции, а связана с другими, и таким образом возникает целый маленький космос опыта послевоенной жизни. Некоторые из этих историй, возможно, покажутся современному читателю шокирующими или причудливыми. Хотя опыт, приобретенный нами в ходе работы над интервью, заставил нас очень осторожно относиться к понятиям «типичное» или «причудливое», нельзя не признать, что большинство рассказов отражают необычные ситуации, – потому что только они и помнятся. О том, что «нормально», не расскажешь историю. Мои попытки интерпретации этих интервью направлены на то, чтобы нащупать в рассказах о необычном те нормы, которые создают нормальную жизнь. Я искал непроговоренные, но подразумеваемые вещи в истории, с тем чтобы выявить ее латентные смысловые структуры, которые позволяют перейти от индивидуальности воспоминаемого переживания к его социальному характеру и возможностям его переработки {8}.
2. Ожидание изнасилования
Главное событие конца войны – приход победителей. И по сей день многие не перестают изумляться, вспоминая эту первую встречу, особенно с неграми: таким экзотичным и симпатичным немцы себе врага не представляли. Госпожа Шюрер вспоминает, что видела десятилетним ребенком:
...
И как они потом все приехали на своих джипах и танках, это же нам интересно было, да? И они еще то шоколадку кинут, то банан. Больше всего у них бананов было, это я помню, потому что я до того вообще не знала, что такое бананы. Это были американцы. А главное – черные, сидели там в своих кепках, это нам так интересно было. […] Да… какая была ситуация? Я же говорю: только удивление. И с нами они довольно дружелюбны были {9}.
Удивлялись не только дети. Даже один молодой дезертир был поражен, когда мимо него проехали американцы:
...
А первые американцы были негры. И я должен сказать, они шоколад бросали с машины, сигареты. Ей-богу, я не так это себе представлял. Нам ведь их всегда иначе изображали {10}.
Интервьюируемые очень часто подчеркивают, что негры хорошо относились к детям {11}. Иногда рассказ о вступлении американцев становится похож на воспоминание о карнавальном шествии: немецкие солдаты внезапно ушли, население вывешивает белые простыни, и вот появляются победители на своих джипах и танках – шикарные, раскованные, беззаботные – и раздают детям тропические фрукты и конфеты. А немцы ожидали совсем другого – скорее некоей смеси суда и изнасилования. Только на фоне этого невысказанного ожидания можно понять, что значат подобные сценки: когда рассказчика выводят из подвала, американцы стоят с автоматами, так что женщинам и детям очень страшно, но на лицах этих солдат – широкие улыбки. Эта улыбка сменяется яростью только после того, как они находят в доме эсэсовский мундир отца; однако они тотчас успокаиваются, когда соседка объясняет им, что он был полицейским и этот мундир был лишь чистой формальностью {12}. Увидев у мальчика значок гитлерюгенда, чернокожий солдат не срывает его: он выменивает его как сувенир, за две пачки сигарет Camel {13}. Когда пожилых мужчин-фольксштурмовцев посылают в последний бой, победители, вместо того чтобы просто перестрелять этих ополченцев, через репродуктор объявляют, что без нужды не будут палить по старикам и детям {14}. Много раз нам описывали сцены такого рода: в начале оккупации Ганс Гедер вместе с матерью едет навестить тетю, живущую в маленькой деревне в Гессене. От города, до которого они доехали по железной дороге, до деревни нужно идти пешком.
...
И тут подъехал джип, там впереди сидели двое американцев – чернокожие. Моя мать была блондинка, я тоже был арийского происхождения. А они остановились и оба вышли из своего джипа. Между нами с мамой стоял чемодан, и она сказала: «Господи, Ганс, сейчас что-то будет!» Я говорю: «Да мам, что с нами такого особенного случиться-то может?» Эти двое вышли, спросили, куда нам, – да туда-то. Взяли наш чемодан, задвинули его сзади в джип, а мы сели сзади на скамейку. Тут они дали шоколад. Это было второе впечатление: какая там политика! С ней это еще ничего общего не имело: встречали как великих освободителей. Это были такие первые контакты у нас с первыми американцами. Потом-то ничего уже не происходило. Когда снова наладилась жизнь, у нас уже и контакта с ними почти не было.
Позднее в ходе рассказа господин Гедер подчеркивает, что «эта история» (так он называет оккупацию) прошла для них как будто бы бесследно и контактов не было. Американцев, по его словам, все воспринимали тогда так, как они себя предъявляли, а именно в качестве великих освободителей. Но дома у него на это смотрели иначе: освободителей в них признавали, крушению Третьего рейха радовались, но отец – старый горняк и социал-демократ, сохранивший верность своей партии, – тогда сказал: «Янки суется только туда, где он может нажиться и где от стрельбы подальше; так и в этот раз». Ганс Гедер, который тоже стал потом социал-демократом и председателем производственного совета, прибавляет к этой цитате, что позже, когда он стал политически более зрелым, он понял, что отец был прав {15}.
Такая непримечательная история – на первый взгляд вовсе и не история даже. Главное в ней – то, что подразумевается, те сложные импликации, в которых отражаются всеобщие социальные установки. Ими я и буду далее заниматься, используя материал нескольких других интервью. Мне представляется, что особенно выделяются следующие импликации:
...
– Эти непримечательные истории интересны потому, что других контактов с оккупационными властями у рассказчика не было.
– «Мораль этой истории» оказывается неоднозначной. Респондента поразило, что победители захотели им с матерью помочь. Свой статус освободителей они подтверждали не силой, а шоколадками. И тем не менее под конец проступает глубокий скепсис в отношении американцев.
– Главное в этой истории – то, чего не произошло: ведь предполагается, как нечто само собой разумеющееся, что на самом-то деле естественно было бы ожидать, что эти два чернокожих солдата встреченную на пустынной дороге блондинку изнасилуют.
Иными словами, перед нами – пространство опыта, в котором краткие личные соприкосновения с солдатами держав-победительниц черпают свой смысл из многолетних коллективных фантазий. На последующих страницах мне хотелось бы подробнее проанализировать эти имплицитные ожидания.
То, как представители оккупационных сил выглядели, как они себя вели, насколько лично доступны они были, оказывало на немецкую буржуазию в американской и французской зонах оккупации завораживающее действие (как приятное, так и неприятное). Зная об этом, нельзя не удивиться тому, что они почти полностью остаются за кадром в воспоминаниях о пережитом, которые мы услышали от рабочего населения Рурской области. Только в самом начале оккупации, при первых встречах, возникают какие-то истории, которые своим возникновением обязаны, как правило, экзотическому виду («негры») и неожиданному поведению («бананы», «шоколад» и т. д.) победителей. Несколько недель спустя цветных американцев сменили в Рурской области сдержанные англичане. Британское начальство управляло Западной Германией, соблюдая дистанцию, привычную для офицеров колониальных войск. Поэтому после рассказов о первых встречах с американцами солдаты оккупационных частей в интервью больше почти не фигурируют; даже женщины, которые в то время были девушками, о них упоминают очень редко; несколько чаще – члены производственных советов, и то лишь строго по служебным поводам {16}. Для рабочего населения Рурского бассейна эти войска в долгосрочной перспективе представляли собой, самое большее, некую почти не замечаемую политическую рамку, но никак не партнеров по социальному взаимодействию. Строитель-коммунист, христианский демократ, служащий в сталелитейной отрасли, жена шахтера, эвакуированная в вестфальскую деревню, – все неоднократно подчеркивают {17} (а большинство остальных опрошенных подчеркивают то же самое своим молчанием), что фактически никаких контактов с солдатами союзников у них не было. Это указывает на специфический региональный классовый опыт: оккупационные войска сначала произвели гораздо более позитивное впечатление, чем ожидалось, а потом пропали с горизонта повседневности. Теперь становится несколько понятнее, как в британской оккупационной зоне смогли добиться успеха в рабочей среде вожди социал-демократии и профсоюзов, которые столь ошибочно оценивали соотношение сил в оккупированной Германии. Только такой «базис», который ничего не знал о политике оккупационных властей и не часто вступал в контакт с представителями их армий, а существовал – выживал – в политическом вакууме, мог с одобрением воспринять заявления Курта Шумахера [12] о том, что построение социализма – задача настоящего момента, или слова Ганса Беклера [13] о том, что капитализм побежден {18}. В действительности же не существовало такого пространства самоопределения, в котором могли бы быть сделаны социальные выводы из национальной истории. Если не считать демонтажа предприятий, то оккупационная власть для рабочего населения Рурской области была мало ощутимой, что создавало возможности для самообеспечения, но одновременно отвлекало внимание от вопросов власти.
Вторая импликация, заложенная в истории Гедера, – скепсис по отношению к американцам, который при первой встрече с ними был поколеблен, но потом снова укрепился. В очень близкой форме мы обнаруживаем эту же импликацию, например, в рассказе жестянщика-коммуниста, который лично не имел никаких контактов с представителями держав-победительниц:
...
Да, они тоже себя плохо вели, не так уж они были хороши. Конечно, детям иногда шоколадку давали, но я не знаю… Я никогда и не считал их освободителями […], то есть освободителями – да, [в том смысле] что они бедствие это прекратили. А так – не знаю. Что они бомбы еще скинули? Я имею в виду, война-то скоро кончалась уже. Уже не надо было там бомбы скидывать. Не знаю. […] Сто тыщ человек. А теперь они снова со своими этими… {19}
Противоречия неразрешимы: с одной стороны, победители освободили немцев от фашистского бедствия и оказались неожиданно дружелюбны по отношению к детям, с другой стороны – они ведут себя «плохо» (как именно – не уточняется), в Хиросиме и Нагасаки совершают чудовищное военное преступление, а сегодня грозят его повторить. Строго говоря, господин Кроненберг не знает, как ему относиться к победителям, которые для него освободители, но не партнеры: он слишком многим обязан им, чтобы полностью их осуждать, но и слишком критично к ним относится, чтобы восторгаться ими или чувствовать себя в душе союзником антигитлеровской коалиции.
Более конкретные жалобы на поведение союзных войск касаются обычно конфискаций {20}, иногда – арестов, но чаще всего – отношений с немецкими женщинами. Но и в данных трех сферах после того, как боевые части покинули Рурский бассейн, трений между рабочим населением и оккупационными войсками было сравнительно мало: победители конфисковали обычно виллы, а не домики рабочих с сортиром в хлеву. Если же они устраивали облавы, то хватали обычно более или менее высокопоставленных нацистов и мелких спекулянтов на черном рынке, а таковые в изучаемых нами слоях тоже встречались лишь в порядке исключения. И тем не менее сохранилась скорее негативная установка по отношению к западным державам. Объясняется она, вероятно, политическими событиями (Версаль), оккупацией Рурской области, бомбардировками, демонтажом предприятий, прекращением процесса обобществления и последующим переходом к наращиванию вооружений. Поэтому послевоенный национализм в рабочем движении имел под собой базу, которую не смог разрушить кратковременный опыт взаимодействия с союзными армиями как освободительницами.
Эта растерянность и амбивалентность, характерная для воспоминаний о приходе американцев, в принципе характерна и для воспоминаний о приходе русских, только с гораздо более мрачной окраской. Появлению советских войск предшествовала волна страшных сообщений и ожиданий чего-то ужасного. О том, какие настроения царили после Потсдамской конференции, когда стало ясно, что русские займут Тюрингию, вспоминает Конрад Фогель – в то время ему было 15 лет, он был вожатым в гитлерюгенде:
...
«Надо как можно скорее отсюда сматываться» – так многие тогда говорили. Тогда многие боялись только, потому что они еще [слыхали] о страшных россказнях, изнасилованиях и так далее, и так далее… Все же известно было от беженцев – тогда из Бреслау, – все эти вещи. Так что не очень-то радовались, когда они вошли. Девушек молодых всех сперва попрятали {21}.
Примерно то же самое довелось пережить и 16-летней дочери шахтера Августе Шавер, которая с матерью и сестрой была в эвакуации в земле Бранденбург. Она различает четыре фазы: эвакуированное население бежит от приближающихся советских войск, но потом дисциплина рушится и их накрывает волной:
...
Первая встреча с русскими была очень хорошая. Но потом началось ужасное бедствие, когда пришли следующие, а люди стали подоверчивее, и тогда сразу начались изнасилования и все такое.
Семья возвращается обратно в ту деревню, где была в эвакуации, и всех девушек для безопасности запирают в потайную комнату в доме одного крестьянина. Потом всему населению приходится на две недели уйти из деревни, а когда они возвращаются, то видят, что деревня разорена солдатами и часть скота уничтожена. Правда, под «разорением» имеется в виду скорее беспорядок, нежели разрушения, потому что женщины берутся за дело и вскоре все опять прибрано. Дочери уговаривают мать вернуться в Гельзенкирхен, потому что англичане пользуются лучшей репутацией, но мать соглашается лишь при том условии, что сможет перевезти с собой все нажитое в эвакуации хозяйство (которое, следовательно, не пропало) {22}.
Какая доля правды была в ужасных рассказах пропаганды о том, что русские всех грабят и насилуют, установить невозможно. Во всяком случае, можно сказать, что это была последняя крупная пропагандистская кампания нацистов, призванная укрепить боевой дух тех, кто оборонялся на пошатнувшемся Восточном фронте и в тылу {23}. Население уже готовилось к грабежам и изнасилованиям, либо заранее переживая их в своем воображении, либо предпринимая особые меры предосторожности против них, так что репутация русских нисколько не выигрывала оттого, что ожидания не сбывались. В долгосрочной перспективе большее значение имело то, как люди настроились воспринимать советских солдат, нежели реальный опыт взаимодействия с ними.
Но в нижеследующей истории рассказчик не утрачивает спокойного отношения к русским даже несмотря на то, что был изгнан из Силезии поляками и при этом претерпел много несправедливостей. Франц Петерс, который всегда был социалистом, позже, в самый разгар холодной войны, от общей политической разочарованности в Западе и в связи с конкретным конфликтом на предприятии вступит в компартию. Но в его дифференцированном рассказе о вступлении русских в тот силезский город, куда он был переведен вместе со своим заводом, главное – это фигуры русских военнопленных и работников, пригнанных в Германию. На первом плане – некий Иван, который работал у господина Петерса. Последний, в свою очередь, относится к тому меньшинству среди немецких рабочих, для которого иностранцы сохранили в воспоминаниях имена и лица {24}.
...
Когда кончилась война – это было 8 мая, – один человек, который работал у нас на заводе, – он тоже иностранец был, – обратился к населению из такого окна в эркере ратуши [и сказал], что сейчас придет победоносная Красная армия и чтобы население ее встретило приветливо и выставило воду и кофе. А я в это время шел […] домой. И тут вдруг приехал русский солдат на мотоцикле. Он въехал в город и примерно через двадцать минут снова уехал. Прошло немного времени, и появилась легковая машина – кажется, это был черный «Мерседес», – в которой сидели четыре офицера. А заднее стекло было разбито и вынуто. А сзади на бампере стоял Иван с красным знаменем и автоматом в руках. Тут он меня увидел, что я сбоку стоял, и поздоровался со мной: «Франц!» – он крикнул. На другой день он пришел к нам домой и принес муку, масло и яйца. Он сказал, что хочет отплатить добром за все, потому что я так им помогал. Я, например, для него у украинцев на заводе башмаки стачал. У них ведь прямо дырки были в подошвах – я взял приводной ремень и все, что можно было, чтобы привести башмаки в порядок, чтобы они хоть как-то передвигаться могли… Я направлялся потом в поселок, где мы жили… И тут мне навстречу попался обоз солдат Красной армии. А поскольку справа был откос, который вел к поселку, а слева были заборы, я никуда не мог свернуть, я вынужден был пройти мимо этого обоза. И тут со мной случилось следующее: один поздоровался со мной приветливо сверху вниз, а другой спрыгнул с повозки, схватил меня и станцевал со мной так один круг, а еще один – тот только так косо на меня посмотрел и сплюнул так… И когда я теперь направо свернул, мне навстречу попался коллега с работы, который там жил, и я ему сказал: «Все, нет у нас теперь больше нацистов!», а он говорит: «Да, а у меня больше нет моего обручального кольца и часов!» Я еще немножко прошел. Тут мне навстречу – один человек, которого я в лицо знал, и у него поверх бриджей – подвязки для носков. Я говорю: «Слушай, что ты в таком виде тут ходишь?» – «Да вот, – говорит, – это все русские, сапоги с меня сняли». – А я еще так говорю: «Да зачем ты вообще в сапогах-то еще ходишь, теперь же все, никаких сапог». Тут он только посмотрел на меня так косо и пошел. Я подошел к двери дома. Там сидели два таких русских солдатика – лет, наверное, по 16–17 им было – и смотрели на меня скорее робко, чем злобно. И один направил автомат прямо на меня. Но меня это не смутило, я пошел прямо в дом… У нас там была одна комната. И там напротив моей жены стоит русский солдат. Она стояла перед шкафом, а за спиной у нее была бутылка «Ежевики», это ликер такой, он хотел ее взять, а жена ему ее не давала. И как я в дверь вошел, он поворачивается, ружье наставляет на меня. «Ты капиталист», – говорит. Я говорю: «Ниче не капиталист». А у меня была сигара – я сам всегда некурящий был – в бумагу завернута, еще с наклейкой, где-то мне подарили. Я ее вытащил и отдал ее ему. И тогда он приветливо попрощался и ушел.
Франц Петерс ничего не хочет приукрашивать: Красная армия приходит не с шоколадками и бананами; ее солдаты, наоборот, снимают с людей хорошую обувь и наносят визиты с автоматом в руках. Но тот, кто до этого поступал по-человечески, получает толику человечности взамен, – будь то из благодарности или же в ответ на разумное поведение и непредвзятое восприятие. Этот рассказ особенно отчетливо показывает внутреннюю связь между тем, как воспринимали друг друга люди при фашизме, и тем, что им довелось пережить при его крушении: кто раньше не поддался на призыв нацистов рассматривать «восточные народы» и «восточных рабочих» как безликих «недочеловеков» и лишить их места в своей системе моральных представлений, – для того победа Советов и не означала, что мир «перевернулся с ног на голову» и «недочеловеки» теперь чинят насилие в отношении «народа господ».
В частном отражается общее, которое подводит нас к третьему уровню истории господина Гедера: общество ожидает, что над ним станут чинить насилие, а этому ожиданию, как мы в наших интервью регулярно видим, не соответствует никакой реальный личный опыт. Разумеется, не может быть никакого сомнения в том, что сама насильственная природа войны обострила постоянно существующую угрозу изнасилования женщин и многие женщины – между прочим, во всех странах Европы – пали жертвами такого насилия. Это печальная глава истории, которую трудно изучать и которая вызывает слишком много разных интерпретаций {25}. Этим я здесь заниматься не стану, потому что не хочу присоединяться к спекуляциям на данную тему, зачастую предвзятым, а собираюсь говорить только об одном аспекте: ожидание насилия, с одной стороны, является всеобщим, но, с другой стороны, оно направлено на определенные народы и группы, рассматривавшиеся нацистами в качестве расово нижестоящих, а сообщения о пережитом сильно отличаются от этого ожидания в смысле масштабов и характера описываемых событий. Я вовсе не имею в виду, что никаких изнасилований не было, и не хочу преуменьшать значимость такого опыта, но явно существует расхождение между теми ожиданиями, которые были у нации, и тем, что довелось испытать индивидам, и оно требует прояснения. Возможно, образ «недочеловека», берущего верх над «народом господ», был в 1945 году одним из многих мифов, которые породил страх в обществе, переживавшем коллапс. Этот миф определял и восприятие реального прихода союзников, и выбор тем для обсуждения, и тот фон, на котором только и можно вполне понять удивление, описанное в вышепроцитированных интервью. Так называемый «нулевой час», кладущий начало новому отсчету времени, был мечтой немцев: хотелось верить, что теперь все позади и все забыто. А их кошмаром было представление, что все продолжается, и кошмар этот был связан с идеями расы и мести {26}. Главная (пусть иногда в подтексте) тема рассказов об оккупации – ожидаемое надругательство славян и цветных над женщинами, особенно блондинками, – в контексте этой мечты и травмы переходит из области доказательств и реальности в область мифического: это говорит о том, что люди приняли господствующую фашистскую идеологию.
Поэтому задача интерпретации заключается прежде всего в том, чтобы разобраться: почему в тогдашних и позднейших рассказах о встречах гражданского населения с солдатами стран-победительниц сексуальная тема так мощно выходит на первый план? Читая интервью, я не мог не заподозрить, что привлекательность данной темы в то время лишь отчасти была связана с интимной областью сексуальности и любопытства по отношению к ней. Помимо этого зацикленность на теме секса могла отчасти объясняться и тем, что люди усвоили и не подвергали сомнению нацистские прописные истины о цивилизационной иерархии рас, в которой «недочеловеки» характеризуются необузданными дикими инстинктами, в то время как у цивилизованных людей таковые ограничены упорядоченными институтами супружеской сексуальности и государственной власти. В перевернутом мире, где победили «недочеловеки» (или, как их чаще называют в наших интервью – «тоже люди») {27}, этот прежде казавшийся столь естественным образ общества приходится вытеснять, и он попадает в классический накопитель вытесненного – сферу сексуальных фантазий, где неразрывно смешивается как с реальными переживаниями и фактами, так и с индивидуальными и коллективными желаниями и проекциями (вроде мотива Кинг-Конга).
После этих предварительных соображений мне хотелось бы на материале интервью рассмотреть вопрос о том, почему в воспоминаниях рабочего населения Рурской области о приходе союзных войск главной темой рассказов является эта так называемая тема № 1 (либо намеки на нее), хотя обычно подобный интерес к сексу считается характерным для солдат. Слова респондентов трудно расшифровать, потому что эти люди почти полностью находятся в плену двух проекций (либо играют с ними): первая – это ожидание того, что иностранцы, и в первую очередь «нецивилизованные», будут насиловать всех немецких женщин («нордических блондинок»), а вторая – ретроспективное суждение о немецких женщинах, что они якобы бросались на шею иностранцам-победителям. Уже одно то, что в рассказах регулярно описываются такие крайние случаи, заставляет с осторожностью подойти к интерпретации сведений о международном свальном грехе в Германии времен оккупации и не принимать их за чистую монету.
О том, что эти две крайности – фантазия об изнасиловании и фантазия о национальной неверности женщин – сходились в рассказах, можно судить по двум фрагментам, которые я выбрал из интервью с одной супружеской парой – буфетчиком Козловски и его женой. Господин Козловски был на фронте, а его супруга, которой тогда было 25 лет, работала медсестрой; вместе со своей матерью и малюткой-дочкой она была эвакуирована в деревню.
...
Эту деревню, где мы жили, ее заняли американцы […] и там был один – то есть мы же их боялись, понятное дело, солдаты […] и где бы я ни шла и ни стояла, этот мужик – за мной, и мне было так страшно, я все время садилась рядом с матерью и не уходила от нее. А тут нам пришлось выселяться из крестьянского домика, в котором мы жили. Мне надо было спуститься в подвал – у нас все вещи были в подвале, – чтобы для дочки кое-чего там взять. И тут я вижу эти желтые штанины. […] У меня чуть сердце не остановилось. Я же совсем одна была в подвале, но у меня коляска при себе была. Он только прикоснулся ко мне, вытащил такой медальон, показал его мне: его жена была на меня похожа! И поэтому он все время за мной ходил. И он мне – у него такая штуковина висела, резиной обделана, или что там было, – так у него в ней кофе был! Шоколад! Все это он мне там внизу дал. И потом мы наверх пошли, и он малышку нашу взял на руки: ужасно забавно было [….].
Дочка тоже получает шоколадку и даже выучивает пару слов по-английски, чтобы и в следующие дни просить шоколадки. А матери потом нужны для ребенка вещи, и для получения карточки ей приходится стоять в очереди среди американских солдат, и ей страшно. Тут ее замечает тот мужчина, что был в подвале, и в мгновение ока она получает целую детскую кроватку. Затем разговор переходит на другие темы, но через несколько минут интервьюер спрашивает: как тогда говорили про оккупационную власть? На это господин Козловски ворчит: «Неизбежное зло»; а его жена перебивает его:
...
Нет, я честно скажу, вот когда я видела девушку, немку, которая шла с таким вот иностранцем, то я ее прям презирала. Я всегда вспоминала: наши солдаты сидят, значит, в плену, головы свои за них под пули подставляют, а бабы эти уже с иностранцами тут бегают. […] Англичане ли, янки ли, бельгийцы ли это были – все они… Это для нас были порченые. И можно было видеть, как они там на углу стояли, а там возвращались отпускники – эээ солдаты из плена – и такие несчастные, чуть не падали прямо на рельсы. А оборванные! И на другой стороне стояли немецкие женщины и обжимались с иностранцами. И тогда эти бедные мужчины так смотрели, – ну одним словом, я это ужасно презирала. Я бы никогда…
Ее муж в какой-то момент замечает, что женщины делали это за сигареты, – а они тогда были большой ценностью. Потом он перебивает жену и рассказывает историю об одном солдате, который вернулся домой и застал у себя в семье «иностранца», после чего лег под поезд. Господин Козловски, по его словам, работал тогда стрелочником и нашел его тело с отрезанной головой {28}.
Было бы трудно понять, как одна и та же женщина могла с очень небольшим промежутком рассказать обе процитированные истории, если бы не было очевидно, что госпожа Козловски рассматривает их в совершенно разных контекстах. С одной стороны, воспоминание о том, как ее национальный страх изнасилования переживает в подвале трансформацию, в ходе которой она сама превращается в нежно любимую американку, а в результате на ребенка сыплются, как из рога изобилия, вещи и сладости: это явно очень личное воспоминание. С другой же стороны, она с помощью переноса противится нарушению табу, которое, как она видела, могло тогда быть нарушено, и встает на кажущуюся ей правильной сторону в социальном конфликте по поводу сексуальных связей с иностранцами, который, похоже, в ее окружении имел место очень часто, если судить хотя бы по соединяющимся в ее воспоминании различным временным пластам: она одновременно вспоминает и пригнанных иностранных рабочих, с которыми женщины целовались, когда солдаты приезжали в отпуск, и солдат оккупационных войск, с которыми они целовались, когда возвращались немецкие военнопленные, и солдат размещенных в Германии войск НАТО («бельгийцы»), и сегодняшних гастарбайтеров («иностранцы» [14] ). Во всех этих случаях приговор, который она выносит, – «порченые», – определяется одним и тем же предрассудком, хотя сама она в годы «экономического чуда» вместе с мужем держала ресторанчик, а потом большой дансинг, где выступали «негритянские оркестры», и уж точно ее не назовешь чопорной. Но она в этом пункте осталась навсегда верна своему воспитанию, полученному в Союзе немецких девушек, где она с энтузиазмом состояла. Именно как член Союза она в свое время добровольно записалась на трудовую повинность: тогда, говорит госпожа Козловски, она твердо верила в то, что Германия завоюет весь мир. Ей очень нравилась униформа гитлерюгенда, которую ее будущего мужа заставили надеть против его воли (он даже сегодня неправильно ее описывает).
О своей сестре она говорит, что «в семье не без урода»: сестра не такая толковая, как она сама, и к тому же разведена. По этому поводу госпожа Козловски рассуждает о менделевых законах наследственности, а потом говорит: «Вот бы снова Гитлера на нашу нынешнюю молодежь: тут же бы ни одного тунеядца не стало!» {29} Национальную социальную норму госпожа Козловски сочетает со своим личным опытом так, что сохраняет память о пережитом в чистом виде, и ее собственный поступок в результате предстает актом материнской любви.
Но было бы все же неверно одним лишь фашистским воспитанием объяснять то, что наша респондентка отвергает братание с иностранцами и даже обращает преимущественное внимание именно на этот аспект своего опыта оккупации. Эрнст Штекер – рабочий-металлист, который в Веймарской республике состоял почти во всех организациях, тем или иным образом имевших отношение к рабочим; в 1945 году – ему было 40 – он стал председателем производственного совета и активным членом КПГ, затем СДПГ. Как едва ли не самое важное, что он может поведать о конце войны, он рассказывает следующее:
...
Один негр сказал: «Немецкие солдаты сражались шесть лет, а немецкая женщина всего пять минут!» Это была правда от первого до последнего слова. Мне было стыдно {30}.
Господин Везель – лишь ненамного младше; он тоже член производственного совета на одном металлообрабатывающем заводе и социал-демократ; его жена – бывшая торговая служащая; оба они подчеркивают то же самое:
...
Она: «И вот были такие любопытные бабы, именно бабы [а не „женщины“], и они жаловались, что их изнасиловали. Но это они сами были виноваты, они же за мужчинами бегали, за солдатами».
Такого рода истории она наблюдала в Вюртемберге в эвакуации и потом еще раз по пути домой, а ее муж – на берегах Рура: в соседних домах, говорит он, было полно солдат.
...
И тут тоже так было, что бабы с улицы заходили. Я это все тут наблюдал […] Майор однажды в пять утра всех баб повыгонял, все нагишом. Вон отсюда, ничего не дал на себя [надеть], прочь! – во как. Кто тут рядом жили, те видели это. [Смеется.] Всех их хлыстом выгнал, часов в пять или полшестого утра. И тут тоже немецкие бабы заходили, из нашего околотка, я их всех знал. Я ж смотрел. {31}
Анне-Сузанне Вегнер {32} в те годы было 20 с небольшим; она хотела стать преподавательницей профессионального училища, участвовала в создании «Молодого союза» [15] . Рассказав о том, как вошедшие в город американцы реквизировали у ее семьи дом, она подчеркивает, что ни один солдат к женщинам не приставал: если что и случалось, то это провоцировали сами женщины и девушки. А уже знакомый нам господин Гедер – тогда 14-летний ученик жестянщика, а сегодня член СДПГ и председатель производственного совета, – снова переводит разговор на русских: его эвакуированные дед и бабушка попали в советскую зону оккупации, и там им пришлось много страдать. Когда они захотели снова вернуться в свои края, деда так избили, что у него во рту не осталось ни одного зуба. А бабушка там неделями прятала свою младшую дочь,
...
потому что русские наверняка там с [а]моральными намерениями подступали. И когда они [дед с бабушкой] вернулись, был конфликт, потому что мы тут сказали, что у нас с западными оккупационными войсками таких трудностей не было. Хотя мы тут опять же могли сказать: что ж, нам тоже есть на что пожаловаться, – смотря с какой стороны смотреть, – я имею в виду на то, что немецкие женщины липли к американцам. Потому что мы тоже очень часто видели, как молодежь тогда, девушки, липли к американцам, на танцах там или где еще {33}.
Едва ли можно было бы продемонстрировать национальные стереотипы более наглядно – причем надо заметить, что господин Гедер в то время постоянно проживал в британской зоне, где вовсе не так легко было найти американца, чтоб к нему липнуть, и уж точно его нельзя было встретить на танцевальных вечерах католической рабочей молодежи. Похоже, за национальными стереотипами часто стоит сексуальная конкуренция, ведь солдаты союзных войск – крутые, расслабленные, оптимистичные – воплощали в себе полную противоположность немецким мужчинам – усталым, с подорванным здоровьем. Поэтому для того, чтобы понять причины особой эротической привлекательности многих американцев для немецких женщин, отнюдь не всегда нужно предполагать, что матери семейств занимались вынужденной проституцией – хотя и такое наверняка тоже бывало. Когда речь шла о цветных американцах, добавлялась еще и притягательность экзотики, но сильнее было и общественное порицание контакта с ними. Ульрика Ротер – ей было в то время 23 года, она работала при военно-морской базе в Гамбурге, а потом на производстве в Гельзенкирхене – описывает с позиции участницы еще две классические ситуации:
...
Да, мы в Гамбурге были. Как они вошли, англичане-то, то зашли в тот дом, где мы были. А нас выдали за девичий пансион, и тогда они ничего нам не сделали. Мы могли ходить, как хотели, только по вечерам вот надо было дома быть. Так что потом у нас никакого контакта с ними не было […после возвращения в Рурский бассейн у нее появилась подруга], она очень часто разговаривала с американскими солдатами. Там и негров очень много было. Я тоже с ней ходила, но мне это дома немножко запрещали. […] Что бы соседи сказали, если б я с негром по улице прошлась. […] У нас в семье говорили: «Держитесь от них подальше. Мы их избегаем. Если повода не подадите, то они к вам и приставать не будут» {34}.
Грань между любопытством и эротическим притяжением, с одной стороны, и отторжением иной нации и страхом изнасилования, с другой, была зыбкой. Не последнюю роль играло и то, что многие немцы, пугаясь при виде чернокожих, придумывали фантастические детские сказки о Черном континенте, которые абсолютно не согласовывались с доброжелательным отношением этих солдат к детям; порой лишь много лет спустя оценки становились спокойнее и вместо людоедов в них начинали видеть шоколадных негритят. Обратите внимание, с какой подробностью учительница Ванда Мельден описывает сцену своей первой встречи с солдатом оккупационной армии. Когда интервьюер задает ей этот вопрос, она спонтанно выбирает один эпизод в мае 1945 года (ей тогда было 24 года), хотя, вероятно, еще до того она присутствовала при вступлении американских войск – но там, наверное, не было цветных солдат. А воспоминание о первой встрече с настоящим солдатом американской армии должно в ее памяти быть воспоминанием о первой встрече с негром. Белокурая богиня среди вестфальских джунглей:
...
Да, и причем я очень тогда испугалась. Я ведь вам рассказывала, что я тут непременно хотела поехать домой на велосипеде. На мне были длинные брюки. Был май месяц, и погода была просто прекрасная. А я тогда была довольно светлой блондинкой и ни о чем не думала. Взяла отпуск, села на велосипед и поехала. А мосты были все разрушены, пришлось делать гигантский крюк. […] А потом – никогда не забуду – в это майское утро я выехала здесь из Вестерхольтского леса, там была свежая зелень. И вот из этой свежей зелени вдруг высунул голову солдат – негр. И оскалился. И я испугалась, хотя он-то, наверное, просто приветливо улыбнуться хотел. Испуг был такой сильный – я налегла на педали и понеслась по дороге до самого низа, до маминого дома, и все не могла успокоиться. А потом, когда назад поехала, то все говорили: «Но ты тоже легкомысленно поступила. Надо было тебе хотя бы платок на голову повязать, и главное – часов не надевать». Но у меня вся обратная дорога прошла безо всяких опасностей, и я хорошо доехала. Но потом тоже говорили: «Господи, да они ведь тоже люди и наверное вовсе ничего не замышляли». Просто очень уж неожиданно он появился {35}.
Истории о встрече с победителем в рассказах рурских рабочих описывают лишь краткие соприкосновения, как правило в момент вступления союзных войск в город, однако свой смысл они черпают в длительных фантазиях. Важная роль, которую играют в таких сценах негры и русские, а также упор на отношения между мужчиной и женщиной либо сексуальные намеки в рассказах – все это не следует поспешно интерпретировать как свидетельства реальной волны изнасилований и братаний: сообщения о действительных изнасилованиях и о позднейшем братании с иностранными солдатами представляют собой точки кристаллизации травматической мифологии, которая формировалась в конце периода национал-социализма и основными сюжетами которой были раса и месть, а освобождение осмыслялось как изнасилование. Было бы бессмысленно пытаться реконструировать реальность оккупации по этим историям, которые в большинстве своем не содержат описания реальных исторических событий {36}, потому что предпосылки восприятия невозможно отделить в них от припоминаемых впечатлений. Но мы здесь пытаемся подступиться к структурам научения и мышления послевоенных лет, и потому нам не так уж и важна реальность sex and crime, ведь социокультурное значение имеют именно ожидание и переработка опыта «перевернутого мира», в котором «недочеловеки» побеждают {37}.
На этом уровне становится также яснее, почему миф об освобождении как изнасиловании рассказывается нам дважды – один раз в трагическом и один раз в комическом варианте, причем и здесь излагаемую фантастическую историю невозможно отделить от скрытой «реальной». Трагедия – это встреча с Красной армией как с победоносным представителем тех «восточных народов», в чьих странах Германская империя собиралась создать себе колонии и миллионами пригоняла оттуда подневольных рабочих для своей военной экономики. Здесь ожидание мести напоено кровью и слезами, которые немецкий континентальный империализм принес Восточной Европе. А реванш, который представители обесчещенных «восточных народов» берут уже в ходе войны, оскопляя погибших, порабощая пленных и насилуя женщин из «народа господ», подпитывает это ожидание, наполняет его реальностью, превращает его в историческое событие, которое может быть перенесено в иную интерпретационную рамку – неприятие сталинского коммунизма. Здесь победитель в самом деле является бывшей жертвой (или ее представителем), и это придает конфликту ожесточенность и неизбежность – ведь невозможно избежать своей принадлежности к тому или другому народу. Если бы сага о насилии в Восточной Германии в 1945 году была сведена к сценам сексуальных поединков, то она утратила бы свою связь с историческим контекстом и заменила бы ее, вслед за фашистской пропагандой, предположениями относительно необузданных звериных инстинктов, которыми характеризуется природа «недочеловека». Большинство людей, проинтервьюированных нами, были избавлены от необходимости разрешать этот конфликт: они знают его только по страшным историям, во множестве принесенным беженцами из Восточной Германии; меньшинство же, реально бывшее там, рассказывает более дифференцированно. Большинство наших респондентов, с одной стороны, ожидало, что освобождение будет означать и изнасилование, но, с другой стороны, здесь, на берегах Рура, в реальности все обернулось опереткой про негра с бананом, который скалит зубы, выглядывая из-за зеленого куста. Встреча не содержит в себе события, и за счет этого разрушается кусочек фашизма, скрытого под поверхностью сознания: где нет политической связи между поведением победителей и расовым порабощением во времена нацизма, там и звериные инстинкты «недочеловека» увидеть не удается. Здесь миф об освобождении как изнасиловании (а без этого мифа как предпосылки все подобные истории не имели бы никакого смысла) действительно распадается на детские фантазии и эротические ситуации, на встречи культур и сексуальную зависть. Правда, приятное разочарование в неграх ничего не изменило в политизированном стереотипе американца как расслабленного парвеню из привилегированного мира, потому что оно имело место на совершенно другом уровне сознания.
3. Семья – манящий огонь
...
Я хотела домой, это была единственная цель у меня… И вот я приехала, и мы вышли к каналу. А там мост на канале взорван, доски были положены, по ним переходили на ту сторону, балансируя. И оттуда я пошла в сторону [своего предместья] […] и вдруг смотрю – а это кресло-то я же помню! Там стояло разломанное кресло в одном дворе – его моим родителям на серебряную свадьбу от церковного хора подарили […] И я подумала – теперь надо и на квартиру взглянуть. Там была такая бумажка [с нашей фамилией]. Позвонила я, выходит моя свояченица, падает мне на шею, а тут я слышу – ребенок плачет, дочь приехала, на четыре недели раньше, она говорит: «Марта, мать за молоком пошла, спрячься, она испугается, если тебя увидит» {38}.
Воссоединение семей в конце войны было одной из главных тем, прежде всего для эвакуированных, военнопленных, детей, отправленных в деревню, военнообязанных, иностранных рабочих и т. д. Если бы не знать об этом магните – семье, – то при взгляде со стороны все те опасные, полные приключений и тягот путешествия, которые проделала едва ли не половина опрошенных нами людей, когда война для них закончилась, будут выглядеть иррациональными: замена одного кошмара другим. Многие бегут на Запад, но некоторые едут и на Восток, где надеются найти кого-то из своих близких. Одни, лишившись крова, едут из города в деревню, другие спасаются от социальной изоляции, в которую они попали, будучи эвакуированы в деревню, и возвращаются в разбомбленные города. Надежда на то, что «дома» будет «дом», чаще всего оставалась лишь надеждой.
Чтобы легче было выживать без помощи рухнувшего государства, люди объединялись. Члены таких групп самопомощи должны были испытывать друг к другу базовое эмоциональное и экономическое доверие, не нарушенное знанием о прошлом каждого. Вначале группа съеживалась до масштабов изначальных, дополитических связей, потому что очень часто оказывалось, что семья и ближайший круг знакомых утратили гомогенность и единство: условия жизни при фашизме были таковы, что личные связи разрывались, подвергались политизации и становились проблематичными. А главным предметом мечтаний стало – облегчить себе жизнь и решать как можно более простые проблемы.
Два брата Марты Штротман – дети шахтеров-католиков – в первый год нацистского режима оказываются замешаны в кабацкой драке между коммунистами и национал-социалистами. Их арестовывают, обвиняют во всевозможных политических преступлениях, однако через три месяца оправдывают. Но на репутации семьи из-за этого появляется пятно, и амбициозной дочери уже не сделать карьеру конторской служащей на самом главном из местных химических заводов. Поэтому она работает на различных мелких предприятиях и, поскольку ей нравится учить языки, получает специальность письмоводителя со знанием иностранных языков. В 1943 году школа Берлица направляет ее на работу в Берлин, в социальный отдел посольства вишистской Франции, где она благодаря своим деловым качествам очень скоро получает должность заведующей канцелярией. Ей в это время под тридцать, она набожна, живет в монастыре на правах гостьи. Там же живет ее бывшая соученица из Рурской области по фамилии Гейдрих, дочь мелкого торговца; когда выясняется, что ее мать была депортирована как еврейка и ей самой как полуеврейке тоже грозит большая опасность, монахини прячут эту женщину у себя в ордене (она переживет войну и в результате станет настоятельницей в одном из монастырей этого ордена). Обвинявшийся некогда в «коммунистическом мятеже» брат стал к этому времени уже старшим рабочим на химическом заводе. Во время войны его направляют в Освенцим, где он должен руководить заключенными, строящими химический завод. Там он заболевает, а в конце войны вместе с одним поляком ему удается убежать от русских. Его младший брат – горняк – остается в Рурском бассейне и по окончании войны создает там католические спортивные общества, за что его включают в состав комиссии по денацификации. Третий брат – управляющий поместьем в Ольденбурге – забирает отца (а потом и брата из Освенцима) к себе, потому что у него там, в сельской местности, лучше с питанием. Мать ездит то к одному из детей, то к другому и привозит в Рурскую область продукты. Марта идет по стопам отца, который был активистом христианского шахтерского профсоюза, и один высокопоставленный функционер из ХДС берет ее секретаршей в правление профсоюза. Хотя членов семьи теперь разделяют расстояния и разный опыт, у них очевидно сохранилось инстинктивное понятие о том, где их «дом»: там, в старом христианском рабочем квартале рурского города, где теперь жил только один член этой некогда большой семьи {39}.
Чрезмерно растянутые и осложненные политическими факторами жизненные связи уступают место семье – центру, вокруг которого в родном городе выстраивалась сеть связей, помогавших людям обеспечивать себя и близких. Ради этого многим – женщинам даже чаще, чем мужчинам, – приходилось совершать полные приключений поездки из конца в конец разрушенной страны. Кто-то был мобилизован на работы, на полувоенную службу в тылу либо в оккупированных странах (во вспомогательных службах Люфтваффе и Военно-морского флота, связистками, медсестрами), кто-то был эвакуирован – таких в разбомбленной Рурской области было особенно много. Почти две трети опрошенных нами женщин в конце войны или вскоре после нее совершили такое путешествие домой, в ходе которого им пришлось справляться со всеми мыслимыми и немыслимыми ситуациями и претерпевать неведомые прежде тяготы. Они приезжают на велосипедах с побережья Северного моря на берега Рура, они путешествуют в багажниках легковых машин и на составах с углем, они присоединяются к дезертирам, которые в Чехословакии реквизировали грузовик и, опасаясь мести населения, едут навстречу американцам {40}. Эти женщины перевозят на пассажирском поезде остатки своей мебели и, привязав матрас к спине, вброд форсируют реки там, где разрушены железнодорожные мосты {41}. Люди закапывают свои мундиры, грабят интендантские склады, получают от начальства на последнем месте службы все необходимое снаряжение для бегства, просят подаяния у крестьян, выполняют полевые работы, чтобы прокормить семью, потому что крестьяне ничего не дают просто так, хотя у них имеются такие запасы продовольствия, которые горожанам кажутся просто фантастическими {42}. Однако никто не описывает эвакуацию позитивно. Иногда в словах респондентов слышатся нотки гордости тем, что они выстояли, или волнение от пережитых приключений, но условия жизни, которые они описывают, зачастую ужасны, а одиночество непреодолимо.
Госпожа Мюллер тогда была девушкой из Югославии, влюбившейся в немецкого унтер-офицера. Чтобы она могла остаться с ним и чтобы ее после войны не покарали соотечественники за коллаборационизм, ее при отступлении немецких военно-воздушных сил из Югославии берут с собой в обозе в качестве помощницы по кухне. Однако в Вене часть разделяют по разным местам дислокации и обоз расформировывается. Армейское начальство, – рассказывает ее муж, механик по точным приборам Ганс Мюллер, – дало согласие на женитьбу, но ведомство записи актов гражданского состояния в его родном городе еще до того отказало в разрешении на брак с иностранкой.
...
Но свою жену, свою жену из Югославии, я уже отослал. […] Я ее на поезде, хотя она ни слова по-немецки не говорила, я ей бумажку на шею повесил и проводил ее в Вене на поезд, и четыре дня спустя она прекрасно добралась. Она по дороге познакомилась с одной женщиной, и та женщина привела ее к моей матери {43}.
Госпожа Бергер со своими двумя детьми оказывается в эвакуации в Люнебургской пустоши, потому что родственники в Померании дали ей от ворот поворот. Ее мужа призывают в самом конце войны, но вскоре ему удается сбежать к семье. Госпожа Бергер смолоду была политически и морально сознательной, у нее нет таланта добывать продукты, и ей глубоко противна мысль о том, чтобы воровать у крестьян ветчину и масло.
...
Там я пережила самое худшее, что со мной было в жизни. Если бы мой муж не ушел [из армии], он бы застал три могилы. Мы бы там с голоду умерли. Да, умерли бы с голоду. Все самим добывать приходилось, никто ведь нам ничего не давал. Тут мы впервые как следует узнали немцев.
А когда интервьюер указывает ей на то, что она сама только что говорила, будто солидарности раньше было больше, она отвечает: «Ну да, но не в чужих краях, не в Пустоши» {44}.
Возвращение домой, к семье, должно было редуцировать навязанную социальную сложность индивидуального жизненного мира, однако у многих молодых мужчин этому возвращению препятствовала или предшествовала жизнь на нелегальном положении. Рурские шахты, похоже, были чем-то вроде Эльдорадо для таких нелегалов, которые не хотели жить под фиктивным именем, а стремились с помощью работы вернуться к легальной жизни. Ведь многие из них просто сбежали из своих воинских частей, стремясь не попасть ни в плен к союзникам, ни в руки немецких фанатиков, желавших сражаться до конца. Они вливались в массу людей, которые официально либо вовсе больше не существовали, либо жили под измененными именами: это были пропавшие без вести, перемещенные лица, не хотевшие репатриироваться, потерявшиеся дети, скрывающиеся нацисты, освобожденные уголовники (которые пытались выдать себя за «политических» заключенных), эсэсовцы, которые стремились свести свои татуировки с указанием группы крови, а также в большом количестве солдаты, которые окончили для себя войну без официальной демобилизации {45}. Для них возвращение домой (или приезд в Рурскую область на новое место жительства) было способом «отмыться», потому что горнодобывающая промышленность была единственной отраслью, которую оккупационные власти развивали, и в то время на шахты брали почти кого угодно. В отличие от всех остальных профессий и от системы рационированного снабжения в других районах, у тех, кто устраивался на работу под землей в Рурском бассейне, не всегда спрашивали документы, зато выдавали им рабочий паек по максимуму, в том числе натурой. Работа в шахтах для многих стала, таким образом, чем-то вроде испытательного срока при переходе на легальное положение, в то время как в других областях нелегальная работа и жизнь вне закона ставили скрывавшегося человека в полную зависимость от произвола работодателя и ни на шаг не приближали его к получению новых документов.
Густав Кеппке, которому в 1945 году было всего 16 лет, сделав карьеру вожатого в гитлерюгенде, пошел добровольцем в дивизию СС «Гитлерюгенд», но ее разоружили местные крестьяне. Густав хотел избежать плена, и в его возрасте это, вероятно, было бы не так трудно, если бы только одновременно он не лишился дома. Из деревни в Баварии, куда его отправили вместе с другими городскими детьми, он после окончания войны вернулся на берега Рура, однако уже не застал там поселка, в котором прошло его детство: весь этот район был превращен в гигантский лагерь для перемещенных лиц. Поэтому Густав стал пробираться обратно в Баварию, где в эвакуации находилась его мать. Но на ее карточки прожить вместе было невозможно. Тогда он – вместе с еще одним юным «нелегалом» – нанялся работать на деревенскую бойню, хозяин которой нещадно эксплуатировал их, заставляя работать с утра до ночи в качестве прислуги по кухне, а сопротивление подавлял кожаным бичом: правды искать им было не у кого. В конце концов Густав снова бежал в родные края и вынужден был поначалу идти на шахту, потому что только там нелегал мог работать и получать продовольственные карточки. Но через некоторое время работа в забое ему надоела, и к тому же он, видимо, уже мог легализоваться, потому что у него за плечами было незаконченное обучение на шахтера, которое его реабилитировало. Он подался на стройку учеником каменщика {46}.
Несколько респондентов рассказывают о том, как они пытались вернуться в гражданскую жизнь инкогнито, – не всегда, впрочем, полностью отказываясь от своей прежней идентичности. Одна женщина, учившаяся на медсестру, перед тем как бежать, закопала свою одежду «коричневых сестер» [16] , а один вожатый гитлерюгенда – свою униформу и награды {47}: эти вещи не должны были выдать своих владельцев, но, очевидно, те хотели иметь возможность снова их найти. Механик по точным приборам Ганс Мюллер пошел еще дальше и переоделся, чтобы слиться с толпой и добраться до дому, не будучи узнанным. Он был унтер-офицером Люфтваффе, и под Мерзебургом расположение его части было захвачено наступающими американскими войсками.
...
Мы спрятались в лесу, а потом дня через два-три, когда американцы ушли дальше, я отправился пешком в сторону дома – только по ночам шел, по звездам. И вот в один из дней я забрался в беседку и там [надел] гражданские вещи, которые там висели, – это были [вещи], в которых люди работают в огородах, – и потом я взял такие вилы и стал идти днем, и меня пару раз останавливали. Но поскольку я выглядел так, будто делал, может быть, что-то за городом или убирал сено и так далее, то я беспрепятственно добрался до Вупперталя {48}.
Правда, для мужчин путь к семье не всегда означал путь на родину. Наиболее отчетливо это видно в случаях тех из «изгнанных», которые не пережили собственно «изгнания», так как были на фронте или в плену: их «изгнали» в их отсутствие {49}. Они не могли вернуться из плена в свои родные места и искали по всей стране то, что осталось от их семей. Только теперь, отправившись в чужие края на поиски родственников, они становились «изгнанными» и узнавали историю своего «изгнания» по рассказам своих жен или других родственников. Вернуться домой, чтобы восстановить связь с довоенной жизнью, они уже не могли. Только в памяти и в разговорах о минувшем могли они найти точки соприкосновения с прошлым.
В муравейнике, который представляла собой Германия в 1945 году, наряду с многими другими боролись с нуждой образованные «изгнанными» группы самопомощи. Они, пожалуй, лишь в самых редких случаях совпадали по форме с обычной полной малой семьей. Однако они отличались от прочих тем, что люди в них могли опираться только на связи друг с другом: они не могли обрести той уверенности в поведении и той редукции сложности, которые другим давало возвращение в свои края.
Чаще в Рурском бассейне в 1945 году происходило обратное: мужчины, которые всю войну оставались там, потому что работали на военных предприятиях, теперь брали инициативу на себя и ехали через разрушенную страну, чтобы отыскать своих жен, детей или родителей и привезти их домой – даже если этот «дом» практически перестал существовать как таковой. Антон Кроненберг, жестянщик, летом 1945 года едет в Тюрингию, где американская оккупационная администрация уже сменилась русской: он хочет забрать оттуда свою жену; большую часть пути им удается проделать по железной дороге, и только границу они пересекают пешком, нелегально. Интервьюер удивляется – ведь господин Кроненберг был и остается коммунистом; тот отвечает:
...
Да здесь же была моя родина и моя работа, я же должен был вернуться, так? И жена тоже не хотела навсегда там оставаться, они все домой хотели. Там и мать ее с ней была еще, и вся семья, и братья – их Крупп туда перевел, – они же все потом вернулись {50}.
Пусть господин Кроненберг лучше вписывался бы в политический ландшафт советской зоны оккупации, пусть там положение с жильем и продовольствием было по меньшей мере не хуже, чем в Рурской области, пусть жестянщики везде были нужны, пусть там вся его семья была в сборе: все равно само собой разумелось, что они будут возвращаться домой. Отсюда становится понятнее и та путаница чувств и мотивов, что была характерна для людей, сразу после войны отправившихся к своим эвакуированным семьям в советскую зону и вернувшихся лишь почти десять лет спустя: один поехал из американского плена к жене под Лейпциг и там нашел хорошую работу; другой, вернувшись из армии с юга Германии в Рурский бассейн, не нашел работы на своей электростанции и уехал к жене в советскую зону. И тот, и другой вернулись только в 1954 году, и когда они описывают свои мотивы, то невозможно сказать, что было важнее – ностальгия или материальные соображения: все тесно переплетено. Один говорит, что вернулся в Рурскую область потому, что тут – могилы предков, друзья, знакомые, а также потому что ГДР и ФРГ «отличались друг от друга как день и ночь» {51}. А другой уточняет: вернулся из-за тоски по родине. Хотелось домой, хотелось тут снова начать новую жизнь, и вот сел и поехал, а разница между ГДР и ФРГ тогда уже была большая: там меньше платили и приходилось стоять в очередях, а тут «все было уже элегантно» {52}.
Возвращались в Рурскую область не только из советской, но и из других зон. Судя по рассказам, путешествия из конца в конец разрушенной страны нельзя рассматривать просто как оптимизацию собственного материального положения: иногда, скорее наоборот, фактор благосостояния практически не учитывали. Цель путешествия была в том, чтобы попасть домой, в свои края, где человек чувствовал себя и действовал увереннее в ситуации всеобщего кризиса, или в том, чтобы соединиться с семьей как группой самопомощи и надежной гаванью. Когда эта цель достигнута – тогда и войне конец, и не важно, продолжается ли она еще сколь угодно долго после этого или уже давно завершилась; не важно, приходится ли после этого голодать больше или меньше, чем в армии или в эвакуации; не важно, оказывается ли семья в самом деле подмогой или же – как это часто случалось – скорее обузой.
Нагляднее всего это можно видеть в рассказе Эриха Бергера. В 1945 году он на товарном поезде, везшем корнеплоды, переправил свою семью из Нижней Саксонии обратно в Рурскую область. Потом без малого три года он водил старые грузовики в фирме, занимавшейся разбором руин; после денежной реформы фирма обанкротилась. После этого Эрих снова отправляется в путь, чтобы привезти родителей своей жены. В экономическом плане это совершенно нерационально: сам он безработный, живет с семьей в квартире своей матери, так что если его родители вернутся, то не избежать проблем, а мать и отец его жены живут в Баварии у крестьянина, и там жизнь у них объективно неплохая. И тем не менее «тесть непременно хотел домой» – в Рурский бассейн, где города представляли собой лунный ландшафт. На составах с углем Эрих Бергер едет через всю Германию и привозит пожилую чету домой. Они едут в переполненных поездах, и его светлый костюм становится черным, как ночь. Где-то в Швабии он уговаривает железнодорожного служащего прицепить к поезду стоящий рядом вагон, чтоб старички могли посидеть до следующего взорванного моста через Неккар.
...
Потом нам снова пришлось переправляться на пароме, а на той стороне Неккара опять искать железнодорожную станцию. Как бы там ни было, я в целости и сохранности доставил их сюда, до самого Эссена. Собственно, только тут для меня война и закончилась. Теперь мне надо было работать {53}.
Другие рассказывают о том, как для них кончилась война, еще более драматично: их повествования звучат почти как финал оперы. Эльза Мюллер, например, после расформирования своей воинской части в Северной Германии вместе с несколькими солдатами приехала домой на велосипеде. Под конец она оторвалась от них – там, где дорога в ее родном предместье идет в гору.
...
…Навстречу мне девушка, соседка… Я, проезжая мимо нее: «Теа, как дома?» – «Эльза, все в порядке». Поверите, они [т. е. солдаты] видели только, как я мелькала впереди, и парни все говорили: «Ну ты даешь, Эльза, и тут за угол, и там, мы едва следом поспевали». Мы взъехали на гору, стоя в седле, я ведь тогда была стройная, я ведь была оголодавшая… Стоя на педали жала, в гору. Мой отец наверху как раз ставил подпорки для гороха […] – у нас участок прямо на углу на горе. Он выходит, обхватывает меня, кружит и [повторяет]: «Девочка моя, девочка моя вернулась!» И мать пришла с огорода, плача, и сказала: «Теперь я снова выздоровлю, наша Эльза вернулась». Она очень плоха была. И сестра моя вышла и сказала: «Видишь, я же говорила, еще до Пятидесятницы наша толстуха будет дома. Она прорвется». Такая была у нас встреча.
После того как остались позади смертельные опасности, приключения и праздник возвращения домой, начинаются будни, послевоенная нужда, отсутствие цели в жизни: о них эта юная женщина, для которой именно служба на фронте оказалась временем всестороннего раскрытия ее личности, рассказывает так:
...
Это было […] время […] вообще-то было очень драматичное и впечатляющее… Потом в 1945 году началась эта животная жизнь. В общем, тогда я, вероятно, совершила большую ошибку, – наверное из-за того тоже, какое я образование получила, – [ошибка была в том] что я не думала о восстановлении. Это на самом деле была немножко такая жизнь без надежды на улучшение, а только – жить сегодняшним днем, наесться, [иметь] крышу над головой, одежду {54}.
Причина этой перемены настроения – от высокого напряжения и личной значимости к удручающей материальности, которая камнем висит на шее, – не только в том, что мир сузился до размеров домашнего рутинного быта.
Издали дом кажется чем-то таким, что обещает безопасность, уверенность в жизни, готовность помочь, а тем самым – и более благоприятные условия для того, чтобы как-то справиться с чрезвычайной экономической ситуацией. Но все же главное, ради чего люди возвращались домой через разрушенную страну, – это не экономические соображения, а регрессивная утопия, защищенность и простота мира их детства. Магнит под названием «там моя семья, мой дом» дает силы преодолевать все препятствия, превращает поездку в приключение с перспективой; возвращение домой означает личный конец войны, а значит – конец внутреннего движения, которое, помимо внешних усилий, влекло человека вперед. И вот там, где для него заканчивалась война, он в большинстве случаев из мира, рисовавшегося ему в мечтах, попадал в будничную реальность: жизнь без перспективы, в принудительной общности с родственниками, но без «семейной жизни», с напряжением всех сил, но без продвижения вперед.
...
Мы, конечно, очень рады были, когда все кончилось. Когда первые американцы-то шли по Крупп-штрассе, это было хорошо. Да, а потом для нас начался великий голод.
Иде Майстер в то время 19 лет. Ее мать, разведясь с мужем-плотником, работает в универмаге швеей. Через одну из своих клиенток – жену гауляйтера – она обеспечила дочке место ученицы в правлении фирмы DAF. А теперь она осталась без работы. У них живут уже восемь человек, в том числе жених сестры, дом которого разбомблен (сестра тоже безработная, поженятся они через два года), сестра матери с мужем-курсантом, которые были ранены во время одного из последних авианалетов и потеряли своего двухлетнего ребенка, и, наконец, еще две тетки, которые возвращаются на родину из Эйфеля, где были в эвакуации. Живут они у дедушки с бабушкой (дед работал у Круппа) в заводской квартире из трех комнат. Бабушка в больнице, она уже не может двигаться, через год она умрет. Потом из русского плена возвращается дядя, у которого не складываются отношения с дедушкой (дело доходит до ссоры в семье), но он получает ордер на квартиру, так что клан теперь хотя бы может разъехаться по двум домам. Потом госпожа Майстер находит место секретарши, так что ситуация становится чуть менее напряженной. Первые полтора года она в основном тянет на себе хозяйство. Больше всего ей потом вспоминается большая цинковая ванна, стоявшая в одной из трех комнат: это резервуар для воды, и в обязанности Иды входит все время держать ее наполненной, для чего надо приносить воду ведрами от гидранта, находящегося в соседнем квартале. Ее мать еще во время войны начала заниматься спекуляцией: покупателей она находит через своих клиентов в магазине. Остальное – голод… {55}
В поселке, где жил типографский рабочий Гюнтер Шмидт, проведший за свою принадлежность к социал-демократам пять лет в тюрьме и концлагере, во время бомбардировок в 1944 году было разрушено несколько домов, в том числе и его дом. Их с женой во время налета на месте не было, потому что они ездили в Южную Германию к сыну, которого рекомендовали в закрытое учебное заведение, готовившее кадры для руководства Третьего рейха, но он, к счастью, не выдержал вступительный экзамен.
...
У нас в доме были три огромные воронки от бомб. Квартира наша сохранилась, только окна все повылетели. У нас в гостиной была огромная дырка. Из всей семьи мы одни смогли спасти свое жилище… В 45– 46 годах нас жило в трех комнатах 12 человек: мой отец, мой шурин с женой, невестка с ребенком, из Гамбурга эвакуированные, еще один шурин и нас четверо. Потом жильцы над нами добровольно уступили одну комнату. С апреля 46-го мы наконец опять остались одни. Моя жена имела глупость взять на себя готовку на всю эту ораву. А не было же ничего, и они ругались, что они голодные. У нее сделался нервный срыв. А к тому же старший шурин на стройке получал надбавку за особо тяжелую работу и сам себе все покупал; но когда мы ели, он садился за стол со всеми! Я закупал продукты у крестьян, которых знал по заключению. Все шло в общий котел. Об этом забыли. С братьями и сестрами моей жены, кроме одной, мы больше не общаемся {56}.
Семейные сообщества, которые в конце войны собирались в квартирах, не были исполнением тех надежд, которые до того, подобно магниту, стягивали туда родственников через полЕвропы. Это были группы самопомощи, призванные преодолеть крайне тяжелые и непривычные условия жизни, и поскольку они были основаны на отношениях родства, в них был элемент неизбежности: от родни уйти некуда. Функции членов этих групп в основном заключались в том, чтобы выносить сосуществование множества людей в нескольких комнатах и преодолевать дефицит продовольствия и прочие тяготы с помощью разделения труда (официальная оплачиваемая работа, спекуляция и добывание вещей и продуктов на черном рынке, воровство, уход за больными, огородничество, ремонт квартиры, работа по дому и т. д.). Родственные группы самопомощи, очевидно, справлялись с этими функциями не лучше и не хуже, чем другие вынужденные объединения людей {57}. Главным отличием было эмоциональное качество семьи.
Там, где власти ставили на постой жильцов или заставляли хозяев сдавать часть своих жилищ в наем, в результате чего под одной крышей оказывалось несколько социальных ячеек, возникали многочисленные трения, и рабочие кварталы не составляли в этом отношении исключения. Хотя Гюнтер Шмидт говорит, что в кооперативном поселке, где он был референтом правления, соседская солидарность после войны была не хуже, чем в годы нацистского режима, это надо интерпретировать, принимая во внимание, что конфликты были перенесены внутрь семейных сообществ. Между семьями удавалось сохранять одновременно и границы, и сотрудничество: здесь интересы были более или менее едиными и ожидания уже давно и надолго были ограничены вопросами жизнеобеспечения. А вот группы, возникшие на основе родственных связей, были в большинстве случаев внутренне менее едины, вынуждены были сидеть друг у друга на голове, и в силу семейной близости не существовало практически никаких запретов на посягательства на приватную сферу или выдвижение каких-то требований. В другом фабричном поселке из примерно тысячи квартир около ста были разбомблены во время войны. Их восстановление завершилось к 1948 году. Раздел парков на садоводческие участки прошел без проблем – это были привычные задачи соседского сообщества. Но помимо этого понадобилось подселить сюда еще 500 семей. В отдельных случаях в квартире оказывалось до шести семей. Председатель ассоциации жильцов вспоминает, как постоянно возникали споры по ничтожнейшим поводам: из-за сортира, из-за оплаты электричества и т. д. вспыхивали разногласия вплоть до «кухонных баталий» {58}. В ситуации всеобщей нужды любая мелочь становилась серьезным делом, а нервы у людей, живших слишком тесно, были напряжены. Кроме того, среди этого населения уже не существовало привычек полуоткрытого пролетарского общежития, выработанных в прежние времена бедности и миграции {59}. Все это порождало кухонные баталии и страстное желание переехать в отдельную квартиру.
Если жившие вместе товарищи по несчастью были родственниками, то баталий было меньше, поскольку нормы семейных отношений, как правило, тормозили переход конфликтов в открытую фазу. Терпеть эти нормы для младшего поколения зачастую было труднее, потому что старшее поколение обращалось к прежним, дофашистским нормативным системам – таким, например, как церковная антисексуальная мораль, – и утверждало их с помощью родительского права, основываясь на своем статусе владельцев квартир или опираясь на соседский социальный контроль и навязывая эти нормы своим выросшим детям, а тем в большинстве случаев просто некуда было уйти {60}. Душевные раны оказывались еще более глубоки потому, что семья как заветная тихая гавань была продуктом фантазии, проекцией мечты о тепле, естественности и помощи, простоте, честности и защищенности. Таким высоким ожиданиям не могла соответствовать в действительности никакая малая группа, а реальные объединения индивидов, которые создавались по родственным основаниям в силу этих ожиданий и многочисленных жизненных трудностей, испытывали еще и дополнительное давление: с одной стороны, в семьях по сравнению с другими группами было больше людей, нуждавшихся в помощи (инвалидов, больных, престарелых и т. п.), с другой же стороны, с семейными группами люди связывали и особые ожидания – именно в связи с их родственным характером. В очень многих случаях возникали ситуации, требовавшие совсем иных форм поведения по сравнению с малой семьей (которая для большинства была практически единственным привычным способом существования). Лишь очень немногие респонденты, чье детство пришлось на те годы, более или менее отчетливо подчеркивают позитивный опыт, связанный с совместной жизнью с дедушками и бабушками, двоюродными братьями и сестрами. Но и в этих случаях особые (т. е. одновременно урезанные за счет отсутствующих и расширенные за счет добавившихся членов) семейные ситуации, обусловленные войной и ее последствиями, зачастую оставляли глубокие душевные раны {61}.
С высоты птичьего полета может показаться, что семья оправдала себя как социальный буфер в кризисные послевоенные годы, так как была единственной микроструктурой социальной стабилизации и возрождения {62}. Однако свидетельства наших респондентов говорят о том, что между вынужденными родственными сообществами первых послевоенных лет и расцветом малой семьи в 1950–1960-е годы прямой связи нет, а если есть, то только диалектическая. Семья рассматривалась тогда не как противоположность обществу, а как зависимая от него группа. Мечта о семье не исполнялась в принудительных родственных констелляциях; скорее опыт жизни в них порождал и укреплял мечту о такой семье, которая могла бы эту мечту осуществить: семье с необходимыми жилищными и материальными условиями и с полным основным составом членов, но именно малой, а не расширенной семье.
Недостаток альтернатив модели традиционной малой семьи воспринимался как обуза прежде всего женщинами. Мужчины после войны требовали традиционного разделения ролей, хотя это отсекало другие перспективы, наметившиеся в военные годы в биографиях женщин, а самим мужчинам зачастую было трудно вернуть себе свои позиции в профессиональной сфере. Это противоречие, его особую проблематичность, обусловленную войной, и возможности его разрешения я хотел бы продемонстрировать на примерах двух фрагментов биографий женщин, вышедших замуж после войны. Истории эти на первый взгляд кажутся непримечательными, но при ближайшем рассмотрении, наоборот, оказываются экстраординарными.
Первый случай – это история фининспектора Моники Хертель и трех ее возлюбленных, отношения с которыми она описывает, воздавая им должное, с обдуманной доброжелательностью, но дистанцируясь от них в своей нынешней жизни. Юношу, который был ее первой любовью, убивают на войне. Затем приходит большая любовь, в которой она раскрывается как женщина и растет в культурном отношении. Ее она теряет в результате тяжелой истории, когда ее возлюбленный, будучи направлен в охрану концлагерей, «сбегает» и тем самым компрометирует себя. И наконец, из случайного знакомства с человеком, вернувшимся из плена, возникает любовь с первого взгляда, завершающаяся созданием семьи. Этот процесс для женщины оказывается болезненным, поскольку она вынуждена подчиняться нормам сексуального поведения, задаваемым родителями мужа, а она их уже не признает; ее нового партнера их принятие низводит до роли несовершеннолетнего сына. К тому же брак оформляется не ради нее, а ради того, чтобы ее муж не потерял работу, хотя она зарабатывает больше, чем он, и могла бы его содержать.
Последнее обстоятельство еще раз показывает, что определенные формы жизни в послевоенное время были вызваны отнюдь не только материальными требованиями. Материальные обстоятельства образовывают лишь внешнюю рамку, внутри которой решения определяются традиционным распределением гендерных ролей. Эти традиции молодое поколение находит неразумными и несправедливыми и стремится модифицировать. В этом смысле из родственной группы перейти в семью и таким образом эмансипироваться можно только в том случае, если не жена будет продолжать работать на своей высокооплачиваемой работе, а муж сможет сохранить свою менее высокооплачиваемую за счет того, что в качестве женатого обретет право на социальную защиту. Быстро прошедший денацификацию молодой учитель получает работу еще до денежной реформы, но потом его снова увольняют: старых учителей денацифицировали медленнее, но в конце концов они стали отвоевывать свои прежние рабочие места, а государство после денежной реформы оказалось вынуждено ограничивать расходы на преподавательский персонал.
Итак, брак существует на бумаге, пока не подоспеют соответствующие материальные условия – квартира и солидное приданое, большую часть которого двое зарабатывающих супругов после денежной реформы уже могут купить в магазине.
Горечь, с которой госпожа Хертель говорит об этом переходном периоде (и, кстати, только о нем), – это не обида на то, что 30 лет назад ее лишили чувственной любви. Это горечь по поводу того, что женщина – и только она – должна предварительно принести много жертв для того, чтобы в соответствии со своей ролью убежать из родительской семьи в супружество. Впрочем, альтернатив этому пути и она не знает. Как только появляется ребенок, она уходит с работы, которой занималась энергично и умело и которая, по всей видимости, приносила ей полное удовлетворение. Ради супружества она отказывается от своей цели – получить высшее образование: она закончила высшую торговую школу и хотела поступать на экономический факультет Кельнского университета. Брак заключается ради того, чтобы мог продолжать работу по специальности ее муж, а Моника, у которой за плечами два разбитых романа, обнаруживает в первый же год семейной жизни, что основным ее содержанием является подчинение абсурдному ханжеству старшего поколения, от которого ей никуда не деться. В ходе беседы, говоря о другом, госпожа Хертель мельком упоминает, что в то время (ей было тогда 25 лет) ей пришлось перенести тяжелую операцию на органах малого таза, вследствие которой врачи посоветовали ей вообще не заводить детей. Тем не менее Моника потом рожает троих детей – последнего в возрасте 44 лет. Памятуя опыт собственной юности, она воспитывает их более свободно, и муж время от времени помогает ей по хозяйству. Потеряв в войну двоих возлюбленных, госпожа Хертель полностью принимает главенствующую роль брака в своем социокультурно запрограммированном жизненном плане – невзирая на то, что ей приходится сносить большие обиды и отказываться от других перспектив; за это она вознаграждена тем, что традиционная семейная модель реализуется в реформированном варианте.
В другом же случае взаимодействие послевоенных условий и семейной нормы приводит к совершенно противоположному результату. Как нечто само собой разумеющееся, женщина уходит из родительского дома в брак, который не выдерживает никаких нагрузок, и в условиях крайней нужды ей приходится за это поплатиться. Крах семьи, однако, открывает возможность реализовать иной жизненный план, который не предначертан женщине обществом.
Работница Ульрика Ротер {63} в конце войны служила в команде береговой поддержки военно-морского флота. В возрасте 23 лет, вернувшись домой, она оказалась без работы. На бирже труда ее хотели направить на разборку развалин. «И тогда я решила – нет, этого я делать не буду! Камни тесать! И из-за этого я потом и не получила пособия».
На танцах она познакомилась с одним молодым человеком, который был помощником в парикмахерской по соседству; в 1946 году она вышла за него замуж. У него были больные легкие, он получал небольшое социальное пособие, но не имел права на получение квартиры, так что супруги вместе с родившимся вскоре ребенком вынуждены были жить в маленькой комнатке, которая, правда, располагалась неподалеку от квартиры родителей, но, по описанию госпожи Ротер, представляла собой чердачную каморку размером с ванную:
...
Там стояла, значит, кровать, печка, комод и окно косое, стол, два стула, а на стене он из досок собрал стеллаж, где у нас были самые необходимые вещи… в жестяных банках [хранились] продукты, и когда мы продукты эти брали, то там были тараканы.
Муж, который раньше говорил, что квартира – дело второстепенное, теперь приходил в ярость и распускал руки, когда ребенок кричал. Работать он предоставлял жене, а сам распоряжался ее крохотным заработком.
...
Он был подсобным рабочим в маленьком продуктовом магазине. Он мог там брать продукты в долг и потом […] отрабатывать. При том, что я всегда говорила, что так нельзя. […] И его практически опекало соцобеспечение, потому что он же болен был. А когда деньги поступали, то он уже заранее их распределял… Дрова, уголь, картошку – все мне приходилось брать у моих родителей. А потом тащить. И позже, когда малышка родилась, он шел по лестнице, руки в карманах, а жили мы на шестом этаже. У меня была хозяйственная сумка, ребенок на руках, а еще, бывало, тут такое ведро с углем, с дровами или с картошкой. На это он всегда говорил: «Я человек больной». Ну, смотрела я на это, смотрела… потом еще началось то, что из-за ребенка он не мог спать, и я начала искать себе работу. Иногда целый месяц ходила работать за 38 марок [т. е. она довольствовалась такой небольшой суммой, потому что ее заработок вычитался из пособия мужа].
Все кончается тем, что в тесноте комнаты муж хочет ударить ребенка, мать бросается между ними, и он бьет ее. Тогда она съезжает с квартиры; правда, потом еще раз возвращается, но сестре, работающей на фабрике, удается устроить ее туда же на постоянную работу, и тогда женщина берет на себя тот позор, с которым связан развод в среде ее родителей – ремесленников-протестантов, – и расторгает брак, причем вину «за злонамеренное оставление супруга» ей приходится взять на себя, и поэтому она ничего не получает; ребенок, однако, остается при ней. Родители помогают ей обеспечивать его, но подлинное облегчение жизни приходит с другой стороны: Ульрика Ротер вступает в профсоюз, потому что видит, что это – единственная общественная группа, где ее не попрекают тем, что она мать-одиночка. И чем более активно она работает в профсоюзе, тем выше она поднимается по карьерной лестнице и тем большее признание находит среди коллег – правда, только как товарищ, не как женщина. Но и родительская семья сыграла важную роль в ее решении уйти из ужасного семейного рабства, куда она случайно попала:
...
Я сделала это с сознанием того, что родители прикрывали мне тыл… Меня ведь и соседи знали, я до тех пор ничем не провинилась, а что в браке не получалось – так я уже и не так молода была… Может быть, если бы условия другие были, с квартирой и так далее, то до этого бы и не дошло вовсе, ведь он человек-то был неплохой.
Последствия войны – смерть и плен – нарушили пропорцию полов как в рамках населения в целом, так и в каждой конкретной семье: одна женщина перечисляет двенадцать погибших членов семьи, другая сообщает, что все мужчины в ее семье погибли в годы Второй мировой. В результате многие женщины превратились в матерей-одиночек, вынужденных воспитывать детей самостоятельно или с помощью других родственниц. Они сталкивались со всеми теми трудностями, которые из-за крушения системы обеспечения и распределения на общесоциальном уровне были переложены на плечи семей, как бы неполны те ни были. В большинстве случаев женщины брали на себя эту ответственность без колебаний, хотя и было тяжело одновременно растить детей и зарабатывать, добиваться прав на получение продовольствия и добывать сами продукты.
Потеряв своих мужчин, которые погибли на фронте, остались надолго в плену или сгинули в послевоенном хаосе, жительницы Рурской области все же редко образовывали чисто женские группы для совместного найма квартиры или иные социальные структуры помимо семьи или подобных ей союзов – таких, как, скажем, сожительство двух партнеров, которые пока не вступали в брак только потому, что должно было пройти определенное время, прежде чем пропавший без вести супруг объявлялся погибшим. Типичны были два варианта: один из них можно продемонстрировать на примере госпожи Нойфер {64}, которой в 1945 году сообщили, что ее муж погиб в России, но она не поверила, так как в тот день, когда он якобы был убит, она видела во сне, что он попал в плен. Не имея от мужа никаких известий, она четыре года продолжала верить, в то время как окружающие сомневались, а в 1949 году он в самом деле вернулся из русского плена. К тому времени она уже вырастила двоих детей, привела в порядок участок и разоренный и разграбленный дом, работая в нескольких местах уборщицей и разнося газеты. Другой вариант – молодые солдатские вдовы: каждая четвертая из опрошенных нами женщин потеряла мужа или жениха на войне или по крайней мере поверила в известие о его смерти; родив ребенка, они хотели спасти хотя бы часть своей семьи. При этом, если я правильно понимаю намеки, чаще важен им был именно их план создания семьи, нежели сам новый муж.
Одна женщина, после того как ее жених разбился на самолете, стала думать о том, откуда бы заиметь ребенка (причем мысль о мужчине ей в голову не приходила) {65}. Другая немедленно после того, как ей сообщили, что ее супруг якобы погиб, забеременела – по всей видимости, от случайного знакомого, который для нее сам по себе ничего не значил: ей нужен был именно ребенок. Каковы бы ни были перспективы супружества, реальная ситуация была для матерей-одиночек настолько трудна, что они почти не могли активно участвовать в жизни общества, и утверждения, что то было время их освобождения, звучат как насмешка или в лучшем случае пустая абстракция {66}.
...
Нужда 1945 года: тогда хоть бомбежек и не было уже, но и есть нам тоже нечего было. Ведь настоящий голод у нас начался только в 45-м. До тех пор правительство, которое нами ведало, заботилось о том, чтобы какая-никакая еда была, – по крайней мере чтоб можно было досыта наесться. Но после 45 года этого уже не было: мы голодали тогда, по-настоящему голодали. Никогда сытыми не были. Никогда не наедались. Никогда не было ощущения, что хватит, довольно. Если вы тогда встречали женщин, которые стояли в таких длинных очередях у магазинов, – у них у всех были серые лица, почти черные лица: так плохо выглядели женщины; по-настоящему оголодавшие были.
Это говорит госпожа Петерс, социалистка {67}. Оглядываясь снова на военные годы, она вспоминает и другие напасти, которые появились еще раньше, но не исчезли в 1945 году:
...
Женщинам ведь самое тяжкое бремя досталось. Они должны были работать, они должны были обихаживать своих детей, а если детей было несколько, то дело было еще хуже. Они должны были смотреть, чтоб еда была на столе. А потом еще эта мука [гадать]: вернется муж или не вернется? Или: будет у нас завтра еще крыша над головой или не будет? А хуже всего было, если узнавали, что натворил Гитлер: об этом ведь не с каждым и поговорить-то можно было.
Для многих женщин семья в послевоенные годы была одновременно и обязанностью, и фантомом, и проектом. В этой многоликости семьи частично заключается ответ на вопрос, почему, невзирая на сильный численный перевес женщин в обществе и на невозможность вести традиционную семейную жизнь, семья все равно воспринималась как обязательная норма. В Рурской области к этому добавлялось и еще одно обстоятельство: многие мужчины и женщины как незаменимые работники оборонной промышленности получали освобождение или отсрочку от призыва, в силу чего семейные констелляции либо вовсе не нарушались, либо женщин эвакуировали в сельскую местность сравнительно поздно, и потому нормы семейной жизни не испытывали такого сильного деформирующего воздействия войны, как в других регионах – в частности, в городах, где была высокая военная мобильность и где надолго установилось «женское общество» со своими структурами коммуникации и кооперации {68}. В Рурском бассейне женщины не имели возможности научиться новым моделям поведения до того, как те стали реальной жизненной практикой, поэтому практика, осуществлявшаяся под непосредственным давлением проблем и нужды, была почти не в состоянии оказать изменяющее воздействие на нормы. Одно было общим для всех вариантов – для родственных кланов и матерей-одиночек, для вдов и девиц, для семейных пар, в которых супруги боролись за жизнь, и для таких, в которых после длительного периода неуверенности и разрушения кто-то из партнеров начинал новый проект строительства будущего и безопасной гавани: общим было то, что в головах женщин и мужчин из среды рурских рабочих в это время меньше, чем когда-либо присутствовали какие-то базовые формы социальной организации, представлявшие собой модели, альтернативные семье. Однако, весьма традиционная семейная модель не структурировала действительность, а представляла собой конкретную утопию, которая не сразу поддавалась реализации, но и была не настолько оторванной от жизни, чтобы ее невозможно было реализовать. Иными словами, кризис, парализовавший немецкое общество после войны, для рабочего населения Рурского бассейна оказался последним мощным импульсом в направлении интериоризации социального контроля через подразделение общества на малые семьи как ячейки, в которых осуществлялось упорядочение жизни и социализация, – т. е. в том самом направлении, в котором уже сто лет осуществлялся важнейший проект буржуазной социальной реформы {67}. И этот последний импульс в направлении интериоризации социального контроля был не результатом социальной политики, а следствием ее коллапса, и застал он буржуазию в тот момент, когда она была слабее всего и морально сильнее всего скомпрометирована, а рабочий класс – в тот момент, когда он не имел социально-культурной альтернативы, которая распространялась бы и на сферу личной жизни.
4. Школа рынка
...
Электричество мы получали по проводу, протянутому в заднюю комнату парикмахерской – «Россман» тогда называлась. Там и сейчас парикмахерская, но я не знаю, как она называется. Там была розетка, она была под напряжением. Откуда это электричество поступало – ни одна собака не знала.
Но от одной этой розетки шло в квартиры 50–60 шнуров, т. е. проводов, какими на шахтах взрывные устройства подсоединяли. И на нем висела только лампочка. Ведь даже лампочка тогда была целое дело, понимаете, ее надо было какими-то окольными путями доставать. Ничего же не было, вообще ничего {70}.
Это была точка начала отсчета. На первый взгляд кажется: в середине ХХ столетия люди, живущие среди руин, отброшены в каменный век. Элементарные общественные системы снабжения разрушены, как разрушена и негосударственная экономическая система распределения через патронируемый государством рынок. И тем не менее удивительным образом, почему и как – лучше не спрашивать, посреди шахтерского квартала в задней комнате парикмахерской сохранилась одна розетка, в которой есть ток. В мгновение ока от этой одной розетки проводится освещение в полсотни квартир – невзирая на опасность короткого замыкания, невзирая на то, что ни провода, ни лампочки купить невозможно, и невзирая на предписания, согласно которым теперь вообще-то никакого электричества и нет вовсе, а если бы было, то подавалось бы рационированно и за деньги. Импровизированное самообеспечение предусматривает использование чужих, но территориально досягаемых ресурсов (электричество, провода), которые за невозможностью общественного или личного контроля оказались доступны; в ходе спонтанного сотрудничества тех, кто распоряжается ресурсом, с теми, кто владеет технологией его использования, этот ресурс начинают расходовать – без зазрения совести, однако экономно. Ведь, с одной стороны, необходимо минимизировать технические риски, с другой – лампочки не валяются под ногами. Их надо доставать. Это означает, что нужно нарушать права собственности, причем в крупных масштабах, посредством воровства или нарушения предписаний, которые рационируют потребление ресурсов и которые в принципе выгодны представителям непривилегированных слоев; нарушать их приходится путем коррупции или иным «обходным путем», а из-за этого нужный товар становится дорогостоящим.
В том, что существует такая вторая экономика {71}, в принципе нет ничего особенного: ни одному рынку и ни одной бюрократии до сих пор не удавалось охватить все производственные и обменные процессы: всегда оставались сферы личного производства, не обложенного налогом обмена, нелегального наемного труда, коррупции и скупки краденого. В условиях дефицита и репрессий эта серая зона всегда разрастается – разрослась она и при господстве нацистов, причем очень сильно, хотя и весьма противоречивым образом: с одной стороны, в ходе грабительских войн Гитлера представители господствующей нации получили расширенную возможность «доставать» товары на оккупированных территориях целого континента, и под, так сказать, «парадной», крупномасштабной коррупцией нацистских бонз возникла еще и сеть пронизывавших общество «связей», спекуляций и переправки продуктов и товаров из-за границы на родину. С другой стороны, власть имущие стремились утвердить свою карточную систему средствами полицейского террора, усилившегося во время войны. Для немцев, таким образом, не было ничего нового в том, что при оккупационном режиме рационирование касалось, самое большее, товаров первой необходимости, а все потребности сверх того удовлетворялись только нелегальным путем. Новым было то, что дефицит вплоть до весны 1947 года постоянно увеличивался; что карточная система не способна была в какой-то момент обеспечивать даже товары первой необходимости; что всем и каждому приходилось выкручиваться и нарушать закон; что преследование массовой нелегальной экономической деятельности со стороны неэффективной полиции если и не прекратилось, то в значительной мере утратило свой террористический характер, и архиепископ выдал общее отпущение грехов тем, кто был повинен в воровстве ради необходимого пропитания {72}. Кроме того, участие во второй экономике облегчалось, если не вознаграждалось, тем, что всякий знал: оккупационные власти сами глубоко вовлечены в нее – через своих солдат. Многие дорогие товары и предметы роскоши покупались именно у союзников, и сигареты – твердую валюту черного рынка – поставляли именно солдаты оккупационных войск. При этом двойной правовой стандарт применялся настолько неприкрыто, что немцам было ясно: дело было не в том, чтобы всем досталось справедливо по потребностям, а в том, чтобы рынок принадлежал сильнейшему.
...
Фотоаппарат на сигареты, а сигареты – на сало… С фотоаппаратом поехал в Гамельн, там сменял англичанам на сигареты… а потом в Мюнстерланд за салом… Я хотел аппарат поменять в фотомагазине [на картошку], но там не захотели. А дали совет: можно сменять англичанам, возле суда, т. е. возле английского военного трибунала. Пошел туда, а там как раз шло заседание. Судили одного – немца. Наказали за то, что он спекулировал английскими сигаретами. И тут выходит один из судей, берет у меня фотоаппарат и дает мне за него блок сигарет. Я мог с этими сигаретами уходить. И я еще подумал: хорошо бы не взяли меня на выходе с этими сигаретами. Тоже двурушничество такое было… Я полагаю, что и конфискованные сигареты они там при случае тоже потом дальше пустили. Да, сумасшедшее было времечко {73}.
Общественный порядок рухнул и не мог уже больше в достаточной мере регулировать удовлетворение гражданами своих потребностей, а потому сместились и представления о том, что такое порядок. Основной урок, который могли извлечь из всего этого люди в послевоенные годы, заключался в том, что не существовало никаких абсолютных (т. е., в частности, действующих и в условиях кризиса тоже) представлений о порядке и морали. Мораль, которой их учили прежде, оказалась теперь излишеством, от которого надо было освобождаться тому, кто хотел выжить в условиях второй экономики. Несколько респондентов, прежде всего представители «старой левой», рассказывали, что они сами или их близкие родственники не могли заставить себя воровать ради пропитания, торговать на черном рынке, просить подаяния у крестьян. Разумеется, есть и примеры того, как столкновение морали выживания с нормами добропорядочности мирного времени принимало пугающе гротескные черты: например, госпожа Везель рассказывает {74} – сравнительно бесстрастно – о том, как она ехала на поезде в Южной Германии и одна из пассажирок столкнула на ходу из вагона мужчину, больного чесоткой: а вдруг он заразный? Затем, не переводя дыхания, она сообщает, что во время этой поездки она ночевала у незнакомой женщины и, уходя, нечаянно забрала с собой серебряную ложку; потом еще много лет она всякий раз, как видела ложки, думала: «Что же я наделала?» Однако в большинстве случаев истории, рассказываемые нашими респондентами, повествуют о конфликтах, в которых человек оказывается не в состоянии усвоить новую мораль – такую, высшей ценностью которой является выживание, – и из-за этого его жизнь оказывается под реальной угрозой: так, например, госпожа Бергер со своими двумя детьми в конце войны едва не умерла с голоду, сидя в доме крестьянина рядом с его сковородкой, полной шкварок {75}.
Во многих случаях герои видят, как их моральные представления у них на глазах другими доводятся до абсурда.
Большинство рассказчиков усвоили этот урок: хватай, если предоставился случай, и ни за что не выпускай схваченное из рук. Ведь прежний обладатель этой вещи наверняка тоже имел на нее не больше прав, чем любой другой, кому она понадобилась. Интервью полны замечаний такого рода: «Скверное было дело – голодуха. Тут и становилось видно, кто чего стоит. Среди моих знакомых тогда не было ни одного, кто помогал бы, ничего не требуя взамен. Такого просто не бывало» {76}. «В послевоенное время было ведь тоже так, что каждый был рад, если у него у самого было что поесть» {77}.
Поскольку картофелехранилища в подвалах все время взламывали, отец госпожи Урбан оборудовал ларь для картошки (которую получил на шахте) у себя в спальне {78}. Даже тот адвокат, которому тяжело раненый на войне Пауль Якоб хотел поручить ведение судебного процесса против ведомства социального обеспечения, потребовал в качестве оплаты вперед телегу угля и бутылку шнапса {79}. А когда в 1947 году умер отец госпожи Кельнер, сосед-пекарь спросил у родственников покойного, что бы они предпочли получить: венок или кукурузный пирог. К тому времени уже укрепилась новая мораль, мораль выживания, и семья выбрала, естественно, пирог. Воспоминания госпожи Петерс о том, как она не могла попрошайничать и спекулировать, составлены еще из элементов как старой морали («я не могла просить милостыню»), так и новой («другие были оборотистее нас»), в то время как другим их неспособность добиться успеха во второй экономике представляется чистой воды поражением. Госпожа Вольберг и по сей день винит себя за то, что во время поездок в деревню за продовольствием говорила с крестьянами на их диалекте: ей ничего не удавалось получить, потому что наиболее состоятельные из крестьян не хотели признаться «местной» женщине, что не сдали государству продукты, как полагалось. А у Герды Герман {80} нежелание воровать со своего завода вещи для обмена сформулировано вполне на новом языке рынка: «А я была такая неразумная… Я ничего не могла добыть, ничего у меня не получалось». Но потом она реабилитирует себя, рассказывая историю о группе девочек, отправившейся на велосипедах на Нижний Рейн, где один крестьянин пустил их на ночлег, а утром подарил каждой по два фунта груш и отправился в церковь. А они в его отсутствие поделили между собой остальной урожай фруктов. Ульрике Ротер {81} в качестве оправдания тому, что не занималась попрошайничеством и спекуляцией, ссылается на то, что не умела ездить на велосипеде и была некурящей, так что сигареты, которые она получала, мог сбывать ее брат.
Новые установки усваивались очень быстро – ведь это была не личная позиция, которую нужно было бы оправдывать перед лицом общества, а общественная норма, от которой госпожа Петерс все еще отклонялась и потому выглядела скорее белой вороной в ситуациях, подобных вот этой:
...
Тогда от шведского Красного Креста поступала так называемая «шведская еда». Там каждому ребенку выдавали судок, в котором было с поллитра [супа]. Но женщины там были такие бессердечные, они давали детям только примерно по полпорции. И вот как-то раз пришел наш сын домой и говорит, там опять было совсем чуть-чуть. Ну я тогда пошла туда и задала жару, что ни стыда, ни совести у них нет. Они все покраснели. Но ничего не помогло, они все равно таскали суп домой. Нам ведь и уголь приходилось туда приносить для «шведской еды», и молочные фляги. А потом однажды мы устроили такой рождественский праздник, и там сидели за столом дети, свечи горели. И я увидала, как женщины набивали себе сумки. И мне сказали, чтоб я себе тоже что-нибудь взяла. Они вообще только о себе думали {82}.
Разумеется, такое возмущение, какое продемонстрировала раздатчицам «шведской еды» госпожа Петерс, еще могло кого-то заставить устыдиться; но характерно, что вообще-то никому не было стыдно, когда люди в условиях голода и нужды присваивали себе общественное или предназначенное для распределения среди нуждающихся имущество. То, что женщины, которых критикует рассказчица, сумели урвать что-то для себя, скорее могло считаться их вкладом в выживание их семей. Но нам не так важно установить, сильно ли изменилось само поведение (вероятно, не сильно), тем более что в этом отношении наши интервью-воспоминания представляют собой не очень надежные источники. Новая мораль выживания, которой после крушения фашизма не противостояла больше никакая другая сильная мораль, заключала в себе принципы, которым человек обучался в школе рынка. Деваться от них было некуда, потому что государство даже не сулило – а тем более не обеспечивало – элементарного прожиточного уровня. Большинство наших респондентов говорят или намекают, что они умерли бы с голоду или не нашли бы крова, если бы надеялись только на обычные карточки и жилищные ведомства. Но, скорее всего, они так же умерли бы с голоду, если бы питались только с черного рынка, ведь у них не было достаточного количества вещей, чтобы в течение долгого времени продавать или менять их на необходимые продукты. Таким образом, в школе черного рынка наши респонденты-рабочие учились не принципам свободной торговли: главный урок заключался в том, что одна лишь работа не гарантирует выживания, но не гарантируют его и государственные системы жизнеобеспечения. Пользование рынком было неизбежно – но это был не рынок экономистов-теоретиков, представляющий собой единственную эффективную систему распределения, где личная выгода многих складывается в общую выгоду. Тот рынок, с которым эти люди познакомились на собственном опыте, был скорее сферой борьбы и неравного обмена, который, с другой стороны, делал предметом обмена все что угодно. Это была сфера, усиливавшая несправедливость, превращавшая бескорыстную помощь в нелепость, разрушавшая солидарность и возводившая личное присвоение в систему. В то же время, эта сфера характеризовалась недостатком или негибкостью альтернатив, маломощностью и коррумпированностью. Однако она привлекала людей простором для фантазии, самоутверждения и свободной оптимизации возможностей.
Уроки, которые преподносили людям необходимость (впрочем, ограниченная) и страсть к приключениям, которая часто приводила к постыдным или неудовлетворительным результатам, – основная тема рассказов о добывании продовольствия и компенсации утрат в послевоенные годы; она излагается в бесчисленном количестве вариаций. Молох этого голодного рынка поглощал почти все – не только труд рабочих и ремесленников-надомников (многие начали изготавливать вручную заменители исчезнувших предметов быта) {83}, но и приданое дочерей, постепенно распродававшееся на толкучке, и страховку за погибшего мужа, которая ничего не стоила, пока ее не переводили в более твердую валюту – шнапс или сигареты; потом она могла превратиться, к примеру, в спальню. Тот факт, что человеку несколько раз подряд удавалось втереть восточнофрисландским крестьянам шахматные часы в обмен на картошку, показывает, что система обмена приобрела уже в значительной мере самостоятельный характер, т. е. отделилась от целей удовлетворения потребностей или помещения капитала, так что любые предметы, в которых можно было заподозрить какую бы то ни было ценность, превращались скорее в трофей, свидетельствующий о рыночном успехе, нежели в эквивалент товара или денег. Только в силу того, что госпожа Вольберг жила в деревне и была несколько лучше обеспечена основными продовольственными продуктами, чем люди сравнимого достатка в Рурской области, она могла позволить себе не отдать свояку, торговавшему на черном рынке, сервиз, сказав: «[Его] купил мой первый муж, и я с ним не расстанусь». Предметы, с которыми у нее были связаны воспоминания и чувства, она смогла сберечь от «тоталитарного» рынка в обществе выживания.
Но вместе с тем рынок предоставлял семьям наших респондентов и больше шансов, чем можно было бы предположить, слушая стандартные истории о том, как после войны распродавали фамильное серебро или отдавали крестьянам персидские ковры, которыми те выстилали коровьи стойла. Дело в том, что у наших рассказчиков подобных ценностей практически не было, их ресурсы были другого рода: во-первых, способность изготавливать или чинить необходимые предметы. В силу этого им часто были нужны различные редкие запчасти, которые они выменивали на другие, столь же редкие, или подбирали среди развалин. На сером рынке меновой торговли главным было оптимальное вложение средств.
Это же касается и второго фактора, не менее важного для Рурской области: систем пайков для шахтеров, занятых на тяжелых и особо тяжелых работах, и оплаты труда натурой на предприятиях, управлявшихся в это время в основном производственными советами, и в горнодобывающей отрасли, где эта система натуральной оплаты частично опиралась на продовольственные пакеты от американской благотворительной организации CARE {84}.
Все эти системы вознаграждения обеспечивали семьи занятых наиболее тяжелым трудом работников ценными продовольственными товарами, однако эти стандартные товары зачастую не соответствовали реальным потребностям семей; тем охотнее их пускали в обмен {85}. Значительная доля шнапса, сигарет, кофе и шоколада – валют черного рынка – была, по всей видимости, натуральной частью зарплаты рабочих. Соответственно, эти люди обладали большей покупательной способностью, нежели те, кто получал больше, но – обесценившимися деньгами. В качественном отношении весьма значительная часть дохода происходила из так называемых компенсационных трансакций [17] . Большинство интервьюируемых сообщают, что на предприятиях тяжелой промышленности распределялись товары повседневного спроса или что в трудовых коллективах имелись специальные работники, занятые не профильным производством, а жизнеобеспечением; в особенности же подчеркивается, что пайки и пакеты помощи от CARE, распределявшиеся на шахтах, открывали возможности для компенсационных трансакций. А в Рурской области очень многие имели отношение к шахтам – если не самое непосредственное, то все же достаточно близкое, чтобы получать эти блага. Продукты, которые по идее должны были получать шахтеры, чтобы повышать производительность добычи предназначенного на экспорт угля, распределялись, по-видимому, и среди служащих, занятых на шахтах или связанных с ними предприятиях, и, например, среди строительных рабочих, которые ремонтировали здание над входом в шахту {86}. В силу этого большинство работающего населения Рурской области, вероятно, и лучше снабжалось, и оказывалось в более выгодном положении на черном рынке, чем можно было бы ожидать, исходя из того, как мало в домах рабочих было имущества, годного для меновой торговли.
Господин Петерс работал тогда в строительной бригаде, ремонтировавшей квартиры, и он помнит, какой неоднозначной была ситуация: с одной стороны, те, кто тяжело работали, остро чувствовали голод; с другой стороны, они получали карточки, по которым им полагался дополнительный плотный обед. А поскольку они занимались ремонтом квартир шахтеров, то им полагался еще и паек горняка. Но, говорит он, те, кто работали под землей, жили еще лучше: в их квартирах всегда очень вкусно пахло. С другой стороны, ту рабочую обувь, которая полагалась строителям, хозяин фирмы менял на шнапс. Поскольку сам рассказчик прибыл с востока и у него ничего не было, то для начала ему пришлось искать и «доставать» все необходимые инструменты, использовать ночные горшки вместо ведер. Чтобы легально приобретать продукты, приходилось подолгу стоять в очередях; в этом отношении собственный садовый участок был большим подспорьем, тем более что располагался он рядом с большим пшеничным полем, и по ночам семья господина Петерса там срезала колосья, обмолачивала их, перетирая между ладонями, и молола зерно в кофейной мельнице {87}.
Подробности в рассказах наших респондентов говорят, впрочем, и о том, что «привилегии», которыми пользовались многие рурские рабочие, не обеспечивали им и их семьям нормального питания: эти люди были просто чуть менее голодными, чем остальные. Таким образом, значение описанной здесь качественной дифференциации, которую невозможно измерить в силу ее комплексного характера, заключается не в том, что она обеспечивала решительное улучшение уровня жизни: его частично сводили на нет условия, царившие в разрушенной городской агломерации Рурского бассейна. Значение этой дифференциации следует усматривать скорее в том, что доля рынка, занятая второй экономикой, воспринималась теми, кто был связан с горнодобывающей промышленностью, в качестве буфера, частично смягчавшего кризис, в то время как рационированное государственное распределение воспринималось как дефицитарное, характерное для плановой экономики.
5. Экскурс: власть рабочих на черном рынке
Выше, говоря о непосредственном воздействии второй экономики на людей, мы описывали ситуации научения новым принципам, таким как самопомощь, мораль выживания, компенсация. Эти принципы основывались на представлении, что приватизация и рынок – это путь к преодолению кризиса. Но здесь необходимо предостеречь читателя от некоторых неверных выводов: так, не следует думать, будто индивидуализация была единственной тенденцией, которую можно обнаружить в среде рабочего класса послевоенных лет; не следует думать, будто власть рабочих и ориентация на рынок в условиях расколотой экономики принципиально несовместимы друг с другом; и, наконец, не следует думать, будто не существовало политических альтернатив принятию капитализма в качестве пути выхода из одного из самых глубоких кризисов капиталистической экономики в Германии.
Я не буду здесь пытаться эмпирическим путем вывести эти коррективы из наших интервью, поскольку они в основном связаны, с одной стороны, с общей ситуацией в рабочем движении в период между Второй мировой и холодной войнами {88}, а с другой стороны – с социальным составом и деятельностью производственных советов и иных близких к базису элит рабочего движения, которые рассматриваются в двух других главах этой книги {89}. Я ограничусь тем, что на основании текстов интервью изложу некоторые краткие соображения, которые помогут проследить связи между рассматриваемыми здесь ситуациями научения базовым принципам повседневной борьбы за выживание, с одной стороны, и более общими тенденциями в рабочем движении вообще и деятельностью производственных советов в частности, с другой стороны.
Тенденции в сторону индивидуализации повседневной трудовой и бытовой деятельности среди рабочего населения Рурской области еще не приняли в первые послевоенные годы необратимого характера. Поведение людей заключало в себе амбивалентные возможности, которые лишь при взгляде из далекого будущего выглядят так, будто тогда, невзирая на все публичные демонстрации в пользу социализации, капиталистические принципы в практике второй экономики за недостатком эффективных альтернатив уже полностью закрепились. Тенденция в сторону индивидуализации вовсе не повсюду была необходимостью: везде в кадрах рабочего движения ведущие позиции занимало старшее поколение, чье политическое мировоззрение и стиль поведения сформировались еще в годы Веймарской республики. Не подлежит никакому сомнению, что координирующие структуры на предприятиях, в профсоюзах, жилых районах поначалу были полны духом культуры рабочего движения веймарских времен, хотя перспектива и была несколько искажена гнетущим массовым опытом периода фашизма. Младшее поколение, которое прошло социализацию в рядах гитлерюгенда и подобных ему государственных организаций, а после 1945 года, очевидно, стремилось побыстрее преодолеть шок от крушения своей прежней картины мира, ждало от старшего поколения инициатив и готово было принять их. Но, разумеется, это поколение не готово было следовать традиции бытового коллективизма и коллективных стратегий построения будущего. Поэтому все вопросы общество обращало к среднему поколению, которое было очень рано выбито из колеи мировым экономическим кризисом и только при Гитлере познало немножко нормальной жизни, которая, правда, вскоре была оборвана войной.
Еще более открытой перспектива представляется, если рассматривать уровни деятельности, которые открывались рабочему классу для самостоятельной активности в условиях низового вакуума власти при оккупационном режиме, построенном на принципе indirect rule [18] . В том, что касалось жилищной и домашней сфер, рабочее население после краха коллективных организаций самопомощи, созданных антифашистским движением {90}, вынуждено было прибегать к семейным и индивидуальным стратегиям выживания, которые, по крайней мере частично, заставляли людей приспосабливаться к условиям рынка. На наивысшем уровне деятельности – в руководстве политических и профсоюзных рабочих организаций, а также в коммунальной и затем земельной администрации – у немцев было мало возможности проводить свои интересы как «снизу вверх», так и «сверху вниз»: рамки деятельности были заданы оккупационными властями и в основном ограничивались легитимационными и организационными функциями. На этом уровне, правда, поначалу пропагандировались традиционные социалистические цели, направленные на преодоление кризиса, парализовавшего страну; в форме государственного рационирования и распределения они частично были уже реализованы. Однако этот уровень практически не соприкасался с заботами населения о выживании, и оно в основном просто с одобрением принимало его как данность {91}.
Поэтому здесь интерес тоже направлен был на промежуточный уровень, а это в данном случае были близкие к рабочему базису кадры коммунальной администрации и профсоюзного движения. В Рурской области было много освобожденных членов производственных советов на крупных предприятиях тяжелой промышленности (где вместе с тем позиция работодателя была, хотя бы временно, лишена прежнего характера высшей власти, поскольку многие предприятия были конфискованы, а многие владельцы и высшие управленцы себя скомпрометировали или были арестованы) в силу чего там, по всей видимости, в самом деле наличествовал дееспособный промежуточный слой, который был в состоянии конкретно организовывать и удовлетворять интересы работников {92}. В первые послевоенные годы производственные советы были не столько органами внутризаводского представительства и посредничества, сколько исполнительными органами рабочей власти, в одно и то же время и законодательствующей, и исполняющей законы {93}. В условиях почти полного правового вакуума они потенциально могли присваивать себе любые компетенции. Все вопросы решались напрямую: свидетельство о непричастности к нацистской партии для управляющего в период денацификации (за это он должен был подвергаться проверкам и благодарить); представление интересов предприятия вовне – перед оккупационными властями и коммунальными органами; вопросы найма и увольнения персонала; освобождение самих членов совета от работы на производстве; неденежные формы оплаты труда (например, компенсационными товарами); использование труда работников для целей, не относящихся к производственному процессу. И эти всеохватные компетенции, как правило, включали в себя даже представление интересов трудового коллектива на черном рынке с использованием продуктов и оборудования, принадлежавших предприятию.
Если внимательнее изучить сообщения опрошенных нами членов производственных советов, то становится ясно, что эти виды деятельности больше соответствовали представлениям послевоенных советов или антифашистских комитетов о круге своих задач, нежели представлениям советов рабочих и служащих веймарского периода или тем более представителей «Немецкого трудового фронта». Иначе говоря, они выходили за пределы прежнего опыта членов производственных советов и предъявляли к ним новые требования в силу чего те их глубже всего переживали и лучше всего сохранили в памяти. Формулировки вроде «в то время я, собственно, был предпринимателем», «профсоюз может вообще все», «если завод будут демонтировать, то делать это будем мы» {94}, отражают ощущение собственной силы, которое было у членов этих советов. Конечно, они мало задумывались о том, что было за пределами территории их предприятия, потому что были слишком заняты; но в пределах этой территории они чувствовали себя теми, от кого на самом деле все зависело, по крайней мере в Германии. Что касается фабричных советов в Италии и Франции после освобождения, то о них в литературе сообщается {95}, что на протяжении многих лет усилия даже левых правительств, направленные на нормализацию, сталкивались с сопротивлением стремившихся к самоуправлению трудовых коллективов. Это явно можно отнести и к некоторым германским предприятиям, особенно в тяжелой промышленности Рурского бассейна. Особое положение Германии в период оккупации, похоже, в силу различных причин скорее способствовало поддержанию этой власти рабочих на предприятиях, чем ограничивало ее. Конфискации и угрозы демонтажа заставляли старых владельцев и управляющих – если они были на месте – соглашаться на компромиссы. Оккупационные власти были заинтересованы в максимальном объеме производства, по крайней мере в горнодобывающей отрасли, – а для этого нужны были рабочее представительство и система поощрения за счет натуральных выплат. И наконец, за недостатком национального суверенитета правящие круги практически не могли оказывать серьезное дисциплинирующее воздействие на заводские кадры. Производственные советы действовали в условиях вакуума государственной власти.
Эта структура смогла функционировать в разных формах и в разной степени на протяжении нескольких лет в основном благодаря расколотой экономике, т. е. смеси из государственного рационирования и черного рынка. В той части распределительной системы, которая действовала, решения монопольно принимались на уровне более высоком, нежели уровень предприятия, и туда советы допускались самое большее с совещательным голосом. В полноценной рыночной экономической системе советы сосредоточивались на разрешении профсоюзных и внутризаводских конфликтов. А в раздвоенной экономической системе многие распределительные и компенсационные функции были не заняты, и это предоставляло производственным советам огромную свободу действия, в частности с целью организованного отстаивания интересов представляемых ими работников в репродуктивной сфере. В этом направлении деятельности, похоже, царило единодушие, в то время как в остальном советы были расколоты на политические фракции (впрочем, спорили они о дальних перспективах, которые все равно от их решений не зависели). Организованное участие в торговле на черном рынке касалось базовых потребностей людей, и это придавало ему легитимность. Когда один член производственного совета вернулся из Зауэрланда с грузовиком, полным смальца, и «каждый получил по семь фунтов смальца, – и солдатские вдовы тоже, и заводское начальство тоже, каждый малец» {96}, тогда никто не думал ни о каких партиях, тогда все были просто товарищами по работе. Переход на производство мирной продукции, как рассказывает другой респондент, могло заключаться, например, в том, что завод начинал изготавливать большие алюминиевые кастрюли, чтобы выменивать на них у крестьян продукты, и производственный совет вводил тройную бухгалтерию: поскольку поблизости от Рурского бассейна было слишком много желающих вести компенсационный обмен с крестьянами, эмиссары отправлялись дальше, до Гелле, везя от завода наряду с кастрюлями гвозди, рабочую обувь и тому подобный меновой товар. «Потом и велосипеды, и шины велосипедные …это все честно записывалось: этот получил то, этот – то, и потом все это обменивали. Мы ж только этим и жили» {97}. Могло быть и по-другому: производственный совет мог превратиться в объединение с целью коллективной кражи угля. Один железнодорожник рассказывает, что на станции уголь, оставшийся от паровозов, был продан налево, и кочегары экономили брикеты. Тогда производственный совет собрал остатки и оптом обменял их на продукты {98}.
Если отношение трудовых коллективов к своим производственным советам {99} рассматривать на фоне этой расширенной сферы компетенций, которая включала в себя и предпринимательские, и политические функции и далеко простиралась в область производства и обеспечения, сплетая их друг с другом, то невозможно не заметить, что рядом с профсоюзными и политическими возникли отношения патроната. Можно даже утверждать, что они в первые послевоенные годы были самой важной связью между руководством и базисом, потому что единый профсоюз сглаживал разъединенность политических фракций, а профсоюзные задачи в условиях, когда зарплата не выплачивалась, оказались лишены своего традиционного ядра. Поэтому наступила героическая фаза того, что позже получило презрительное название «сращивания». В этот период производственные советы взяли на себя посреднические функции, закрывая лакуны раздвоенной экономики; эта их деятельность в общеэкономических масштабах имела, конечно, лишь маргинальный характер, однако для клиентов из числа работников предприятия это посредничество совета-патрона было жизненно важно. Одновременно советы посредничали и между руководством рабочих организаций, чьим социалистическим программным целям мало способствовали их узкие сферы компетенции, с одной стороны, и рабочими – с другой. Рабочие и их голодные семьи по необходимости интересовались прежде всего жильем и продовольствием, но достаточной мощью для ведения компенсационной меновой торговли на черном рынке обладали не индивидуально, а лишь как целый трудовой коллектив. Из этой прагматической легитимации проистекал главный поучительный эффект этой посреднической рабочей элиты: традиция представительской деятельности, концентрация на обеспечении выгод и компетенция во всех вопросах (правда, со временем становившаяся все более нематериальной). Путь к этому результату был вымощен разочарованиями, ибо он уводил от социалистической системы координат, на которую были спроецированы легитимации организованного участия в экономике черного рынка. И старые бойцы, и новообращенные изначально шли в профсоюзные или политические организации не за тем, чтобы ездить по деревням Люнебургской пустоши и обменивать для сослуживцев ванны на сало. Когда в интервью заходит речь о первых шагах локальной политической деятельности, опрошенные постоянно повторяют, что поначалу в спектре было всего два цвета: католический черный и коммунистический красный {100}. Фактически это неверно: социал-демократы в первые послевоенные годы были сильнее, чем когда-либо прежде, но, правда, и «краснее», чем когда-либо потом. Но эта двуцветная картина правдиво передает атмосферу: старшее поколение рабочих стремилось возродить и сохранить старые традиции рабочего движения, которые хорошо зарекомендовали себя в католических или коммунистических объединениях. Уже хотя бы по этой причине дробление нового единого профсоюза на политические фракции было в то время совершенно естественным. Младшее поколение искало прежде всего смысла, системы мышления, ориентации в экзистенциальных вопросах жизни и новых общностей («Это крушение, это чувство бессмысленности того, во что верил и чего теперь больше не было, – [это продолжалось] очень недолго» {101}). И тем, и другим – «традиционалистам» и временным «экзистенциалистам» – католики и коммунисты предлагали альтернативные ориентации и общности, основанные на мировоззрении. А в том, что касалось вопросов формирования хозяйственного порядка, их программы постепенного перехода к социализму в то время не сильно отличались друг от друга и от программы СДПГ. Прагматическая же деятельность их представителей на предприятиях была вообще почти одинаковой, хотя клиентела у них на попечении была разная и по вопросу о нацизме у них были разногласия.
И тем не менее в повседневной жизни первых послевоенных лет молодые и старые, черные и красные оказались разобщены. Они действовали обособленно, но все говорили с большинством рабочего класса не на своем языке, а на прагматическом языке ремонта квартир, компенсационной меновой торговли, натуральной оплаты труда. Функционеры всех трех направлений чувствовали, что рабочие массы лишали их главной миссии тем вернее, чем сильнее они сами чувствовали себя связанными социалистической программой и чем больше эта программа блокировалась оккупационными властями. Проповедовать свои цели трудовым коллективам, состоявшим из людей, чьи мысли были сосредоточены на семье и будничных заботах {102}, значило бы для социалистических активистов из любой фракции превратиться в сектантов. В зазоре между политикой оккупационных властей и потребностями рабочего класса они ощущали сильное давление, заставлявшее их приспосабливаться, рутинизировавшее их героический прагматизм первых лет и сужавшее их локальную всеохватную компетенцию до роли внутризаводских посредников. Это принудило их к многословному молчанию. Опыт после 1947 года создал у них устойчивое впечатление, что две их лояльности: рабочему классу, с одной стороны, и социализму – с другой, были несовместимы друг с другом. Их прежние понятия превратились для них самих в пустые слова или ругательства. Один из опрошенных, долго сопротивлявшийся такому вынужденному переходу с идеологизированных позиций на прагматические, формулирует это красноречивой фразой: «Здесь тогда еще время не пришло для тогдашнего времени» {103}.
6. Отсчет перед стартом. Миф о несправедливости и порядке
Ни одно событие не вписалось настолько всеохватно в опыт населения Западной Германии, как денежная реформа 20 июня 1948 года {104}. Помимо 1945 года, это – единственная веха, которая используется людьми для датировки других событий в их жизни; это событие знают все, и его значение все интерпретируют одинаково. До него – только война, после него – 1950-е годы, время прогресса, лишенное событий. Никому из наших собеседников не пришло бы в голову, датируя то или иное событие своей личной или трудовой биографии, сказать, что оно имело место до или после создания ФРГ, не говоря уже о менее значительных исторических вехах – таких, как создание федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, провозглашение плана Маршалла, создание Единого профсоюза, решение об участии трудовых коллективов в управлении предприятиями или о создании Европейского сообщества угля и стали, восстание 17 июня 1953 года или окончание оккупации Германии войсками союзников. В большинстве интервью эти даты вообще не упоминаются, но очень часто, напротив, мимоходом говорится, что то или иное событие было «еще до» или «уже после денег», – и каждому понятно, что речь идет о разных эпохах, отличающихся друг от друга своими структурами, правилами и перспективами.
При этом личные воспоминания об этом событии столь же разнообразны, сколь и тривиальны. Большинству респондентов в ходе интервью был задан вопрос, что они сделали с теми 40 марками, которые каждый мог получить при первом обмене. Разброс ответов очень велик и не всегда согласуется с тем значением, которое придается денежной реформе как переломному моменту в истории общества. Большинство опрошенных отвечают, что купили одежду или еду; другие сообщают, что приобрели билет на поезд, чтобы поехать в сельскую местность за продуктами или в Зауэрланд за ягодами. У одного водителя грузовика не хватало денег даже на то, чтобы поменять всю разрешенную сумму; одна женщина, выходившая замуж, вынуждена была почти все накопленное отдать в качестве приданого. Одна учительница купила мужу велосипед – базовые потребности были, очевидно, уже удовлетворены. Супруга одного шахтера наняла каменщика, чтобы он отремонтировал дом ее родителей, в котором она не жила {105}. А жена одного столяра, тогда бывшая домохозяйкой, но впоследствии преуспевшая в розничной торговле, даже рассказывает, что отнесла эти сорок марок на серый рынок: супруги оплатили этими деньгами транспортировку своего спального гарнитура в то место, где могли обменять его на медную проволоку, с тем чтобы проволоку эту в другом месте поменять на строгальный станок, который позволил столяру открыть собственную мастерскую {106}; первым делом он, наверное, сработал себе новый спальный гарнитур. Обходным путем эта история показывает в заостренной форме значение денежной реформы для частной жизни людей.
Такой мгновенный «старт» – сюжет из легенд об экономическом чуде. У большинства опрошенных после обратного отсчета никакого старта ракеты не последовало, и к потребительскому прогрессу они стали причастны лишь спустя какое-то время. Кроме того, денежная реформа не изменила положение большинства из них в профессиональном плане, во всяком случае – не повысила их статус. Наоборот, многие рассказывают, что в результате денежной реформы их уволили или грозили уволить с работы. Твердая валюта снова ввела в действие неумолимые силы рынка, так что предприятиям и учреждениям приходилось пересматривать свои штатные расписания. Некоторые ремесленники и владельцы малых предприятий сферы обслуживания оказались не в состоянии платить зарплату своим работникам и вынуждены были либо кормить их обещаниями, либо увольнять. И если бы не наступил «корейский бум», то начавшийся в 1949–1950 годах экономический кризис, который вызвал рост безработицы {107}, мог бы привести к тому, что денежная реформа, ставшая классикой монетаристской теории, завершилась бы социополитической дезинтеграцией. Но поскольку многие находили индивидуальные пути выхода из безработицы, а высокая конъюнктура в связи с «корейским бумом», приведшая к долговременному подъему, сократила период безработного существования, этот политэкономический эффект реформы в народном историческом опыте почти не фигурирует: там главную роль играет не рынок труда, а рынок товаров. Странный контраст с рассказами респондентов о том, как они сами распорядились причитавшимися им суммами, образует их зрительское переживание эффекта денежной реформы: из интервью в интервью повторяются штампованные фразы, описывающие неслыханное чудо: «Выдали нам на руки наши 40 дойчмарок на брата. На другой день витрины были полные – все было. Откуда товары взялись – не знаю; за один день. Необъяснимо» {108}.
Другие начинают так же, но потом делают следующий шаг и формулируют вывод из описываемого:
...
Вдруг все появилось. Что ни возьми, о чем только помечтать могли, например, вот скажу только: ковер, ковер «Балатон», как их раньше называли, эти синтетические ковры. И вот – на другой день после денежной реформы можно было видеть, как люди тащили эти ковры. О них уж и не помнил никто совершенно, что они вообще были. И вдруг они появились. Вдруг все появилось. То есть, значит, торговцы все придерживали {109}.
И тоже, как деньги появились, с этого дня у них во всех магазинах все было. Как за одну ночь, словно на самолетах все привезено было. Все, значит, как следует отложено было. И вот они подоставали шмотки из углов, как только снова наличные деньги появились. У них же тут вещи попрятаны были до самого Зауэрланда… И вот они с ними вышли. Они за первый день, за первый день они выручили уже тысячу марок. И это деньги были, понимаете? {110}
Но часто рассказчики не только разоблачают это чудо: помимо изумления и скепсиса в их словах до сих пор звучит ярость. Например, один служащий среднего звена рассказывает: он думал – с денежной реформой снова началась нормальная жизнь и за один день «стало можно все купить», а его сбережения взяли и пропали, а другие люди лишились работы. «На самом деле это был обман» {111}. Другой административный служащий вновь и вновь возвращается к этой теме: магазины вдруг заполнились; те, кто раньше прятали товар, были величайшими мошенниками. В другой раз, описав свою радость по поводу ликвидации черного рынка с приходом новой валюты, но и не желая расстаться со своими обидами, он приводит противоречивый аргумент: тогда, говорит он, была обещана компенсация ущерба, нанесенного войной, но ничего серьезного в этом плане так и не произошло, а у крестьян после 1945 года ковры лежали повсюду вплоть до хлева, и тройное приданое было – для детей, внуков и правнуков {112}. Этот человек явно чувствует себя дважды обманутым: и черный рынок был обманом, и его ликвидация тоже. Возможно, он особенно критичен потому, что раньше был нацистом. Но никто не мог закрыть глаза на эту амбивалентность денежной реформы; одна коммунистка говорит со знанием дела: «Валюта – это был первый шаг к разделу [Германии]. Мы все это знали». А недолгое время спустя она же взволнованно рассказывает, как на первые 40 марок она купила себе туфли, мужу пиджак «и для ребенка, конечно» что-то {113}. Другая свидетельница, впоследствии тоже коммунистка, – та, которая прежде, ссылаясь на возвращение синтетических ковров, обличала тех, кто скрывал товары, – подводя итог, все же говорит: «Да, лучше стало, на самом деле, после денежной реформы. Да, это, пожалуй, так» {114}.
Предварительный вывод таков: денежная реформа есть политическое событие в историческом опыте послевоенного времени, которому приписывается принципиальное значение с точки зрения формирования макроэкономического порядка: от двойной экономики – к рыночному хозяйству, от авантюристического самообеспечения в условиях дефицита – к трудовой дисциплине и росту потребления. Это событие, пожалуй, – единственный случай, когда решение, принятое властями, стало непосредственно заметно и ощутимо в повседневной жизни буквально для каждого человека. При этом в связи с денежной реформой наблюдается сильнейшее чувственное переживание опыта встречи с властью: это была новая встреча с оккупационной администрацией, которую рабочее население Рурской области после контактов с первыми солдатами союзнических армий почти потеряло из виду, занятое в годы черного рынка вырабатыванием способов выживания. Но теперь власть победителей возникла на сцене не только в персональной, но и в структурной форме. Акт введения ею новой валюты выглядит чем-то вроде акта творения: да будет свет во тьме черного рынка – и стал, в самом деле, рынок. Идея ликвидировать черный рынок не путем подавления, а путем отмены государственного рационирования и распределения, была просто гениальной. Однако нет практически ни одного человека среди наших собеседников, кто не разгадал бы фокус и забыл бы обман: то, как несправедливо ограбили тех, у кого были деньги, и одарили тех, у кого были товары; то, что компенсация ущерба, нанесенного войной, тогда так и не состоялась и лишь в небольших дозах была осуществлена позже; то, что мошенники и асоциальные элементы, которые прятали от терпевшего нужду населения предметы первой необходимости, теперь были вознаграждены; то, что недвижимое имущество и средства производства стали цениться вдесятеро дороже, а новая финансовая дисциплина на предприятиях привела к уничтожению множества рабочих мест. Память об этой несправедливости жива, но лишь в форме недовольного ворчания по поводу решения, которое было авторитарно принято властями, не допускало альтернативы и было оправдано успехом. Поскольку наши свидетели на другой день после денежной реформы впервые за многие годы соприкоснулись с тем обществом товарного потребления, в котором они в последующие десятилетия в значительной мере искали исполнения своих жизненных мечтаний и планов, это переживание, хоть и было лично для них весьма неоднозначным и оставило у многих ощущение обмана, все же выглядит для них мифом о начале золотого века. А вот тогдашняя попытка манипуляции общественным сознанием, когда, выдавая равную сумму на каждого, пытались временным ритуалом равенства замаскировать социальную несправедливость, явно не удалась: все помнят квоту в 40 марок на душу населения, однако никто не ассоциирует ее с социальной справедливостью: только с экономической эффективностью.
Здесь можно отчетливо увидеть ретроспективный характер мифа о денежной реформе как о предстартовом отсчете перед началом экономического чуда, поскольку воспоминания резко отличаются от представлявшейся тогда средствами массовой информации картины крупного комбинированного события, составившегося из денежной реформы, блокады Берлина и воздушного моста, а также создания западногерманского государства в результате передачи так называемых франкфуртских документов премьер-министрам западногерманских земель {115}. Две другие составляющие в наших интервью ни разу не фигурировали при спонтанных упоминаниях о денежной реформе, хотя в дискуссиях с политически активными респондентами этот контекст иногда упоминался. Что же касается большинства опрошенных, то денежную реформу каждый из них познал на непосредственном повседневном опыте, а потом они ее ретроспективно встроили в историю как политический день рождения либерально-капиталистического «экономического чуда», как дату зарождения того самопонимания немцев, которое предусматривает существование военных баз союзников и холодную войну точно так же, как парламентский строй и правовое государство, однако не делает их темой для обсуждения.
Третий элемент мифа о происхождении послевоенного общества – это роль самих носителей опыта: все они абсолютно пассивны; их, так сказать, загоняют дубиной в рай – в новую структуру, в сплетение норм, в котором они потом могут добиться (или не добиться) собственного счастья. Не все среди наших собеседников одобряют эту структуру, но ни у кого нет альтернативы ей. Это не значит, что так было уже и в 1948 году: против такого предположения говорит мощный отзвук озлобления по поводу издержек денежной реформы, которые пришлось нести «маленькому человеку». Подлинное значение этого мифа становится ясно лишь тогда, когда мы отдадим себе отчет в том, что другого мифа (скажем, о создании демократии) не существует, и если мы сравним его с подобными мифами других буржуазных демократий – «Бостонским чаепитием», провозглашением третьего сословия всеобщим в начале Французской революции или клятвой на Рютли. Мифы об основании демократий описывают героический шаг к созданию сообщества, которое желает жить по своим принципам, устанавливает эти принципы и отстаивает их в борьбе. Демократы послевоенной Германии не обладают таким генетическим самопониманием, которое основывалось бы на акте, воспроизводимом во время праздников и поддающемся новому толкованию. Их миф о создании демократического немецкого общества и государства связан с рынком и экономическим ростом, и? вспоминая его, они вспоминают административное решение, которое было принято властями и о котором они узнали только в качестве его адресатов. В их опыте оно осталось как несправедливость, которая, однако, принесла им выгоду и не имела альтернатив.
Ретроспективный взгляд из сегодняшнего дня усиливает значение смены перспектив, которую – пусть более смутно – ощущали люди уже и в то время. Обратимся еще раз к тому воспоминанию, о котором рассказывают наши респонденты. Нижеследующая история представляет собой ответ на вопрос, заданный господину Гайслеру: «Когда снова началась нормальная жизнь?»
Клаус-Юрген Гайслер – сын рабочего, проведший важнейшие годы детства в гитлерюгенде и в деревне, куда был отправлен вместе с другими городскими детьми в конце войны; потом был в «Соколах» [19] , в 1948-м пошел получать техническую специальность в тяжелой промышленности; сегодня – член производственного совета, социал-демократ. Вот его ответ:
...
Нормальная жизнь началась – я бы сказал, почти нормальная – это для меня тоже было большое событие: я помню, мы с «Cоколами» в 1948 году в день денежной реформы в выходные стояли палаточным лагерем на берегу Ведау. И в день обмена – это было воскресенье, – нам пришлось специально вернуться из Ведау в Эссен, чтобы поменять эти 40 марок, полагавшиеся на душу населения. Надо было лично являться. И когда мы вечером вернулись – там у нас была столовая, где мы встречались, когда не было официальных вечеров в группах; так вот, в этой столовой неожиданно, уже в тот же день, можно было купить вино. До тех пор было только дрянное пиво; а в тот день тут же появилось вино. Помню, мы скинулись и купили себе бутылку вина – три пятьдесят или сколько она там стоила, порядка того. И в понедельник – самое удивительное было, что опять продавались товары, которых до того совершенно не было на рынке. То есть в течение первой недели можно было снова купить велосипеды, кастрюли и бог его знает что еще, чего прежде не было. К тому времени и продовольственное снабжение уже наладилось, так что продуктов уже не такая нехватка была. Но такие продукты вдруг продаваться стали, каких раньше не бывало: фрукты появились и так далее, что, значит, прежде куда-то по темным каналам уходило. Но когда снова появилась толковая, стабильная валюта, все вдруг снова появилось в продаже. Это для нас, молодежи – мне тогда, в 48-м, было 17 лет – было совершенно непостижимо.
Интервюер: И как, это повысило ваше доверие к новому государству под властью западных держав или нет?
Гайслер: К государству? Я тогда вовсе не рассматривал это […] в связи с государством, я тогда скорее так рассматривал, что те, кто, значит, владел материальными средствами, кто, значит, их придерживал, потому что на деньги мало что купить можно было, когда вдруг снова появились деньги, у которых была прочная база, вдруг [достали] свои припрятанные [товары]… – это было скорее такое чувство по отношению к капиталистам, которые теперь снова на глазах стали жиреть. То есть это даже и не связывали особо с государством.
И.: То есть это было скорее чувство озлобленности?
Г.: Озлобленности, да, конечно. Что, значит, внезапно, после того как появилась новая валюта, внезапно такое предложение товаров на рынке было, которое и раньше должно было бы быть, ведь не с неба же все вдруг свалилось. Где, значит, те, кто владел имуществом, производственными возможностями, их скрывали. […] То есть представить себе невозможно было, сколько всего можно было теперь купить. Ассортимент был такой большой, вещи, которых раньше было не купить, начиная с одежды до велосипедов, – я тогда очень интересовался велосипедами, потому что хотелось быть помобильнее, а велосипед тогда был инструментом мобильности {116}.
Беседуют молодой историк и ведущий член производственного совета, который в интервью то и дело умудряется связывать личное с политическим. Историк проверяет тезис, что нормальная жизнь проистекает не из специфических норм, а из того, что не утрачивает силы и на протяжении долгого времени рассматривается как обычное («Нормально – это как есть») {117}. И вот он хочет спросить, когда это началось – датируется ли это моментом в жизни человека или историческим временем? Современная эпоха как пространство опыта. Можно было бы предположить, что нормальная жизнь образуется медленно, как бы неприметно, что у нее есть структура, но нет начала. Ничего подобного: опыт современности начинается в определенный день, который можно точно назвать и с которым связаны воспоминания об интенсивных переживаниях. Это тот день, когда в их столовой дрянное пиво было превращено в вино, когда пошли все, каждый в свой город, менять все свои сбережения на 40 марок. Этот опыт в высшей степени амбивалентен. Ощущения, надо думать, были примерно такие же, как у гражданина ГДР, когда он до возведения стены приезжал в Западный Берлин и с рук менял свои восточные марки (по курсу четыре к одному или даже ниже): в тот самый момент, когда он чувствовал свою бедность, перед его глазами вставало богатство предлагаемого ассортимента, которого он прежде не видел и потому свои немудреные потребности изобретательно удовлетворял множеством иных путей – через свой заработок, через тетушку на Западе, через социалистические каналы, через стратегии самообеспечения, через черный рынок. И вдруг – внезапно, благодаря простому пересечению границы, условия существования которой были для этого человека далеки, чужды, абсурдны и неизменимы, – вся эта эфемерная реальность, способствовавшая всестороннему раскрытию личности, сплющивалась до одного-единственного фактора: наличности. У кого есть – у того есть; у кого нет – тому плохо.
К этому времени общественные регулятивные системы уже не заменяемы, они заданы безальтернативно. Они требуют подчинения и манят товарами, по которым человек долго тосковал. Теперь это уже не продовольствие, которое было главным в первые годы общественного кризиса: транспорт и международный обмен уже наладились, с голодной зимы 1946/47 года прошло уже полтора года. Вместо полезного, но унизительного и нерегулярного подаяния в виде пакетов от СARE, объявлен план Маршалла – более продуктивная, общественная перспектива содействия развитию Старого Света. Тем, кто владел информацией, было понятно, какие варианты это означало, – но кто тогда владел информацией? Решение по поводу того, какой вариант выбрать, принимается где-то — ни в одном из наших интервью опрошенные не называют тех богов, которые, сидя за облаками, так эффективно правят страной. И вдруг – всем подарки, но стол с подарками стоит за стеклом, и на нем лежат главные инструменты общественной репродукции и дифференциации: вкусности, одежда, снаряжение, мобильность.
Почувствовать особенный характер опыта денежной реформы можно только в том случае, если хотя бы в фантазии, мысленно еще раз позволить себе то, что поначалу кажется естественным шагом, однако ни разу даже близко не встречается в воспоминаниях наших рассказчиков: разбить витрину и просто присвоить себе вынутые из тайников товары, этот свадебный подарок черного рынка рыночной экономике; на фоне того, что творилось в предыдущие годы, этот поступок был бы в моральном отношении совершенно нейтральным. Среди рурских рабочих, делившихся с нами своими воспоминаниями, наверное, нет ни одного, кто не приводил бы нам веские доводы за то, чтобы разбить эти витрины; нет ни одного, кто не выражал бы озлобление, подобное тому, о котором говорит господин Гайслер; но нет среди них и ни одного, кто хотя бы подумывал о том, чтобы в самом деле так поступить. Скорее бросается в глаза то, как в воспоминаниях господина Гайслера постоянно пересекаются три ассоциативные линии: во-первых, ярость по отношению к капиталистам, которые снова вылезли наверх, и к их темным каналам; во-вторых, восхищение ассортиментом и возможностью купить почти все, что только можно захотеть, и в том числе именно те инструменты, которые могут помочь вырваться из «животной жизни»; в-третьих – табуирование вопроса о власти. То, что новую валюту помнят как «твердую» с первой минуты, а построенную на ней экономическую систему – как перспективную и нормальную, объясняется, наверное, тем, что в длительной перспективе она именно такой и оказалась.
И все же представляется, что и тогда уже было некое молчаливое ожидание того, что только с приходом капиталистического рынка вновь появится перспектива. Мне кажется, что в безальтернативности ожидания (ведь озлобление по поводу несправедливости остается озлоблением и не дает возможности выработать никакой эффективной альтернативной стратегии) видно разочарование в существовавшей в годы национал-социализма и оккупации системе государственного рационирования и распределения как ублюдочной форме социализма, которой противостоял позитивный опыт собственной активности людей на черном рынке. Все, что выходило за пределы чистого обеспечения выживания (а зачастую и оно тоже), в государственной системе дефицитарного управления было недоступно, а через вторую экономику в принципе достижимо, но там не действовали ни право, ни мораль, а все решали выгода, ловкость и готовность к риску. Переход от черного рынка к рыночной экономике посредством санации денежной системы лишал людей опоры в виде государственного дефицитарного управления экономикой, но устранял и аргументы против рынка, приводя обменные процессы к определенному стандарту, делая их тем самым доступными для расчета и открывая капиталистическую перспективу. Пусть даже профсоюзы через некоторое время инсценировали символическую всеобщую забастовку протеста против того, что не состоялась компенсация военного ущерба: у них в запасе уже не было принципиальной альтернативы, они стремились лишь смягчить несправедливость, зримо подтвержденную сменой системы. Кроме того, оккупационные власти не дали им осуществить их намерения {118}.
На вопрос историка, стало ли изобилие товаров после денежной реформы поддержкой для государства, господин Гайслер отвечает отрицательно – и не только потому, что в вопросе, конечно, содержится анахронизм: государство? Какое государство? Новое государство возникло лишь год спустя, решение о его создании державы-победительницы приняли одновременно с денежной реформой и сплочением западного мира в условиях холодной войны. Правда, были правительства земель, но они очевидным образом не имели отношения к такому крупному событию, как денежная реформа. А те, кто имели к ней отношение, – военная администрация западных держав – было ли это государство? С ним господину Гайслеру трудно было связать денежную реформу, поскольку у него отсутствовала одна важная черта демократического государства: возможность общественной дискуссии по поводу фундаментальных решений в области экономической политики, определяющих макроэкономические процессы. В данном же случае эти фундаментальные решения были принесены извне, с позиции победителя, когда в Германии не имелось даже государственного инструментария для разрешения конфликтов. Тем самым в ходе зарождения нового государства демократия как надстройка оказалась отделена от установления несправедливого, но эффективного экономического строя некой высшей силой, которая для масс западногерманского населения и в особенности для тех слоев, из которых происходят наши собеседники, была политически недостижима и чье решение поэтому приходилось принимать как данность. Принятие этой данности облегчалось, однако, не только подчиненным положением неимущих и отсутствием альтернатив, но и школой рынка.
А кроме того, оно облегчалось тем, что в озлоблении против капиталистов – обманщиков, нажившихся на этом решении, – можно было снять груз ответственности с себя и разделить всех на традиционные враждебные лагеря, которые были в социально-экономическом отношении противоположны друг другу, однако в политико-культурном отношении не представляли такой принципиальной противоположности. Готовность к рынку, желание приобретать товары смешивались с моральным протестом против реставрации, но политическая составляющая в этой смеси отсутствовала: она не могла быть заявлена перед лицом сложнейшей международной и социальной конфигурации властей предержащих. Поэтому и критика в адрес немцев, извлекших выгоду из денежной реформы, застряла в антикапиталистическом озлоблении, в то время как наглядно проявившаяся в ней макроэкономическая структура в силу своей немедленной продуктивности могла быть принята в качестве базы для консенсуса, который основывался не на политическом сознании, а на более примитивном фундаменте.
7. О значении семьи, частной собственности и государства в послевоенные годы
Согласно материалистическому пониманию, определяющим моментом в истории является в конечном счете производство и воспроизводство непосредственной жизни. Но само оно опять-таки бывает двоякого рода. С одной стороны, производство средств для жизни: предметов питания, одежды, жилища и необходимых для этого орудий; с другой – производство самого человека, продолжение рода.
Общественные порядки, при которых живут люди определенной исторической эпохи и определенной страны, обусловливаются обоими видами производства: ступенью развития, с одной стороны, труда, с другой – семьи. Чем меньше развит труд, чем более ограничено количество его продуктов, а следовательно, и богатство общества, тем сильнее проявляется зависимость общественного строя от родовых связей. Между тем в рамках этой, основанной на родовых связях структуры общества все больше и больше развивается производительность труда, а вместе с ней – частная собственность и обмен, имущественные различия, возможность пользоваться чужой рабочей силой и тем самым основа классовых противоречий: новые социальные элементы, которые в течение нескольких поколений стараются приспособить старый общественный строй к новым условиям, пока, наконец, несовместимость того и другого не приводит к полному перевороту. Старое общество, покоящееся на родовых объединениях, взрывается в результате столкновения новообразовавшихся общественных классов; на его место заступает новое общество, организованное в государство, низшими звеньями которого являются уже не родовые, а территориальные объединения, – общество, в котором семейный строй полностью подчинен отношениям собственности и в котором отныне свободно развертываются классовые противоречия и классовая борьба, составляющие содержание всей писаной истории вплоть до нашего времени {119}.
Прошло уже почти сто лет с тех пор, как Фридрих Энгельс сформулировал в этих знаменитых строках свою конструкцию исторического происхождения классового общества. Это – текст все еще великий (пусть это слово и затерто).
Содержание устной истории не поддается столь логичному обобщению. И все-таки, может быть, слова Энгельса могут помочь нам охарактеризовать эффект ситуаций научения в течение нескольких лет между окончанием войны и установлением современного западногерманского государственного и экономического строя (денежной реформой, воздушным мостом в блокированный Берлин и передачей «франкфуртских документов»). Отголоски того, что Энгельс постулировал применительно к многовековой предыстории всего нашего общества, обнаруживаются и в интервью-воспоминаниях, посвященных этим нескольким годам: во время ранней фазы главная роль принадлежит семьям и родственным кланам как базовым ячейкам воспроизводства, выступающим в качестве рамок социальной дифференциации. Эта дифференциация порождается производительным трудом, производительностью, частной собственностью и обменом, которые взрывают социальную структуру, построенную на фундаменте более или менее автономных семейных ячеек, и требуют появления новых поднимающихся и опосредующих социальных слоев и новой власти, упорядочивающей общественные и экономические процессы. В конце концов они находят рамку для коллективного разрешения конфликтов в лице государства.
Правда, в двух точках параллель рушится: во-первых, в начале, где сам труд как таковой не «еще мало развит», а просто парализован кризисом, охватившим высокотехнизированное общество, которое распалось на семьи, ставшие теперь рамкой, в которой может реализовываться труд. Во-вторых – в конце, где едва ли можно обнаружить свободно развертывающуюся классовую борьбу в новом, организованном в государство обществе – разве что эту борьбу мы будем понимать по преимуществу, если не исключительно, как «классовую борьбу сверху».
Эти замечания по поводу ассоциаций между фундаментальным опытом первых лет существования ФРГ и древнейшими элементами сконструированной истории зарождения классового общества, а также по поводу границ этих аналогий, могут помочь найти те оси координат, в системе которых можно интерпретировать описанные здесь воспоминания о социализации.
С одной стороны, воспоминаемые пространства опыта в своей элементарности указывают на то, что здесь люди действительно в ускоренном режиме проживали процесс конституирования общества.
С другой стороны, материальность этого переживания, пронизывавшая все семейные и трудовые структуры и структуры обмена, была призрачной, поскольку речь шла не об автономном процессе формирования общества и экономики: этот процесс был запущен властями, стоявшими вне общества, и подчинен их воле.
Цитата из Энгельса, которую я здесь привел ради ассоциаций с конститутивными процессами, знаменита в истории теорий не своим содержанием, а вводными замечаниями насчет «последней инстанции» в истории и ее двоякого характера, охватывающего производство и воспроизводство непосредственной жизни.
Если эти утверждения перенести на те воспоминания о социализации, которые освещаются и обсуждаются в настоящей статье, то они разделятся на две части: опыт производства и воспроизводства непосредственной жизни оказывается в самом деле элементарным и нормативным, однако не определяющим в конечном счете элементом.
Опыт, связанный с простейшими культурно-антропологическими и социально-экономическими ситуациями, оказывает наиболее сильное формирующее воздействие на непосредственную жизнь. В данном случае он словно бы висит в пустом пространстве: в конце фашизма и войны индивиды бегут от «неестественной» и утратившей эффективность политической усложненности жизненных условий в регрессивную фантазию, представляющую семью и родину как естественное пристанище, которое обещает защищенность, простоту и солидарность, где можно укрыться от элементарных угроз и уменьшить навязанную социально-политическую сложность поведенческих связей. Но эта детская надежда на семью не сбывается – особенно у младшего поколения – в условиях перенаселенных квартир, клановых структур, культурной гегемонии ориентированного в прошлое родительского поколения, коллапса традиционных этических представлений, а также проблем, вызванных непривычными и многообразными требованиями воспроизводственной сферы. Возникает разочарование, и не предлагается никаких альтернатив этой повседневной реальности. Расширенные или поврежденные семейные конфигурации приходится заменять иной – однако сохраняющей верность своим семейным принципам – целью; эта цель – малая семья, в которой сексуальные партнеры и представители разных поколений могут опираться друг на друга в псевдоестественной, архетипической простоте; условия воспроизводства в малой семье выглядят приемлемыми благодаря росту потребления, и она кажется тем частным пространством, которое защитит человека от политики и от общества. В 1950-е годы немцы работали над тем, чтобы все же привести к успешной реализации свои фантазии 1945 года о бегстве из общественной действительности в «естественный порядок».
На уровне производства и обмена в период кризиса, парализовавшего немецкое общество после войны, способность индивида к достижению собственных целей в принципе вознаграждалась на нелегальном, но необходимом черном рынке. Охватывавшая прежде все общество система обеспечения и справедливости, которая в условиях государственного рационирования и распределения символизировала одновременно и национал-социалистическое прошлое, и социалистическое будущее, превратилась в систему дефицитарного распределения и обесценилась. Поэтому весь практический интерес сосредоточился на второй экономике – сфере нерегулируемого, социально-дарвинистского, авантюристического рынка, на который неизбежно выходили в послевоенные годы все, кто хотел чего-то достичь. У рурских рабочих были на этом рынке не такие уж плохие позиции, как можно было бы подумать, ведь они – особенно те, кто были связаны с шахтами, – пользовались натуральной оплатой труда, которая предоставляла им обменный фонд товаров, а через производственные советы работники облекали процессы обмена в коллективную, привязанную к интересам предприятия форму. Благодаря этому их возможности на рынке далеко превосходили возможности отдельной семьи. Поэтому уроки повседневной жизни сводились к обесцениванию социалистической альтернативы, принятию рынка и оптимизации собственной позиции на нем через организованные в рамках предприятий объединения по принципу клиентелы. Это был подготовительный класс школы профсоюзов, которые были сведены к роли тарифоустанавливающих машин в условиях капиталистически переустроенного рынка труда.
Обе системы ориентации – и семья, и рынок, сделавшийся приемлемым благодаря коллективистским стратегиям, – оказывали свое действие не сразу: во-первых, для них сначала необходимо было создать пространство; во-вторых, их структурная гегемония должна была еще утвердиться в ситуации, которая потенциально определялась двоевластием. Таким образом, вместе с темой власти в зону нашего внимания попадает вторичный характер описывавшихся до сих пор «повседневных» ситуаций научения. В ожидании того, что «недочеловек», ставший теперь победителем, станет насиловать, проявляется фрагмент скрытого расистского базового консенсуса, существовавшего при фашизме. Этот консенсус не превращается, правда, в эксплицитную поддержку, но на востоке Германии находит в той или иной мере свое подтверждение в опыте; потом благодаря этому возникает возможность его переноса на порядки, установленные оккупационными властями. В сознании немцев, столкнувшихся с местью и грабежом, борьба со славянскими «недочеловеками» и отказ признать людей в массе подневольных восточноевропейских рабочих трансформируются в антикоммунизм, и только благодаря этому достигается возможность рационализации, необходимая для спокойствия совести. На западе негры – удивительные и дружелюбные – разрушают фашистский элемент скрытого базового консенсуса. Но потом рабочее население Рурской области остается в одиночестве. Без взаимодействия с оккупационными властями оно как бы теряет контакт с реальностью и живет в условиях вакуума власти, потому что немецкие властители исчезли вовсе либо отошли на задний план, а союзники выступают здесь главным образом (если не говорить о демонтаже металлургических заводов) в качестве партнеров в деле налаживания добычи угля. Опыт национально-политического вакуума власти вытесняется частично индивидуальными, приватными стратегиями выживания, но, пожалуй, в еще большей мере – попытками организации рабочего самоуправления в рамках производственных советов.
Только в момент денежной реформы этот вытесненный аспект политической власти возвращается, причем в такой форме, что индивид не может от него уклониться. Теперь становится понятно, что все время существовала некая «высшая инстанция», к которой, правда, снизу, из базиса, нельзя было обратиться. Кроме того, она не выносила в репрезентативной форме никаких решений относительно экономического строя. Нет никаких точек, где могла бы иметь место альтернатива этому опыту встречи с властью. Он сохраняется в памяти как переживание во всей своей амбивалентности: с одной стороны, такую власть просто приходится принимать; с другой стороны, ее и можно принять, поскольку она, обеспечив внезапное изобилие товаров в магазинах, воздушный мост в Берлин и создание Боннской республики, принесла материальные возможности, позволила людям чувствовать себя и действовать увереннее, начать жить «на солнечной стороне жизни».
Именно эта амбивалентность делает приемлемым возвращение утраченной в 1945 году всеобщей власти, хотя некоторая горечь при этом присутствует. Базис благодарен власти также и за то, что теперь правила снова стали ясными и черный рынок утрачивает свой «нелегальный» мошеннический характер, становится прозрачнее и управляемее. Для профсоюзных кадров переориентация в меньшей степени сплетена в единый миф с денежной реформой, нежели для рабочих: профсоюзным функционерам пришлось почувствовать на себе силу оккупационной власти еще раньше, когда союзники приручили производственные советы с помощью зачаточных форм участия трудовых коллективов в руководстве предприятиями, не позволили ландтагу земли Северный Рейн-Вестфалия принять законодательство об обобществлении, добились сдельной оплаты в горнодобывающей промышленности и демонтажа предприятий. Но денежная реформа не сильно изменила положение производственных советов, поскольку демонтаж предприятий и борьба за участие в управлении ими продолжались, а прежнее руководство возвращалось медленно. Локальная правящая элита первого послевоенного времени – производственные советы – была превращена во внутреннюю элиту предприятий, выполнявшую посреднические функции, только в 1950-е годы, особенно после выхода закона об уставах предприятий. Тем самым базовая структура общества надолго утратила свою открытость. Послевоенная эпоха заканчивалась.
Примечания
Первоначальная версия этой статьи представляла собой очень обширный коллаж из приведенных здесь интерпретаций и семи историй, поданных как длинные цитаты из интервью, в которых главные темы статьи проявились особенно четко и одновременно сочетаются с другими темами. Эти длинные цитаты в данную версию не вошли по соображениям объема, поэтому здесь больший упор делается на элементы интерпретации. Там, где в тексте встречаются отсылки к интервью, не обозначенным в примечаниях, речь идет об интерпретациях этих историй. Поэтому тех читателей, кто пожелает проверить соответствие толкований источникам, отсылаю к изд.: LUSIR. Bd. 2.
{1} См., например: Bungenstab K.E. Umerziehung zur Demokratie? Düsseldorf, 1970, или: Lange-Quassowski J.B. Neuordnung oder Restauration. Opladen, 1979.
{2} О том, насколько антифашистское движение Сопротивления было способно проникать в народную культуру, в безмолвствующее большинство рабочего населения Рурской области, говорилось в нескольких статьях в изд.: LUSIR. Bd. 2.
{3} Я имею в виду такие работы, как: Edinger LJ. Post-Totalitarian Leadership // American Political Science Review. 1960. Bd. 54. S. 58ff.; Verba S. Germany, The Remaking of Political Culture // Political Culture and Political Development / Ed. by L.W. Pye and S. Verba. Princeton, N.J., 1965. P. 130ff. Большинство этих интервью проанализированы под иным углом зрения в работе: Borsdorf U., Niethammer L. Traditionen und Perspektiven der Nationalstaatlichkeit // Außenpolitische Perspektiven des westdeutschen Staates. München; Wien, 1972. Bd. 2.
{4} О понятии «скрытого учебного плана» см., например: Jackson P.W. Was macht die Schule? // Betrifft Erziehung. 1973. H. 5; Illich I. Entschulung der Gesellschaft. München, 1972. S. 30ff.; Becker H. u. a. Das Curriculum. München, 1975. S. 203ff.
{5} Ср. мои замечания: LUSIR. Bd. 1. S. 19, 219f.; а также: Niethammer L. Oral History in USA // Archiv für Sozialgeschichte. 1978. Bd. 18. S. 454ff. и указанную там литературу.
{6} В автобиографических интервью опрошенных просили вспомнить свою жизнь; в отдельных проектах углубленно изучались темы производственного опыта, работы по дому, соседских отношений и работы производственных советов и профсоюзов. Опрошенным не указывали специально на период с 1945 по 1949 год, но в третьей части интервью содержались два вопроса, которые направляли беседу в эту сторону, а именно: когда респонденты увидели первого солдата армии союзников и что они сделали с первыми 40 марками, которые можно было обменять в день денежной реформы. Но, поскольку больше половины опрошенных уже тем или иным образом затрагивали обе эти тематические области и раньше, то эти два импульса не особенно повлияли на распределение тем. Аналитически обрабатывать содержание воспоминаний о годах оккупации сложно, так как отдельные рассказы тематически трудно отделить друг от друга; поэтому всякий подсчет будет в значительной мере произволен. Сосредоточив внимание на наиболее интенсивно вспоминаемых и рассказываемых темах, я смог выделить в шестидесяти четырех интервью примерно 320 тематических единиц, относящихся к первым послевоенным годам. Самую большую группу – более четверти всех историй (а если прибавить и обсуждаемую при этом новую «мораль выживания», то почти треть) образуют, как и следовало ожидать, воспоминания, связанные с темами удовлетворения основных потребностей, питания, жилья, черного рынка, «компенсирования», попрошайничества и спекуляции. Затем следуют рассказы (они составляют пятую часть корпуса), которые посвящены окончанию войны, приходу союзных армий и встрече с победителем (только последних примерно одна десятая), а также возвращению на родину. Комплекс «профсоюзы, производственные советы и партии» почти такой же большой и отражает высокий процент членов производственных советов и других кадровых функционеров рабочего движения среди наших респондентов. Среди всех прочих тем выделяется только денежная реформа (одна десятая), в то же время остальные темы составляют меньше чем по одной двадцатой всех вспоминаемых сюжетов. Если сгруппировать сюжеты под другим углом зрения, то тема семьи занимает ведущие позиции (более трети, включая особые женские проблемы, трудности семей с инвалидами и т. д.), в то время как, например, денацификация у рабочего населения не занимает такого большого места в воспоминаниях, как у буржуазии: рабочие большей частью не были непосредственно затронуты денацификацией, а если и были, то санкции для них были менее ощутимыми; здесь эта тема в основном только дает повод для ощущения, что справедливости все-таки нет и что гигантская чистка прошла практически без последствий («Была она или не было ее?»). Поэтому в данной статье я на первый план выдвинул прежде всего сферы формирования нового опыта и новых навыков, типичные для реальности тех лет. Другие вопросы, которые в силу своей многослойности требовали бы отдельной статьи, я в основном оставил за скобками, например, плен, «изгнание», денацификацию, демонтаж предприятий; каталог не рассматриваемых здесь сюжетов выглядит как список наиболее частых тем работ по политической и социальной истории послевоенного времени, однако по объему и содержанию он не соответствует опыту рабочего населения, сильнее озабоченного другими проблемами. Кроме того, я вынес за скобки воспоминания и рассуждения о политических партиях (о «политике вообще» в интервью почти не говорилось), так как эти темы вне рабочей элиты, заседавшей в производственных советах, обсуждались лишь изредка. К тому же обычно эти обсуждения касались не партийных программ и общих условий германской политики, а политически организованного действия, направленного на непосредственное жизнеобеспечение, и организационной структуры профсоюзов. В соответствии с этими соображениями были очерчены пять основных тем для исследования, с которым связаны следующие параграфы: 1. Встреча с победителем, 2. Возвращение домой, семья, 3. Самопомощь и рынок, 4. Низовые и коллективные формы организованного удовлетворения потребностей и 5. Денежная реформа.
{7} Cм. таблицу в Приложении на с. 277 наст. изд.
{8} Ср.: LUSIR. Bd. 1. S. 166f., 219ff.
{9} Роза Шюрер, 1935 г.р., дочь штейгера, продавщица и заведующая магазином (муж – шахтер). Кассета 1, 1.
{10} Эмиль Ословски, 1928 г.р. (отец – зубной врач), учился на парикмахера, стал членом производственного совета государственных служащих, потом в металлургической промышленности. Кассета 2, 1.
{11} Об этом рассказывают, например, Ильзелора Кельнер, 1929 г.р., административная служащая (кассета 2, 2) и Герда Деблер, 1920 г.р., тогда – прислуга в доме представителей крупной буржуазии, впоследствии замужем за шахтером, домохозяйка; кассета 1, 1.
{12} Анна-Сузанна Вегнер, 1921 г.р., секретарша. Кассета 2, 1.
{13} Ганс Гедер, 1931 г.р., жестянщик (отец – шахтер), член производственного совета, СДПГ. Кассета 2, 2.
{14} Герман Пфистер, 1913 г.р., католик, шахтер и владелец фирмы грузоперевозок. Кассета 2, 2.
{15} Ганс Гедер. Кассета 2, 2.
{16} Характерный пример см. в сообщении А. Штоппока: LUSIR. Bd. 2 (статья У. Херберта).
{17} Франц Петерс, 1911 г.р. (отец – рабочий-металлист, националист), слесарь на предприятии тяжелой промышленности, социал-демократ, после 1945 года – рабочий-строитель и член производственного совета, с 1950 года в компартии. Кассета 1, 2. Вернер Паульзен, 1915 г.р. (отец – сантехник), административный служащий в металлургической промышленности, в последнее время заведующий отделом, член Германского профсоюза служащих. Кассета 5, 2. Ильза Мориц, 1901 г.р., отец и муж – шахтеры. Кассета 4, 2.
{18} Вместо многих ссылок: Kleßmann С. Die doppelte Staatsgründung. Bonn, 1982. S. 132, 417ff.
{19} Антон Кроненберг, 1900 г.р. (отец – рабочий-металлист), жестянщик на небольшом предприятии, функционер Профсоюза работников металлургической промышленности (IG-Metall), коммунист. Кассета 2, 1.
{20} Как правило, квартиры реквизировались или использовались под постой временно; в памяти осталось прежде всего недовольство по поводу небрежного обращения жильцов (особенно американцев) с предметами обстановки: это была первая встреча с манерами, существующими в обществе изобилия, где не берегут вещи, а часто меняют их. Немцами же эти манеры воспринимались как недостаток культурности, характерный для жителей Нового Света. Ср., например, интервью с Розой Шюрер (кассета 1, 1): в ее рассказе видно, как беззаботны были американцы во взаимодействии с гражданским населением: в реквизированном доме отец Розы прятал от плена своего друга и блоками воровал у американского офицера сигареты.
{21} Конрад Фогель, 1930 г.р., слесарь, профсоюзный функционер, политический деятель (СДПГ). Кассета 3, 2.
{22} Августа Шавер, 1929 г.р. (отец и муж – шахтеры), домохозяйка. Кассета 1, 1.
{23} Ср., например, речь, произнесенную по радио имперским министром пропаганды Геббельсом в феврале 1945 года (Goebbels-Reden / Hg. von H. Heiber. Düsseldorf, 1972. Bd. 2. S. 431f.), где он хотел придать достоверность страшным рассказам с помощью уверений, что они суть «не выдумки немецкой военной пропаганды». Далее он говорил: «Мы обороняемся от кровожадного и мстительного врага всеми средствами, которые есть у нас в распоряжении, и в первою очередь – с помощью ненависти, которая не знает границ. Ему придется поплатиться за то, что он нам сделал! Не напрасно тысячи немецких женщин плакали и молили пощадить хотя бы жизни их беззащитных детей, когда алчная степная солдатня напала на них и обращалась с ними, как с дичью и даже хуже, подвергала их неописуемым бесстыдным физическим и моральным надругательствам, а потом с насмешкой и дьявольской издевкой бросала им под ноги их убитых младенцев. И это – нам, немцам!» (курсив Геббельса).
{24} Франц Петерс (о нем см. примеч. 18). Кассета 1, 2. О его отношении к иностранным рабочим см.: LUSIR. Bd. 1. S. 241ff.
{25} Эта тема в последние годы снова стала обсуждаться в СМИ, и при этом возобновились прежние расхождения в интерпретациях. При повторной разработке тем «изгнания» или военных преступлений союзников против немцев телевидение реанимировало давние свидетельства, такие как дневник графа Ганса Лендорфа, который он вел в Восточной Пруссии и издал в Мюнхене в 1961 году, или агитационные документальные кадры из последних выпусков геббельсовских Wochenschau. Здесь речь идет в основном о расистском обосновании борьбы с наступающими из степей зверями, которые, повинуясь своему животному инстинкту, без разбора бесчестят всех блондинок, т. е. немок, а их младенцев подбрасывают в воздух и ловят на штыки. Совсем иная интерпретация встречается нам у одной из феминистских фракций (вспомним, например, фильм «Германия, бледная мать» или статьи в специальном выпуске журнала Courage, посвященном Второй мировой войне): война окончательно проявила насильственный характер патриархального общества, а потому ее подлинными жертвами являются именно женщины, которые подвергались всестороннему насилию, находившему в изнасиловании лишь свое наиболее заостренное проявление. Другие же публицисты, наоборот, с наслаждением цитируют свидетельства современников с другой стороны, например, американских военнослужащих, сообщавших о некоей новой сексуальной свободе немецкой женщины: «Такого не найдешь нигде до самого Таити» (ср., например: Boyer Chr., Woller H. Hat die deutsche Frau versagt? // Journal für Geschichte. 1983. H. 2. S. 32ff.; или: Hillel M. Die Invasion der Be-Freier. Die GI’s in Europa, 1942–1947. Hamburg, 1983, где, в частности, читаем: «В том, что касается американцев и вообще всех солдат, дислоцированных в западных зонах, об изнасиловании в собственном смысле слова речь идти не может»).
{26} «Привычные, как и их мужья, к коллективной покорности и удивительно умевшие приспособиться к ситуации немецкие женщины и девушки немало способствовали тому, что оккупационный период в их стране протекал мирно… Многие женщины в западной части Германии согласились на роль трофея, однако такого трофея, который предлагался добровольно, поскольку это сулило выгоды. Русским в советской зоне нечего было предложить – наоборот, они забирали все, что попадало им в руки». Мечта о «нулевом часе», призванная изгнать кошмарный сон о неизбывной ответственности, в среде рабочих держится, пожалуй, еще прочнее, чем среди буржуазии, так как последняя этого так называемого «нулевого часа» желала, но вместе с тем и опасалась, видя в нем угрозу перераспределения собственности. Из такой дезориентации буржуазии могла предложить выход только одна политика: та, которая обеспечивала неизменность социального порядка за счет перенесения перемен и обновления в область международных отношений и национальной идентичности.
{27} Изменение отношения к цветным часто облекается в форму высказывания «они же тоже люди». Ср., например, цитату из интервью Ванды Мольден (ниже).
{28} Эрнст Козловски, 1920 г.р. (отец – шахтер, католик, голосовавший за коммунистов), после войны работал в основном на транспортных предприятиях и владел ресторанами.
В интервью частично принимала участие его жена Розвита Козловски 1920 г.р., дочь слесаря, в молодости была восторженной национал-социалисткой. У нее четверо детей, она некоторое время вместе с мужем руководила ресторанами и дансингами, в остальном работала сиделкой по уходу за больными и престарелыми. Кассета 2, 2.
{29} Козловски, кассета 1, 2. Госпожа Козловски очень подробно рассказывает о том, как она в спорах с родителями отстояла свое право вступить в Союз немецких девушек, членство в котором воспринимала как освобождение, прежде всего в плане более вольной морали и телесности. С другой стороны, она рассказывает, что своего мужа, когда он вернулся из русского плена, она даже не узнала, потому что он выглядел «как старик». Но младшая дочь сразу села к нему на колени и назвала его «папой». Правда, когда он захотел вмешаться в ее воспитание, она воспротивилась этому со словами «ты не мой папа».
{30} Эрнст Штеккер, 1906 г.р. (ср.: LUSIR. Bd. 1. S. 43ff.). Кассета 2, 2.
{31} Ян Везель, 1910 г.р. (отец – шахтер из Голландии), старший рабочий на литейном заводе и член производственного совета, социал-демократической ориентации. Кассета 3, 1.
{32} О ней см. примеч. 13.
{33} Ганс Гредер. Кассета 2, 2.
{34} Ульрика Ротер, 1922 г.р. (отец – маляр), работница и член производственного совета, социал-демократка. Кассета 3,2.
{35} Ванда Мольден, 1921 г.р. (отец – состоятельный ремесленник), учительница, член ХДС. Первый раз вышла замуж в 1943 году, муж погиб через три недели после свадьбы; второй раз вышла замуж в 1948-м. В 1949–1956 годах – домохозяйка. Кассета 1, 2.
{36} При интервью с токарем Паулем Келлером (1919 г.р., состоял в НСДАП, после войны «политика надоела», но, будучи членом профсоюза работников металлургической промышленности, он вошел в состав производственного совета, а позже вступил в СДПГ) время от времени присутствовала его жена, которая вспоминала, например, что американские солдаты-негры с немецкими женщинами обходились нехорошо, хотя с ней самой в этом отношении ничего плохого не случилось. Только один раз, когда ей с сыном нужно было пойти на вокзал, она «претерпела страшный испуг… там сидели сплошь негры. Я думала, у меня сердце оборвется. Боялась за жизнь свою». Но ничего, конечно, не произошло. Кассета 2, 2.
{37} Об иностранных рабочих ср.: LUSIR. Bd. 1. S. 233ff.
{38} Марта Штротман, 1913 г.р. (отец – шахтер), конторская служащая, член производственного совета, работает по уходу за социально неблагополучными в католическом приходе. Кассета 1, 2.
{39} Ibid.
{40} Примеры приводят: дочь шахтера Эльза Мюллер, 1924 г.р. (ср.: LUSIR. Bd. 1. S. 199ff.), кассета 3, 2; дочь ремесленника Ульрика Ротер, кассета 1, 2; дочь служащего Эрика Райнхард, 1925 г.р., секретарь производственного совета, кассета 1, 1; дочь ремесленника и активный член СДПГ, домохозяйка Марга Бергер, 1907 г.р., кассета 2, 2; а также Герда Герман (кассета 1, 1) – о своей сестре.
{41} Ида Майстер, 1926 г.р. (мать – портниха), получила специальность конторской служащей в «Немецком трудовом фронте», впоследствии – домохозяйка. В 1944 году вступила в НСДАП (мать – член комитета по денацификации), впоследствии активно работала в католическом приходе. Здесь рассказывает о том, что довелось пережить двум ее теткам. Кассета 2, 1.
{42} Об этом рассказывают дочь шахтера, впоследствии работница, затем домохозяйка Альмут Петер, 1926 г.р., кассета 2, 1; Эльза Мюллер, кассета 3, 2; Ульрика Ротер, кассеты 1, 2 и 2, 2; Ильза Мориц, кассета 4, 2.
{43} Согласно сообщению ее бывшего мужа Ганса Мюллера, 1923 г.р., специалиста по точной механике, после 1945 года коммуниста, с 1949-го социал-демократа, профсоюзного функционера. Кассета 4, 1.
{44} Марга Бергер, кассета 5, 1.
{45} Ср.: Böttcher K.W. Menschen unter falschem Namen // Frankfurter Hefte. 1949. Bd. 4. S. 492ff.
{46} Густав Кеппке, 1929 г.р., сын шахтера, строитель, функционер компартии до 1956 года, начальник строительства (ср.: LUSIR. Bd. 1. S. 209ff.), кассета 1, 1.
{47} Альмут Петер, кассета 2, 1; Конрад Фогель, кассета 3, 2.
{48} Ганс Мюллер, кассета 3, 2.
{49} Я опираюсь здесь на исследование в жанре устной истории, проведенное на основе немногочисленных примеров: Grundmann I. Erfahrungen Essener Neubergleute (Staatsexamensarbeit). Essen, 1981, где, в частности, подчеркивается, что большинство мужчин среди «изгнанных» собственно «изгнания» не пережили. Ср.: Jolles HM. Zur Soziologie der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge. Köln, 1965.
{50} Антон Кроненберг, кассета 2, 1.
{51} Эрнст Бромберг, 1905 г.р. (отец – пекарь, впоследствии рабочий в промышленности), слесарь и фрезеровщик на крупном предприятии. Кассеты 2,2 и 3,2.
{52} Вильгельм Денкхаус, 1918 г.р., токарь на предприятии металлургической промышленности, работал в советской оккупационной зоне и ГДР на шахте. Кассета 2, 1. Контраст между зонами он воспринимал особенно остро, поскольку был в плену в США, о котором рассказывает как о земном рае, где пленные даже линии разметки на футбольном поле посыпали мукой и сахарным песком.
{53} Эрих Бергер, 1906 г.р. (отец – батрак в Восточной Пруссии, впоследствии кочегар в Рурской области и социал-демократ), учился на токаря, с 1933 года – водитель грузовика. С 1948 года член производственного совета и политический функционер во фракции СДПГ в ландтаге. Кассета 2, 2.
{54} Эльза Мюллер, кассета 3, 2.
{55} Ида Майстер, кассета 2, 1.
{56} Гюнтер Шмидт, 1906 г.р. (отец – сельскохозяйственный рабочий в Восточной Пруссии), печатник, в 1936–1941 годах был в каторжной тюрьме за участие в движении Сопротивления; социал-демократ и профсоюзный функционер, после войны – депутат городского собрания и директор крупного предприятия. Кассета 3, 2.
{57} Эффективность сообществ, в которые объединялись с целью совместной (но функционально разделенной) работы и жизни женщины в послевоенном Берлине, подчеркивается в исследовании: Meyer\'S., Schulze E. Geschlechterverhältnis und Familienstruktur im Wandel. Berlin, 1983 (гектографическое издание).
{58} Генрих Бергман, 1909 г.р. (отец – слесарь, член СДПГ), бухгалтер на крупном предприятии, социал-демократ и профсоюзный деятель, председатель ассоциации жильцов рабочего поселка. Кассета 4, 2.
{59} Ср.: Brüggemeier F.-J. Leben vor Ort. München, 1983.
{60} Подобное рассказывает, например, и госпожа Козловски.
{61} Например, супруга Вильгельма Денкхауса сообщает, что ее муж после возвращения из плена видел в ночных кошмарах колючую проволоку, не хотел поначалу мириться с возросшей самостоятельностью жены и к тому же был вынужден слушать, как его малолетний «Эдип» говорил: «Мама, давай отправим отца назад в Африку!» (кассета 2, 1).
{62} Schelsky H. Wandlungen der deutschen Familie in der Gegenwart / 5 Aufl. Stuttgart, 1967. S. 347ff. Автор полагает, что в особых условиях, в которых существовали деклассированные и пострадавшие от войны семьи, направленные в противоположные стороны процессы соединялись в однолинейные тенденции социальной эволюции, такие как отрыв от родной почвы, децентрализация, омассовление и т. д. Ср. также анализ материала по истории семей, используемого Шельски, в работе: Wurzbacher G. Leitbilder gegenwärtigen deutschen Familienlebens / 4 Aufl. Stuttgart, 1969. В 118 из 164 случаев обнаруживается сильная изоляция малой семьи (частично расширенной за счет знакомых или родственников) от общества в целом, но вместе с тем и высокая социальная незащищенность малых семей (S. 249f.). Критику институционализма Шельски см. в работе: Rosenkamm H. Familie als Gegenstruktur zur Gesellschaft / 2 Aufl. Stuttgart, 1978, особенно S. 34ff., где подчеркивается прежде всего программный характер реставрации семьи, задумывавшейся как альтернатива общественным переменам, в то время как с точки зрения Шельски это был процесс, готовивший установление нового общественного строя и паттернов поведения, характерных для стабильного общества.
{63} О ней см. примеч. 35.
{64} Эрика Нойфер, 1910 г.р. (отец – шахтер, коммунист), прислуга, в 1930 году вышла замуж за безработного подсобного рабочего; построили дом на полученном участке; занимались многочисленными подработками. Кассета 1, 2.
{65} Герда Герман, кассета 2, 1.
{66} Эта ретроспективная надежда вновь возникает в последние годы в публицистике женского движения, особенно когда рассказывается об опыте женщин в крупных городах, в частности о легендарных берлинских Trümmerfrauen — женщинах, работавших на расчистке города от развалин. Эти представления нельзя переносить на индустриальный регион, в котором было много мужчин, освобожденных от призыва как незаменимые работники, а многие женщины, наоборот, были эвакуированы. Но кроме того, эти представления сомнительны потому, что политические нововведения (создание женских ассоциаций и подступы к созданию партии женщин) были лишь маргинальными явлениями, не затрагивавшими жизнь большинства женщин. См., например, документальное исследование: Kühn A., Schubert D. Frauen in der Nachkriegszeit und im Wirtschaftswunder, 1945–1960. Frankfurt a. M., 1980 (Frauenalltag und Frauenbewegung im 20 Jahrhundert. Historisches Museum Frankfurt. Bd. 4). S. IV/8ff.
{67} Анна Петерс, 1908 г.р. (отец – столяр на крупном предприятии, социал-демократ), в 1934 году вышла замуж за товарища по социалистическому молодежному движению; домохозяйка; после 1949 года переориентировалась на компартию, где работала конторской служащей. Кассета 2, 1.
{68} Проблематика эвакуации рурских рабочих обрисована в книге: Werner W.F. “Bleib übrig!” Deutsche Arbeiter in der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft. Wuppertal, 1983. Ср. попытки создания женского общества в Берлине, описанные в работе: Meyer S., Schulze E. Geschlechterverhältnis und Familienstruktur im Wandel. Berlin, 1983.
{69} Несмотря на развитие социологии и истории семьи в последние годы, обобщающих работ об истории семейной политики и о роли семьи в истории социальной политики и ее теории по-прежнему нет. Первые подступы: The German Family / Ed. by R.J. Evans, W.R. Lee. London, 1981; Elshtain J.B. The Family in Political Thought. Brighton, 1982.
{70} Густав Кеппке, кассета 1, 1.
{71} Здесь моя интерпретация вдохновлена идеей теневой экономики, или теневого труда, хотя изначально эта идея имела несколько иную направленность. Наиболее известным ее выражением является книга: Illich I. Wider die Verstaatlichung des Lebens. Reinbek, 1982, или в более сжатом виде: Journal für Geschichte. 1982. H. I. S. 6ff.
{72} Такое воровство стали обозначать глаголом «fringsen» после того, как кардинал Фрингс в своем новогоднем послании 1946 года провозгласил: «Невозможно запретить человеку взять то, что наиболее необходимо для сохранения его жизни и здоровья, если он не получает этого трудом или просьбой». Наглядные иллюстрации см. в книге: Grube F., Richter G. Die Schwarzmarktzeit. Hamburg, 1979. S. 103ff.
{73} Эрих Бергер, кассета 5, 1.
{74} В разговоре с Яном Везелем, кассета 3, 1.
{75} Марга Бергер, кассета 5, 1.
{76} Герда Герман, кассета 2, 1.
{77} Херта Кранге, 1920 г.р. (отец – шахтер), продавщица, в 1944 году вышла замуж за столяра, в 1945–1950-м домохозяйка, позже директор магазина. Кассета 2, 1.
{78} Ренате Урбан, 1921 г.р. (отец – кузнец, социал-демократ), продавщица, впоследствии делопроизводительница, замужем за слесарем. Кассета 5, 1.
{79} Йозеф Пауль, 1924 г.р. (отец – шахтер, член СДПГ), электромонтер, инвалид войны, с 1951 года – служащий городской администрации (ср.: LUSIR. Bd. 1. S. 195ff.). Кассета 2, 2.
{80} Герда Герман, кассета 2, 1.
{81} Ульрика Ротер, кассета 2, 2.
{82} Анна Петерс, кассета 1, 2.
{83} В наших интервью упоминаются такие виды домашних промыслов, как, например, вязание крючком скатерок для голландских матросов, изготовление шкатулок для рукоделия, столярно-мебельные работы (эти изделия могли обмениваться, скажем, на плиту для кухни), а также обтесывание камней из развалин для собственного употребления или на продажу и т. д.
{84} О так называемой системе «очков» см. статью: Borsdorf U. Speck oder Sozialisierung: Produktionssteigerungskampagnen im Ruhrbergbau, 1945–1947 // Glück auf, Kameraden! / Hg. Von U. Borsdorf, H. Mommsen. Köln, 1979. S. 345ff.
{85} Разные респонденты – например, Бабетта Баль (кассета 3, 2) и Роза Шюрер (кассета 1, 2) – вспоминали в подробностях содержимое пакетов от CARE, которые они получали: главным в них были кофе, шоколад и сигареты, а также там были различные продовольственные товары, из которых особым спросом пользовались консервированная колбаса и жир. Эти ценные продукты можно было и обменять на что-то, и выставить на стол во время посиделок с соседями или родней. Несколько респондентов настаивают на том, что содержимое пакетов было неодинаковым: Герман Пфистер (кассета 3, 1), например, сообщает, что та шахта, которая выдавала на гора больше всего угля, получала самые лучшие пакеты.
{86} Среди наших респондентов пакеты от CARE получали не только шахтеры, работавшие под землей, но и, например, секретарша правления шахты, и рабочий-строитель, выполнявший ремонт здания шахты, и юноша, посещавший горное училище, и вдова шахтера, и также работники с других предприятий, если они длительное время – минимум три месяца на момент раздачи пакетов – проработали на самой шахте или в ее снабжении. Даже ревизор, проверявшая финансовую деятельность предприятий, после успешного завершения ревизии получала свою долю.
{87} Франц Петерс, кассета 3, 2.
{88} Ср.: Niethammer L. Rekonstruktion und Desintegration: Zum Verständnis der deutschen Arbeiterbewegung zwischen Krieg und Kaltem Krieg // Geschichte und Gesellschaft. Sonderheft. 1979. Bd. 5. S. 26ff.
{89} Ср. статьи М. Циммермана и А. фон Плато: LUSIR. Bd. 2.
{90} Ср.: Arbeiterinitiative 1945 / Hg. von L. Niethammer, U. Borsdorf, P. Brandt. Wuppertal, 1976.
{91} Ср .: Borsdorf U. Speck oder Sozialisierung: Produktionssteigerungskampagnen im Ruhrbergbau, 1945–1947 // Glück auf, Kameraden! / Hg. Von U. Borsdorf, H. Mommsen. Köln, 1979. S. 345ff.
{92} Ср.: Borsdorf U., Pietsch H. Betriebsausschüsse im Ruhrgebiet // Arbeiterinitiative 1945… S. 281ff.
{93} Эта формула заимствована из работы Маркса «Гражданская война во Франции», где она относится к коммуне. Ср.: Marx K., Engels F. Ausgewählte Schriften. Berlin (Ost), 1970. Bd. l. S. 487 [ Маркс К. Гражданская война во Франции // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1960. Т. 17. С. 341].
{94} Цитаты из рассказов Мартина Радтке, Конрада Фогеля, кассета 2, 1, и Александра Штоппока, кассета 1, 2.
{95} Литература на эту тему дана в моей сравнительной работе: Niethammer L. Strukturreform und Wachstumspakt, Westeuropäische Bedingungen der einheitsgewerkschaftlichen Bewegung nach dem Zusammenbruch des Faschismus // Vom Sozialistengesetz zur Mitbestimmung / Hg. von H.O. Vetter. Köln, 1975. S. 303ff., особенно 319ff. и 326ff.
{96} Эрнст Штеккер, кассета 3, 2.
{97} Ян Везель, кассета 3, 1.
{98} Эмиль Кремер, 1918 г.р. (отец – седельщик в тяжелой промышленности), кузнец по подковам и конным экипажам, после военной службы работал на железной дороге. Кассета 5, 1.
{99} Надо учесть также, что здесь имелось большое число освобожденных членов производственных советов, хотя это не было общим правилом. Председатель производственного совета Вилли Эрбах (1904 г.р., сын слесаря, слесарь на крупном предприятии) вспоминает, что в первые послевоенные годы на одном крупном предприятии 29 членов совета были освобожденными – очевидно, они были заменой урезанных кадров заводского управления, локальной администрации и политической власти.
{100} Особенно те, кто тогда были молоды и пытались сориентироваться, подчеркивают, что поначалу было, собственно, только два варианта: церковь или коммунизм; одни, как Густав Кеппке, становились молодыми коммунистами, другие, как Ганс Гедер, сначала шли в католические молодежные организации. В известной мере это же относится и к той молодежи, которая шла в профсоюзное движение или в «Соколы», потому что главным для них – как, например, для Конрада Фогеля – было тогда участие в какой-нибудь радикально-социалистической деятельности. Среди более старших респондентов многие тоже подчеркивают, что альтернатива в первые послевоенные годы была – либо к «красным», либо к «черным», как, например, рассказывает Герман Пфистер (кассета 5, 1): «Знаете, после войны, тогда было так: коммунист или христианин, другого-то ничего не было. Ну, после [реформы] денег уже появились [другие]». И даже в воспоминаниях одного из основателей ХДС, занимавшего в свое время позицию «без меня», просматривается эта красно-черная диалектика (Винценц Венгерски, кассета 2, 1): «Один мой хороший сосед тогда со мной заговорил: „Видишь, как коммунисты и русские давят? Ну как, Винценц, может создадим ХДС?“ Я говорю: „Иди ты со своими партиями. Ты же прекрасно помнишь, как было с той, другой партией. Мы с тобой в ней не были. Ты в ней не был и я в ней не был. А все равно у нас нацистская партия в печенках“. А он говорит: „Так ведь теперь кругом товарищи, христиане, и теперь-то мы могли бы основать ХДС. Он в других-то местах есть уже, в Баварии и повсюду он уже есть. Ну, что думаешь? И в Эссене, похоже, он тоже есть уже. Что, думаешь, не сможем?“ – „Не, – говорю, – Юпп, со мной ничего у тебя не выйдет“. В конце концов Юппу все-таки удалось меня переубедить». И так они в 1946 году основали в своем рабочем предместье Христианско-демократический союз.
{101} Клаус-Юрген Гайслер, 1931 г.р. (отец – крановщик). На его формирование как личности решающее влияние оказали гитлерюгенд и жизнь в деревне, куда он вместе с детьми был отправлен с началом бомбардировок. После 1945 года вступил в «Соколы». Посещал сначала школу, потом обучался на контролера на химическом предприятии; председатель производственного совета, член СДПГ. Кассета 2, 1.
{102} Гюнтер Шмидт (о нем см. примеч. 57) рассказывает о первом социал-демократическом собрании по общеполитическим вопросам у себя в предместье: «Как нам накормить людей досыта, как нам обеспечить людям жилье, как нам снова наладить школы, как нам расчистить улицы, чтобы трамвай ходил и машины могли проехать, и так далее. Это ведь были злободневные вопросы, и разумеется, когда мы [устраивали] собрания в зале дворца, тогда в старом еще, куда 300 человек входило, то он лопался просто, там было по 400–450, а мы там попытались как-то завести речь о будущем Германии, мы хотели сказать, каким путем хочет идти социал-демократия. Не первый, так второй выступающий в дискуссии сказал: „Не надо нам про завтра и послезавтра рассказывать – скажите, когда у нас больше станет чего пожрать, когда у нас жилье будет, когда у нас будет что надеть, когда у меня снова будет работа“».
{103} Конрад Фогель, кассета 1, 2.
{104} Для ориентации кратко и доходчиво: Abelshauser W. Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, 1945–1980. Frankfurt a. M., 1983. S. 46ff.; Hartwich H.-H. Sozialstaatspostulat und gesellschaftlicher Status quo/ 3 Aufl. Opladen, 1978. S. 102ff. О планировании: Zur Vorgeschichte der Deutschen Mark / Hg. von H. Möller. Tübingen, 1961.
{105} Сведения от Ильзелоры Кельнер, кассета 2, 1; Марги и Эриха Бергеров, кассета 5, 1; Кельнер, кассета 1, 2; Ванды Мельден, кассета 2, 1 и Эльзы Мюллер, кассета 5, 1.
{106} Херта Кранге, кассета 2, 2.
{107} За полтора года после денежной реформы число безработных в Западной Германии выросло вчетверо. Ср.: Abelshauser W. Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, 1945–1980. Frankfurt a. M., 1983. S. 64.
{108} Герда Герман, кассета 2, 2.
{109} Анна Петерс, кассета 2, 1.
{110} Антон Урбански, 1902 г.р. (отец – токарь по дереву), шахтер, работал также сверловщиком, строителем и мн. др. Многодетная семья. В 1933 году вступил в НСДАП, чтобы найти работу, после 1945 года ориентировался на СДПГ. Кассета 4, 1.
{111} Хельмут Хентшель, 1916 г.р. (отец – шахтер), стенографист в газете, впоследствии торговый служащий, кассета 3, 1.
{112} Герман Беккер, кассета 4, 1.
{113} Марта Ботт, кассеты 3, 1; 3, 2.
{114} Анна Петерс, кассета 1, 2. Она не может вписать в тот образ конца 1940-х годов, что остался у нее в памяти, два миллиона безработных, о которых ей напоминает интервьюер (кассета 2, 2).
{115} Критическая история решающего, 1948, года пока не написана. Проведенное исследование прессы и еженедельных информационных киножурналов показало, что принятие Конституции ФРГ в Парламентском совете и предшествовавшие ему процессы протекали практически без участия и ведома общественности, поскольку популярные средства массовой информации почти не сообщали ничего по существу дела. Одно примечательное исключение – кинорепортаж о принятии решения о создании западногерманского государства – анализируется в работе: Bodensieck H. Erarbeitung eines Tonfilmberichts: Die Übergabe der “Frankfurter Dokumente” 1948 in der bizonalen Besatzungswochenschau “Welt im Film” // Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. 1983. Bd. 34. S. 473ff. В противоположность этому, денежная реформа, блокада Берлина и воздушный мост необычайно широко освещались в средствах массовой коммуникации – с одной стороны, потому что демонстрация выбора в пользу капитализма на фоне одного из самых непонятных и самых безуспешных маневров Восточной Германии в разгар холодной войны получала свою легитимацию. С другой стороны, в Берлине – форпосте Запада – [Западную] Германию признали как партнера, выступающего в союзе со странами антигитлеровской коалиции, в то время как некоторые толковали денежную реформу как итоговую черту, подводимую под счетом долгов западных немцев. Эти два фактора в сумме дали стартовый выстрел, после которого новая Германия наконец-то оказалась на правильной стороне и теперь могла формировать антитоталитарное самопонимание, в рамках которого можно было сплести национальную историю, внешнеполитическую позицию, плюралистический политический строй и капиталистическую рыночную экономику в некий новый консенсус, который по охвату и мощи воздействия не уступал фашистскому базовому консенсусу, оказавшись, однако, гораздо более позитивной и эффективной базой.
{116} Клаус-Юрген Гайслер, кассета 1, 2.
{117} Ср.: LUSIR. Bd. 1. S. 92.
{118} Ср.: Beier G. Der Demonstrations– und Generalstreik vom 12 November 1948 in Zusammenhang mit der parlamentarischen Entwicklung Westdeutschlands. Frankfurt a. M., 1975.
{119} Engels F. Vorwort zur ersten Auflage von “Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats” // Marx K., Engels F. Ausgewählte Schriften. Berlin (Ost), 1970. Bd. 2. S. 155f. [ Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения: В 3 т. М., 1986. Т. 3 (Предисловие к первому изданию)]. Курсив – в немецком оригинале.
Приложение
Социальный профиль 64 опрошенных (абсолютные показатели)
4 «Нормализация жизни» в Западной Германии. Воспоминания о 1950-х
С начала текущего десятилетия «50-е», похоже, переживают ренессанс. Эта эпоха теперь вызывает ностальгическую тоску. Она достаточно близка: обращенный в прошлое взгляд достигает ее, не натыкаясь на нацистский режим и не омрачаясь мыслью об ответственности немцев за него. Но она и достаточно далека, и экзотична, чтобы приобрести мифические черты. Внуки того поколения, заседающие ныне в правительстве, тоскуют по укреплявшемуся тогда базовому консенсусу в обществе, по беспроблемному экономическому росту, по предначертанным задачам, по контрасту со сталинизмом. У нынешней молодежи, которая иронически обыгрывает мотивы 1950-х в мебели и одежде, за поверхностным отторжением скрывается глубинная привязанность к стране мечты, откуда родом «дети чуда». Одна 18-летняя жительница Мюльхайма-на-Руре в 1983 году так объяснила в интервью журналу Quick свое пристрастие к платьям из магазина сэконд-хенд: «Современные вещи не признаю. […] Тогда ведь жизнь гораздо гармоничнее была, чем сегодня. Люди были не такие агрессивные. У них была общая цель» {1}.
Материал, из которого строится эта страна грез, добывается путем избирательного сочетания фрагментов, поставляемых средствами массовой информации, которые берут упрощенные и сильно приукрашенные картины из прессы того времени, а потом упрощают их еще сильнее и вычленяют из контекста. Редко кто всматривается в ту эпоху более пристально и подробно {2}. В основном 1950-е годы – это магазин фантазий.
Историкам, изучающим период создания ФРГ, до сих пор не удалось сокрушить миф о 1950-х. С одной стороны, растет количество и качество информации о конфликтном потенциале того времени, например, о безработице после денежной реформы, о неравном распределении выгод и ущерба от войны и ее последствий, о трудовых конфликтах, о выступлениях против роста вооружений и атомного оружия; обсуждаются упущения, например, в политике по отношению к Восточной Германии, в градостроительстве, в стратегии технологического развития. С другой стороны, эти возражения теряются на фоне неувядающих картин восстановления страны, экономического чуда, общества всеобщего благосостояния, западноевропейской интеграции, сочетания стабильности с либеральным строем. Это особенно стало заметно в последнее время, когда в поисках континуитета такие картины связывают с идеями особого немецкого пути, а историю ФРГ – напрямую с историей Германской империи до 1918 года {3}. Если понятие «реставрации», против которого направлена значительная часть начавшихся после 1989 года усилий по формированию новой традиции, следует признать оторванным от контекста, пустым и неадекватным, то это же следует сказать и о противоположных концепциях – «нормализации» и «модернизации» {4}. Эти понятия проблематичны, поскольку создают ложное впечатление, будто вопрос о содержании описываемых процессов и о том, что следует считать «нормальным» и «современным», более не актуален. Кроме того, они затушевывают процессы ментальной переориентации, интеграции в новый порядок, утраты позиций одними социальными группами и усиления – другими, а также процесс упорядочивания и примирения противоречий, происходивший и в обществе, и в головах индивидов. А между тем эти процессы следовало бы сначала нащупать, описать, по возможности понять или даже объяснить. Шаг в этом направлении будет здесь сделан на основе воспоминаний жителей Рурской области {5}.
I. Методологические предпосылки: история опыта
Опыт народа {6} – это герменевтическое направление, к которому стали теперь снова обращаться, использовать его и подвергать сомнению. Сомнения относятся, во-первых, к релевантности структур опыта широких масс населения, во-вторых, к характеру опыта – непросвещенному, не преломленному критическими концепциями, возникшими в лоне социальных наук, а в-третьих, к аморфной, не подвластной обычным социологическим аналитическим категориям сущности «народа». И наконец, на понятие «народ» наложено своего рода табу, потому что в политической сфере его используют все стороны, а в силу той важной роли, которую оно играло в «народной» (völkisch) традиции нацистов, его заклеймили как полуфашистское {7}. Практически противоположные лагеря пользуются понятием «народный опыт»: один лагерь продолжает федералистские традиции рабочего движения, границы которого его приверженцы стремятся в условиях конкуренции за культурную гегемонию преодолеть путем опоры на плебейские культурные традиции. Другой лагерь рассматривает народ как массовый арьергард общественных элит; линия конфликта в этом случае проходит не между народом и властью, а между народом и «его» вождями, с одной стороны, и другими народами или отщепенцами внутри общества – с другой. Фашизм стал пробным камнем для обоих лагерей, поскольку одному из них трудно сохранять прогрессивную традицию (people’s history) перед лицом любви нацистов к «массе» {8}, а другому не менее трудно освободить массу «попутчиков» от ответственности за холокост {9}.
Постольку, поскольку у обоих лагерей цель состоит в отождествлении, т. е. в пропагандистском установлении прямой связи между «тогда» и «теперь», сомневающиеся правы, когда говорят, что это скорее короткое замыкание, чем прямая связь, а все применяемые при этом понятия «народа» являются манипулятивными.
Предпринимаемая в исторической науке попытка привнести в историю аспект опыта, – идет ли речь о переживании события его современниками или об опыте, приобретенном благодаря осознанию минувшего, – ничего общего с установлением такой идентифицирующей связи не имеет. Цель этой попытки – выявлять и интерпретировать существующие в массовой культуре паттерны и способы переработки опыта {10}. Для таких операций важнейшее значение имеют два момента: индивидуальность свидетельства и дистанция интерпретатора {11}. Эти моменты практически исключают самоотождествление интерпретатора с изучаемой общественной группой и скорее ставят, нежели решают вопросы об обобщаемости (что репрезентирует свидетельство?) и о горизонте интерпретации (что отличает наш угол зрения от угла зрения свидетеля?). А это – основные вопросы всякого исследования, базирующегося на устной или письменной традиции. Историческая обработка рассказов людей о своем опыте не ведет к обобщающим и упрощающим выводам относительно опыта целого народа и уж тем более – к переносу этого опыта в современность; прежде всего ее результатом является интерпретативная разведка многообразия опыта и его предпосылок. Благодаря этому вырабатывается критичное отношение к идеологически мотивированному приписыванию чего-либо народу. Только так можно исторически конституировать индивидуальность масс в их конкретном социокультурном своеобразии, и только так взгляд интерпретатора может измениться под воздействием взглядов интерпретируемых.
Потребность в выражении опыта не через направляющие идеологические категории заметна именно на примере одной из таких категорий – понятия «нормализация жизни», ставшего в 1950-е годы одним из важнейших кодовых слов в самопонимании людей того времени и даже в его исторических описаниях. Более того, и в дискуссиях по экономической истории реконструктивного периода это понятие признано в качестве неофициального определения {12}.
Но что оно означает? Считалось ли «нормальным» лишь то, что люди выползли из подвалов и перестали есть из жестяных мисок? Или же «нормальным» было названо все колоссальное изменение немецкого общества, которое произошло после Второй мировой войны, по крайней мере в Западной Германии? Лицемерно ли называлось «нормализацией» экономическое чудо, которое в моральном отношении было на самом деле вещью совершенно невероятной? Каковы те прежние «нормы», в соответствии с которыми в 1950-е годы жизнь стала «снова нормальной»?
Для ответов на такие вопросы требуются микроисторические исследования конкретных регионов {13}, групп, индивидов, их общего опыта, их воспоминаний. При такой узкой перспективе результаты не обязательно получатся случайными и ничего не значащими: благодаря ей при критическом подходе исследователь сможет выявить скрытые смыслы в текстах и прийти к более глубоким и общим выводам, а тем самым – к плодотворным эвристическим гипотезам.
Материалы проекта «Биография и социальная культура в Рурской области, 1930–1960» – это более 300 интервью, в которых люди, родившиеся между 1890 и 1930 годами, рассказывают о своих биографиях и о своей повседневной жизни. Респонденты – мужчины и женщины из разных социальных слоев, более половины – из рабочих семей. В этой статье я хотел бы вкратце показать, как наше исследование проливает новый свет на условия формирования опыта в послевоенные годы, а потом на двух уровнях проанализировать следы памяти, ведущие в народный опыт 1950-х годов.
Когда слушаешь биографические рассказы рурских рабочих, замечаешь общий для всех ритм повествования: о молодости, о годах экономического кризиса, о войне и первых послевоенных годах респонденты говорят значительно подробнее и обстоятельнее, чем о двух других периодах своей жизни: во-первых, о годах между ликвидацией безработицы в середине 1930-х и тем моментом, когда военные действия начали лично затрагивать рассказчика (это во многих случаях произошло в 1943 году), и во-вторых, – о времени после денежной реформы, которое у многих составляет почти всю вторую половину жизни. Эти отрезки, о которых респонденты молчат, при прояснении оказываются «хорошими временами», годами «нормального» существования – упорядоченной трудовой и семейной жизни, улучшения материальных условий {14}. Хорошие годы лишены всякого драматизма; эти периоды биографии трудно связать с какими-то заметными событиями общеисторического фона: такая связь требует постоянно каких-то новых «примечательных» событий в жизни, а их нет.
Отсюда вытекает, что нужно двигаться в двух направлениях, чтобы увидеть, что скрывается за этим белым пятном «хороших времен» на карте памяти. Одно направление – путем подробных расспросов конкретизировать условия обыденной жизни людей; второе – выяснить, почему обстоятельства, значительно отличавшиеся от прежних, воспринимались как «нормальные». С этой целью были проведены исследования {15}, о которых я могу здесь только упомянуть, с тем чтобы основное внимание обратить на некоторые более общие гипотезы, построенные на результатах этих исследований {16}.
Прежде всего, если говорить о причинах восприятия тех или иных условий жизни как «нормальных», то первое, что приходит в голову, – это счесть такое восприятие ретроспективной оценкой: нормально – это так, как обстоят дела сейчас, и притом уже на протяжении какого-то времени. Такая интерпретация, несомненно, верна, но это еще не все. Ведь те же самые респонденты рассказывали о 1920-х годах, когда нормальными для их семей были бедность, частая смена или потеря работы, зримые классовые границы, унижения со стороны работодателя, солидарность в быту и значительные политические разногласия между жильцами одного дома. В опыте людей существовало, таким образом, два вида нормальной жизни, и когда в интервью мы очень часто слышим, что после денежной реформы жизнь стала «снова нормальной», то это не значит, что вернулась прежняя бедность. Более вероятно, что опыт 1950-х годов был подготовлен неким промежуточным изменением норм и ожиданий.
Такое изменение произошло в три этапа: во второй половине 1930-х годов, когда процветала военная промышленность, для очень многих рабочих это обернулось стабилизацией условий труда и жизни; у них начала расширяться сфера досуга, хотя рабочее движение и всякое истолкование условий и перспектив этой улучшившейся жизни, отклоняющееся от официального, в публичной сфере подавлялись. Вместо этого все большее значение приобретали надклассовые формы развлечений, занятий спортом, массовой коммуникации и воспитания детей. В содержательном плане все эти формы были окрашены фашистской идеологией, от которой уклониться легче всего было через сосредоточение на приватном мирке, заключающем в себе рабочее место и семью, и наделение их функциями смыслообразующей частной жизненной перспективы.
Эта приватная сфера секулярных жизненных смыслов во время войны была поставлена под вопрос, однако она осталась единственной точкой отсчета, поскольку политические перспективы обесценились. Поставлена под вопрос она была глубокими переживаниями, которые выпали почти каждому представителю бедного традициями младшего поколения, кому в условиях войны пришлось выйти за границы привычной среды, соответствовать новым для себя требованиям, участвовать в господстве над завоеванными народами, испытывать относительные взлеты и абсолютные утраты, претерпевать травмы и, наконец, пережить разгром этого приватного мирка. То, что от него осталось, было тоже поставлено под вопрос, национализировано, превращено из приватной реальности, ограждающей от окружающих условий, в тоску, ограждающую от реальности. Тем не менее эта искалеченная фикция – свой приватный мирок – в конце концов оказывалась почти у всех первой, если не единственной рамкой, в которую вписывалась жизнь по возвращении из дальних и ближних миров. В эту рамку вставлялись все, даже самые противоречивые, страхи, надежды, притязания, опыт, и только исходя из нее могла создаваться импровизированная материальная основа жизни. Потребность сориентироваться и за пределами этой рамки вела к тому, что после окончания войны люди с вниманием относились к разнообразным проектам социального и культурного обновления Германии, в массовом порядке ходили в церковь. В промышленных районах эти проекты сталкивались с активностью производственных советов самой разной политической направленности, которые доказали свою эффективность еще в период Веймарской республики, но теперь отодвинули на задний план свои политические принципы, которые все равно не позволяли им дать конкретные ответы на вопросы молодежи, и влились в общую работу по реорганизации практической жизни. Так образовались прагматические профсоюзные структуры патроната и представительства, которые простирались и в сферу общественной жизни. Им суждено было пережить и перегруппировку политических фракций в годы холодной войны, и переориентацию с коллективистской на рыночную экономику, и смену поколений, в ходе которой место старых социалистов заняли функционеры, менее прочно cвязанные с традициями {17}.
Не следует спешить с распространением этих гипотез на общество в целом. Их следует сопоставить с опытом буржуазных слоев. Ведь хотя последние и были связаны с фашизмом многочисленными идеологическими и социальными мостиками, нацистский режим, как правило, не означал для них такого радикального расширения жизненной практики и перспектив, как для рабочих. С другой стороны, «крушение» 1945 года принесло буржуазии безальтернативное, принудительное уравнение, обесценило священные для нескольких ее поколений национальные ценности, потребовало в ходе денацификации разбираться с персональной ответственностью, – одним словом, это было игольное ушко, через которое лишь немногие с гордо поднятой головой смогли пройти в новый мир Запада.
Эмпирическое изучение жизненных миров и перспектив мужчин и женщин из рабочей среды показывает прежде всего, что в 1950-е годы этот приватный мирок – работа, семья – восстанавливался. Далее оно демонстрирует феномен, который Вернер Фукс обозначил формулой «наконец стала доступной нормальная биография» {18}. То, о чем в 1930-е годы можно было мечтать, удалившись от общества в свой приватный мирок, теперь можно было осуществить в согласии с обществом. Занятость теперь была обеспечена; стали доступны вещи, необходимые для семьи, а потом, в рассрочку, и современная техника для частной жизни, и все это оказалось не мимолетным эпизодом и не обманом, а реальной наградой за дисциплину. Место культуры бедности как классовой судьбы заняла теперь причастность к восстановлению страны и ко всеобщему улучшению материального благосостояния. Появилась возможность строить планы; это были небольшие шаги в сторону изменения приватного мирка, плоды которых суждено было пожать только следующему поколению, получившему лучшее образование. Теперь в широких слоях рабочего класса семья, прежде служившая средством обеспечения старости и представлявшая собой зачастую дело обычное, но трудно осуществимое, превратилась в проект имманентной трансценденции. Женщины, которые в лихие годы осознали свою силу, выйдя за пределы привычных ролей, теперь в большинстве своем вернулись к домашнему очагу. Но теперь им не было нужды растрачивать свою силу на выживание, они могли направить ее на сделавшуюся едва ли не профессиональной заботу о приватной сфере и вложить ее в воспитание детей, – в частности, дочерей, которым теперь тоже, как и сыновьям, надо было обеспечить образование. Теперь не нужно было работать так много, как раньше, но люди работали много – чтобы чего-то достичь.
Не то чтобы мир полностью изменился и специфика жизни рабочих растворилась в обществе неограниченных возможностей. Наоборот, фаза надежд на радикальные перемены, на переворот – будь то через социальную революцию или национальный империализм, – явно ушла в прошлое. Отчетливее стали видны ограниченные возможности, и то, что прежде было разделено, теперь смешивалось. Складывание социального государства переживалось как приход новой системы патерналистской защиты, как обеспечение и потенциальная динамизация приобретенных позиций на рынке. На предприятиях главным было то, что рабочие более не чувствовали себя такими беззащитными и подчиненными. Они были нужны, поэтому работодатели уже не все могли себе позволять. Место отстаивания своей трудовой гордости заняло расчетливое осознание того, что много и хорошо работать – выгодно, а главное: существовала законная возможность жаловаться. Политикой и профсоюзами рабочие не особенно интересовались, но всякому было ясно, что эта новая возможность «оставаться человеком» на работе была как-то связана с возросшим участием трудовых коллективов в органах управления производством, и этим повышалась лояльность работников по отношению к предприятию.
Реконструкции опыта повседневной жизни женщин показывают, что в период экономического роста свои приватные мирки они строили не по совсем новым образцам и не по традиционным представлениям о «нормальности», и уж точно не ориентируясь на антропологические константы: набор свойств, типичных для такого мирка, сформировался в Третьем рейхе. Большинство женщин, если они не были вынуждены работать, оставшись в результате войны без кормильца, считали естественным уступить первенство в профессиональной и публичной сферах мужчинам, однако это не значит, что сами они только стояли у плиты. Ведь шаг за шагом домашнее хозяйство наполнялось техническими нововведениями, а необходимость в тех или иных видах домашней работы отпадала по мере того, как растущая покупательная способность позволяла пользоваться покупными товарами и изделиями. Высвободившиеся силы направлялись в расширившееся семейное хозяйство, которое, в отличие от прежних жизненных горизонтов рабочего класса, теперь уже отнюдь не сводилось к воспроизводству: силы вкладывались в отделку дома, целенаправленное воспитание детей, исполнение на общественных началах различных функций в тех или иных общественных организациях, которых становилось все больше. При этом стала проницаемой граница, которая отделяла все эти виды деятельности от собственно профессиональной, сулившей помимо приработка еще и социальную осмысленность, и чувство самореализации. Вопрос о возвращении на работу стал все чаще ставиться не только с точки зрения экономической необходимости, но и с точки зрения экономических и личных выгод.
Такое представление женщины о собственном месте в жизни – более гибкое, но и приводившее зачастую на практике к непомерному увеличению нагрузки, – тоже было подготовлено в период национал-социализма {19}. Главную роль, правда, сыграли не столько нацистское понимание роли женщины как репродуктивного органа народа (это был чисто идеологический образ, навязываемый женщинам извне) и не столько интерпретация реального нового личного опыта, сколько начавшееся в конце 1930-х годов расшатывание гендерных стереотипов за счет пропаганды в средствах массовой информации и в молодежных организациях идеала товарищеских отношений между мужчиной и женщиной. В этой пропаганде распределение гендерных ролей (ей – внутренняя сфера, ему – внешняя) в принципе подтверждалось, однако в то же время делались исключения для особых обстоятельств и потребностей (например, войны); тем самым легитимировались новые сферы опыта и самореализации для мужчин и женщин, которым при этом, однако, не приходилось порывать с глубоко укорененными в культуре гендерными смысловыми референциями и соответствующими им коммуникативными правилами. В отличие от ранненацистского образа женщины-матки, широко распространившаяся идеология товарищества между полами, более связанная с традициями и более гибкая, оказалась гораздо более реалистичной и эффективной, а после войны не возникло необходимости отказываться от базовой структуры этой схемы истолкования гендерных ролей.
Поэтому можно было сказать, что в 1950-е годы в семьях «война продолжалась в малом масштабе» {20} – но не в том смысле, что там шел внутренний конфликт между фашизмом и антифашизмом, а в том смысле, что имело место боевое товарищество на малых фронтах новой жизни; в разделении труда была та же гибкость, что и в военные времена. Женщина-товарищ в такой системе не делала мужчину-товарища лишним: она представляла собой специфическое агрегатное состояние любовницы, домохозяйки и матери, мобилизуемое вне дома только при особой необходимости. Когда в конце 1940-х годов такая необходимость пошла на убыль и мужчины-товарищи вернулись домой, возник большой и вызывающий сегодня неловкость проект «нормализации жизни» в связи с вопросом о том, как сочетать товарищество с традиционными гендерными ролями. Эту модель переименовали, назвав «партнерскими отношениями», и так она обрела привлекательно невинный облик западной модернизации. Но как можно было сочетать перенос товарищества в сферу обустройства приватных мирков с восстановлением традиционного эротического заряда в отношениях между мужчинами и женщинами – это был вопрос, ответ на который могла дать только практика. Большая доля массовой культуры начала 1950-х годов отражает этот массовый эксперимент. При поддержке образцов, задаваемых рекламой, индустрией развлечений, курсами хороших манер и школами танцев, этот эксперимент осуществлялся обоими полами, придумывавшими и испробовавшими множество разных вариантов. При взгляде из сегодняшнего дня преобладает впечатление неуверенности при новой разметке пространства в мире взрослых, как бы заново переживавшем период полового созревания {21}.
II. Раздвоенная ностальгия
Если выше говорилось о том, что, воспоминая свою жизнь, респонденты молчали о «хороших временах», то основывалась эта констатация на плотности и подробности спонтанных рассказов. Нельзя, однако, сказать, что они это время вовсе обходили: нет недостатка в хронологических данных о смене мест работы, продвижении по службе, переездах на новую квартиру, рождении детей, несколько реже – об этапах потребительской карьеры, наиболее характерными из которых являются обустройство квартиры, потом первый телевизор, первый мотоцикл или автомобиль, первая поездка в отпуск. Эти сведения сопровождаются ретроспективными общими оценками; зачастую они сводятся к кратким формулам и отличаются кажущейся однозначностью. Но при более подробном изложении к ним примешиваются странные нотки, которые мы рассмотрим здесь на нескольких примерах. Распространенные формулы опыта сведены к наименьшему общему знаменателю в рассказе одного административного чиновника:
...
До того годы – это война была. Первые пять лет до 48-го. Денежная реформа: потом ну в самом деле ничего не происходило. […] Пятидесятые годы. Да, это был подъем, снова дело двинулось. Можно было чего-то достичь, и все снова стало нормально {22}.
Интересна прежде всего периодизация: отправной точкой является не Третий рейх, а война. Потом следует некоторое ничем не занятое время, протяженность которого неясна. Как свидетельствуют многие истории, рассказанные нашими собеседниками, в «годы руин» много чего происходило, но, глядя из будущего и меряя его мерками, кажется, что не происходило ничего.
У 50-х годов есть отчетливое начало: 20 июня 1948 года – денежная реформа, мифический момент создания западногерманского общества {23}. В этом акте творения каждый индивид в своем экономическом качестве был символически связан с национальной историей. Кроме того, были прояснены перспективы, продемонстрированы власть и порядок, царящие на Западе, в то время как Советский Союз, блокировав Западный Берлин, так же наглядно показал себя воплощением несправедливости и неудачи {24}. А в тени этого судьбоносного акта, совершенного союзнической оккупационной администрацией и воспринятого западными немцами как насильственное приведение к счастью, были без лишнего шума реализованы государственно-правовые следствия из разделения Германии: была образована ФРГ. Для западных немцев ее создание стало счастливым случаем: без всякой собственной заслуги они оказались на лучшей стороне. И теперь, как гласит процитированная выше формула, «снова дело двинулось»: были созданы рамочные условия, в которых могла реализоваться деловая энергия каждого. Подъем принес нормализацию жизни, которая заключалась в дальнейшем подъеме, воспринимавшемся уже не так ярко, как начальная фаза. Поэтому у 50-х годов и нет внятного конца: они переходят в 60-е.
Если данный опыт рассмотреть подробнее, то это лишь отчасти приведет к подтверждению и насыщению деталями этой картины однолинейного развития. Отчасти же это ее разрушит. Так, например, председатель производственного совета группы предприятий, принадлежащих одной фирме – символу Рурской индустрии, – воздав должное денежной реформе как началу новой «нормальной жизни», говорит {25}:
...
Я бы разделял: одно дело экономическая история, другое дело – личная. Потому что в 50-е годы в основном все старались восстановить все то, что у большинства забрала война. Отделывали квартиры, причем даже, конечно, комфортабельнее и лучше, чем прежде у них было, современнее, современными средствами. Наряду с этим, конечно, если посмотреть на политическое развитие, то [после] чувства начала чего-то нового, которое было году в 48–49, 50-е годы показали, конечно, известное разочарование в плане реставрации прежних наших политических сил, консервативных в переносном смысле сил. Потому что, конечно, если человек был политически активен и не консервативно ориентирован, то отчасти, разумеется, были причины для разочарования и отчаяния, особенно после дискуссии о ремилитаризации, о Европейском оборонительном сообществе и так далее. Это были, конечно, времена, когда в политическом отношении были разочаровывающие моменты, но с личным развитием это не всегда было непосредственно связано {26}.
Это разделение личной и политической перспектив у господина Гайслера представляет собой трещину, разделяющую надвое его опыт и по сей день. Другая такая трещина сейчас уже заделана: оглядываясь сегодня назад, он вынужден признать достоинства того пути экономического развития, против которого он в юности боролся в рядах «Соколов». Поэтому и ненавистная ему социальная реставрация представляется теперь уже чем-то вроде перемены симпатий избирателей в пользу другой массовой партии. Но он помнит надежды, царившие среди социал-демократов, после того как они в Экономическом совете перешли в оппозицию и надеялись на построение западного социализма («маршаллплановой экономики») – другой республики, в которой их партия играла бы руководящую роль. Надежды эти рассыпались при первых выборах в бундестаг, и социал-демократической партии пришлось долго и трудно приспосабливаться к новым условиям, сложившимся в Западной Германии. Клаус-Юрген Гайслер, чья юность прошла в гитлерюгенде и в организации эвакуированных детей, сформировался под влиянием опыта национал-социалистического коллективизма. Но после 1945 года он очень быстро и решительно переориентировался, пришел в «Соколы», где познакомился со своей будущей женой, потом в СДПГ, а оттуда – в профсоюз. Его второй специальностью стала работа в профессиональных организациях и производственных советах. От партийной политики он сегодня держится в стороне.
Быстрая и решительная переориентация после крушения юношеских нацистских идеалов была не слишком частым явлением. Как правило, требовалось некоторое время, прежде чем человек через свою профессиональную деятельность и через личные отношения с политически активными старыми товарищами по работе начинал осторожно приобщаться сначала к единому профсоюзу, потом к производственному совету и СДПГ (на платформе более умеренной программы 1959 года), а потом у него появлялся новый взгляд не только на собственное личное и профессиональное развитие, но и на политику, и там он находил осуществление своих чаяний {27}. Господин Гайслер прошел этот путь в противоположном направлении. Но в 1950-е годы ему пришлось осуществить повторную политическую переориентацию, и тогда он разочаровался в политике и с тех пор стал искать такие пути личностного и экономического развития, которые бы не обрывались {28}.
Но следы воспоминаний редко ведут к проблематике политической активности в 1950-е годы. Чаще они ведут к рамочным политическим условиям, в которых многие испытывали сокращение спектра возможностей. Это сокращение спектра люди вынуждены были принять, поскольку поняли, что его оборотной стороной были такие выгоды, как мир и свобода. Это указывает не на расколы в самом опыте 1950-х годов, а на отделение этого опыта от прежнего. Чаще всего подобное обнаруживается у тех групп респондентов, которые перенесли личные травмы, смерть близких, утрату родины, имущества или прежнего статуса, т. е. испытывали последствия войны особым образом, как личное бремя. Если сложить все признаки, то наверняка получится, что это едва ли не половина всего послевоенного германского общества.
...
Это скромный маленький домик, никакого сравнения с тем, откуда я родом. Но то, что я сумела сберечь от войны и привезти сюда, и моя профессия, и мой домик, и детей вырастить – это было самое большее, что я могла сделать после этой войны. Первая половина моей жизни была совсем другая – и по происхождению, и по материальному моему положению, хотя оно тоже было очень переменчивое в те годы. Но я… элита – это, пожалуй, громко сказано, но верхний слой буржуазии – до него я добралась, с трудом и в значительно уменьшенном объеме. Первая половина моей жизни была гораздо более бурной, чем вторая. То, что я вот уже больше 30 лет живу здесь, – иногда мне кажется, что это сон {29}.
Еще немного – и Дерте Финке сказала бы «страшный сон». А ведь по всем критериям она во второй половине своей жизни вошла в элиту немецких женщин: она юрист, чиновник на высшей должности, автор книг, председатель ассоциации. Будучи «изгнанной» и вдовой воина, она дала образование двоим сыновьям, у нее собственный дом, а пенсия такая, что по доходу она принадлежит к богатейшей четверти населения республики. Каждый год она совершает увлекательные поездки на другие континенты. Она – заметная фигура в общественной жизни, и в свои без малого 80 лет она брызжет жизненной силой так, что и у 40-летних захватило бы дух. Откуда же тогда это деление жизни на две части, откуда эта слегка омраченная горечью гордость за свои скромные достижения 1950-х и последующих годов?
Свой карьерный рост госпожа Финке воспринимает как средство, позволяющее не опуститься. Ее нынешние трудовые достижения – мучительная попытка заменить чем-то прежние «бурные» приключения. Она происходит из рурской крупной буржуазии, ее отец был управляющим на большом промышленном предприятии, имел большой служебный особняк, в котором девочка выросла. Дерте начала изучать журналистику, но в 1933 году множество изданий было закрыто, работы в прессе стало меньше, и она, оставив эту учебу, добилась приема на юридический факультет. Юстиция была тогда мужским царством, и Дерте Финке принадлежала к первому или второму поколению женщин, пробившихся в него. Она набиралась опыта на разных должностях, заинтересовалась воздушным правом, защитила по нему диссертацию, поступила в нацистский авиационный корпус, была летчицей. В 1939 году подала заявку на должность в Познани – на только что присоединенных к рейху землях на «диком Востоке». Там она вышла замуж за коллегу, который стал кадровым офицером. У них был большой дом. Госпожа Финке перешла из страхового управления в администрацию Вартегау, потом родила двоих детей. Наполовину она была гордой немкой-колонисткой, наполовину – маргиналкой, женщиной-ученым в мужском царстве нацистов. Типичные для «попутчиков» режима тактики – с женской спецификой – позволяли ей справляться с проблемами бурного времени. Едва ли было в Третьем рейхе такое современное буржуазное поле деятельности, в котором она не попробовала бы свои силы. «Всю первую половину [жизни] я только и делала, что принимала решения, и я уверена, что это у всего моего поколения так» {30}. А потом:
...
Мирное время ведь тоже ужасное было. Оно же было гораздо, гораздо хуже, чем война, – по крайней мере для нас, на Востоке. Мы там без бомбежек сидели. […] Мне вообще и в голову не приходило воспринимать это как освобождение. Когда вы приезжаете с Востока, а мужа нет, и вся семья вверх тормашками перемешана, и никакого будущего, – нет, это невозможно было воспринять как освобождение. Так нас же до того и не угнетали нацисты-то. Это я вообще не могу даже сказать, что они хоть как-то нас угнетали {31}.
Муж пропал без вести, госпожа Финке бежала с двумя детьми, жила в комнатах вместе с матерью и сестрой где-то в Ольденбурге. Сдала экстерном экзамен на асессора, потом бесконечно долго проходила денацификацию – не столько из-за членства в партии и работы в органах юстиции, сколько из-за службы в авиации. Наконец настали 1950-е годы, и она получила новое место; 12 лет проработала референтом-ассистентом в ведомстве социального обеспечения жертв войны. Росли дети, семья жила в чужом городе, в типовом домике, где ей приходилось спать в столовой. Потом климактерический период, мужа объявили погибшим, надо было быть сильной; обязанности и ограничения помогали преодолевать климакс.
...
Надо было сначала тут устраиваться, приживаться, мебель в рассрочку оплачивать и – о Боже, Боже, нет. Ну чтоб дома себя чувствовать – я имею в виду и вот это все, обстановку. […] Дети сразу прижились в школе, а там через детей и с родителями знакомишься тоже. […] А у меня это до начала 60-х годов затянулось, я бы сказала. В середине 60-х мы смогли выкупить этот [дом], т. е. уже считали себя более укоренившимися. Но эти годы перемен – про них теперь столько всякого навыдумывали, чего и не было вовсе. Что якобы это было время реставрации, овальные журнальные столики и чего еще только не понавыкопают: ужасная культура, и все аляповато, и все нувориши, и так далее. Мы – федеральные служащие – это все мало заметили. Мы очень скромно жили. Мы радовались, что вообще снова дом у нас появился {32}.
Для Адама Брегера не существует проблематики реставрации, от которой он хотел бы отгородиться. Когда он был молод, у него было 240 моргенов земли в Ангальте, верховая лошадь и автомобиль, а сегодня он живет в трехкомнатной квартире в Гельзенкирхене, у него есть жилой прицеп в кемпинге в Зауэрланде, но нет автомобиля.
...
Пятидесятые годы? Ах, так это я уж здесь был. Ах, воспоминания хорошие. […] Поначалу плохо было с работой, очень плохо было. […] Мы прямо сюда приехали в свое время. Тут еще были самые лучшие возможности с работой […] и застряли тут. Ну и грязно же тут было! Я сам-то ничего, а вот жена немножко страдает от здешнего воздуха – я сам не так. […] Мы ж совсем без ничего сюда приехали. Приняли-то нас здесь очень хорошо. […] Больше-то они и не могли ничего сделать; слишком много было [таких]. Нормальные времена настали потом, когда у меня здесь настоящая работа появилась и [мы] все опять хорошо обставили, насколько можно. […] Мы все в рассрочку покупали. Денег-то не было у нас. […] Сначала диван там, кресла – в рассрочку, естественно. Так вот постепенно и шло потом. Жить экономно приходилось, конечно. […] Но тут практически от каждого из нас от самого зависело – это от каждого от самого зависит, сумеет человек или не сумеет {33}.
Этот крестьянин в 1952 году отказался от своей усадьбы в ГДР, потому что от него требовали слишком больших обязательств по поставкам сельхозпродукции и не по делу вмешивались в его работу. Он не смог этого дольше выносить и вместе со своей молодой семьей отправился на Запад. Там его ждала изнурительная работа на строительстве железных дорог в Рурской области, временами безработица, потом наконец маленькая конторская должность – новое, узкое пространство «нормальной жизни». Никто больше не вмешивался, но и вмешиваться-то не во что уже было. Получив компенсацию за ущерб от войны (слишком поздно и слишком мало), он, будучи не в силах забыть свою усадьбу, купил машину-дачу, чтобы выезжать на природу из «этого грязного угольного котла». В рамках возможного ему здесь помогли – тут он никого не хочет ни в чем упрекнуть. А кроме того, он ведь сам ответствен за взятый на себя риск свободы. Не удивительно, что и он, и его жена снова и снова возвращаются воспоминаниями к тому, какие идиотские производственные задания выдавали их ферме в ГДР: отъезд был едва ли не единственным выбором. Потому и получается, что о 1950-х годах «воспоминания хорошие», но вместе с тем «пятидесятые годы были тоже тяжелыми» {34}.
У господина Брегера существует настоятельная потребность видеть хорошее, в силу которой он о своем тяжелом опыте сообщает всегда только в форме косвенных признаний. «Это мы правильно сделали. Мы никогда об этом не жалели!» Очевидно, в то время уже все более или менее состоятельные крестьяне из тех мест «дали деру». Брегеры были одними из последних. Жена Адама на 13 лет моложе него; выйдя замуж за «сына крупного хозяина», она попала «из конторы в коровник», а на Западе из-за двоих детей так и не начала снова работать. Она ни в чем не была виновата, но вынуждена была все расхлебывать вместе с другими. О последствиях переезда она высказывается менее сдержанно. Правда, когда может возникнуть угроза для отношений с мужем, она переводит разговор на политику:
...
Очень моему мужу кисло пришлось, когда мы сюда приехали. Бедные были, ничего не было у нас. […] Но и он, конечно, староват уже был, чтобы снова подниматься; это ж ему на курсы еще ходить надо было бы. […] Видите, и ничего мы не нажили, только съемную квартиру. […] Таким бедным стал мой муж после войны, в самый разгар мира практически. Вот такая у них там система. […] Конечно, я хочу сказать, от беженца никогда не избавишься. [Здесь] вот только эта узкая улица – если там праздник какой или что-то в этом роде, то мы там всегда чужие. […] На самом деле нам очень много не везло в жизни. […] Мы и так уж улучшили свое положение – смотрите: если в зоне [20] у вас сейчас умирает муж или жена, что вам за пенсию там дадут? Здесь-то мы все-таки немножко получше живем. И потом свобода, свободу ни за какие деньги не купишь! […] И все равно мы довольны своей жизнью. Просто не надо себе в жизни слишком высоких целей ставить, потому что тогда сплошные разочарования {35}.
Последнее – очевидно, поздний урок. Жена была вынуждена утешать мужа, ободрять его, призывать его держаться и делать то, что было нужно, чтобы приспособиться на новом месте: например, ему, крестьянину, поначалу было трудно высидеть восемь часов на конторском стуле, и единственное, что его радовало в конторе – это что там было «всегда сухо». Она жалуется на одиночество, он – на тоску по родине. Но главное – семья и продвижение вперед. Эти два императива сплелись в ходе социального кризиса этой семьи в аскетическую нормативную ткань, которая, словно занавес, загораживала вопрос о смысле их бегства из Восточной Германии {36} и которую они все еще словно бы перетягивают друг у друга в разговоре:
...
Он: Меня политика никогда не заботила. […] Я ни в какой партии не состою.
Она: Мы тогда морально настолько были разбиты, что не хотелось вообще ничем заниматься.
Он: Работал все время. Главное – деньги приносить. Жена с мальчиком тут была, потом дочь родилась. Всегда работал, никогда не прогуливал.
Она: Порядочно, тихо, старательно, скромно жить.
Он: Всегда экономить. По пивным много не ходить, вообще не ходить по пивным. Отпуска себе по началу вообще не позволяли. […] Мы же хотели и достичь чего-то.
Она: Трудом и скромностью. […] Машину мы, конечно, уже не купили, с двумя-то детьми. Если жена не работает, то эти дорогие вещи невозможно себе позволить {37}.
Правда, такой аскетизм требовался только в редких случаях. У большинства на Западе ход жизни нарушался не так фундаментально и не так поздно, а потому и продвигаться вперед получалось легче, подъем был заметнее. Поэтому в заключение этой части, представляя дифференцированные рассказы о пережитом, я хотел бы процитировать противоположный пример – пример того, как условия бывали стабильны, а успех – заметен. Вернер Дарски {38}, сын горняка, сумел подняться от простого шахтера до руководителя ведомства в администрации одного из городов Рурской области – и это несмотря на то, что он беспартийный. Он прожил всю жизнь в этом городе, если не считать войны, под самой конец которой его забрали из «трудовой повинности» на фронт, где он был ранен. Дважды он женился, дважды строил дом; второй дом – бунгало, просторный, оформленный в старонемецком стиле, а в саду есть еще один, срубленный из дерева. Вернер Дарски помешан на технике, у него у одного из первых появились телевизор и стереосистема; он обожает скоростные автомобили и сам охотно на них катается; в садовом домике у него есть вся мыслимая электронная техника, в том числе видеокамера. У него подчеркнуто холеная внешность, своим шармом он напоминает артиста Хайнца Рюмана. Держится он непринужденно, рассказывает о том, как не любил ходить в школу, говорит с пренебрежением об иерархиях; из церкви он вышел. В свои 60 он выглядит как баловень судьбы – дитя экономического чуда. Когда интервьюер его спрашивает о 1950-х годах, он говорит: «Времена были лучше, но непосредственно для нас – нет» {39} и перечисляет: после военного ранения его несколько раз оперировали, иногда приходилось проводить в больнице по несколько недель; работа в администрации – курсы повышения квалификации, зубрежка до самого вечера; по субботам тогда еще работали, на удовольствия почти не оставалось времени; крупных приобретений поначалу тоже не получалось сделать, потому что он со своей невестой не могли найти квартиру. О покупке машины или мотоцикла и думать не приходилось. Отпуск – не выезжая из страны – могли бы себе позволить, но пришлось отказаться, потому что жилищный вопрос стали решать за счет строительства дома с большим собственным финансовым участием {40}. Из-за этого в течение многих лет не было ни на что больше ни времени, ни денег; многое приходилось делать самим. Хотели потом избавиться и от долгов – на это работали и он, и его жена. И только после того, как несколько лет спустя стало ясно, что детей у них не будет, они купили машину. «Я и раньше очень любил, ну когда время было, в одиночку кататься […] просто потому что нравится водить машину и нравится быстрая езда». Телевизор они купили в числе первых ста семей в городе. Из-за этого у них часто бывали гости, ведь поначалу это было невероятно интересно; потом улеглось. Прежде было иначе: «Телевидения не было, а скучно никогда не бывало» {41}.
Бытовая техника и электроника, как мне кажется, поспели как раз вовремя, чтобы заполнить пустоты, возникшие, когда спало напряжение первого послевоенного десятилетия, когда свободного времени стало больше и в принципе люди могли бы начать размышлять о собственном месте и пути в жизни. В восстановительный период жизнь была заполнена, ее задачи были само собой разумеющимися, а теперь на смену этому пришло функционально неопределенное взаимодействие со средствами массовой коммуникации, транспортом и прочими техническими приспособлениями, которые завораживали сами по себе и покрывали подспудно распространявшуюся скуку пленкой кажущейся занятости. Но теперь люди ощущают, что эти увлекательные игрушки суть эрзац. И та прежняя активность восстановительной фазы, которую этот эрзац заменяет, в ретроспективе тоже представляется странным выполнением чужого задания; странным потому, что выполнение чужого задания люди привыкли мыслить как эксплуатацию, когда у них что-то отнимают. А тут у них ничего не отнимали, а наоборот, они получали все больше и больше, но все же они не сами это решили и не сами приобрели, их толкали вверх, и они не знали, что их толкает, и в конце концов это приводило к неосязаемому, но комфортному состоянию раздражения {42}:
...
Видимо, в значительной мере влияли не столько собственные решения, сколько обстоятельства, которые всегда были. Я ведь родился как раз в такое время, когда обстоятельства были настолько существенны, что практически толкали человека все время в определенном направлении, куда он сам, может быть, и не хотел. Прежде всего война и участие в ней – это было очень существенно. Потом начало профессиональной деятельности как непосредственный следующий этап. Потом первый брак, разумеется, тоже, совершенно определенно. А потом развод, который тоже вовсе не такое простое дело был.
А потом он еще раз возвращается к 1950-м годам:
...
С тех пор – если не брать расторжение первого брака – все так и шло по нарастающей, более или менее медленно, но верно, без больших негативных событий – их, собственно, никогда и не было {43}.
III. История становится историей частной жизни
Когда слушаешь некоторых, кажется, будто они даже хотели бы, чтобы в их жизни были какие-то события (не обязательно ведь негативные), в которых, словно в капле воды, отразилось то, что они не могут постичь в собственном опыте. Поближе подобраться к сложившимся в те времена структурам общественной неосознанности {44}, отразившимся в воспоминаниях о 1950-х годах, историк может только в том случае, если помимо осознанной переработки опыта респонденты рассказывают и такие эпизоды, в которых прорывается наружу их представление о естественном положении вещей. Такие эпизоды память по ассоциации подмешивает в подробные рассказы (если они не подготовлены заранее) – спонтанно, потому что они связаны с описываемыми событиями, пусть даже их смысл не полностью раскрывается рассказчиком или не полностью может быть интегрирован в смысловой контекст интервью. Когда ассоциативная машина памяти запущена, то зачастую рассказываются такие вещи, про которые и сам респондент не может сказать, почему он говорит о них чужому человеку, да еще и под запись.
Как уже было сказано выше, воспоминания о плохих временах полны эпизодов, ломающих прежние понятийные рамки, а в 1950-х годах таких эпизодов мало. Но они есть. Из их небольшого числа я выбрал четыре эпизода, позволяющих нам глубже проникнуть в тематическую область, значение которой выясняется в ходе анализа формулировок, в которые люди облекают свой жизненный опыт: бремя, которым послевоенные годы легли на отношения между людьми, и переключение внимания на материальный достаток в восстановительный период. Формулы опыта в основном принадлежали мужчинам, а эти истории рассказаны женщинами. Заголовки для них выбрал я; пересказав каждый эпизод, я постараюсь пояснить то, что в нем удивительного и как на сломе «нормального» можно увидеть более глубокие слои.
Дальше – тишина
Когда госпоже Вольберг было 42, она родила четвертого ребенка. «Его я уже не хотела. Я говорю, если б тогда уже были таблетки, то его б у меня не было. Мне уже больше не хотелось». Когда этот ребенок учился ходить, «тут у нас первый раз громыхнуло. Он [т. е. ее муж] спутался с моей дочерью [от первого брака]. Тут я могла бы добиться развода… […] И самое скверное: это бы и на свет-то не вышло. Я бы этого не стала [никому рассказывать]». Но в момент, когда матери не было, 12-летняя дочь рассказала все одной старшей подруге, а та своему другу, а он пошел в полицию.
...
Ну и тогда, конечно, громкое дело вышло из этого. Муж пришел с ночной смены, сидит ест. Вдруг звонок – это уже уголовка приехала. Забрали его. А я даже не знала, что мне сказать на это. И вот сидела с детьми. А я знала одного молодого человека, он у адвоката [работал], он потом все письма для меня составлял, чтобы мне мужа моего вернули. Вот так я и была, а потом мне сказали – от соцобеспечения пришли, насчет Эрны: чтоб я или отослала ее к родне – да кто ж ее возьмет-то? И я вообще-то не хотела ее отдавать. У свекрови она не хотела быть. Так что ж мне делать-то теперь? Или в детский дом. Надо было выбирать. Пришлось ей в детский дом, иначе мне бы мужа моего не вернули. А это ж кормилец мой. И верьте мне, в прошлом году моя дочь меня стала упрекать за это – что я его взяла назад, ведь я, мол, на пособие могла бы прожить.
Уголовное дело на мужа было прекращено.
...
И так странно: вот пришел он домой. Не извинялся – ничего, вообще ничего. Пришел домой, садится, встает вдруг, выходит снова из дому, там сзади сады были, – ушел. Я думаю: куда это он? Пошла, взя[ла] его – так он и вернулся. Но потом он никогда больше, мы никогда больше об этом ни словом не упомянули. Ну, Эрны-то нашей теперь не было, ее там и конфирмировали, через два года. […] Потом она снова была у нас, а потом пошла учиться. У нас и квартира тогда побольше была, две детские, и там в общем ничего было. Но знаете, трещина осталась, это не проходит {45}.
Так и не прошло. Но еще больше десяти лет продолжалось. История происходила в 1956 году, господин Вольберг тогда уже стал пить; Эльза купила телевизор, чтобы он не ходил в пивную, и с тех пор они больше ни разу не были в кино, да и вообще почти никуда вместе не выходили. А ведь познакомились они после войны на танцах. Когда умер первый муж Эльзы, который для нее служил мерилом во всем, она решила, что не станет хоронить себя. Образовался своего рода гражданский брак с автослесарем из Восточной Пруссии, который теперь работал на англичан и исправно приходил каждый вечер с несколькими банками консервов под мышкой. Обоих детей от первого брака он, по всей видимости, стремился расположить к себе: в день реформы, обменяв положенные ему деньги, купил пятилетней Эрне куклу. Но у Эльзы были ее воспоминания и ее работа на рыбозаводе; кроме того, на детей она получала небольшую пенсию. «Я всегда говорила: уж квартира-то должна у него быть, пока не будет – замуж не пойду». Потом появился еще один ребенок – в трудные времена: провозглашение суверенитета Западной Германии стоило автослесарю работы; место у англичан он потерял, а другого в Гольштейне было не найти. Эльза стала жить на пособие по безработице, чтобы иметь возможность заботиться о малыше, а друг ее отправился в Рурскую область зарабатывать деньги. Но вернулся, потому что квартиру не давали, а только одну комнату; но кроме этого, наверное, еще и потому, что ему слишком тяжело было перестроиться на работу под землей. Стал жить за ее счет, хотя она сама была безработной. Тут снова появились рурские вербовщики, обещали женатым шахтерам квартиру. Теперь ее былое условие перевернулось в другую сторону: он должен жениться, иначе никакой квартиры. Приживаться в шахтерском поселке было трудно, они никого не знали, работа была непривычная; остальные семьи – такие же «изгнанные», ни у кого ничего не было. Госпоже Вольберг было трудно втиснуть в две с половиной комнаты свою мебель, оставшуюся от первого брака, и свою семью из пяти человек. Жили тесно, деться некуда. Муж начал пить. Старший сын после переломного возраста начал бунтовать, стал шалопаем, был выселен к родне. Тут родился еще один ребенок, хотя Эльзе уже больше не хотелось детей. А отец стал тянуть руки к дочери, которая его воспринимала как чужого мужчину и нарушителя мира в семье. Она упрекала мать, но той нужен был кормилец. Все это – необходимая предыстория к нашей истории. О том, что было истинной причиной трещины, которая теперь обнаружилась, и истинной причиной принудительной отправки дочери в детский дом, мы кроме того, что процитировано выше, не знаем ничего, да это и не наше дело. Мать не стала бы раздувать эту историю. Достаточно переехать в квартиру, где на одну комнату больше, – и конфликт уже под контролем.
А между тем, когда чувствам не дают хода, начинается молчание. То, чему нет мыслимых альтернатив, люди не могут ни обсуждать, ни оправдывать. Кто-то должен был быть изгнан как козел отпущения, тут общественный контроль не оставляет другого выбора. Этим кем-то стала Эрна. Частная жизнь оказывается в роли компостной ямы истории. Гибель на войне и «изгнание», отчуждение и экономическая необходимость, долгосрочные и невидимые социальные издержки – все это сваливается в частную жизнь, где ферментируется и переваривается любовью. То, что сломано, более не упоминается. Его стыд и ее понимание почти невозможно отличить от того, что навязывает им ситуация. Человеческое заключается в молчаливых жестах: он уходит, она его возвращает. Это – все, что возможно. Пусть язык средств массовой информации попробует быть громче, чем эта скрытная тишина.
Генеральная доверенность в безмятежном мире
...
Нда, это был безмятежный мир, это уж точно. […] У меня же генеральная доверенность была. Я, когда Мария родилась [1956], пошла в народный университет на курсы: воспитание, потом еще «Правила хорошего тона». Я знала, как себя вести, но мне преподавательница очень понравилась, […] поэтому я по вечерам и туда тоже ходила. И воспитание детей – очень хорошо она преподавала. Муж мой потом все время говорил, если что, – у нас три этажа было в Оберхаузене – так он кричал мне снизу: «А сейчас мне что надо делать?» РИА это делала. Ну а у него было прекрасное чувство юмора, и он предоставил это тоже мне. Если тут дела какие-то – водопроводчик или кровельщики, или еще что, – то он говорил: «У тебя же генеральная доверенность». Это отчасти и мои слова были: все, что надо, – я должна делать. Запомните, в жизни так: лиха беда начало, и если в самом начале скажешь «это не моя область», то значит – немножко так отгораживаешься. Но мне ничто не было обузой, нет, нет, я все это делала с огромным удовольствием, – и школьный совет тоже, я была потом председателем школьного совета и все такое. Он этим не занимался. Он иногда со мной вместе туда ходил, но его делом была его работа {46}.
Истории о счастье в то время менее драматичны. Впрочем, это счастье – само по себе достаточно примечательного рода. На первый взгляд оно выглядит на сто процентов традиционным: идеальное разделение труда между полами на профессиональном уровне. Если прежде идеология семьи учила, что гендерное разделение труда вытекает из природы мужского и женского полов, то теперь все здесь стало не так: выходя замуж, женщина бросает работу по специальности, на которой получала больше, чем мужчина, вернувшийся с войны. Она начинает ходить на курсы якобы для того, чтобы быть на высоте в исполнении своих женских обязанностей, которые становятся теперь как бы ее специальностью, а на самом деле чтобы, уйдя с работы, все же иметь какие-то социальные контакты вне семьи. Такие связи семьи с внешним миром, как общение с водопроводчиками и кровельщиками или заседание в школьном совете, – тоже в ее ведении. Муж занимается только работой у себя в конторе, широким жестом передав все полномочия жене. Расклад ролей в семье по образцу предприятия, правда, идеальным не получается: директор фирмы, милый человек, помогает перевозить мебель, но вынужден спрашивать своего завотделом, кому толкать тачку. Откуда у него полномочия, которые он раздает? {47} Разумеется, годы учения – это не годы дамских развлечений, но почему женщина должна с радостью принимать трудности (под лозунгом «лиха беда начало») и даже считать, что так оно и должно быть в жизни? Однако она «все это делала с огромным удовольствием»…
Лихую беду начала Ильзелора один раз уже познала – она один раз уже хотела «работать женщиной». Эта цель у нее сформировалась в Союзе немецких девушек, где она и ее сестры состояли. Они восторгались царившими там товариществом и порядком, они занимали определенные посты – как и потом, при отправке детей в деревню и в Имперской трудовой повинности. То, что говорили там, для нее было Евангелием. Родители, хотя и отрицательно относились к нацистам, повлиять на нее не могли и предоставили ей самой выбирать себе дорогу. Она хотела стать воспитательницей в детском саду, но для этого нужно было посещать школу домоводства, что во время войны было невозможно. Так мечта осталась несбывшейся, а Ильзелоре пришлось идти на конторскую работу в тяжелой промышленности. После войны она была рада, что смогла там остаться. Поэтому ее брак был второй попыткой реализовать свой план: «Я ведь вам уже говорила, что всегда хотела стать социальным работником».
А что же генеральная доверенность на ведение дел? Ильзелоре пришлось взять на себя все. Они с мужем построили дом, где она смогла «все сделать как хотелось», а семья была для нее «исполнением всего». Но через несколько лет погиб в аварии ее сын, а вскоре после него, только что основав собственное дело, умер от инфаркта муж. Дом был обременен большими долгами, но госпожа Кельнер не хотела отказаться от него: он напоминал ей о том, как она была счастлива в семье. Нужда заставляла ее «чуть ли не замазку из окон есть», и тогда она совершила маленькое чудо менеджмента: перестроила дом, поделив его на квартиры, чтобы таким образом хотя бы частично сохранить его для себя и дочери. «Это было трудно, я совершила невероятное». С тех пор она снова работает в конторе, на полставки, и дела идут хорошо. Правда, недавно она повстречала одного мужчину, с детьми, и подумывает о том, чтобы снова уйти с работы. Но, с другой стороны: «А зачем мне муж?» Этот вопрос она повторяет пять раз на протяжении трех фраз и говорит, что недавно специально отвела время на то, чтобы над ним поразмыслить.
...
В самом деле, для чего нужен муж? Так, потом думаю – нет, это можно мастера вызвать. А в походы ходить мне обязательно с мужчиной? […] Да, думаю, с женщинами бывают очень приятные отношения, но все же я бы сказала, в отпуске это хорошо – я хожу с женщинами, да, – но если надолго [отношения], то мужчины мне милее. […] В обществе больше вес, когда вы пара, это раз, а два – это, наверное, что еще немножко о тебе заботятся, хотя я очень самостоятельная и ловлю себя на том, что почти разучилась позволять кому-то себя оберегать.
Когда женщина-интервьюер предлагает ей ключевые слова «одиночество» и «нежность», она соглашается, а потом рассказывает, как недавно прочла, что оказывается даже сексуальные ласки женщине необходимы как забота:
...
Хотя я должна сказать: привыкаешь. Это не обязательно. Я без этого вполне обходилась. Но вот чувство, что тебя оберегают и немножко защищают – это, мне кажется, если ты настоящая женщина, все-таки очень приятно. […] Да, хм. За это ведь приходится, конечно, и со своей стороны вкладывать что-то, так? Вот такая проблема передо мной сейчас. Свободен тот, чей рассудок повинуется. А где рассудок с любовью заодно? […] Рассудок с любовью никогда не бывает заодно {48}.
Никогда? И в безмятежном мире 50-х тоже? Тогда, когда она позволяла ему царствовать, чтобы она могла чувствовать себя оберегаемой и править? В ту пору она «с огромным удовольствием» вкладывала со своей стороны положенное и ей вряд ли пришло бы в голову спросить, зачем ей муж, потому что с малых лет для нее было естественным традиционное разделение ролей, как положено: мужчина – снаружи, женщина – внутри, он – защищает, она – обслуживает. При взгляде из сегодняшнего дня смущает то, что помимо этого разделения ролей все остальное было не как положено. И что эта схема лишь очень недолгое время, почти случайно, отвечала потребностям жизни. Когда для жены брак был заменой работы, то и муж оказывался вне дома нагружен гораздо больше. В конце концов такой брак оказывался ипотекой со слишком высокими процентами и женщина вновь вынуждена была идти работать. В результате она стала всесторонне профессионализированной личностью, которая выполняет все положенные операции внутри дома и вне его и которая все воспринимает как положенные операции. Но чувства, некогда столь энтузиастические, при таком упрощении сложных жизненных систем взаимоотношений оказываются на каком-то отдельном уровне и нуждаются в легитимации. Пробивающиеся наружу желания и женскую ранимость госпожа Кельнер ощущает как нечто, отдельное от ее жизненной практики, и ей с трудом удается найти им оправдание в собственных глазах. Естественны и само собой разумеются только положенные операции и предметы, в которых овеществились побуждения.
Пропущенный чемпионат
...
А я – с ним и со вторым [сыном], они оба в кровати спали. У меня была кровать из спального гарнитура, что у меня остался от разбомбленного дома, она так вот в углу у меня стояла, там я спала. А девочка спала в гостиной на диване.
И у меня всегда был полон дом детей, у меня все играли. У меня мало денег было. […] Я потом, как младшей 18 стало, 58 марок пенсии получала […], как детское пособие перестали платить. А потом, как дети побольше стали, приходил соседский мальчишка, он с младшими водился, девочка водилась с моей дочкой, старший сын – тот приводил товарищей, а у товарища тоже была подружка […] – я всех принимала. Не как сегодняшние дети – не знают, чем заняться. Мы-то раньше занимались. […] Для них [я была] вторая мама. […] А потом я телевизор купила. У них [экран] вот такусенький был, у первых телевизоров. И вот должен был быть чемпионат мира 54 года. А этот братец принес мне его после чемпионата! И у соседа у одного тоже уже был, у нас у двоих. Потом мне мужик один рассказал, говорит, он у него еще до чемпионата был, телевизор-то. Он сам его к себе домой забрал – продавец – и сам смотрел, а тебе принес только после чемпионата. А тогда – можете себе представить – такая малюсенькая гостиная, всего ничего, еще меньше, чем здесь, а там еще была дверь: так вот, 20 человек, и ничего. А перед ней – там дверь проходила, и там у нас тумбочка для обуви была, и я на ней всегда сидела с младшим сыном, вдвоем мы на ней сидели. И вот полон дом […] каждый приносил с собой стул, и всюду расстилали бумагу, чтобы ковер не попортили. Мне на улицу нельзя было показаться: «Бетти, дай посмотреть телевизор!» Это Франкенфельд был раньше, […] в доме и кто постарше – если футбол был, если спорт – старики точно так же с ума сходили {49}.
Бабетта Баль со своей семьей занимала целый большой дом в шахтерском поселке. В конце войны этот дом был разбомблен, а муж Бабетты умер. Теперь она описывает тесноту, в которой ей пришлось жить в 1950-х годах: двухкомнатная квартира под крышей дома казарменного типа. Там она спала в одной комнате с двумя взрослыми сыновьями; в другой комнате спала только дочь – чтобы комната по возможности все-таки походила на приличную гостиную. Это было важно, потому что, с одной стороны, госпожа Баль страдала от тесноты, а с другой – ей хотелось, чтобы в доме было как можно больше народу. Она хотела быть социальным центром, а социум, который собирался у нее, – это были поначалу приятели ее детей. Когда дети подросли, круг расширился. Сыновья работали на шахтах, приносили свою долю в скудный семейный бюджет, который с помощью множества ухищрений удавалось поддерживать на уровне прожиточного минимума. Благодаря их помощи кроме самого необходимого появилась возможность сделать и первые приобретения, например ковер «Балатон».
И эта семья второй в поселке купила себе телевизор! Даже у торговца электротоварами, которому был заказан аппарат, еще не было своего. По слухам, он не отдал покупку заказчице, а оставил себе, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу, на котором немцы впервые после поражения в войне одержали национальную победу, которую могли праздновать. Почему эти слухи о причине несвоевременной поставки телевизора теперь, по прошествии 30 лет, все еще представляют собой для госпожи Баль историю, достойную рассказа? Очевидно, она тогда была страшно разочарована и потом, когда узнала, что немцы в самом деле выиграли, еще сильнее разозлилась от того, что ей сорвали ее инстинктивно верный расчет, направленный на то, чтобы сделать ее двухкомнатный молодежный клуб почти неотразимо привлекательным и для людей ее собственного возраста. Правда, потом и без этого эффектного начала все получилось как она хотела, и невозможно не заметить удовольствия в ее тоне, когда она говорит о том, как к ней начали приставать пожилые соседи.
Из малоприметных деталей, сообщаемых госпожой Баль далее в ходе беседы, становится понятно, что в остальном наличие в доме телевизора имело катастрофические последствия для сплоченности семьи, за которую она так боролась целых десять лет. Старший сын собирался привести в дом жену, и произошел скандал по поводу ежевечерних сборищ перед экраном, из-за которых совершенно невозможно было уединиться. Тут госпоже Баль стало до обидного ясно, насколько она зависит от денежной помощи сыновей после того, как перестала получать детское пособие на дочь. Пенсионная реформа 1957 года стала для нее подарком небес. Она получила единовременную доплату в 1600 марок. Когда почтальон принес деньги, она не могла поверить, что это правда: «Я вся побелела, как снег, и держалась, чтоб не упасть», а потом побежала к соседке: «Надо было рассказать, облегчить душу». Теперь госпожа Баль снова стала самостоятельной и смогла переехать с дочерью в новую квартиру, а когда родился внук, у нее снова появилось занятие.
К этому времени – концу 1950-х годов – телевизор был уже у многих и перестал быть поводом для соседских сборищ. Тот, кто хотел с его помощью привлекать к себе людей, должен был достаточно рано начать работать в этом направлении. Бабетта Баль это поняла и, хотя у нее лишних денег не было, пошла на колоссальную инвестицию, чтобы закрыть социальную рану в своей жизни, а именно то, что с момента прихода американцев в 1945 году она стала в своем поселке чужой. До того она воспринимала всю округу как свою расширенную семью, как идиллическую общность, а себя – как один из социальных природных талантов в ней. А потом в одночасье она лишилась всего и осталась одна – не только потому, что умер ее муж, бывший, судя по всему, единственным нацистом на всей улице, но и потому, что после прихода союзников идиллия внезапно оказалась оплотом коммунистов:
...
Тут ты и свинья нацистская, и все такое, понимаете… Обзывали они меня. […] И тогда я […] как пошла, нахально так стала говорить: «Слушай, – я говорю, – вы отребье проклятое, кем ты стала, что у тебя есть, все твое приданое, все твои шмотки, вся твоя мебель: откуда это все у тебя? От Гитлера, – говорю, – по моему совету! {50} А теперь меня свиньей нацистской обзывать будут, еще чего!» {51}
Это потом еще долго тлело, но за десять лет улеглось настолько, что имело смысл попытаться снова войти в игру. И первое время Бабетта Баль была довольна: все снова выглядело, как когда-то: «Мне на улицу нельзя было показаться: „Бетти, дай посмотреть телевизор!“» То, что она по такой причине не могла больше показываться на улице, и было ее нормализацией жизни. Позже соседи перестали быть ей так важны, и после семейного скандала по поводу телевизора она смогла переехать в другой район города. Но ее возвращение в игру было бы еще прекрасней, если бы произошло на волне национальных чувств в день чемпионата мира.
Невозвратимые чувства
В 1959 году, через два года после свадьбы, Кауфманы купили свой первый холодильник; он проработал у них 25 лет. Во время беседы, при которой присутствует и их сын, они вместе вспоминают те времена. Госпожа Кауфман рассказывает о том, что она тогда испытывала, приобретая новые вещи:
...
Она: И когда еще что-нибудь хорошее могу купить, я [и сегодня] радуюсь. Но я всякий раз проходила мимо этого холодильника, проводила по нему рукой и открывала его. А он блестел, и сливочное масло там внутри лежало, и колбаса еще лежала так же, как позавчера, когда я ее купила. Вы знаете, я думаю, в тяжелые времена чувствуешь столько счастья – я бы сказала, невозвратимого.
Он: Ты больше радовалась мелочам?
Она: Я думаю, у меня это и по сей день осталось, но так – так уже не получается.
Он: Нет, теперь это все стало обычным делом. Там телевизор, холодильник, стиральная машина, даже автомобиль стал обычным делом.
Она: Да, я и сейчас радуюсь, когда у меня какая-нибудь вещь новая появляется. Но все ведь так быстро исчезает потом.
Сын: Ну, холодильник-то во всяком случае ты уже не гладишь теперь {52}.
Как функционировало в 1950-х годах это невозвратимое чувство счастья, с которым человек поглаживал холодильник? Кауфманы не могут объяснить и понять сами, в чем дело: почему, когда потребление становится частью нормальной жизни, оно порождает такое пресное ощущение? Нежность, с которой они в те времена относились к бытовой технике, их не удивляет. Они шаг за шагом обставляли ею дом, и всякий раз дело было не только в покупке бытового прибора и не только в радости от обладания им и его потребительскими достоинствами: это всякий раз был праздник. Этапы развития молодой семьи обозначаются приобретением новых бытовых электроприборов; семейная история синхронизируется с потребительской карьерой: первый радиоприемник они подарили себе на свадьбу (зато пришлось брать кредит на костюм для жениха, а свадебное путешествие – в ближайший крупный город – длилось всего три дня). Первый холодильник был куплен после того, как господин Кауфман наконец – чуть ли не из милости – получил снова чиновничью должность {53}. Первый «Фольксваген-жук» он купил себе по случаю рождения своего первого ребенка (однако его пеленки мать по-прежнему кипятила на плите: бумажные cтоили слишком дорого). Телевизор был приобретен по случаю рождения второго ребенка (потому что ходить куда-то по вечерам стало почти невозможно).
О покупке мебели вспоминают более прагматически: в связи с переездами и квартирами. После того как первая обстановка куплена, основное обзаведение завершается. Смена старых вещей новыми и покупка дополнительных предметов после середины 1960-х уже не обладают тем же эмоциональным качеством, как первые приобретения, и потому более не упоминаются. Применительно к этому и позднейшему времени о вещах говорят только в тех случаях, когда их не купили, отказавшись плыть по течению технического прогресса: например, Кауфманам при их доходе в принципе полагалось бы иметь посудомоечную машину, но они решили ее не приобретать – не только потому, что для нее не было места в кухне, но и «потому, что мы просто не понимаем, в чем смысл»: пользы мало, нагрузка на окружающую среду высокая и т. д. Прежде, в 1950-е годы, они легко понимали, в чем смысл предметов бытовой техники, и много работали и копили, чтобы их купить. Тогда эти предметы были вехами на их жизненном пути, и с ними было связано невозвратимое ощущение счастья.
Я прослушиваю это интервью снова и снова в поисках других выражений сильных чувств, других высказываний о семье, о приобретении вещей. В том, что касается господина Кауфмана (ведь изначально это должно было быть интервью именно с ним), улов невелик. О семье – только тоска. И он, и его жена – «изгнанные». Она жила с матерью и младшими братьями и сестрами; он – инвалид войны, в первые десять послевоенных лет жил на чужбине один, переменил шесть профессий, время от времени его поддерживала семья его товарища по фронту. В 1945 году он первым делом поехал на попутках через всю Германию искать своих мать и сестру – безуспешно. А когда в первой половине 1950-х познакомился со своей будущей женой, «то рад был, конечно, что по воскресеньям можно было прийти в семью».
Немногословны и его рассказы о вещах. До самого конца 1940-х он проходил в перекрашеной военной форме. Первое гражданское пальто, купленное в 1951 году, стоило больше его месячной зарплаты. Сапоги из американских военных запасов, полученные им в подарок, смотрелись хорошо, но скоро развалились: «В немецкой армии такого дерьма не было». В 1949 году господин Кауфман как тяжело пострадавший от войны получил компенсацию в 300 марок и купил себе часы: «Абсолютная роскошь». Зачем ему нужна была роскошь и почему именно прибор для измерения времени, он не говорит.
А госпожа Кауфман, прежде чем думать о роскоши, заново строила человеческие связи:
...
Я помню, что и я, и люди там в деревеньке, которых я знала, – что мы эту оккупацию восприняли как освобождение [она имеет в виду – когда они прибыли в 1946 году из Силезии в британскую оккупационную зону]. Да, это было что-то! Американцы, которые нам слали эти пакеты CARE, – ну это было что-то, я это вам сейчас и передать не могу! Когда получаешь такие вещи, одежду, – это было просто представить себе невозможно! И тогда вообще не задумывались о том, что же произошло в Третьем рейхе. Вообще не думали про это, совсем; а только полностью были сосредоточены на том, чтоб было что надеть и было что поесть. А остальное не существовало, ничего больше не существовало {54}.
Так значит, чувство счастья уже один раз было – неописуемое и ощущаемое, так сказать, кожей: вещи из Америки; и мысли сосредоточивались на них, а не на прошлом. А может быть, и в самом деле не стоило думать о прошлом – ведь тогда она была ребенком или, самое большее, полуребенком?
Господин Кауфман без всякого драматизма рассказывал о «билете домой» – ранении, после которого он из-под Сталинграда отправился назад в рейх. Госпожа Кауфман в своих «раскопках» и восстановлении тогдашних чувств идет дальше:
...
Когда ты перед этим рассказывал про войну, мне вспомнилось, ты сказал так запросто: «Там я получил ранение – билет домой». Я когда себе представляю… т. е. я ведь знаю, что у тебя иногда бывают очень дурные, плохие сны. Не знаю, может быть, тебе неприятно, что я об этом говорю [Он: «Да не, пожалуйста»]. Я ведь тебя иногда будила и спрашивала: «Что такое?» Потому что слушать было, в самом деле, [тяжко]: сердце сжималось, а ведь уже 30 лет прошло. Это ведь не только в последние несколько лет было. И вот ты тогда мне рассказывал про свое ранение, и как ты, в 18 лет, лежал в яме и думал, что тебя никто не найдет, и страх смерти испытал {55}.
Господин Кауфман сперва колеблется («Ну, так это раздувать нельзя»), но потом все-таки рассказывает ту историю, которая стала его ночным кошмаром и о которой его жена впервые узнала вскоре после их свадьбы в середине 1950-х годов. Это история не только о страхе смерти, но и о чувстве вины, которое испытывает он, выживший, потому что его сосед по окопу был на голову выше, и когда советская артиллерия разворотила их позицию, тому «досталось в спину все счастье от того снаряда, а мне только этот один осколок». А потом было страшно, что в панике его, лежащего на дне окопа среди трупов, затопчут насмерть. В конце концов он своими силами дотащился до перевязочного пункта. Потом провел больше года в разных госпиталях, но так и не смог уже вернуться в строй. Тем не менее в самом конце войны он еще записался на офицерские курсы.
Хотя еще во время службы господина Кауфмана в Имперской трудовой повинности там было полно русских военнопленных, ему сегодня важно подчеркнуть, что первого узника концлагеря он увидал только после прихода союзников и что в 1944 году никто не верил, что русские дойдут до самого Берлина. Фотография в семейном альбоме: лучший школьный друг – пошел добровольцем в армию, погиб в первом же бою. А его отец не пустил.
Госпожа Кауфман ведет за собой еще дальше в прошлое, рассказывает о том, как много людей верили в Провидение после 20 июля 1944 года, и о том, как она девочкой однажды видела Гитлера. Какое было волнение в группе, потому что одна из девочек должна была прочитать фюреру стихотворение, и как все они это стихотворение учили, «потому что могло ведь получиться так, что Кэте заболеет, и Рената тоже, и тогда могло вдруг и мне выпасть это уникальное, невероятное счастье, что вдруг это я смогу прочитать». И рассказывает, как она тогда «замерла от благолепия», еще немного – и заревела бы от избытка чувств {56}. Чем конкретнее нащупывает госпожа Кауфман в памяти свои чувства, тем меньше потребность сопротивляться им, потому что они оправдываются историческими обстоятельствами, вследствие чего можно не рассматривать вину за нацизм как свою личную.
Господин Кауфман тоже видел Гитлера, но тот просто проезжал мимо в «Мерседесе». А его воспоминания о чувствах связаны с мальчишеским товариществом в гитлерюгенде, и он начинает рассказывать о группах, вожатых, играх и значках.
Чувствуется, что все это казалось тогда таким невинным, таким нормальным! Но потом, потом, когда человек рассудком пытался все это свести воедино, язык отказывал. А когда рассудок спал, то слово брали самые сильные, самые бессмысленные чувства: страх смерти, вина выжившего. Наутро после кошмара неудержимо хотелось чего-то невинного, такого, за что никто не смог бы упрекнуть; хотелось каких-то невинных побед, которыми можно было бы гордиться. Хотелось возможности общаться – такой, которую доставят на дом, ради которой ничего не надо делать, а можно сидеть и смотреть, а тебя самого не видно и никто не задает тебе вопросов. Хорошо, что от бытовых приборов есть практическая польза – можно было этим оправдывать свою завороженность ими; например, глубинное желание мужчины повелевать чем-то, что покорно расширяет его силы и возможности – выдать за невинное желание иметь личное средство передвижения. И как все становится пресно и плоско, когда вещи начинают сводиться к своей практической полезности: «[…] даже автомобиль стал обычным делом!» Тогда автомобиль сулил возможность чувствовать себя мужчиной и повелевать, не ощущая никакой вины. Тогда машины отличались от людей тем, что были понятливее; им можно было больше доверять, у них не было мрачной бездны в душе, их дефекты можно было починить. На них можно было обратить свои чувства, даже свою нежность, и они без проблем принимали их.
В 1950-е годы Кауфманы совершенно не интересовались политикой. Как все голосовали – так и они. Сначала за ХДС. Потом, в конце 1950-х, господину Кауфману стало казаться, что Христианско-демократический союз стал партией предпринимателей, а СДПГ уже не казалась такой левой, и он решил перейти на другую сторону. А у госпожи Кауфман переориентация пошла еще дальше – она немного заразилась после 1968 года от своих политизированных сыновей. Сначала она приняла те вопросы, которые они задавали старшему поколению, и поехала в Израиль; позже стала участвовать в движении в защиту мира. Это облегчило ей воспоминания о былых чувствах. Она довольно долго слушала, как ее муж бесстрастно рассказывал про свою жизнь, а потом включилась в разговор – после того как он сказал, что делал покупки для одной еврейской четы, жившей в соседнем подъезде, потому что дома ему не давали карманных денег:
...
Не знаю – можно и мне тоже сказать? Просто по поводу этой истории с евреями мне тут вспомнилось. Сегодня у нас есть отношения с Израилем, дружеские отношения, и поэтому я тоже [подумала] – а у меня осталось что-нибудь из прошлого насчет евреев-то? […] Мне тогда было лет десять-двенадцать. Так вот, евреи – это были люди с желтой звездой, я имею в виду в городе [в Верхней Силезии]. […] Это вот были евреи, вот такие они были. Что-то с ними было. Не знаю что. И вот сегодня мне вспоминается вот что: страшно об этом думать, но я помню, что я хохотала до изнеможения. Мы ходили на занятия по подготовке к конфирмации – два километра по проселку. И там мы проходили мимо одного леска, маленький такой лесок, и рассказывали анекдоты. По десять, двенадцать лет нам было. И я помню, как мой… как кто-то сказал: «Видишь, вон в том лесу – там из евреев мыло делают». И мы – пять-шесть девчонок нас было – сгибались от хохота. До упаду смеялись. Это мне вспомнилось по поводу евреев – что это были те, которые с желтыми звездами, и что они иногда давали нам деньги и говорили: «Купишь мне мороженое? Мне туда заходить нельзя». А сдача мне доставалась, поэтому я конечно же ходила, кто бы ни попросил {57}.
IV. О чем молчит тишина
В чем значение таких деталей? Поможет ли, если мы к скорым и идеологизированным ответам истории будем задавать углубляющие, основанные на опыте участников событий вопросы? Как образуется смысл таких вопросов? И в какой мере они ставят под сомнение господствующую концепцию нормальной жизни или 1950-х годов как перехода от нормализации к модернизации? Разумеется, память может обманывать. Но она редко создает иллюзию проблем там, где никаких проблем нет или не было. Скорее наоборот, большинство вещей забывается, тонет в более общем опыте – в этом хоре избранных и утвердившихся культурных образцов и уроков собственной биографии. На уровне конкретных примеров мы обнаружили положительный общий итог, который подтверждает то, о чем говорит социальная статистика и что позволяют объемно представить реконструкции истории повседневности. Составляющие этого положительного итога процесса «нормализации» таковы: 1) значительный рост уверенности среди тех, кто прежде не мог ею похвастаться; 2) стабилизация, в условиях которой раскрылись перспективы приватного мирка и он из оборонительного бастиона смог превратиться в отправную точку движения вперед; 3) исчезновение бремени войны; 4) прекращение вмешательств политики с ее требованиями в спокойную частную жизнь; 5) осознание того, что трудовые усилия вознаграждаются; 6) привнесение современной техники в жизнь, в том числе и в приватную. Однако этот итог, вписывающийся в картину, рисуемую «школьной» историей, то и дело оказывается окутан трудновыразимыми чувствами перегруженности и депривации, ощущением, что человеком снова – по-другому – овладели, а кто – неизвестно. Наш последний этап работы был направлен на то, чтобы найти такой пример, на котором было бы четче показано это невысказанное.
Из моря забвения поднимаются отдельные воспоминания – для других зачастую ничем не примечательные, но нагруженные аффектами – пусть даже это был лишь когнитивный аффект осознания. Они образуют межевые камни памяти. Если эти воспоминания о пережитом не получается встроить в заданные общественной культурой структуры опыта и приходится их от этих структур отделять, то они начинают вести обособленное существование и обретают собственную энергию. Они могут сохраняться в качестве вызова, бросаемого схеме опыта, и, если это воспоминания радостные, то предзаданные схемы переработки опыта часто как бы сами собой открываются и позволяют себя адаптировать, дополнять и, возможно, даже заменять. Но если эти переживания были – согласно данным схемам – невыносимыми, если они угрожают существованию или самоуважению человека, то оказавшийся под угрозой субъект склонен закреплять и оборонять от них поставленные ими под сомнение схемы своего самопонимания, а эти воспоминания – вытеснять. Тогда они начинают жить в памяти своей жизнью, разрушать фонд опыта и вмешиваться в тех случаях, когда ослабеет контроль.
Одним из таких фондов опыта, разрушаемых этими воспоминаниями, и является вышеупомянутый позитивный итог 1950-х годов: с одной стороны, здесь самая большая доля позитивно оцениваемых, аффективных воспоминаний той эпохи смешана с интерпретативными схемами общества, основанного на потреблении товаров и интенсивном, хорошо оплачиваемом труде, и экономики роста, в которую перетекает послевоенное восстановление. Но есть и вторая, невыразимая сторона, которая прорывается в молекулярной структуре несинтезируемых предысторий и их последствий. Хорошие годы – половина жизни, не только в том смысле, что начались поздно, но и в том, что господствующий в них смыслополагающий порядок абстрагируется от значительной части собственного аффективного и экзистенциального опыта и не может его интегрировать. Этот ставший бессмысленным в условиях новой нормальной жизни «мусор опыта», смысл которого раньше был связан с национал-социализмом как центром всего и который по большей части состоит из особо нагруженных аффектами переживаний, оказался – как и большинство непосредственных последствий войны – оставлен для приватного «преодоления» каждым в собственной компостной яме.
Но это национальное бремя было слишком тяжким для индивидов и для отношений между полами и между поколениями в условиях нового динамичного порядка с его требованиями. И то, и другое присутствовало повсюду, но связь между ними тонула в молчании, в сосредоточении на работе (оно было более чем естественно в тех условиях и одновременно являло собой лазейку), а также в аффективном отношении к плодам этого труда, которое далеко выходило за пределы оценки их потребительской стоимости и отсутствовало в и без того перегруженных межличностных отношениях. Жизненные ценности оказались в ФРГ теснее, чем в других капиталистических индустриальных странах, привязаны к структурным условиям экономического роста в силу массового переноса сильных чувств на блага формировавшегося общества достижений и потребления {58}. Оно обрело за счет этого такую безальтернативность, что даже его деструктивные элементы были иммунизированы в особой, совершенно «ненормальной» степени. Когда молодежь 50-х годов снова захотела управлять обществом в соответствии с высшими ценностями, ей пришлось десять лет спустя идти обходным путем – через политизацию конфликта поколений. Хотя этот процесс включал в себя иные идентификации, не адекватные реальности, все же после первого шока и защитной реакции общества обременявшее его молчание было взорвано.
Примечания
Благодарю Франца Йозефа Брюггемайера, Александра фон Плато, Регину Шульте и Доротею Вирлинг за критические замечания.
{1} Die Sehnsucht nach den 50er Jahren // Quick. 1983. Bd. 44. О поколении, которое тогда было юным и здесь не рассматривается, см. написанную примерно в таком же ключе работу: Preuss-Lausitz U. u. a. Kriegskinder, Konsumkinder, Krisenkinder: Zur Sozialisationsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg. Weinheim; Basel, 1983.
{2} Но ср., например: Schwarz H.-P. Die Ära Adenauer. Stuttgart, 1961. S. 375ff. («Дух пятидесятых»); Die fünfziger Jahre. Beiträge zu Politik und Kultur / Hg. von D. Bänsch. Tübingen, 1985; см. также посвященный этой теме спецвыпуск журнала Sowil (1986. Bd. 5. H. 2).
{3} Критику макроисторических линий, проводимых в пропагандистской историографии времен объединения Германии, см.: Mommsen H Das Geschichtsbild der Wende // Journal für Geschichte. 1985. H. 3. S. 6f.; Niethammer L. Zum Wandel der Kontinuitätsdiskussion // Westdeutschland, 1945–1955 / Hg. von L. Herbst. München, 1986. S. 65–84; Habermas J. Eine Art Schadensabwicklung. Die apologetischen Tendenzen in der deutschen Zeitgeschichtsschreibung // Die Zeit. 1986. 11 Juli. S. 40.
{4} См.: Schwarz H.-P. Modernisierung oder Restauration: Einige Vorfragen zur künftigen Sozialgeschichtsforschung über die Ära Adenauer // Rheinland-Westfalen im Industriezeitalter / Hg. von K. Düwell und W. Köllmann. Wuppertal, 1984. Bd. 3. S. 278ff.; Lübbe H Der Nationalsozialismus im politischen Bewußtsein der Gegenwart // Deutschlands Weg in die Diktatur / Hg. Von M. Broszat u. a. Berlin, 1983. S. 329ff.
{5} Я опираюсь на результаты исследовательского проекта LUSIR (см. примеч. 4 к статье «Вопросы – ответы – вопросы» в настоящей книге).
{6} Об этом см. мои замечания: LUSIR. Bd. 1. S. 8f.
{7} О критике в адрес исторического изучения жизненного опыта и повседневной жизни см.: Wehler H.-U. Geschichte von unten gesehen // Die Zeit. 1985. 3 Mai. S. 64.
{8} О критике см. статью У. Херберта: LUSIR. Bd. 3. S. 19ff.
{9} О критике – в данном случае в адрес историка Андреаса Хильгрубера и его характеристики немцев на Восточном фронте в 1944/45 году (Hillgruber A. Zweierlei Untergang. Berlin, 1986) – ср.: Habermas J. Eine Art Schadensabwicklung…
{10} О вопросах методологии см.: LUSIR. Bd. 3. S. 392–445; Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis: Die Praxis der Oral History / Hg. von L. Niethammer. Frankfurt a. M., 1985 (там же ссылки на литературу).
{11} Свидетельства об опыте, в том числе и коллективном, всегда получены от отдельных индивидов. Переход от классовых культур к биографиям индивидов в Европе ХХ столетия требует изучения индивидуальных, социокультурных и событийных условий формирования их опыта. Историк-интерпретатор должен не дистанцироваться от таких «слишком личных» свидетельств, а обращать внимание на ту дистанцию, которая и так его от них отделяет: тогда он сможет то, что в этих свидетельствах молчаливо само собой подразумевается, использовать в качестве ключа для раскрытия их коммуникативных предпосылок, а значит и для возможности их обобщения с учетом специфики исторического и социального их контекста. В противоположность этому, обобщение эксплицитных высказываний индивидов (чаще всего – высокопоставленных лиц) относительно их собственного опыта и истолкование их как отражения опыта всего народа – это элитистское заблуждение, а самоидентификация интерпретатора с такими высказываниями – релятивистская манипуляция.
{12} Ср.: Lutz B. Der kurze Traum immerwährender Prosperität. Frankfurt a. M.; N.Y., 1984. S. 30ff.
{13} Об особых условиях, имевших место в Рурской области в 1950-е годы, я не имею возможности говорить здесь подробно. Они обрисованы в более пространной версии этой статьи – см.: LUSIR. Bd. 2. S. 179f.
{14} Herbert U. Die guten und die schlechten Zeiten// LUSIR. Bd. 1. S. 67ff. Автор разработал эту гипотезу на примерах пяти рабочих одной возрастной группы (род. ок. 1910). Основная тенденция, особенно скудость рассказов о 1950-х годах, подтвердилась и во многих других интервью (не только в нашем проекте).
{15} По этой теме см., в частности, исследования по истории повседневной жизни молодых горняков 1930-х годов: Zimmermann M. // LUSIR. Bd. 1. S. 67ff.; о домохозяйках в шахтерских поселках: Einfeldt A.-K. // Ibid. S. 267ff.; Bd. II. S. 149ff., о женщинах-конторских служащих: Schmidt M. // Ibid. Bd. I. S. 133ff., Bd. II. S. 191ff.; также cм. исторический анализ социологических данных 1950-х годов о соседских отношениях и о промышленных рабочих: Parisius B.// Ibid. Bd. I. S. 297ff.; Bd. II. S. 107ff. Скорее с позиций истории индивидуального опыта написаны исследования по проблематике иностранных рабочих в рейхе и о работниках фирмы Круппа: Herbert U. // Ibid. Bd. I. S. 233ff. О воспоминаниях о войне и послевоенных годах см.: Niethammer L. // Ibid. S. 163ff.; Bd. II. S. 1 7ff .; об интеграции беженцев: Plato A. von // Ibid. Bd. III. S. 172ff.; о последствиях членства в Союзе немецких девушек: Möding N. // Ibid. S. 256 ff.
{16} Попытку обобщения см.: Herbert U. // LUSIR. Bd. 3. S. 19ff.; ср.: Moser J. Arbeiterleben in Deutschland, 1900–1970. Frankfurt a. M., 1984.
{17} См. исследования о производственных советах в горнодобывающей и металлургической отраслях и об их месте в системе коммунального и социального самоуправления: Plato A. von, Zimmermann M. // LUSIR. Bd. 2. S. 311ff., 277ff.
{18} Fuchs W. Der Wiederaufbau in Arbeiterbiographien // LUSIR. Bd. 3. S. 347ff., здесь S. 358.
{19} Подобным же образом рабочий класс в массе своей не усвоил национал-социалистическую идеологию (расовую теорию, учения о народном единстве, о корпоративности, о сверхчеловеке-господине и о мужчине-солдате), но занял такую жизненную позицию, которая была совместима с нацистским режимом; а когда на более низкой ступени социальной иерархии появились иностранные рабочие и народы оккупированных стран, немецкие рабочие восприняли это как собственный подъем по этой лестнице.
{20} См.: Meyer S., Schulze E. “Als wir wieder zusammen waren, ging der Krieg im Kleinen weiter”// LUSIR. Bd. 3. S. 305ff., где эта цитата используется для характеристики положения людей, возвращавшихся после 1945 года в Берлин.
{21} См. великолепную критику этого образа в книге : Jungwirth N., Kromschröder G. Die Pubertät der Republik: Die 50er Jahre der Deutschen. Frankfurt a. M., 1978.
{22} Хорст Кроль, 1925 г.р., отец – пекарь и трактирщик в Рурской области; учился гостиничному делу, был членом гитлерюгенда, где учился на летчика; недолго был на войне, потом получил специальность конторского служащего, работал в строительном управлении небольшого городка на краю Рурского бассейна. Кассета 3, 2. Интервьер: Альмут Ле.
{23} См. об этом раздел «Отсчет перед стартом. Миф о несправедливости и порядке» в статье «Частная экономика» в настоящей книге.
{24} Влияние КПГ сократилось вполовину за очень короткое время даже в городах Рурской области, бывших ее оплотом. См. данные в книге: Pietsch H Militärregierung, Bürokratie und Sozialisierung: Zur Entwicklung des politischen Systems in den Städten des Ruhrgebietes 1945 bis 1948. Duisburg, 1978. S. 311f.
{25} Ср.: LUSIR. Bd. 2. S.83f.
{26} Клаус-Юрген Гайслер, 1931 г.р., сын крановщика со сталелитейного завода, в начале 1950-х годов – технический сотрудник, активный член социалистической молодежной организации «Соколы», в 1954 году вступил в СДПГ, с 1961-го – член производственного совета. Интервьер: Ульрих Херберт.
{27} Ср. парадигматические биографии Гисберта Поля и Конрада Фогеля в книге: Plato A. von. “Der Verlierer geht nicht leer aus”: Betriebsräte geben zu Protokoll. Berlin; Bonn, 1984. S. 52ff., 180ff., а также относящиеся к ним мои интерпретации текстов в изд.: LUSIR. Bd. 1. S. 213ff.; Bd. 3. S. 422f.
{28} Среди этого поколения было некоторое количество людей, чья политическая переориентация после 1945 года оказалась еще более решительной и привела их в ряды коммунистов. Им в 1950-е годы пришлось особенно тяжело. Характерный случай с Густавом Кеппке описан в статье «Тыл и фронт» в настоящей книге.
{29} Дерте Финке, 1908 г.р. Кассета 4, 1. Интервьер: Альмут Ле.
{30} Там же. Кассета 8, 2.
{31} Там же. Кассета 7. Далее в ходе интервью она демонстрирует лояльное отношение к германскому империализму: «И у нас на Востоке к покушению на Гитлера [20 июля 1944 года] было другое отношение: если бы они там Гитлера – …то у нас тут же в Польше было бы народное восстание. […] То есть действительно хаос бы начался. Не только в Германии, а сразу же поднялись бы и те народы, которые мы оккупировали. Тут уж мы бы живьем не выбрались, если б это случилось тогда, в 44-м».
{32} Там же. Кассета 8, 1. В другом месте госпожа Финке отмечает, что аппараты федеральных ведомств в огромной мере состояли еще из прежних берлинских имперских чиновников, которые в 1950-х годах даже не старались прижиться в Бонне, потому что все еще ожидали возвращения в столицу рейха – Берлин.
{33} Адам Брегер, 1915 г.р., отец – сельскохозяйственный предприниматель из Центральной Германии. В его усадьбе Адам работал начиная с 13 лет, посещая параллельно сельскохозяйственную, верховую школы и автошколу. Отслужил в общей сложности девять лет в армии, был на войне (в Норвегии и Югославии), с 1945 года снова в отцовском хозяйстве, которое он возглавил в 1950-м, после того как женился на квартировавшей там женщине, изгнанной из Померании. Два года спустя снова отдал хозяйство отцу, потому что нарастающие конфликты с властями ГДР по поводу обязательных поставок сельхозпродукции побудили его «свалить на Запад». Прошел несколько лагерей для перемещенных лиц и беженцев, потом работал на строительстве железных дорог в Рурской области. После смерти отца получил компенсационную выплату. С 1959 года – административный служащий, с 1979-го – пенсионер. Кассета 3, 1. Интервьер: Альмут Ле.
{34} Там же. У «изгнанных», оплакивавших подобные утраты, редко бывали сковывающие энергию сомнения в правильности сделанного шага. Однако, большинство беженцев из советской оккупационной зоны и ГДР были моложе, чем господин Брегер, или у них было на кого или на что опереться по прибытии на Запад, или они приехали во время благоприятной конъюнктуры в конце 1950-х. См. об этом: Plato A. von. Fremde Heimat // LUSIR. Bd. 3. S. 172ff.
{35} Адам Брегер. Кассеты 1, 1; 1, 2.
{36} Этот вопрос о смысле иногда до сих пор возникает. Например, когда госпожа Брегер обвиняет ГДР в том, что оставшиеся там крестьяне были де-юре лишены своих усадеб, но – на новом положении – фактически могли (или, как она говорит, «должны были») в них и дальше жить и работать; или когда господин Брегер, которому тоже пришлось стать рабочим, говорит о «кислом настроении», которое его охватило, когда он через 15 лет снова увидел свою бывшую усадьбу.
{37} Там же. Кассета 1, 2.
{38} Вернер Дарски, 1927 г.р. Интервьер: Альмут Ле.
{39} Там же. Кассета 5, 1.
{40} О том, что значило самостоятельно строить дом в послевоенные годы и какое напряжение это было для всей большой семьи, рассказывает Вернер Ябель: LUSIR. Bd. 2. S. 87ff.
{41} Вернер Дарски. Кассета 5, 1.
{42} Конкретно это в данном случае проявляется в том, что брак, заключенный в годы послевоенного восстановления, потом как-то распадается болезненным, но в конечном счете необъяснимым образом.
{43} Вернер Дарски. Кассета 5, 2.
{44} Об этом понятии см.: Erdheim M. Die gesellschaftliche Produktion von Unbewußtheit. Frankfurt a. M., 1982.
{45} Эльза Вольберг, 1914 г.р., из Северной Германии, дочь рабочего. Была разнорабочей на кухне и в промышленности до 1951 года. Первым браком (1935) была замужем за ремесленником, с которым познакомилась в годы своей социалистической юности; у них родились двое детей, в том числе в 1943 году упоминаемая здесь Эрна. Муж погиб на фронте, Эльза долго жила с автослесарем из «изгнанных». Они оба работали при оккупационной администрации. После рождения дочери в 1951 году Эльза перестала работать, а ее муж потерял свое место. В 1953-м они официально поженились и переселились в 2,5-комнатную квартиру в Рурской области, где муж Эльзы устроился работать на шахту. В 1956-м родился сын; в 1958-м семья переехала в бóльшую квартиру. Эльза занималась подработками.
В 1973 году они развелись с мужем после того, как он уже довольно долгое время жил у подруги. Эльза съехала с квартиры и переселилась к младшей дочери. Кассета 2, 2. Интервьер: Анне-Катрин Айнфельдт.
{46} Ильзелора Кельнер, 1929 г.р., родом из Рурской области. Ее отец был до 1933 года офицером и полицейским, потом работал в промышленности машинистом паровоза. Она состояла в Союзе немецких девушек, получила специальность конторской служащей, работала, пока не вышла замуж за жившего неподалеку торгового служащего, который получил «хорошее воспитание» в интернате «Киффхой-зербунда» (союза воинов-ветеранов) и в войсках СС. Он впоследствии дослужился до менеджера среднего звена и завел в конце концов собственное дело (1951). Ильзелора стала домохозяйкой, родила двоих детей, они построили дом. После того как в 1969 году умер сын, а четыре года спустя – муж, она пошла работать на полставки делопроизводительницей на промышленном предприятии. Кассета 1, 2. Интервьер: Маргот Шмидт.
{47} Госпожа Финке (кассета 8, 1) размышляет о «поколении [женщин], которое в войну так мужественно держалось»: «И мы сказали: теперь нам так нельзя. Раз наши мужчины вернулись, то нам для начала надо их морально укрепить. А если мы такие самостоятельные и все делаем, и у нас есть профессия и работа, а они сидят дома и без денег, то это хуже некуда. Уж лучше мы будем поскромнее, снова пока отойдем, будем укреплять мужчин. Я, конечно, считаю, что это после войны было необходимо – укрепить мужчин. Одни женщины не добились бы этого экономического чуда». О перевернутом вследствие войны стереотипе гендерных ролей см. также: LUSIR. Bd. 1. S. 163ff., особенно S. 221ff.
{48} Ильзелора Кельнер. Кассета 2, 1.
{49} Бабетта Баль, 1912 г.р., дочь горняка, служила в разных домах, в 1934 году вышла замуж за шахтера (член НСДАП и СА, в 1943-м заболел, в 1945-м умер), родила троих детей, которых вырастила одна. За две недели до конца войны их дом был разбомблен. После 1945 года Бабетта получала небольшую пенсию и пособие, временами подрабатывала. В середине 1950-х оба сына, которым было уже за 20, работали на шахтах, но жили все еще в описываемой квартире; детское пособие на дочку Бабетте перестали выплачивать в 1956 году. Кассета 1, 2. Интервьер: Анне-Катрин Айнфельдт.
{50} Очевидно, она посоветовала женщинам, как они могут получить ссуду, выдававшуюся нацистами новобрачным, и как можно не возвращать эту ссуду, если родить побольше детей («выплатить детьми»). [Ср. примеч. 17 к статье «Тыл и фронт» в настоящей книге. – Примеч. пер. ]
{51} Полностью эта цитата и ее контекст приведены в статье «Тыл и фронт» в настоящей книге.
{52} Семья Кауфман. Кассета 3, 2. Интервьюер: Райнер Потрац. Господин Кауфман, 1924 г.р., из Померании, получил среднее образование, состоял в гитлерюгенде, несколько месяцев был кандидатом на чиновническую должность; потом – трудовая повинность, мобилизация. Став унтер-офицером, он был тяжело ранен в России, потом училcя в унтер-офицерской школе. В 1945 году остался на Западе и попал в Зауэрланд. Там был подсобным рабочим, учился в сельскохозяйственной школе, потом работал бухгалтером, шофером, торговым служащим. В 1956 году «по 131-й статье» [т. е. согласно основанному на ст. 131 Конституции ФРГ решению бундестага (1951) о том, что чиновники, не признанные в ходе денацификации виновными в преступлениях, могут получить свой прежний статус. – Примеч. пер. ] снова был принят на работу в административные органы, с тех пор чиновник муниципалитета в Рурской области. Свою жизнь господин Кауфман резюмирует так: в ней не было поворотных пунктов и переломов, она протекала довольно прямолинейно. Госпожа Кауфман, 1931 г.р., из Силезии, была «изгнана» в 1946 году, жила с матерью, братьями и сестрами в Зауэрланде, где на культурном мероприятии в «Союзе изгнанных» познакомилась со своим будущим мужем. Она подрабатывала художественными промыслами, финансово поддерживая родню. Выйдя замуж в 1955 году, она стала домохозяйкой, родила двоих детей.
{53} Подробно изложив всю свою жизнь, он завершает автобиографию рассказом о том, как он 30 лет назад (1956) снова стал чиновником. Безуспешно разослав бесчисленное количество заявок на вакансии, он вдруг получил предложение от администрации одного города: «Я был как раз тот, кого они искали. Я был a) беженец, б) тяжело ранен на войне и в) шел по 131-й статье. То есть, взяв меня, они разом убивали трех зайцев, потому что выполняли сразу три обязанности: принимать на работу беженцев, принимать на работу чиновников и тяжело раненых. Ну вот» (Кауфман. Кассета 1, 1).
{54} Кауфман. Кассета 2, 2. По поводу этих слов господин Кауфман замечает, что его жена не может делать обобщения на основе того, что видела девочкой: очевидно, он намекает, что в головах более старших участников войны было и еще что-то, но не говорит, что именно.
{55} Там же. Кассета 1, 2.
{56} Там же. Кассета 2, 1.
{57} Там же. Кассета 1, 2.
{58} Ср. дифференцированное описание в статье: Tenbruck F.H. Alltagsnormen und Lebensgefühle in der Bundesrepublik // Die zweite Republik / Hg. Von R. Löwenthal, H.-P. Schwarz. Stuttgart, 1974. S. 289ff. Но объяснительная сила этого описания невелика, поскольку оно не учитывает опыт предшествующего периода Третьего рейха. А между тем на эти связи уже в 1960-е годы настоятельно указывали в своей многое проясняющей работе Александр и Маргарета Мичерлихи (Mitscherlich A., Mitscherlich M. Die Unfähigkeit zu trauern: Grundlagen kollektiven Verhaltens. München, 1967), разработавшие для этого явления психоаналитическую объяснительную модель. Но анализ источников по истории индивидуального опыта почти никогда не позволяет добраться до формирования человеческого «я» в раннем детстве и до глубинных слоев его оболочки. Но выводы, которые можно сделать на основе этой истории, могут помочь компенсировать сверхобобщенную абстрактность этой модели и указать дифференцированные точки ее привязки к социальному и историческому уровням.
II Восток
5 Приближение к переменам. Поиск народного опыта в промышленной провинции в ГДР
1. Источники воспоминаний
В начале 1987 года мне было выдано разрешение провести ряд биографических интервью в индустриальных районах ГДР {1}. Исходя из опыта работы в Рурской области {2}, мы интересовались в особенности ранним опытом, в котором заключены предпосылки континуитета, и социальной культурой рабочих, сформировавшейся в новых условиях после войны. Но поскольку на протяжении жизни наших потенциальных респондентов содержание понятия «рабочий» менялось в ГДР {3} еще больше, чем в Западной Германии, в круг нашего внимания попали многие социальные группы. Из 150 человек, опрошенных нами, примерно у половины отцы были рабочими, а еще больше было таких, которые получили в свое время рабочие специальности; но только у одной трети последним местом работы была должность рабочего, бригадира или мастера в промышленности. Разумеется, эта цифра нисколько не претендует на репрезентативность, хотя она, вполне возможно, и отражает пропорции, типичные для старшего поколения жителей индустриальных районов ГДР. Мы обращались к пожилым людям – мужчинам и женщинам примерно в равных долях, – из которых приблизительно половина родились до окончания Первой мировой войны, а большинство остальных – в 1920-е годы {4}. В начале интервью мы всякий раз просили человека рассказать историю собственной жизни в произвольной форме, а затем задавали обычно множество вопросов, чтобы дополнить сообщенные им сведения. Интервью проводили весной и летом 1987 года Доротея Вирлинг, Александр фон Плато и я, обычно в одиночку (при каждом пятом разговоре присутствовали восточногерманские историки). Все беседы были записаны на магнитофонную пленку и вывезены из ГДР. При этом обещанная респондентам анонимность была сохранена.
Опрос такого масштаба был делом необычным для любого проекта по устной истории, а проведение его в ГДР стало небольшой сенсацией. До тех пор западногерманские ученые не имели возможности собирать в Восточной Германии такой объемный и многообразный материал для изучения биографического опыта. Исследователи из других стран к тому времени уже несколько лет пользовались там более благоприятным режимом {5}, но и они не могли собрать столько свидетельств в формах, поддающихся длительному хранению и анализу. В самой ГДР метод биографических интервью пока еще находится на стадии первых практических экспериментов: долгое время на целесообразность применения историко-этнологических методик для изучения современной истории там смотрели скептически {6}. Причин для такого скепсиса называют несколько. Устная история – дело хлопотное и дорогое, а результаты исследований выражаются скорее в вопросах, чем в утверждениях; возможности науки в ГДР, население которой составляет примерно столько же, сколько совокупное население земель Северный Рейн-Вестфалия и Гамбург, малы, а в то же время существует необычайно отлаженная система сбора информации по негласным, бюрократическим каналам, которая заменяет здесь некоторые информационные функции публичной сферы на Западе. Эта система охватывает большинство предприятий, учреждений и организаций со всеми их сотрудниками; зачем же историку, имея доступ к личным делам, спрашивать самих людей, когда ему про них и так уже столько известно? То, что при этом пропадает элемент субъективности, для господствующей в ГДР историографии не является большой потерей, потому что она главное место отводит экономическим силам и действиям политического руководства. Наконец, развитие устной истории блокировали и политические соображения: в государстве, где ведущую роль играет авангард самых прогрессивных сил, публичная демонстрация отсталого сознания народа самому этому народу – дело вредное.
Но к настоящему моменту большее понимание стали встречать и контраргументы: объективизм парализует индивидуальное творчество; если опыт скрывать, то дискуссии утрачивают реальность; недостаток публичности лишает правдоподобия все, что говорится. Начиная с 1970-х годов появилась возможность рассказывать о личном опыте с помощью художественной литературы {7}. И, вероятно, традиция социалистической документальной литературы сыграла ключевую роль в том, что в публичную сферу все же пришло интервью-воспоминание – как зонд для изучения континуитета и фиксации противоречий, как образец и обоснование самовосприятия индивида, которое иначе оказывалось все более оторванным от общества {8}. Мы очень надеемся, что читатели в ГДР смогут в будущем познакомиться с результатами нашего исследования, но все же такой подход – публично рассказывать об историческом опыте с позиций литературы, а не исторической науки, – не является главной задачей исследовательского проекта, который проводится людьми «извне». Почему же мы тогда осуществляем это исследование – при всей случайности отбора респондентов, при всей случайности воспоминаний, при всех превратностях взаимодействия между западными и восточными немцами на территории ГДР и при том, что ставятся вопросы, к ответам на которые исследования такого плана могут приблизить нас лишь очень ненамного?
Причин несколько. Первая связана с восприятием ГДР извне: оно зачастую настолько шаблонно, что реальная жизнь людей в этой стране игнорируется, их базовый опыт и имеющиеся у них возможности видятся превратно, а сравнимый с западным биографический багаж замалчивается, так что никакой коммуникации не происходит. Если привлечь самих людей, переживших ту часть немецкой истории, которая разыгрывалась на Востоке, то, может быть, удастся нарисовать более многосложную и дифференцированную картину, увидеть с разных сторон то, что было неизбежно, и то, что было возможно в истории ГДР. Поэтому – особенно в ситуации, когда внешние условия коммуникации становятся все легче, – все больший смысл обретают диалоги в обыденном контексте. Но чтобы это стремление облегчить коммуникацию, сделав представление о новейшей истории ГДР более дифференцированным и конкретным, не привело к увлечению никчемными деталями, историк, работающий с источниками по истории человеческого жизненного опыта и повседневности, должен ориентироваться на главные вопросы истории ГДР и стремиться к точности в постижении именно их. Я приведу только три примера таких открытых главных вопросов социальной истории страны.
Заметнее всего – та огромная дыра, которая зияет и в восточно-, и в западногерманской историографии ГДР между демографическими, экономическими и социографическими данными и структурными описаниями {9}, с одной стороны, и политологическим анализом и хроникой политического руководства республикой, с другой {10}: вся лежащая между ними область, в которой располагается общество со своим опытом, скрыта во тьме. Сделаны только первые попытки измерить и фрагметарно исследовать эту область социально-историческими средствами {11}. В западной науке уже давно возник интерес к современной социальной истории, но ей недостает источников; у восточной отчасти та же проблема, но главное – ей не хватает методологического опыта и продуктивных дискурсов, которые бы преодолевали границы внутриинституционального знания и программных точек зрения руководства. Так, например, мало известно о континуитете и изменениях в политической и социальной культурах до, во время и после нацизма – и это в обществе, легитимация которого основана на утверждении о континуитете альтернативной (рабочей) культуры.
Тьмой окутана социальная история и история человеческого опыта, касающаяся миграций в 1940–1950-е годы, хотя на территории нынешней ГДР довоенное население убыло почти на четверть и среди всех оккупационных зон именно советская приняла в относительном измерении больше всего беженцев: стали ли они предохранительными клапанами социальной революции, ресурсом «красного экономического чуда»?
Не написана, далее, социальная история женщин в этой стране, где женщин в процентном отношении больше, чем в любой другой стране Европы (кроме Белоруссии), а правящая элита состоит почти целиком из мужчин {12}.
Не проанализирован опыт вертикальной мобильности – как повышения, так и понижения социального статуса – в этой части Германии, где после войны такие процессы были, пожалуй, наиболее интенсивными и определяли облик общества.
Подобные важнейшие и при этом остававшиеся до сих пор без рассмотрения темы необходимо изучать вместе с уже разрабатываемыми – такими, как построение народной промышленности {13}, национализация индивидуальных предпринимателей – и учитывать аспекты политической социологии и международной политики. При этом надо попытаться понять каждую отдельную жизненную историю, встроить ее в групповой контекст и выделить типичный опыт, ритмы, отношения с другими типами. Только в таком случае работа с отдельными биографиями позволит разглядеть своеобразие опыта жителей ГДР и поставит такие вопросы, которые будут стимулировать дальнейшие исторические исследования и политический дискурс. Однако во время самой работы по анализу текстов эти крупные вопросы поначалу представляют собой как бы резервный фонд ассоциаций. Ведь понимание начинается с единичного случая, с того, что исследователь не понимает, т. е. с раздражения по поводу явно непонятного: это может быть одна фраза, одна ведущая тема, одна травма, одно утверждение, выводящее интерпретатора за рамки его прежних понятий и заставляющее его выдвигать гипотезы, которые потом нужно проверять, прилагая ко всему тексту биографии. Эта работа обнажает глубинную структуру новых связей и обобщающих умозаключений; и особенные, и общие их черты можно уточнить и проверить потом методами этнографии и групповой биографии.
Такой подход плодотворно используется в устной истории, когда она работает с биографическими свидетельствами. Здесь будет представлена первая, предварительная попытка сделать выводы по одному аспекту анализа на материале репрезентативных примеров, взятых из одного из трех обследованных нами регионов. Использованы были 36 интервью, относящихся к сконструированной нами особой группе, состоящей преимущественно из коренных жителей промышленных городков, расположенных у подножия Рудных гор {14}.
Изначальный вопрос был таков: если столь многие в послевоенные годы уехали на Запад, то почему большинство все-таки осталось? Иными словами, меня интересовали характер, степень и динамика сплоченности восточногерманского общества, и я попытался уточнить этот вопрос (и те, что связаны с ним или вытекают из него) на материале одной социальной группы, отличающейся особой привязанностью к родным местам. Именно в таком прояснении вопросов, а не в количественных итоговых данных, и может заключаться результат исследования, проводимого методом устной истории.
2. Раздражение от непонятного: другое я
Людвиг Хабер показался мне просто спасением для нашего проекта. Я, как любой западный немец в начале подобного исследования, находился в плену своих представлений о ГДР. Мои представления сводились к тому, что нам в этой стране в основном будут предоставлять в качестве респондентов испытанных товарищей, зарекомендовавших себя в борьбе с фашизмом. Потом оказалось, что мы вообще только в 40 % случаев выходили на наших собеседников через партийные и профсоюзные комитеты предприятий, а остальных могли и должны были находить себе сами. Когда мы провели сотое интервью, а ни один респондент все еще не соответствовал ожидаемому типу образцового гражданина ГДР, я занервничал, потому что никто бы не поверил нам, будто вся Германская Демократическая Республика состоит из одних только бывших членов гитлерюгенда, аполитичных типов или удаленных от политической жизни социал-демократов. Ведь антифашистский пафос правящей элиты республики основывался не на фикции, Хонеккер до сих пор правит государством [21] . Но выяснилось, что этот слой политически активных старых коммунистов очень тонок, а в рабочей среде, «базисе», практически незаметен {15}. Мне был преподнесен впечатляющий урок; господин Хабер добавил к нему еще один.
Он десять лет просидел в тюрьмах Третьего рейха, а после того, как вышел на пенсию, его против воли заставили заниматься историей, сказав, что осталось совсем мало людей, которые могли бы рассказать об антифашистской борьбе так, как он: еще живы, конечно, товарищи, которые участвовали в подполье, но Комитет борцов антифашистского сопротивления не может больше привлекать их в качестве исторических свидетелей, потому что они, мол, не то вспоминают. Либо, говорили, они вспоминают то, чего с ними вовсе не было, либо вспоминают то, что с ними произошло, но не соответствует исторической истине. Ведь, говорили, кругозор-то их в условиях конспирации был ограничен, они не могли видеть картину в целом. Поэтому один партийный деятель призвал Людвига Хабера подтвердить свидетельством о лично пережитом целостную историческую картину, которую он как таковую не видел. Это означает устранение индивидуальности из истории антифашистского движения, создание такой картины, какой она может видеться только руководству. Такое требование лишает ценности большинство личных свидетельств. Господин Хабер на собственном опыте познал это.
С 13 лет он был функционером коммунистической партии. После освобождения из тюрьмы в 1945 году поднялся до самых высоких постов, но в 1953 году оказался захвачен последней сталинской чисткой (так называемые процессы Сланского) и борьбой за власть в руководстве Социалистической единой партии Германии {16}, после чего был изгнан из властных структур. Падение было, однако, не полным: в порядке компенсации ущерба товарищу Хаберу предоставили место преподавателя в вузе, а через год реабилитировали, хотя в прежней должности и не восстановили. Работа в вузе его удовлетворяла, так как в ней пригодилось самообразование, полученное им в тюрьме: там соседями Людвига по камере были бывший депутат рейхстага от КПГ – филолог-германист, который познакомил способного рабочего паренька с немецкой классической литературой, и фальшивомонетчик, который объяснил ему азы высшей математики. После войны за два года в высшей партшколе эти знания были приведены в систему, потом Хабер довершил свое образование, защитил диссертацию и в конце концов стал профессором. Успех в академической сфере уравновесил неудачу в политической. Здесь, в вузе, равно как и среди товарищей по низовой партийной организации, он своими личными качествами {17} заслужил то уважение, которое в высших инстанциях было поставлено под сомнение. О том годе, который прошел с момента его падения до реабилитации, Людвиг Хабер говорит так:
Со мной фактически обращались так, как если бы я еще был тем человеком, которым был прежде.
Чем было вызвано разделение его личности на два явно равноценных, но диаметрально противоположно оцениваемых я ? Основанием для его исключения из рядов партийной элиты послужили найденные в его гестаповском деле материалы, которые свидетельствовали, что он проявил слабость перед лицом врага и назвал имена некоторых соратников. Господин Хабер не говорит, что в деле ничего подобного не сказано, но утверждает, что во время допросов называл только те имена, которые на тот момент и так уже были известны гестапо, проведшему сложную операцию по раскрытию регионального центра коммунистической молодежной организации. Он подал заявление в комиссию партийного контроля, где изложил свои показания; но, говорит он, комиссия сначала больше верила гестаповским документам – по крайней мере все время, что он оставался на своей должности. После того как Людвиг Хабер был снят, Сталин умер, произошли события 17 июня и прошел еще год, ему удалось добиться, чтобы его воспоминаниям о былых событиях поверили и его честь была восстановлена. Господин Хабер сам знает, что обе версии для стороннего человека обладают равной степенью убедительности. Он достаточно часто заседал в подобных комиссиях и действовал по принципу «доверяй, но проверяй», т. е. принимал решения, основываясь на документах. А теперь судья сам оказался в жалком положении обвиняемого и мог противопоставить только собственную память своим нынешним противникам, которые опирались на документы его прежних противников. К тому же нынешними его противниками были компетентные органы высшего руководства его партии. А без партии он был бы никто: ради нее он просидел всю свою молодость в тюрьме, она расширила его кругозор и дала ему шанс взять на себя ответственное дело. Даже пульс его личной жизни бился в унисон с пульсом жизни партийной: в 1945 году он – делегат от коммунистической молодежи – на первом своем политическом собрании влюбился в делегатку от социал-демократов, дочку эмигрировавшего высокопоставленного функционера СДПГ. Вскоре, в год объединительного партийного съезда, он на ней женился.
Когда партия, с которой он был так внутренне спаян, отстранилась от него, это вызвало в его сознании раскол: для него существовали теперь две реальности. С одной стороны, господин Хабер знал, кем он на самом деле был, и те, кто относились к нему непредвзято, воспринимали его в этом качестве. Но его alter ego — партия – в течение года, прошедшего между его политическим падением и реабилитацией, перевела это «на самом деле» в сослагательное «как если бы я все еще был…». Такой раздвоенности он бы долго не вынес. Но в конце концов партия поверила ему, а не документам, и вернула ему его прежнее лицо, а кроме того открыла ему вторую, в политическом отношении более скромную, но для него почти столь же важную возможность карьеры интеллектуала. Таким образом, он снова смог продемонстрировать свои необычайные способности, а партия тем самым еще прочнее спаяла его жизнь со своей линией. Не удивительно, что математика и философа Хабера на старости лет заставили заниматься историей жертв нацистских преследований, т. е. репрезентацией антифашизма: его личность окружена ореолом страдания, а его воспоминания – правильные.
В отличие от него, другая респондентка в этой эмпирической группе, долгое время пробывшая освобожденным партработником, явно не настолько твердо уверена в подобной спайке собственной жизни с партией. Эта женщина, у которой в воспоминаниях встречались пробелы, тоже сформулировала фразу, необычайно удивившую меня своей раздвоенностью: «Мой отец не был таким политическим человеком, он был реальным».
Стоит разобраться, в чем смысл этого различия, которое проводит Пия Димер, женщина с двадцатилетним стажем политической деятельности в условиях реального социализма. Ей под восемьдесят, и на интервью она согласилась из чувства долга, потому что была секретарем парткома, а затем начальником отдела кадров на одном из народных предприятий, где мы проводили наши опросы. Говорила она неохотно. Постоянно клялась в верности родному государству – так, словно на ГДР напали враги. Часто ругала ФРГ, где она никогда не бывала. А о своих детях она говорить и вовсе не пожелала, потому что те занимали посты очень высокие, а значит – секретные. При этом она, несмотря на робость и негативизм, оказалась очень милой старушкой. Про нее мне все говорили, что она была прекрасным товарищем для всех сослуживцев: ей можно было выложить все, что на душе.
Постепенно мы все же разговорились, и беседа шла прекрасно, особенно когда речь шла о ее молодости. Она была единственным ребенком, родители ее были конечно же рабочими – но какими! Они работали в театре! Отец был рабочим сцены, мать – реквизиторшей. Служили они то в одном театре, то в другом, так что Пия ребенком много путешествовала и в конце концов добралась до самого Берлина. Много времени, впрочем, приходилось ей проводить и без родителей – у тетки в Саксонии. Но ее миром оставался театр, он навсегда привил ей тягу к классической культуре и вообще к высокому. Когда ее муж состарился, у него начался рефлекторный кашель, и на том походы в концерт прекратились. Ей пришлось перейти на грампластинки.
В бытовом отношении жизнь была довольно скромной: так, в начале 30-х семья жила в Берлине в садовой беседке. Пия была девушкой практичной и деятельной, выучилась стенографии и машинописи, нашла место секретаря-машинистки у одного оптового торговца сигарами. Его она не без симпатии описывает как дружелюбного оппортуниста, который и до, и после 1933 года оставался на плаву и при этом еще находил доброе слово и для нацистов, и для их противников. В 1935 году госпожа Димер вышла замуж (брак был гражданским: не венчались, так как и она, и жених отказались от членства в церкви) за ткача, точнее – за жильца, снимавшего квартиру у ее тетушки и оказавшегося тоже поклонником театра («Эта была наша жизнь!»). Они целеустремленно добивались и добились квартиры в новом доме, где и по сей день живут. Пия стала домохозяйкой и матерью троих детей, младший из которых родился как раз весной 1945 года, «потому что у нас был хороший брак», – отвечает она на мой удивленный вопрос. Ее мужу не пришлось идти на фронт, он был направлен на работу в оборонную промышленность, по счастью – совсем рядом с домом. Что он там делал, она не помнит: «Я молодая женщина была, мне это абсолютно не интересно было». Во всяком случае он занимался уже не ткачеством.
Но в 1945 году он сразу же включился в восстановление промышленности, был направлен на работу в администрацию, вскоре вступил в СЕПГ и стал местным хозяйственным начальником. В 1947 году Пия последовала за ним: вступила в партию и в профсоюз, на первом же собрании стала членом Демократического женского союза Германии, численность которого в их городе составляла тогда «от четырех до пяти сотен человек». Потом одна из подруг по Союзу сказала ей, что детьми заниматься могла бы и не она, а ее мать, жившая с ними с 1945 года. И с 1947 года Пия снова стала работать – сначала на вспомогательной конторской должности на крупном промышленном предприятии, а потом ее взяли машинисткой в партбюро этого же завода. Тут в ее жизни произошел решающий поворот: в середине 1950-х годов она раскрыла заговор «настоящих врагов государства» – своих начальников из дирекции завода, которые сообщили тайной английской радиостанции, как можно устроить диверсию против социализма. За это их «посадили на много лет». У Пии Димер были «хорошие связи» и «чутье: у кого хорошее на уме, у кого – нехорошее». После того как она так продемонстрировала свою бдительность, она стала заместительницей секретаря заводской парторганизации, а через год – секретарем, и тогда ее перевели на другое народное предприятие с женским коллективом. Там численность парторганизации как раз достигла ста человек, так что парторгу полагалось уже быть освобожденным.
А между тем Пия не побывала даже ни разу еще на партучебе. Поэтому и 17 июня 1953 года для нее стало особо важным событием, ибо «я же никогда прежде не бывала с рабочими, если не считать свекра, отца и так далее. Это для меня было событие!» Но ожидания западного интервьюера тут снова оказываются обмануты: событие состояло в том, что ничего не произошло. До Рудных гор волна протестов не докатилась. Работники завода организовали дружину охраны предприятия.
Таков был удивительный и, по всей видимости, полностью неподготовленный – даже в плане классового опыта – путь Пии Димер в политику, где она потом проработала 20 лет. Возникает естественный вопрос: как относился к политике ее отец? И тут она произносит ту фразу, что процитирована в начале этого параграфа:
...
Мой отец – он не был таким политическим человеком, он был реальным. Он был даже настолько реальным, что, когда Гитлер рабочих… – ну, когда людям работу дали, – так он этим восхищался. Но потом это все рухнуло, рухнуло все это с поведением этих нацистских сил. Кто-то его выдал, и ему пришлось все-таки уйти.
Если я правильно понял госпожу Димер, «рухнуло это все» очень поздно, строго говоря – в самом конце: в 1944 году ее отцу было поручено присматривать за одним театром в Тюрингии, и он рассчитывал, что это позволит ему прекрасно продержаться. Но тут один коллега, которому он прежде помогал, стал приставать к нему со словами, что в такое трудное время это едва ли подходящее занятие, и ему все-таки пришлось записаться в «Фольксштурм», а там он заболел и умер. Политика вторгается в жизнь через доносительство и требует незаслуженных жертв; пока все хорошо, никто и не понимает, что это политика, она анонимизируется за счет использования пассивного залога: «было поручено», «будет направлен». А слово «реальный» означает не что-то совершенно иное, а скорее смену перспективы, интуитивное чутье, позволяющее человеку оценить ту пользу или тот риск, которые заключены в заданных обстоятельствах. Реальное – это, например, то, что заставило человека поддерживать нацистов из благодарности за их социальную политику, а потом, когда «все это рухнуло», – перестать их поддерживать. Реально и то чутье, с которым человек выбирает, как мудрее вести себя по отношению к политике – даже к той, которой восхищается. Своего свекра Пия Димер тоже называет «очень реальным человеком»: он посоветовал своему сыну, ее деверю, не идти добровольцем в армию; но тот все равно пошел – и погиб под Сталинградом. То есть реальный человек – это тот, кто чувствует, что реально полезно в данных обстоятельствах.
Так какой же человек сама Пия Димер – реальный или политический? Трудно сказать, ведь в ее деятельности начиная с 1950-х годов это различие, по всей видимости, не выходило на поверхность. Мостиком между реальностью и политикой служил ее идеализм, почву для которого подготовило ее юношеское стремление к высокой культуре. В первые послевоенные годы она работала в школе и там организовала струнный ансамбль, собиравший местные народные и рабочие песни. Там она делала свои первые доклады и впервые соприкоснулась с марксизмом и Лениным, «так что чуток просветлело в голове». Пия гордится тем, что потом, на заводе, люди любили те собрания, которые проводила она, потому что они были познавательными. Это подтверждают в интервью и другие работники предприятия, в том числе и ее противники: она слыла честной, собрания проводила короткие и на высоком уровне, а главное – к Пии можно было придти и выговориться: рассказать про семейные раздоры, про квартирный вопрос, про начальство, про личное, и у всех было ощущение, что никуда за пределы кабинета сказанное не выйдет. Секретарям парторганизации приходилось на заводах заменять пасторов, и постольку, поскольку они выполняли эту работу, их признавали и использовали в качестве источника информации о том, что творится в рабочем «базисе». Парторгу приходилось улаживать повседневные конфликты и пробуждать в работниках понимание по отношению к тому, чего от них требовало руководство. И чем более лично и бесшумно это делалось, тем лучше {18}. Парторг был настолько политически эффективен, насколько он был «реален».
Парторгу Димер это, после трудностей в начале, видимо, удавалось. Она поняла, что ей нужно обрести «доверие» людей и что делать это надо через реальность тем частной жизни. Поэтому она и гордится, что люди открывали ей свои сердца; она была одновременно и представителем партии, и родной матерью. Когда она была секретарем парторганизации, ей платили как хорошей сдельной работнице; потом, когда она стала возглавлять отдел кадров, она получала на 110 марок меньше, а это тогда в ГДР были очень большие деньги. И тем не менее она занималась работой по кадрам и параллельно на общественных началах – партийной, потому что после реструктуризации завода численность парторганизации стала недостаточной для освобожденного парторга. «И поскольку у меня установка такая – чтоб мои рабочие не говорили, мол, она это ради денег делает, то я продолжала этим заниматься и потом, за меньшие деньги». Вопрос был политический: «ее рабочие», почти сплошь женщины, с которыми она была связана множеством личных связей, были реальными и едва ли стали бы делать свою работу за меньшие деньги.
В конце интервью Пия Димер радуется, что оно позади, и просит избавить ее от второй беседы. Очевидно, мы вторглись в реальные пласты ее биографии, которые она не хотела затрагивать в этом политическом разговоре с человеком с Запада. Поэтому, вероятно, ей кажется, что она обязана еще кое-что подправить, и она просит меня снова включить магнитофон. Поскольку это единственный раз, когда кто-то открыто высказывает пожелание, чтобы его слова были зафиксированы, то я приведу здесь все сказанное госпожой Димер слово в слово:
...
Надеюсь, господин профессор, из моих рассуждений вам стало ясно, что мне жаль западногерманский народ, который вынужден жить в таких условиях. У нас здесь лучше, хоть и говорят все время, что у нас свободы нет. Вот так, да.
3. К чему отсылает опыт. О революционной силе
Населенный пункт, в котором живет и работает Зигфрид Хоман, можно определить как «промышленную деревню». Хоман для многих здесь воплощает в себе человеческое лицо реального социализма. Жизнерадостный саксонец, коренастый, бодрый, дружелюбный и деловой, он вернулся в 1945 году с войны и по совету отца – главного местного функционера СДПГ – вступил в КПГ, чтобы при объединении партий сразу оказаться в нужной лодке {19}. Он не стал делать политической карьеры, а вернулся рабочим на крупнейшую из местных текстильных фабрик. По словам господина Хомана, это была «одна большая семья»: в коллективе было всего несколько мужчин и множество женщин, работавших в основном на дому. Во главе стоял очень дельный предприниматель, который в годы нацизма работал на вермахт и вступил в НСДАП, но в ящике письменного стола держал «Капитал» Маркса, чтобы готовиться к будущему. В лихие времена после 1945 года он сотрудничал с бургомистром-коммунистом и помогал снабжать население, предоставляя товары для меновой торговли; предприятие не прекращало работу. А в 1949 году за ту самую меновую торговлю его внезапно как спекулянта посадили в тюрьму. Едва выйдя на волю, он взял семью и самое необходимое, погрузил в грузовик и ночью уехал на Запад.
Зигфрид Хоман, который уже с 1948 года занимал на этой фабрике разные должности в профсоюзной организации, стал руководить производством под надзором доверенного управляющего {20}. И так он и остался заведующим производством, в то время как предприятие «перешло в народную собственность», неоднократно расширялось за счет присоединения к нему других маленьких текстильных фабрик, владельцы которых выходили на пенсию или уезжали на Запад. Потом с надомной работы перешли на индустриальный метод, потом автоматизировали производство, и наконец был образован комбинат, занимающий в своей отрасли монопольное положение в ГДР. Потом, в 60 лет, господин Хоман заболел и ему пришлось перейти на более скромную должность, а через четыре года ему оформили инвалидность.
...
Это скажем честно: в это надо было очень много сил вкладывать. …Теперь-то все кадры с высшим образованием, которые предприятиями руководят и все такое, – это же все кадры с высшим образованием. Мы же практически только фундамент заложили. Но интересно было очень. Но очень много вот силы стоило, и это вот мне больно было. Там приходилось вот много сил вкладывать, это просто цена практики, я же учился на этом предприятии. …Ну, умственных данных-то у меня нет, они у меня самые обыкновенные. Те кадры, что наверху были, кому я подотчетен был, это уже все были кадры с высшим образованием. Верхние – те уже все были. Только те, что внизу, да, – то были мы, старики вот. Ну вот если честно говорить, это стоило нам больше сил, потому что у нас умственных данных не было. …А когда каждый день так по 10–12 часов работаешь, а потом и домой-то не попадаешь, потому что наверху в горах зимой не пройдешь, новые станки, – я практически сам перевел с ручного станка на механический, все вручную изготавливали, и я участвовал в разработке станков с моторным приводом, они там до сих пор еще стоят. Это был первый путь, он [произвел] всю революцию, – назовем это так. Я и первые японские станки еще получал. И вот оно – это революция, которую мы, значит… Это стоит сил и времени.
Интервьюер: А больше всего что именно, как вам казалось, требовало от вас слишком большого напряжения?
З.Х.: Ну это – время. Время и силы, чтобы внедрить новую технику. Это трудно. Это очень трудно. Я все время говорю, когда я в 49-м получил предприятие, да, мне тогда от городского совета дали людей, хороших людей, которых сразу начальниками поставили, но вся производственная часть была в моих руках. Это трудно – сказать: «Эй ты, давай, снимаем вывеску прежнего хозяина и вешаем „народное предприятие“». Это-то – на час работы. Это на час работы. А вот чтоб потом с людьми там внутри разобраться и чтоб понять это, и вот это чувство – «народное», мы можем теперь брать все, что нам надо, народное же! Тут нужно было сперва сказать: «Погоди-ка, друг! Все будет по-прежнему; иначе вообще и не может быть, чем как раньше было, чье бы там ни висело имя, Мюллера или Майера, у нас теперь просто новый начальник, и он точно такой же служащий, только и ему надо тянуть ту же лямку». А потом новая техника и все такое прочее. Люди работали на том предприятии старые, некоторые – моего возраста, со мной, все мои однокашницы по школе и так далее. Тут надо было сперва сказать: «Слушай-ка, друг, так больше не пойдет. Так больше не пойдет, я ставлю новые станки». И все это стоило сил. Я там все устраивал, с ручного привода на моторный, целые комплексы станков с моторным приводом закупал, новые станки, которые и теперь еще некоторые используются, я их в Румынии закупал. Это было чудно́. Тут внизу, на станкостроительном заводе, не сумели сделать станок. Румыны этот станок выпускают. Мы это услыхали и – в Румынию, закупили. Видите, это же все сил стоит. И на людях быть, и… – все это сил стоило. Я все это вот именно в нервном плане уже не выдерживал. Таков был мой путь. Но опять-таки я говорю: это было прекрасное время. Это прекрасное время, я совершенно честно говорю, надо было нести ответственность, я это детям своим всем говорил, и они тоже все – хоть и не директора заводов, но свою ответственность и им нести приходится. Это прекрасное чувство, всякому советую. Да вот, меньшой мой – ему уже не хочется больше.
Меньшой – это младший из сыновей, поздний ребенок, которому еще нет 30. Видя, какие издержки пришлось понести поколению, строившему ГДР, он уже не может понять ни его пути, ни смысла всего этого. Для Зигфрида Хомана это был путь, на котором он одновременно и реализовывал себя, и сгорал. Путь этот не был предначертан ему заранее – скорее его толкнули на него, потому что он был одним из немногих молодых мужчин в большом трудовом коллективе на тот момент, когда прежний хозяин, не видя перспектив, оставил предприятие на произвол судьбы. Неожиданно для себя он, профсоюзный деятель, вынужден был бороться за трудовую дисциплину и опровергать ошибочное представление, будто народная собственность принадлежит каждому. Ему пришлось взять на себя ответственность за техническую и частично за организационно-коммерческую сторону работы растущего предприятия. И то, что он оказался на таком ответственном положении, – это и была первая революция, но про нее он не говорит («все как раньше» – «только другой директор»). Он говорит про вторую, индустриальную революцию, в ходе которой он шаг за шагом совершал переход от надомного труда к промышленному производству. Это техническое и организационное приключение, которое требовало от Зигфрида Хомана напряжения всех сил его разума; но одновременно оно изменяло и его отношения с бывшими однокашницами по школе, чей привычный мир домашней бедности он со своими машинами разрушал и которых он стремился убедить в преимуществах нового, индустриального образа жизни.
Он по-прежнему со всеми на «ты», и живет он среди своих бывших подчиненных, в трехкомнатной квартире в старом рабочем поселке. Он не может и не хочет отстраниться от того, что стоило ему стольких сил. Революция, которую он совершал, требовала сил, крепила силы и одновременно поглощала их. Чтобы понять, сколько сил тут потрачено, достаточно обратить внимание на то, сколько раз повторяется этот лейтмотив в рассказе Зигфрида Хомана, представляющем собой резюме жизненного опыта поколения строителей социализма. Этот опыт давал ему «прекрасное чувство», и больше такое не повторится: теперь все эти функции централизованы, специализированы, выполняются профессионалами, и почувствовать вкус ответственности все труднее и труднее. Молодые уже понимают, что это «прекрасное чувство» им, в отличие от старшего поколения, пережить уже более не придется, и потому боятся так вкладывать свои силы, как когда-то их отцы. Потому-то и нельзя отпускать на пенсию старых бойцов, для которых прогресс есть еще нечто само собой разумеющееся и которые еще могут разговаривать с рабочими у станка, потому что у них есть общий опыт.
...
Я давно уже уйти хотел. «Ах, Зигфрид, давай еще, вот тебе еще человека дадим, оставайся, ты нам нужен как специалист» – так ведь было. Это уже очень много сил стоило. Это так меня…, что у меня в 64-м уже первый [инфаркт] был.
4. Попутное замечание
Первые два примера показывали семантические операции над текстами опыта и рефлексии. Источником импульса было раздражение – не от мелких ляпсусов, а от непонимания интерпретатором того, что говорили интервьюируемые, в то время как слова их явно были тщательно сформулированным изложением их опыта. Это было раздражение от непривычных связей между понятиями. Под воздействием этого импульса нужно было расшифровать латентный смысл текста, его формальные сигналы и отсылки, основываясь на информации, содержащейся в тексте интервью в целом, и на познаниях, полученных из иных источников. Принципиальный вопрос можно сформулировать так: «Сколько (пред-) истории требуется тексту, чтобы он мог донести свое послание?» Далее же процесс интерпретации будет двигаться в противоположном направлении, т. е. нас будут интересовать нарративные молекулы воспоминания, которые становятся видны в биографических историях всякий раз, когда речь идет об опыте встречи с новым или об аффективно нагруженных переживаниях. Вполне понятно, что рассказ о них, как правило, ведется в жанре сценки или исторического анекдота (в формальном смысле «анекдота» как краткого занимательного рассказа; смешного там обычно мало), ведь это были впечатления, вышедшие за рамки ожидаемого, и потому они запомнились именно в виде событий, а не были сразу сведены к привычным понятиям, что заставило бы забыть подробности. Эти сцены – узлы или развилки на путях памяти – можно раз за разом пересказывать в качестве историй, и если опыт был травматичным, то человек волей-неволей все время их в таком виде вспоминает и рассказывает.
Поэтому подобные истории в большинстве своем относятся к сфере личного, а порой даже в преломленной форме приходят из сферы интимного опыта. Они – базовая скальная порода воспоминаний, они не столько подвержены смыслонаделяющей переработке в памяти, сколько сами, предшествуя ей, ее структурируют. Так что принцип интерпретации здесь нужно развернуть на 180 градусов и задаваться вопросом: «Сколько истории (т. е. исторических условий и исторических смыслов) имплицитно заложено в таком рассказе из частной жизни?» {21}
В следующем примере биографический аспект вводится в ситуацию, когда партнеры в паре исходно стоят на диаметрально противоположных позициях. Здесь оба принципа интерпретации – вопрос «сколько предыстории нужно нам для понимания?» и вопрос «сколько истории имплицировано в рассказе?» – переплетаются друг с другом, чтобы дать нам отправную точку для проверки групповой специфики.
5. По следам памяти: испытания чувств
Большинство наших респондентов не только помнили основные даты своей жизни, но и рассказывали о ней особым образом, членя на отдельные тематические разделы и переходя последовательно от одной графы к другой. Зиглинда Эргер рассказывает иначе. Она начинает со смерти своего супруга (ей было тогда 23 года) и рождения дочери, потом упоминает про своего зятя и внуков, потом говорит о тех трех квартирах, которые она сменила за свою жизнь (в первой, родительской, она прожила 41 год), описывает свои нынешние, стесненные, но для нее приятные бытовые условия и затем говорит о том, что семь раз лежала в нервной клинике: «Шизофрения у меня была» {22}. От этого она переходит к рассказу о том, как в 48 лет получила профессиональное образование по специальности «сбыт и снабжение на промышленных предприятиях»: было трудно, но в финансовом отношении окупилось. Заканчивает она рассказ о своем жизненном пути досрочным выходом на пенсию в 59 лет в связи с тем, что к нервной болезни добавились сердечно-сосудистые нарушения и ревматизм. Потом она рассказывает еще про брата, который на Западе, и заключает словами, что живет она в ГДР потому, что на Западе ей все кажется слишком неопределенно, опасно и дорого. После этого она спрашивает: «Что еще рассказывать?» У меня вопросов много, и в ходе довольно долгого разговора выясняется, что госпожа Эргер помнит даты и собственной биографии, и своих родственников, и еще много чего; но гораздо более важными, чем традиционный порядок их изложения, являются для нее травматичные стечения событий, обстоятельства, в которых ее индивидуальные жизненные перспективы были захвачены, перенаправлены и сужены внешними силами.
В наиболее ярких случаях эти поворотные точки и условия, которые делают их понятными, сплетаются в сцены. Иными словами, история жизни Зиглинды Эргер соединяется с общей историей, и это позволяет четче увидеть, как последствия войны становились частью опыта индивида. Потеряв на войне мужа, вдова погружается в повседневные дела в кругу семьи и коллег, и ей удается заглушить боль травмы, но не преодолеть ее, и в кризисные моменты травма снова прорывается наружу в виде временных помрачений рассудка, обрекая женщину на одиночество и привязывая ее к клинике. Возможно, играла свою роль и предрасположенность {23}, но ведь задатки не всегда развиваются в болезнь; мы здесь будем говорить об общественной составляющей страданий этой женщины.
Во время мирового экономического кризиса семья Зиглинды, где важнейшими ценностями были приличия и уважение окружающих, перенесла серию тяжелых потрясений. Отец – возчик, из социал-демократов, – остался без работы и до 1938 года не мог найти постоянного заработка. Мать – женщина строгая и религиозная – пыталась прокормить семью из пяти человек, беря работу на дом. Одному из сыновей сумели даже оплатить учебу на ремесленника, второй без образования пошел в СС, а Зиглинде прямо со школьной скамьи пришлось идти работать на фабрику. Поначалу, правда, ее брали только на временную работу, несколько раз она оставалась вообще без заработка. Незадолго до войны все снова устроилось: отец нашел работу, брат смог перейти из СС в вермахт, а Зиглинда попала в контору большого завода, там обучилась стенографии и машинописи и влюбилась в одного конструктора, на 11 лет старше себя. Он из слесарей дорос до инженера, на военную службу его до 1943 года не призывали. Человек он был спортивный, деятельный и из левых, как и ее отец; они ходили с ним в байдарочные походы.
...
Я была беременна, и мы пожениться хотели на Рождество 43-го года. Но тут пришло письмо, что он не сможет приехать, потому что ему надо на фронт. …Все бумаги для оформления брака-то у него уж на руках были к Рождеству. А 9 января 1944 года командир роты написал, что он погиб в Италии в автомобильной катастрофе. И тут мне пришло извещение, и бумаги на заключение брака были тоже у меня, и тогда 18 мая 1944 года я здесь в ратуше обручилась – с саблей и каской… они лежали на столе у чиновника… чтобы дочь моя была рождена в браке. И чтоб вдовью пенсию мне тоже получать. …Вы себе этого и представить не можете. Нас вызвали. Мы были все одеты в черное. Я была в положении, была на восьмом месяце… и прямо все как обычное бракосочетание. Потом мы только дома у меня посидели. Празднованием-то это не назовешь. Так печально было. У меня были здоровые, удачные роды. Моя дочка родилась здоровая и была у сестер в клинике любимицей. А на другой же день мне пришлось спускаться в подвал – сирены завыли. А через день нас переправили в A., всех нас – рожениц, чтобы от самолетов, значит [увезти]. И там вот у меня начался послеродовой психоз.
Ребенка оставили у матери Зиглинды, а саму ее отвезли в клинику и лечили электрошоком. От страха она выздоровела.
...
Я всякий раз страшно этого боялась. Я всякий раз думала, ну все, со мной покончено. Дыхание перехватывает, в голове у тебя все кружится, все у тебя наэлектризовывается, а потом вставляют тебе в рот резиновый кляп. А потом спишь часа два-три, и потом тебе хорошо. Но перед этим все равно ужасно страшно. И так 12 раз. Снова такое не хотела бы пережить.
Крушение чувств и надежд повергло ее в оцепенение, а когда она начала выходить из него, то очутилась в послевоенном обществе крупного города в советской оккупационной зоне, где на двух мужчин приходилось по три женщины. Но складыванию новых отношений с противоположным полом мешало не только это: были и внутренние препятствия:
...
У меня с мужчинами ничего не получалось. Я просто не могла больше. Мужа своего все время перед собой видела. Просто не могла от этого избавиться. …У меня и когда я извещение читала, [слез] не было – не могла ни одной [слезинки] пролить, потому что в толк взять не могла вообще, что он не вернется. Это все так постепенно пришло, что я одна. И я привыкла к тому, что я одна. Да мне и не хотелось ничего заново, т. е. так, поклонники были, но они все меня как-то разочаровывали. Не знаю. Либо разведенные были, либо женатые, либо характер был не особо хороший, а я все время их сравнивала.
Зиглинда Эргер жила с дочерью в квартире своих родителей, состоявшей из двух с половиной комнат. Пока получала пенсию за погибшего мужа, могла уделять свое время ребенку. Мужчины исчезли: отец умер в конце войны, братья вернулись из плена только через несколько лет, устроились на работу, женились и уехали. Один переселился на другой конец города, другой никак не мог выпутаться из поспешно заключенного брака и сбежал в одиночку на Запад – такой «развод по-немецки». Возврата быть не могло: членство в СС, неуплата алиментов, побег из страны – все это делало визит на родину слишком рискованным.
В доме остались одни женщины. Жить стало трудно, когда в 1950 году правительство ГДР прекратило оказывать поддержку «переселенцам» [22] и солдатским вдовам, чтобы заставить их работать на благо строительства социализма. И госпожа Эргер снова пошла работать. С ребенком поначалу сидела мать, но и той приходилось делать все больше надомной работы, поэтому Зиглинде пришлось искать няню и другое место работы – поближе к дому. Она устроилась в контору фабрики крепежных изделий. О климате, царившем там, у нее сохранились самые лучшие воспоминания, но сама работа и условия труда были адские:
...
На крепежной фабрике мне нравилось, только шум там! Это было в [цеху] наверху, внизу под нами грохотали станки, а мне надо было писать с [утра] до вечера – цифры. Свежего воздуха не было у нас. …Десять лет так. Счета писала, цифры с утра до вечера. Цифры, цифры… Мне очень нравилось, просто нервы уже не выдержали у меня, в нервную клинику попала.
Это был второй приступ, через 20 лет после первого. Кроме шума и цифр тут было и стечение нескольких других обстоятельств: в тот год у Зиглинды ушла из дома и вышла замуж дочь и умерла мать. Посреди климактерического периода госпожа Эргер осталась вдруг совершенно одна. Работа с цифрами стала невыносимой, и она начала повышать квалификацию, чтобы найти работу получше. Чтобы сдать экзамены на диплом специалиста по сбыту и снабжению на промышленных предприятиях, нужно было каждый вечер ходить на курсы.
От этого приступа она так уже никогда до конца и не оправилась. В клинике были тишина и покой, с нею приветливо разговаривали и хорошо обращались, давали психотропные препараты. Потом она нашла себе новую квартиру, чтобы уйти от своих воспоминаний, и, восстановившись на курсах, сумела сдать квалификационный экзамен, после чего получила более хорошую работу в финансовом отделе другой фирмы. Но в ее жизненной ситуации ничего не поменялось, в новой квартире оказалось шумно, а на новой работе был ужасный климат в коллективе.
...
Омерзительное руководство, отвратительные начальники, они нехорошие были. Эти четырнадцать лет мне совсем не нравилось. …Это ж все были настоящие финансовики, знаете, своеобразные люди. Командовать любили. И прямо жажда повелевать у них была. И трое такие были у меня начальниками. Это было страшное дело. Это мне тоже нервов стоило.
Теперь приступы у Зиглинды Эргер случались каждые два-три года, после них она некоторое время вынуждена была проводить в клинике, и там ей было хорошо. Но это была не вся ее жизнь: она поддерживала отношения с семьей дочери, а теперь еще и путешествовала, чтобы спастись от одиночества. Самая прекрасная поездка была в Советский Союз – единственное ее путешествие на самолете. Она вспоминает достопримечательности, походы по магазинам и людей – «они там такие дружелюбные, такие предупредительные. Мы так поражены были», – и это воспоминание возвращает ее к опыту повседневной жизни в ее родном городе:
...
Такие замороченные… лица у всех такие загнанные, только работа, работа, работа и деньги, деньги, деньги. Как хомяки – лишь бы всего набрать… Один раз в год ярмарка, праздник прессы, а так у нас в городе тишина. По вечерам на улице ни души. Все по домам сидят, перед ящиком. Никого.
После выхода на пенсию ей разрешили поехать и на Запад – навестить любимого брата, с которым она не виделась 25 лет [23] . Мечта снова обернулась травмой. Темп жизни, неуверенность в завтрашнем дне и меркантилизм Запада оказались для Зиглинды слишком большим испытанием, да еще добавилось волнение от встречи с братом, и на другой же день после приезда у нее случился приступ. Брат отвез ее в клинику, там все было чужое, медсестры не были с ней так приветливы, как дома, а на ночь ее пристегивали ремнями к койке. И теперь никакие соблазны магазинного изобилия этот опыт не перевешивают. Своего брата госпожа Эргер, конечно, хотела бы повидать еще раз, но дорога на поезде теперь уже кажется ей слишком дальней. «Я ему написала: нам придется смириться с тем, что мы никогда больше не увидимся».
Те факторы, которые сказывались в жизненных кризисах Зиглинды Эргер, каждый по отдельности не были редкостью для судеб солдатских вдов, но их сочетание оказалось для нее невыносимым: свадьба со смертью ради сохранения чести и прав на материальное обеспечение; кризис одиночества на невыносимом месте работы, откуда можно было уйти только ценой усилий по повышению квалификации в зрелом уже возрасте. Семейной поддержки хватало для того, чтобы справляться с последствиями войны в практическом плане, а вот в душевном – нет. Помогали социальные учреждения – клиники и клуб пенсионеров, в котором давали дешевые обеды. Но возможностей выйти на какие-то другие жизненные перспективы и сломать фиксацию на травматическом опыте не оказалось: мешали и соотношение полов в ее возрастной группе, и политическое положение.
...
Я не так уж этим и интересовалась. Я думала – не будет этого, не будет никакого единения, и так все время, и тогда уже и интереса-то больше никакого не было иногда про это слушать, потому что все равно только все про мир да про мир говорят, что мир они хотят установить. И ничего не делается.
В ее случае скорее можно было бы подумать о церкви – ведь она, как и ее мать, очень религиозна. Она читает Библию, она молится о мире и здоровье, смотрит богослужения по телевизору. Но с церковью как социальной общностью она порвала: во время голода пришел сборщик церковного налога, увидал булочку у них на кухонном столе и сказал: «На белый хлеб у вас деньги есть, а для Бога нет». Тогда они с матерью выставили его за дверь и подали заявления о выходе из церкви.
6. Формирование и границы идентичности: вечный раскол
«А полегче ничего спросить не можете?» – отвечают супруги Каррер, когда я интересуюсь, как это их угораздило пожениться в феврале 1945 года. Оба они родом из саксонских рабочих семей, познакомились в армии: госпожа Каррер, которой было тогда 22 года, уже была офицером в береговой вспомогательной части военно-морского флота, а господин Каррер, на три года моложе ее, был еще обер-ефрейтором в войсках ПВО. В первый же вечер знакомства им показалось, что они уже всю жизнь были вместе. И это внутреннее единство они и по сей день противопоставляют тяготам внешнего мера, в которых есть одновременно и нечто реальное, и нечто фиктивное.
Госпожа Каррер – дочь коммунистов. В 1933 году ее отец – старший мастер на бумагоделательной фабрике – собственноручно купил 12-летней дочери униформу Союза немецких девушек: ей нравилось, что там ходят в походы и поют, а отец надеялся, что эта дань режиму замаскирует коммунистически настроенную семью. Но потом его все же арестовали – за листовку; через некоторое время, правда, выпустили. После нападения на Францию его забрали в армию. Дочь работала в конторе той же фабрики. Был произведен обмен: за то, что дочь пошла добровольно в береговой вспомогательный отряд флота, предприятие обеспечило отцу бронь как незаменимому работнику. Оба старались, каждый на своем месте: девушка быстро дослужилась до командирской должности, отец спас все важные станки своего завода и во время войны, и во время оккупации. То, что потом они были демонтированы и вывезены в Советский Союз, стало для него, старого коммуниста, тяжелым шоком. Впрочем, он и во многом другом не мог сжиться с новыми политическими условиями. Как члена компартии с 1921 года, его хотели сделать то директором, то бургомистром города в Мекленбурге, но он все эти предложения отверг и остался у себя на фабрике, не вступил даже в СЕПГ. «Не думали мы, – говорил он, – что будет так, как сейчас: мы думали, будет иначе чем в Третьем рейхе, прежде всего – что больше будет свободы…» Потом, в 1950-х годах, добавились личные проблемы, и в один прекрасный день отец бросил в механизм станка молоток, а когда его собрались привлекать за диверсию, покончил с собой.
В рассказе дочери слишком много пробелов, чтобы можно было составить настоящее представление об облике ее отца. Но этого рассказа достаточно, чтобы понять, почему складывающаяся социалистическая действительность для нее является чем-то само собой разумеющимся, а она тем не менее не принимает в ней активного участия.
У Макса Каррера отец тоже лишился жизни по причинам, имеющим какое-то неясное отношение к политике. Он был из семьи социал-демократов, но единственный из всей своей родни он был за Гитлера даже еще до того, как тот пришел к власти. Дело в том, что Каррер-старший был инвалидом Первой мировой войны: под Верденом его засыпало после взрыва, и он вернулся домой с тяжелым нервным заболеванием, из-за которого в последующие годы постепенно утратил трудоспособность, не смог больше работать каменщиком и вынужден был жить на инвалидскую пенсию. А за пенсии для инвалидов войны активнее всех выступал именно фюрер национал-социалистов. И в Третьем рейхе пенсии были – по рабочим меркам – в самом деле такие хорошие, что семья смогла даже построить себе дом, чтобы отец, которому становилось все труднее двигаться, хотя бы мог смотреть на зелень.
Единственному сыну в семье было неуютно. После того как он ребенком пострадал при падении с велосипеда, мать, боясь после мужа потерять еще и сына, более ни на минуту не спускала с него глаз. Едва появился благовидный предлог, чтобы вырваться из-под этой удушающей опеки, юноша сбежал: уважительной причиной стало членство в гитлерюгенде. Там ему все очень нравилось, «потому что у матери мне было тесно, а там я вырвался, у меня там была свобода». В отличие от большинства других мальчиков из рабочих семей, Макс остался активным членом организации и после того, как, закончив школу, поступил в лучшую на тот момент учебно-механическую мастерскую во всей округе. Когда его призвали на «трудовую повинность», для него это было «как когда птицу из клетки выпускают», и в армии ему тоже было хорошо. От Третьего рейха Макс был в восторге, хотя его и озадачивало, что дедушка, социал-демократ, с которого он всегда брал пример, не скрывал своего сдержанного отношения к нацистам. Впоследствии Максу довелось также услышать, что одна из сестер его отца все эти годы прятала у себя в доме учителя-коммуниста.
Уже когда Макс был в армии, отца внезапно увезли в клинику, а матери потом кратко сообщили, что он скоропостижно скончался. Доказательств нет, но все полагают, что он как инвалид стал жертвой эвтаназии.
В последний год войны вера невесты Макса в победу нацизма и тысячелетний рейх рухнула. Ей пришлось признаться девушкам, которыми она командовала, что она и сама не знает, ради чего творится все это безумие. Обер-ефрейтор Каррер в это время со своей зениткой оборонял от бомбардировщиков один портовый город, где все корабли в гавани давно были потоплены, а все здания сравнены с землей. После одного такого авианалета молодые люди ехали вместе на трамвае и внезапно, по наитию, без всякого обоснования, решили пожениться. Им даже дали еще отпуск, чтобы отметить бракосочетание дома, у отца-коммуниста, и вернулись они в свои части как раз вовремя, чтобы быть взятыми в плен.
Но там на севере, в Шлезвиге-Гольштейне, плен был недолгим. В лагере оказался представитель той фирмы, где Макс проходил обучение: теперь он был британским офицером и предложил господину Карреру эмигрировать в Англию, обещал ему там место техника. Но жена затосковала по дому, и Макс отказался от предложения. Он нашел себе работу там же, на севере Германии, однако госпожа Каррер в конце концов уговорила его съездить на две недели домой. Они ехали товарными поездами, и когда на вокзале в Готе увидели первых русских, которые устроили пьяный дебош из-за того, что им пришлось ехать на паровозе, Макс захотел повернуть обратно, но слезы жены заставили его смягчиться. В конце концов «как это и бывает: там все в руинах, у нас все в руинах, а тут родина, значит тут и останемся».
И снова сыграли свою роль старые заводские связи: Макса Каррера, бывшего активиста нацистской молодежной организации и обер-ефрейтора, один не в меру ретивый сотрудник в ратуше назвал «военным преступником», однако мастер с его прежнего завода, который теперь как антифашист занимал должность в ведомстве трудоустройства, спас его от урановых рудников и послал в тихую гавань – маленькое частное предприятие с дюжиной работников. Господин Каррер, со своим сданным экзаменом на подмастерье, вскоре сделался чем-то вроде старшего мастера и проработал там 24 года.
Социал-демократы и коммунисты уже в 1945 году призывали его вступать в партию, однако с политикой он решил больше не связываться. Да и не нравилась ему тамошняя политика, особенно та, которую проводили новообращенные, или «тоже антифашисты» (так он называет их в противоположность вернувшимся из концлагерей коммунистам, у которых образ мыслей был, по его словам, совершенно другой, конструктивный).
Госпожа Каррер только теперь, оглядываясь назад, понимает: то, чем она восхищалась в юности, было лишь манящей оберткой, за которой скрывалось совсем другое содержание. Теперь ей ясно, что ее отец, который по идее должен был бы стоять на стороне победителей, не мог смириться с новой жизнью потому, что она слишком напоминала ему прежнюю.
У супругов родились двое детей, и госпожа Каррер поначалу сосредоточилась на семье и обеспечении ее. Брала работу на дом. Потом получила специальность и стала работать в торговле. В 1950-е годы был куплен мотоцикл с коляской, они стали совершать поездки, в которых заводили новых друзей. Воспоминания о 1950–1960-х годах у супругов Каррер хорошие: «Дела шли в гору». Снабжение было лучше и дешевле, чем сегодня, была рабочая сила, не так много шло на экспорт. Но самое важное, по мнению господина Каррера, было то, что еще имелись старые, денацифицированные специалисты, которые знали хозяйство «как свои пять пальцев», и политики еще вмешивались в ход событий на местах: Горбачев напоминает ему Вальтера Ульбрихта, который тогда, в 1950-х годах, тоже без предупреждения наведывался в провинциальные промышленные районы и выводил на чистую воду коррумпированных функционеров.
Маленькое частное предприятие, где работал господин Каррер, находило для себя ниши на рынке и лазейки в бюрократических правилах. Производили они зажигалки, и Макс Каррер изобрел новую модель, которая выглядела «как западная». Никто их не трогал, потому что работали они хорошо и вели себя тихо. Они даже могли себе позволить такую вольность как поиздеваться над профсоюзным кассиром, который приехал собирать взносы и вынужден был не солоно хлебавши убраться восвояси. Но соблазн сделать карьеру стал даже для Макса искушением, когда СЕПГ однажды прислала к ним на предприятие агитатора потолковее.
...
Это был агитатор, и что-то в нем такое было – он умел объяснить, что такое на самом деле социализм и как все это происходит. И тогда мы подумали: «Ну что ж, звучит очень даже неплохо». И поскольку нас, наше малое предприятие это, никто вообще не трогал, мы продавали эти наши штуки, и под конец сами даже поверили, что это что-то хорошее могло быть. Но потом я сказал: «Все, мне надоело, меня засасывает, а этого я не хочу». Я был против с первого дня.
Этот отказ был своего рода проявлением верности Макса Каррера своему опыту, который научил его, что политика может «увлечь и разочаровать». Основой для него было не иное убеждение, а пассивное сопротивление, при котором человек многое как бы по привычке принимает, покуда это не затрагивает его лично. «Полицейское государство у нас было. И мы его уважали, в том смысле, что никто практически уже ни слова против всего этого не говорил официально». А в другой момент он добавляет, что их поколение никогда не видело никакой демократии: до Гитлера они еще были совсем детьми, а потом ее и не было.
В конце интервью мы разговариваем о средствах массовой информации, о социальном прогрессе и о пропасти между поколениями. В отличие от своей жены, которая предпочитает читать газеты и раздражаться по поводу того, что в них пишут, господин Каррер читает только объявления о смерти. Но каждый вечер они вдвоем смотрят новости по западному телевидению. «Мы живем в постоянном расколе». Для западного человека, слушающего поверхностно, смысл этих слов кажется ясен: сами Карреры сидят на Востоке, а головы у них – на Западе. Но на самом деле их раскол не совсем таков. Самым худшим в публичной сфере ГДР они считают то, что их постоянно обманывают: ведь если бы о реальных недостатках говорили честно, можно было бы активно заниматься их изживанием.
Западному телевидению господин Каррер верит больше, но оно постоянно напоминает ему о том, как во время войны он – в то время нацист – на своей зенитной позиции тайком слушал вражеское (британское) радио. «Одни говорят направо, другие налево, а дорожка посередке». Снова звучит слово «раскол»: теперь, когда они на пенсии, супруги подумывают, конечно, о том, чтобы посмотреть на Запад своими глазами, и уверены, что вернулись бы потом обратно, но господин Каррер колеблется, потому что не хочет, чтобы из-за этой поездки они «оказались в расколе»: ему достаточно и того напряжения, которое порождают в его голове разные картинки на телеэкране. Возможно, он опасается, что потеряет ту дорожку, что посередке. Обоим супругам по-прежнему дорога цель воссоединения Германии, но в то, что оно произойдет на их веку, они уже давно не верят. Они просто считают, что это «неестественно: мы же все немцы, мы говорим на одном и том же языке, мы чувствуем одинаково». Так ли?
Господин Каррер критикует пустые слова, затмевающие реальность социализма, волокиту, упадок трудовой морали, а также руководителей, которые измельчали и не имеют ни практического опыта, ни авторитета. Такого, считает он, при частной собственности быть не может. Но и у частной экономики – две стороны, и об этом у живущих душа в душу супругов Карреров было больше споров, чем о чем бы то ни было еще. Макс стоит на точке зрения начальства: он тоже считает, что у молодежи теперь нет трудовой этики, что социальная политика заходит слишком далеко и ограничивает возможности предприятий по увеличению производительности труда. Он подробно расписывает мне проблемы, с которыми сталкивается руководство предприятий, а госпожа Каррер то и дело вступает в разговор и говорит о том, как приятно, что можно самому распределить свое рабочее время, что начальники должны к тебе прислушиваться и что женщинам полагается год отпуска после родов. Одним словом, они поют мне дуэт о социальном партнерстве в народной индустрии. А у этого дуэта – тоже своя предыстория.
В 1971 году, когда кончилась эпоха Ульбрихта и начался период социально-политических улучшений, в семье Карреров тоже произошел большой кризис, который все изменил. Дело в том, что господин Каррер сгорел на своей тихой работе. Под конец он, охваченный технологическим энтузиазмом, попытался практически на голом месте изобрести автомат для изготовления зажигалок. Днем он руководил производством на фабрике, а по ночам одолевал специальную литературу, писал патентные заявки и конструировал свой аппарат. Кончилось все крупным нервным срывом, ему на полгода пришлось лечь в клинику, и врачи сказали, что работать ему теперь можно только там, где не надо думать. Это было самое тяжелое время в его жизни, главным содержанием которой прежде были работа и техника. За время отсутствия мужа госпоже Каррер наконец удалось продать дом его родителей: он был поделен на две части и семья, снимавшая одну из них, требовала сделать там такой ремонт, какого Карреры не могли уже оплатить. Вырученных денег как раз хватило на новенький «Трабант». Теперь Карреры поселились в квартире в многоэтажке и освободились от экономических проблем, связанных с домовладением. Когда Макс вышел из больницы, все советовали ему переходить на работу на какое-нибудь народное предприятие. Он стал снова простым рабочим, однако зарабатывал теперь в полтора раза больше, чем прежде. Жена пошла вместе с ним на фабрику – следить, чтобы он не надорвался снова. Ради этого она оставила свою руководящую работу в торговле.
Все, естественно, вышло по-другому, потому что только работа господина Каррера и вылечивала. На завод привезли новые японские автоматы, в которых никто ничего не понимал, а ему захотелось разобраться. Без отрыва от производства он овладел специальностью «техник текстильного производства», через три года его ввели в состав руководства завода партгрупоргом, а еще через пять лет он стал заместителем директора по технической части. Жена продолжала работать в цеху у станка. Нервы у господина Каррера были теперь в хорошей форме, но стало пошаливать сердце, и пришлось постепенно сокращать работу. Незадолго до пенсионного возраста (Макс, разумеется, хотел продолжать работать) все было кончено, врач настоял на окончательном переводе на инвалидность. Госпожа Каррер после пенсии сначала еще немного поработала – это можно было, – но потом и она ушла с работы. Ей пенсионерская жизнь пришлась вполне по душе, а вот ее муж воспринял освобождение от прежних обязанностей как приговор: «Мне теперь нужно это выдержать».
В народной экономике Макс Каррер критикует многое – и то, что она не народная, а партийная, и то, что с перебоями идут поставки от смежников, и то, что комбинат не способен быстро реагировать на изменения конъюнктуры, и то, что бытовое снабжение плохое. Но главное – он не может понять молодое поколение, у которого уже нет никакого настроя на работу, оно не считает, что труд – это «моральный долг по отношению к государству, мы живем, чтобы работать». И это при том, что их государство их всем обеспечивает, а это несправедливо по сравнению с маленькими пенсиями стариков: «Ведь это же мы вытащили все на своих плечах».
Я опять чего-то не понимаю и переспрашиваю: как же это получается, что «человек работает для государства», когда это государство ему вовсе не нравится? Ответ таков:
...
Ну, это просто-напросто чувство долга, оно зовет вперед. Мы же должны работать; если никто работать не будет, то не будет же ничего. Тут я должен повторить то, что здесь всегда говорят: как мы сегодня работаем, так мы завтра будем жить. И для меня работа была потребностью. Нам же надо было снова подниматься. Нам же надо было выбираться. Какая была бы нам польза, если бы мы сидели сложа руки и ничего бы не делали? Я бы при любом строе работал.
Интервьюер: А это вообще как-то связано со строем или дело только в вас, – что Вы любите работать?
М.К.: Я работать люблю. Работать люблю. И было так – кто в самом деле видел [тот помнит]: того не было, этого не было, то было плохо, это было плохо. Мне просто радость доставляло – производить сразу такую зажигалку, за которую не стыдно было и которую люди хорошо принимали. Это было удовлетворение, что дело вперед двигалось. И я же говорю: да, дело двигалось вперед.
7. Второе попутное замечание
Одна фраза, один текст, два жизненных кризиса, силуэт двойной биографии: первое знакомство, первые попытки понять опыт поколения, строившего ГДР, – тех, кому в конце войны было от 20 до 30, а в год возведения Берлинской стены от 35 до 45 лет. Один функционер-антифашист поясняет, что партия и сформировала его, и связала; женщина – политик заводского масштаба – рассказывает о наследии политического реализма среди новообращенных; квалифицированный рабочий, поднявшийся до предпринимателя, вещает о революционной силе, растраченной в ходе индустриализации; солдатская вдова описывает свою лишенную выбора жизнь с ее испытаниями и опорой в быту; аполитичная супружеская чета репрезентирует политическую закалку и демонстрирует тот запас авторитаризма и второстепенных добродетелей [24] , который ГДР унаследовала от Третьего рейха и который смягчал в ней конфликты и обеспечил львиную долю всех ее достижений в строительстве социализма. Эти три женщины и трое мужчин могли бы представлять собой взаимно-дополнительные основные типы первого поколения работников народной индустрии, но в индивидуальности своего опыта и его выражения они, конечно, такими типами не являются. И я отбирал эти примеры именно по такому критерию: насколько они позволяли через воспоминания об экстремальном опыте подобраться к более или менее типичным процессам? Ведь в чрезвычайных ситуациях, на переломе, становятся видны структуры нормального, обычно не заявляющие о себе. Это касается прежде всего той трещины, которая по самым разным причинам проходит через идентичность всех шестерых кратко представленных героев. Может быть, она вызвана теми констелляциями конфликтов, которые довелось пережить этим людям? Или же она отражает более общие структуры жизненного опыта в ГДР, только в заостренной форме?
Для обобщений нужно было бы сравнить эти биографии с историями других людей, попавших в схожие обстоятельства, но в рамках настоящей статьи это невозможно, для этого потребовалась бы целая книга. А между тем, лишь так можно было бы создать прочно обоснованную типологию.
Кроме этого, следовало бы обратить внимание на связующие элементы между типами, в которых проявляется своеобразие поколений и условий. И тут некоторые наблюдения на основе наших шести случаев можно сделать.
Все эти люди – из рабочих семей, на политические взгляды всех шестерых оказали в детстве влияние родительские семьи, а в юности – собственный опыт. Только мужчины смогли в молодости получить профессиональное образование. Годы фашизма и войны наложили на всех неизгладимый отпечаток: господин Хабер пережил длительное заключение за свою коммунистическую деятельность, госпожа Димер прошла через вживание в атмосферу сдержанного оппортунизма, господин Хоман пережил маргинализацию своего отца – социал-демократа – и три ранения на фронте, госпожа Эргер лишь с опозданием познала стабильную жизнь, которая потом рухнула с утратой спутника жизни и травматичными родами; у обоих супругов Карреров отцы стали жертвами своих идеалов, а сами они в юности пережили крушение абсурдной фиктивности своей детской политизации и спаслись от сумасшествия или суицида за счет ухода в частную жизнь, где стали растрачивать ту работоспособность, которая была в них пробуждена имперской трудовой повинностью и службой в армии.
Все они повысили в ГДР свой статус и квалификацию, особенно мужчины, в то время как женщины приобрели то профессиональное образование, которое было им недоступно в молодости. Главным фактором, обусловившим эту социальную мобильность людей из рабочей среды, только в исключительных случаях была политическая активность. Она повлияла скорее на ритм их продвижения: у господина Хабера, коммуниста с давним стажем, подъем начался сразу после освобождения. У госпожи Димер и политическая активность, и статус повысились в годы холодной войны. Господин Хоман – член СЕПГ с социал-демократическим прошлым и без партийных постов – в начале 1950-х годов по политическим причинам оказался на управленческих, но все же технических должностях, а трудолюбие Макса Каррера – опоры государства и врага режима в одном лице – было инвестировано уже в 1950-е годы, но вознаграждено формальным повышением статуса только в 1970-е.
Всем шестерым ведомы и более или менее значительные понижения статуса. У троих они произошли из-за душевного и/или телесного истощения, тесно связанного с перегрузками в профессиональной сфере; у двоих – из-за политики; у одной – оттого, что она хотела, перестав быть освобожденным парторгом, выполнять и дальше на заводе свои задачи по политической работе с людьми; еще у одной – потому, что она ушла со своей сравнительно высокой должности ради заботы о муже. Кстати, во всех этих случаях мы наблюдаем в послевоенные годы – порой на протяжении длительного времени – взаимную заботу и поддержку в рамках семей, состоящих из трех поколений, обитающих совместно в слишком тесных для них квартирах.
Подобные наблюдения направляют наше внимание на такие факторы, как влияние среды на политическое мировоззрение, социальная мобильность, семья и болезнь; их можно свести в признаки и соответствующие данные из большого числа интервью подвергнуть статистической обработке для получения наглядной картины. Конечно, когда мы говорим о группах более или менее сопоставимых случаев, мы не претендуем на репрезентативность этих количественных данных ни для одного региона, ни тем более для всей ГДР. Нас скорее интересуют имманентные количественные соотношения, на основе которых отдельные случаи могут быть отнесены к той или иной группе и можно контролировать выводы, сделанные на основе сравнений. Это – метод формирования насыщенных эвристических типов. Он будет ниже вкратце продемонстрирован на 36-ти биографиях из района нашего исследования, которые по признаку «профессия отца интервьюируемого» делятся на три равновеликие группы: люди из среды мелкой буржуазии (в том числе четыре женщины), сыновья рабочих и дочери рабочих {24}.
Из-за того, что в расчет принимаются и обработанные данные из других источников, такая процедура количественного образования признаков может претендовать лишь на ограниченную точность измерения. Она может применяться к двум весьма различным сферам, как будет показано на примерах в двух нижеследующих параграфах: с одной стороны, это этнографический или социографический аспект истории повседневности, т. е. сведения о материальных условиях жизни или о структурах семей в определенные моменты времени. С другой стороны, это количественные признаки биографий возрастных когорт, т. е. попытка продемонстрировать диахронную динамику жизни в группах через биографические индикаторы.
8. Быт как опора и как обуза: переплетения отношений и распределение собственности
Поскольку повседневная жизненная практика в значительной мере состоит из досознательных рутинных действий, она не фигурирует в активной памяти индивида. Но те обстоятельства и действия, которые человек наблюдал сравнительно долго: жилищные условия, состав семьи, рабочие операции, – сохраняются в памяти в латентном виде, и человек по требованию может с большой точностью вспоминать и описывать их. Таким требованием может послужить вопрос, касающийся соответствующих фактических данных, но зачастую эта латентная память о повседневности используется как своего рода склад реквизита для создания сцен в нагруженных чувствами и смыслом рассказах-воспоминаниях. Точность таких воспоминаний в ситуации интервью основана прежде всего на том, что высказывания по поводу бытовых деталей обычно не связаны очевидным образом со смысловыми и ценностными аспектами высказывания. Однако, поскольку это данные, которые могут меняться со временем, приходилось бы во время интервью чрезмерно утруждать респондента неоднократными просьбами вспомнить, например, все семь квартир, в которых он жил. Некоторые интервьюируемые раздраженно реагировали на такие «бессмысленные» вопросы, даже когда их задавали им в первый раз. Поэтому у нас в распоряжении всегда имеется лишь некоторое выборочное количество подобных сведений, полученных в ответ на вопросы или уже содержавшихся в историях, рассказанных нашими собеседниками. Одним словом, точность воспоминаний о бытовой стороне прошлого высока, а их регулярность и сопоставимость невелики. Но в рамках одной группы, члены которой объединены несколькими социальными показателями, можно, как правило, набрать достаточно сведений для того, чтобы описывать специфические для данной группы условия повседневной жизни.
Однако, если постановка вопроса подразумевает количественный анализ, – а это всегда требует представления хронологического среза, – тогда можно говорить, как правило, лишь о значениях в пределах некоторого временного диапазона и только по самым общим и самым значительным признакам. Приведу пример. В начале я упоминал в качестве одной из эпистемологических целей нашего проекта изучение интегративных факторов, которые скрепляли воедино послевоенное общество в ГДР. С этой точки зрения первостепенный интерес представляют родственные связи: у кого вообще были родственники {25} или хорошие знакомые на Западе и сколько из таковых были действительно близкими людьми? Не менее важный вопрос: зависели ли (в практическом либо психологическом смысле) респондент или его семья в том месте, где они жили, от связей с ближней и дальней родней, например, когда родители либо иные родственники работающей женщины сидели с ее детьми или когда человек заботился об одиноких либо нуждающихся в посторонней помощи нетранспортабельных членах семьи, в особенности о престарелых родителях?
Часто можно слышать, что многие граждане ГДР вообще-то имели причины бежать на Запад, но не сделали этого, потому что не могли бросить дом или какую-то другую собственность. Иметь собственный дом в ГДР уже в 1950-х годах было с точки зрения социального облика гражданина скорее недостатком, чем преимуществом. К тому же и жилищные условия в частных домах были нередко ничем не лучше, нежели в других. Поэтому данный аргумент в отдельных случаях может быть верен, но в целом он скорее сомнителен. Об этом говорят и количественные данные по нашей группе респондентов, где была сравнительно большая вероятность высокого процента домовладельцев, даже если учитывать так называемые наследуемые квартиры – жилье, прежде всего в жил-товариществах, которое снималось на выгодных условиях и могло передаваться родственникам.
Таблица 1
Контакты с ФРГ и факторы, удерживающие в ГДР. 36 биографий из саксонского индустриального города (1987)
В таблицу 1 сведены данные из интервью по периоду 1945–1961 годов. В последней строке суммированы сообщения о том, сколько респондентов в каждой группе подумывали об отъезде на Запад либо о невозвращении оттуда после плена или турпоездки, причем учитывались как прямые сообщения, так и намеки, поскольку тема эта в ГДР является политически небезопасной.
Прежде всего бросается в глаза, что больше половины опрошенных имели с ФРГ какие-то точки соприкосновения, которые, однако, в большинстве случаев не стали «притягивающими факторами»: даже из тех четверых, у кого на Западе были близкие родственники, только один человек думал об эмиграции. А вот наличие сети семейных связей в собственном городе оказалось сильнейшим фактором оседлости, – тем более что учтены в таблице только те случаи, когда у человека имелась не просто родня, а такая, которая была ему нужна или которой был нужен он.
Количество собственников невелико, и ни в одном случае владение домом, квартирой или предприятием не было главной причиной отказа от эмиграции на Запад. Скорее можно сказать, что отказались от таких планов те, кто были привязаны к месту семейными связями, а подумывали об отъезде в основном те, кто лишились родни, имущества, культурных или профессиональных перспектив. Таких в группе мелкой буржуазии было значительно больше, чем среди рабочих, и поэтому нам следует обратиться к динамическим социальным и политическим факторам.
9. Социально-культурные среды и возрастные когорты: прогресс как причина прогресса
Биографические интервью можно анализировать по признакам социального и политического опыта, которые потом будут представлены отдельно для каждой группы, в ходе трех последовательных шагов. Здесь будет, однако, недоставать одного важного аспекта, который только при большем количестве интервью имело бы смысл изучать количественными методами: я имею в виду внутреннее деление каждой группы на поколения, каковых в данном случае имеется два (годы рождения опрошенных – от 1901-го до 1932-го). Не только средний возраст респондентов, но и распределение их по возрастным группам во всех трех социальных группах примерно одинаковы.Таблица 2
Социальная мобильность и перспектива. 36 биографий из саксонского индустриального города (1987)
* Общее количество детей для каждой группы.
** Отдельно учтено число детей членов СЕПГ из всех социальных групп (12 из 36).В таблице 2 представлены данные по долгосрочным трендам социальной мобильности (прослеживаемой по профессиональной карьере), которые можно почти без исключения считать надежными. Если сравнить последнее место работы респондентов с последним местом работы их отцов, то бросается в глаза прежде всего мощное восходящее движение от статуса рабочих вверх – в служащие, причем на руководящие должности. Эта тенденция обнаруживается и среди женщин, но в значительно более слабой форме: меньшее их число поднялось до руководящих должностей, и должности эти были не такими высокими. В остальном восходящая социальная мобильность связана преимущественно с упрочением профессионального положения респондентов после перехода с надомной работы на высокие (но не руководящие) конторские должности. У представителей мелкой буржуазии наблюдается упрочение положения с восходящей тенденцией, но она не имеет столь важного значения, поскольку многочисленные биографические превратности, выпавшие людям в этой группе, то и дело меняют направление их социальной мобильности и они крайне неуверены в своем положении и своих перспективах.
Если же проследить тренд дальше, приняв в рассмотрение образование и профессиональную карьеру детей, то общая восходящая его направленность сохраняется, однако акценты смещаются: в тенденции дети мелкой буржуазии смогли избавиться от промежуточных нисходящих движений, характерных для мобильности поколения их родителей.
Наиболее отчетливо видна восходящая тенденция у детей женщин из рабочих семей: это поколение оказалось главным резервом будущих квалифицированных кадров. У мужчин же эта тенденция прервана за счет того, что очень сильным было повышение социального статуса у родительского поколения и дети достигли потолка. В тех случаях, когда это не так, их социальное восхождение продолжилось.
Но едва ли не более интересно число детей в каждой из трех социальных групп; в отличие от семей их родителей, где было в среднем примерно по 2,5 ребенка на семью, у самих наших респондентов уже менее чем по двое детей, т. е. они почти не обеспечивают даже собственного воспроизводства. Мелкая же буржуазия, некогда лидировавшая по численности детей, теперь, наоборот, медленно вымирает {29}.
В этих цифрах отражается влияние прочности жизненного положения на долгосрочные перспективы существования семей. Это лишний раз становится очевидно, если отдельно посмотреть данные по членам СЕПГ (независимо от социального статуса): число детей у них в целом самое высокое, и в том, что касается социальной мобильности, дети членов партии – в авангарде восходящего движения мужской части пролетариата.
И наконец, эти цифры позволяют увидеть еще одно, особое свершение женщин, которое следует учитывать в связи с их меньшими успехами в повышении собственного социального статуса: в то время как все опрошенные мужчины из рабочих семей воспитывали – или предоставляли своим женам воспитывать – детей в устойчивых браках (две трети из которых были заключены в послевоенное время), более половины женщин растили почти такое же число детей все время или часть времени в одиночку. И из них всех что-то вышло.
Нельзя, однако, ставить знак равенства между долговременным трендом изменения формального социального статуса и биографическим или историческим опытом респондентов. Чтобы подойти к этому опыту в изучении наших трех социальных групп, можно, поделив события, упомянутые в интервью, на две группы, на оси времени отложить все процессы повышения профессионального и социального статуса как положительные значения, а все его понижения, все утраты и лишения (в особенности потерю близких) – как отрицательные, причем в случаях, когда имела место особо травмирующая дискриминация (как, например, тюремное заключение у господина Хабера) или особо травмирующие утраты (как утрата спутника жизни у госпожи Эргер), я удваивал значения. Соотношение положительных и отрицательных событий в личной и профессиональной жизни членов группы значений в тот или иной отрезок времени выражается положительным или отрицательным числом {30}: если число больше +1, то оно показывает меру превышения числа позитивных событий над негативными, а если оно меньше -1, то оно показывает меру превышения негативных событий за данный период. В качестве меры времени использовались, во-первых, периоды жизни, во-вторых, общепринятые фазы политической периодизации.
Что касается распределения по фазам жизни, то прежде всего бросаются в глаза огромные положительные показатели у пролетариев-мужчин в молодом и среднем возрасте и гораздо более скромные (если не считать возраста 18–25 лет), а то и вовсе отрицательные значения у женщин {31}. В среде мелкой буржуазии вся фаза молодости еще представляет собой период положительного опыта, а все, что потом, выглядит по сравнению с ожиданиями юности безрадостно.Таблица 3
Социальная мобильность как жизненный опыт. 36 биографий из саксонского индустриального города (1987)
Интереснее всего – последняя строчка этой части таблицы, где рабочие в более зрелом возрасте сохраняют положительный баланс, хотя и на более низком уровне, а у женщин вообще впервые проявляется заметное преобладание положительного опыта. Если бы мы применительно к респондентам старше 40 исключили из рассмотрения весь опыт утрат и понижения статуса, связанный с заболеваниями или инвалидностью (считая только те болезни, которые возникли до выхода на пенсию), то все значения оказались бы положительными: у буржуазии чуть больше единицы, у пожилых женщин заметнее (и выше, чем у молодых мужчин из рабочих семей), а у пожилых мужчин наблюдался бы просто карьерный взлет. Буквально все случаи понижения статуса в этой группе обусловлены заболеваниями: эти мужчины были слишком перегружены, слишком приспосабливались, работали на износ. У женщин же в этой возрастной категории понижение статуса, наоборот, лишь частично связано с физическим или нервным истощением; ничуть не реже причиной становилось то, что женщины полностью либо частично оставляли работу ради заботы о престарелых и/или больных членах семьи (обычно о матерях). Таким образом, позднее повышение статуса у женщин, которое, конечно, тоже представляет собой важное улучшение их жизни, не поднимает их так высоко, как мужчин, и возможности его зависят от семейных обязанностей: помимо своих детей, работающие женщины должны заботиться и о своих престарелых родителях, и о своих внуках.
Когда мы распределяем данные по фазам политической периодизации, первыми бросаются в глаза отрицательные значения. Наиболее заметен постоянный отрицательный баланс у женщин пролетарского происхождения: равновесие наблюдается только в послевоенные десятилетия, когда повышение профессионального статуса компенсировало приватизацию последствий войны. В других группах единственный случай отрицательного баланса – это у мелкой буржуазии в период денацификации и исчезновения социальных и политических перспектив для этого слоя в «переходный период от капитализма к социализму». Справедливости ради надо отметить, что цифра, относящаяся к периоду нацизма, искажена, потому что среди наших респондентов оказались одна еврейка и один полуеврей. В целом это для ГДР очень нетипичные фигуры, и если не принимать в расчет их опыт дискриминации, то получится положительная цифра, почти вдвое превышающая значение для мужчин-пролетариев в послевоенные десятилетия. Впрочем, у последних баланс в годы Третьего рейха тоже был бы весьма положительным, если бы не входящий в эту группу один коммунист, долгие годы сидевший в тюрьме и потому получивший двойное количество отрицательных «очков». Если же еще больше вдаваться в детали, то довоенная фаза национал-социализма для мужчин пролетарского происхождения оказывается временем примерно такого же положительного баланса, как и послевоенный период социализма.
Таким образом, цифры в таблице, относящиеся к Третьему рейху и послевоенным годам, не совсем верно отражают реалии, легшие в их основу, и потому необходима более подробная детализация по политическим признакам. Таковая, несомненно, сопряжена в целом с более серьезными трудностями, нежели диахронный анализ изменений социального статуса или социального опыта, потому что политические убеждения и их изменения в Германии вообще и в ГДР в особенности весьма многослойны. Так, если из наших 36-ти собеседников только трое могут вспомнить, что их родители были национал-социалистической ориентации (или их отцы состояли в нацистских организациях), то это не то чтобы неправдоподобно, но было бы удивительно низким показателем для любой общественно-активной группы населения Германии. Поэтому я рекомендую в таблице 4 скептически отнестись в особенности к данным, касающимся национал-социализма, хотя мне самому как раз сведения о политическом континуитете и представляются наиболее интересными.Таблица 4
Политика. 36 биографий из саксонского индустриального города (1987)
*HJ – членство в гитлерюгенде.
Как уже говорилось выше, только трое из наших собеседников сказали, что их родители были национал-социалистами, но примерно половина опрошенных были сами связаны с той или иной нацистской организацией лично или через мужа/жену. Это говорит о том, что организационная сила Третьего рейха сумела вторгнуться в сплоченную левую среду: ведь 15 наших респондентов родом из социал-демократических или коммунистических семей и пятеро (частично те же самые люди) в молодости придерживались левых взглядов или были активными членами левых политических организаций, причем эти цифры наверняка не занижены. Но интересно распределение: среди родителей социал-демократы преобладают над коммунистами в пропорции 3:1. Очень большая доля этой политической активности исчезает в годы Третьего рейха: только четыре человека из 12-ти социал-демократических семей и один человек из трех коммунистических вступили после 1946 года в СЕПГ. Две трети этого потенциала левой политической традиции осталось в послевоенную эпоху в латентном (мягко выражаясь) состоянии. И наоборот, больше половины членов СЕПГ среди наших респондентов не из левых семей. Хотя СЕПГ несомненно рассматривает себя как наследницу коммунистической традиции, среди опрошенных нами менее одной восьмой родом из семей коммунистов, а среди респондентов – членов СЕПГ таких только одна шестая. Нельзя, конечно, забывать о том, что очень много коммунистов в Третьем рейхе поплатилось кровью за свои убеждения, а многие из тех, кто не эмигрировал, продолжали придерживаться старых установок КПГ и не могли понять ориентации своей партии на буржуазно-демократический путь развития в 1945 году, а зачастую и поведение Советского Союза, в силу чего Ульбрихт расценивал большую часть базиса своей партии как «сектантов». Но таких старых коммунистов было настолько мало, а руководящих постов в СЕПГ настолько много, что едва ли хоть кто-то из поборников традиций КПГ, желавший работать в СЕПГ, смог остаться в пролетарских низах и не подняться по карьерной лестнице {50}. Разумеется, все эти цифры в целом не репрезентативны, но если две трети некоей политической традиции оказываются в традиционной среде невостребованными, то это и применительно к более крупным структурам ставит вопрос, которым необходимо заняться {51}.
Если посмотреть на прошлое самих респондентов, то напрашивается вывод, что в партию они пришли не в силу семейной традиции, а в результате агитации. Из 12-ти членов СЕПГ четверо состояли в свое время в нацистских организациях, которые все более или менее жестко обязывали человека придерживаться определенных взглядов. Пятеро долгое время были на фронте, воевали в основном против СССР, и при этом ни один не перебежал на сторону противника. Двое мужчин, которые привели за собой в СЕПГ своих жен, были профессиональными военными (и три года провели в советском плену) или проработали всю войну в военной промышленности, будучи освобождены от призыва как незаменимые работники. Насколько можно заключить по интервью, ни одного активного нациста среди членов СЕПГ в числе этих 36 опрошенных не было. Обобщая, можно сказать, что по данным, полученным в этой группе, СЕПГ, при своем повышенном иммунитете против бывших активных нацистов, не была партией левой политической традиции. Скорее она была, так сказать, «общенародной партией нового типа»: она собрала массу бывших аполитичных людей и людей, сменивших политическую ориентацию, и этим большинством авторитарно руководило маленькое коммунистическое меньшинство при содействии еще одного меньшинства – старых социал-демократов, – которое в послевоенные годы поставляло большую часть опытных политических кадров. Кадры эти, однако, использовались прежде всего на руководящих должностях в профсоюзах и на производстве, т. е. не допускались к политической власти.
Более одной десятой из этой группы опрошенных в особо тяжелой форме испытали на себе нацистский террор: заключение в тюрьме или концлагере, антисемитское преследование, убийство близких; столь же часто встречаются семьи, где один из членов провел за решеткой какое-то время (в большинстве случаев недолгое). Почти половина тех, кто так близко столкнулись с нацистским террором, впоследствии вступили в СЕПГ.
Еще больше (почти треть) было число тех, кто особенно сильно пострадали от войны и ее последствий, – потеряли близких, пережили травмы, более трех лет провели в плену или были изгнаны из родных мест, а из остальных большинство лишились всего своего имущества во время бомбежек. Почти никто не вышел из войны невредимым. Каждому шестому респонденту пришлось потом иметь дело с долговременными ее последствиями в виде денацификации, хотя целый ряд семей, которым на Западе пришлось бы через эту процедуру пройти, в ГДР остались ею не затронуты {52}.
Удивительно мало попалось нам участников войны, которые были в плену на Востоке {53}. На эту тему стоило бы провести более обстоятельное исследование, так как этот опыт предположительно влиял на решение эмигрировать на Запад. Вместе с тем, насколько можно судить по рассказам бывших военнопленных, именно опыт плена, видимо, предопределил или надолго окрасил восприятие конфликта между Востоком и Западом в сознании граждан ГДР, вернувшихся преимущественно из лагерей в западных оккупационных зонах. В отличие от сравнимых интервью, взятых нами в ФРГ, рассказы восточных немцев о том, как они были в плену у англичан или американцев, выдержаны в основном в миноре, в них часто подчеркивается, что рассказчика как жителя советской оккупационной зоны либо вовсе не отпускали, либо отпускали с задержкой, и ему пришлось прибегнуть к хитрости, чтобы попасть на родину. С тех пор почти ни у кого не было никаких личных контактов с американцами, англичанами или французами; интеграция с Западом ассоциируется у этих людей с интернированием на Западе.
Говоря о членстве в политических организациях, надо прежде всего отметить низкий процент выхода из таковых: похоже, только в самые первые послевоенные годы можно было выйти из той или иной партии {54}. Те, кто оставались членами одной из закостеневших партий «антифашистско-демократического блока», почти автоматически получали какие-то функции и мандаты. В СЕПГ гораздо легче было остаться пассивным членом. Вместе с тем эта партия давала своим членам широкие возможности занимать посты и в самых низах. Такие посты в нашей группе, как правило, – в шести случаях из восьми – занимали люди, у которых за плечами не было левой традиции. Те двое, к кому это не относится, сделали, впрочем, наиболее впечатляющую политическую или профессиональную карьеру во всей группе. Профсоюзная работа для данного поколения была подготовительной стадией к политическому перевоспитанию через участие в политической деятельности: здесь аполитичным, представителям дружественных классов и бывшим социал-демократам и национал-социалистам предоставлялось поле деятельности, где они могли продемонстрировать свой конструктивный образ мыслей.
Членство в церкви было в переходный период обычно признаком оппозиционности; оно коррелирует с понижением или стагнацией социального статуса – если не считать пасторов. Оно было и по сей день является опорой для критики властей предержащих, однако границы проходят тут неоднозначно. Среди опрошенных имеется один истово верующий член СЕПГ и один набожный человек, не связанный ни с какой церковью. Многие подчеркивают, что по их ощущению церковь оттолкнула их своей узколобой позицией по вопросу о совместимости «праздника вступления молодежи в жизнь» [25] и конфирмации, а также консерватизмом клира в послевоенные годы. Большинство вышло из церкви в первые десять послевоенных лет, после того как уплата церковного налога была сделана добровольной. Некоторые, впрочем, совершили этот шаг еще в годы Третьего рейха.Было бы, однако, ошибкой рассматривать СЕПГ и церковь как два враждебных лагеря. Слишком много было в нашей группе примеров того, как покорность государственной власти и ориентация на порядок, типичные для исследуемого поколения, наблюдались у людей аполитичных или у противников правящей партии. Слишком многие респонденты критически высказывались о бесперспективности жизни, нарастающих проблемах с бытовым снабжением в этом промышленном регионе: эта критика звучала не извне, а из рядов самих партийцев, наряду с рассказами о политической дискриминации после 1945 года. Именно респонденты в той подгруппе, где наблюдаются наибольшая доля членов СЕПГ и наибольшая восходящая социальная мобильность, т. е. мужчины из рабочих семей, обнаруживают во время разговора наиболее прочную уверенность в себе: они не отказываются говорить об острых политических вопросах или о трудных моментах в своих биографиях, причем это – в тенденции – относится и к тем, кто повысил свой статус, но при этом отвернулся от политики. И наоборот, страх перед новой ситуацией – интервью, магнитофон, человек с Запада – сильнее всего у тех, кто в послевоенные годы пережили тяжелые политические пертурбации и неоднократные изменения своих долговременных социальных перспектив (таких больше всего среди мелкой буржуазии), и у тех членов СЕПГ (особенно женщин), которые не имеют за плечами левой политической традиции, в молодые годы при нацизме были, по их воспоминаниям, аполитичны, а в послевоенные годы заняли низовые посты в партии.
В целом наиболее важными определяющими критериями мировоззренческих установок и поведения оказались в нашей группе опрошенных такие факторы, как семейные связи и динамика социальной мобильности, в которой самые большие взлеты и падения всегда были связаны с политикой. Давние, принимаемые как данность и развиваемые традиции встречаются в этой группе крайне редко. Для подавляющего большинства респондентов характерны процессы социальной адаптации, которая, в свою очередь, обосновывалась и вознаграждалась обычно наращиванием профессиональной квалификации и компетенций. Даже в этих поколениях, потрепанных историей, гиперадаптация или, наоборот, сопротивление по мировоззренческим причинам оказались не столь сильны, как смешанная с печалью гордость по поводу трудовых достижений. Горд человек в той мере, в какой его собственный уровень жизни и социальная защищенность сегодня отличаются от той бедной и нестабильной жизни, которой жили в детстве он и его семья, а также от того, что стало с его жизнью во время Второй мировой войны. Печален же он при этом потому, что экономическое кредо поколения строителей социализма выхолащивается постоянными и зачастую все более и более непонятными экономическими проблемами, а также сравнением с технико-экономическим развитием капиталистического окружения.
Это тревожит многих людей в ГДР, сталкивающихся с вопросом о смысле жизни. Ведь позитивное послание старшего поколения все сильнее оказывается связано с прошлым, в то время как перспектива будущего неясна и следующее поколение почти не воспринимает этого послания. На мой вопрос, что будет дальше, Зигфрид Хоман ответил обезоруживающими словами: «Понятия не имею». А один довольно высокопоставленный священнослужитель рассказал мне о доверительной беседе, которая незадолго до интервью состоялась у него с одним из ведущих пропагандистов местной партийной организации: они согласились друг с другом в том, что в ГДР есть два меньшинства – убежденные христиане и марксисты, – и им бы следовало почаще разговаривать друг с другом…
10. Специфичность опыта
Как предпринятые мною попытки герменевтической интерпретации текстов интервью, так и контроль, осуществленный с помощью количественных методов, свидетельствуют о том, что в истории ГДР факторы, скрепляющие общество, невозможно свести к единому знаменателю. Это противоречит тому, что изображает инсценированная публичная сфера Восточной Германии, призванная создавать впечатление единства между руководством и народом. Противоречит это, однако, и распространенному на Западе представлению, будто в странах, находящихся в советской зоне влияния, интеграция общества обеспечивается, главным образом, привилегиями (для партийно-государственной элиты) и страхом (для народа, который в принципе, как считают, настроен оппозиционно). В том, что касается бытовой и трудовой повседневной жизни пожилых рабочих, служащих и местных партийных и государственных элит (а именно они были выборочно изучены нами в ходе проекта), картина вырисовывается гораздо более дифференцированная: это сложная конструкция из опыта и установок, которую легче всего понять с помощью системы взаимодополняющих типов опыта.
Дело в том, что в области политики и идеологии обнаруживается лишь немного элементов консенсуса, да и то потребовались бы репрезентативные исследования, чтобы доказать, что это именно элементы консенсуса. Но все-таки и в нашей небольшой исследуемой группе удалось найти такие элементы, однако из-за недостатка возможностей выбора они – в отличие от западных обществ – не соединяются с установками, релевантными для поведения людей, а пребывают в некотором пассивно-произвольном состоянии. Поэтому мы ближе подойдем к пониманию восточногерманской действительности, если будем рассматривать более сложные и хуже поддающиеся измерению типы опыта, ибо они и действуют в повседневной коммуникации, а их взаимодействие задает и ту общую рамку, в которой осуществляется политика, и тот резонатор, в котором раздается ее отзвук.
Назовем, однако, некоторые из тех консенсусных элементов, в которых соединяются опыт и современные установки. В качестве наивысшей эксплицитной нормы фигурирует во всех лагерях и социальных ситуациях понятие «мир» {55}. Идея мира в ГДР не регулярно, но для западного уха все же удивительно часто связывается (в том числе противниками СЕПГ) с «переходом промышленности в народную собственность» {56}. Этот переход в принципе почти никогда не ставится под вопрос (в отличие от сферы услуг, где частная инициатива заглохла), хотя многие и критикуют структурные проблемы и низкую эффективность народной индустрии. Подавляющее большинство одобряет также социальную защищенность, в особенности гарантированную занятость, гигантские дотации на квартплату, общественный транспорт и некоторые знаковые продовольственные товары {57}, а также бесплатное здравоохранение. Не столь регулярно, но достаточно часто упоминаются в этой связи и другие элементы, такие как возможности повышения профессиональной квалификации, жилищное строительство последних двух десятилетий, социальный климат на промышленных предприятиях, а также нередко и опыт знакомства (как правило, за пределами ГДР) с гражданами СССР, которые оказывались неожиданно симпатичными или компетентными людьми. Резидуальный консенсус обычно сводится к формуле «У нас тут никто с голоду не помирает». Для подкрепления этой формулы респонденты говорят о безработице, бездомных, нищих и бродягах в западногерманских городах, и это показывает, что данный консенсус составлен из социальной солидарности и признания государственного порядка и дисциплины.
Признание таких «достижений» почти никогда не предполагает активной причастности к ним. Правда, значительная часть старшего поколения считает, что это именно оно «вынесло все на своих плечах». Однако почти ни у кого – если не считать небольшого числа партийных функционеров – эта гордость (зачастую конкретизированная рассказами о том, что человек участвовал, например, в возведении конкретного здания или лично добился тех или иных технических достижений) не сопровождается воспоминаниями о том, что человек лично участвовал в достижении того или иного политического или социального «завоевания социализма». Они все в какой-то момент появились или просто имели место. Точно так же, в наших беседах – даже с партработниками – ни разу не встретишь мысли об альтернативах в политике ГДР; по крайней мере никогда речь не идет о личных альтернативах, крайне редко – о концептуальных. С точки зрения рабочего базиса руководство обладает божественными качествами: оно существует на совершенно ином уровне – том, где вершатся судьбы, – и с этим уровнем человек может сообщаться только посредством ходатайств, причем ходатайства эти, как правило, содержат призыв о помощи в борьбе с низовой бюрократией, и вовсе не так уж редко они оказываются успешными {58}.
Идея, что было бы возможно и имело бы смысл вмешиваться в дискуссии на уровне политического руководства, прозвучала в наших интервью только один раз – в разговоре с высокопоставленным партийцем-интеллектуалом {59}. Всякий выбор, касающийся персональной судьбы человека, делается где-то на вершине Олимпа, и ни к чему ломать над ним голову: все равно только потом узнаешь, были ли альтернативы. Независимо от того, как относится человек к политическому руководству среднего и высшего уровней – отвергает ли он его или доверяет ему, – оно представляется ему существующим где-то в ином мире. Многие, говоря о политике, используют метафоры погоды. Говоря: «Там наверху небось знают, что делают!», люди сосредоточивают свои мысли на том, чтобы свой приватный мирок укрыть от бурь и расположить на солнышке. Политическая фантазия в этом послушно-благопристойном социализме угасла, а потому и в сфере практики отсутствует тот консенсусный потенциал, который играет ключевую роль в западных обществах, а именно участие в политическом процессе за счет представительства оппозиции {60}.
И тем не менее политические фантазии в ГДР существуют, однако направлены они не на Олимп, а за границы – в основном на Запад, реже на Восток {61}. У наших собеседников из старшего поколения, когда они вообще соглашались говорить на тему политических перспектив {62}, фантазии эти в большинстве случаев приобретали образ пролетарской утопии конвергенции: вот бы соединить богатство Запада с социальной защищенностью Востока…
Тот факт, что при социализме, стремившемся к освобождению производительных сил от оков капиталистических производственных отношений, цель благосостояния масс оказывается соединена в мечтах людей прежде всего с этими самыми отношениями, указывает на один скрытый аспект консенсуса, организующего поколение строителей социализма, а именно его зацикленность на экономике, превратившуюся в дилемму. На Западе люди послевоенных поколений тоже спасались от военного разорения и политического смятения, с головой погружаясь в восстановление экономики и дальнейшее наращивание своего благосостояния, но в ГДР эта сосредоточенность на экономике с самого начала охватила большую часть надстройки. С тех пор как в начале 1950-х годов было провозглашено строительство социализма, средства массовой информации, искусство, политика заговорили экономическим языком. Позже они стали менее напряженно относиться к национальному наследию. К тому же в эпоху Ульбрихта это наследие было подвергнуто критической «сортировке»: оставлено было только то, что соответствовало официальной русофильской позиции властей.
Теперь уже и бытовой язык – по крайней мере у старшего поколения – отличается специфической суженностью понятийного состава: во время интервью наши собеседники абсолютно все переводили на язык экономики – и работу в собственном саду на досуге, и путешествия во время отпуска; любовные истории превращались в истории о получении жилплощади; родственные связи превращались во внешнеторговые; болезни свидетельствовали о напряженных отношениях между трудовым коллективом и производственным планом или о перебоях в поставках от смежников, а диалог между поколениями сводился к обсуждению годичного послеродового отпуска и относительного обеднения пенсионеров. Народ усвоил идеалистически окрашенный материализм своего авангарда и в системе отсчета относительного массового благосостояния Запада намертво заключил его в оболочку рабского языка, лексика которого состоит из таких понятий, как срок ожидания автомобиля (на сегодня – 14 лет), валютные магазины, дефицит валюты, недовыполнение плана, премиальные, повышение цен, дополнительное пенсионное страхование, которое позволяет не скатываться в старости на уровень прожиточного минимума. Социалистическая программа сокращена до своей экономической части. Трудные экономические условия придают многим безобидным повседневным желаниям характер запредельных притязаний. Под этой лавиной экономически перегруженной повседневности оказываются погребены фантазия и перспектива, а ценностное сознание молодежи, воспитанное на социалистических идеалах и образах героев-революционеров или антифашистов, отчуждается от реальности. Молодым, которые лучше образованы, более квалифицированы и менее мотивированы, чем их деды и отцы, нужны были бы экспериментальная, рефлексивная и экспрессивная культура и политические площадки, которые не были бы только площадками для игр.
В ГДР никогда не существовало такой констелляции поколений – как в плане социальных отношений, так и в плане истории человеческого жизненного опыта, – которая в ФРГ образовалась (прежде всего в буржуазной среде) в конце 1960-х годов и представляла собой политический конфликт между поколением отцов и поколением выросших после 1945 года детей. Сыновья из буржуазной среды, почти не имевшие в ранней ГДР шансов, по большей части искали своей доли на Западе. Начиная с 1950-х годов образовательная революция мобилизовала в «трудящихся» классах всех, с кем можно было иметь дело. Но политическая верхушка системы была плотно нашпигована страдальческими фигурами бывших узников концлагерей и отдельными вернувшимися из западной эмиграции евреями, в то время как скомпромитированным оставалось смириться с ролью анонимных и безмолвных исполнителей. Кто выказывал возмущение по адресу коммунистов, вернувшихся из Москвы, или по адресу «старшего брата», в скором времени оказывался на Западе или в местах не столь отдаленных. Западная Германия пошла в 1968 году особым путем, восстав против континуитета культурного наследия Третьего рейха, а в Восточной Германии для этого ни среди отцов, ни среди сыновей не было достаточного потенциала, потому что здесь имел место не конфликт, а реальный обмен идеями, перспективами, персоналом и социальным багажом. Однако политические и поведенческие структуры здесь отличались гораздо большей преемственностью, чем на Западе. Гораздо больше, чем в ФРГ, было здесь и тихих, неприметных попутчиков и приспособившихся. Для нового поколения не было активного противника, тем более что образовательная революция в ГДР произошла раньше и привела молодежь не на улицу, а в кабинеты.
Таким образом, этот конфликт в ГДР оказался заморожен и теперь все сильнее тормозит развитие системы. Показатели роста производительности снижаются, внешний долг растет, а это – тревожные признаки для экономики, ориентированной на экспорт технической продукции. В таких обстоятельствах несостоявшийся конфликт поколений проявляется в том, что творческий потенциал оказался выхолощен и сместился на периферию общества, а те люди, которые служат резервом роста в этой ориентированной на рост системе, предпочитают оставаться простыми рабочими, ибо там, внизу, они получают больше денег и меньше неприятностей, чем на ответственных должностях. А вакантные высшие посты поэтому вместо них занимают – помимо своей воли – бесхребетные моллюски, на которых злятся все, включая старую коммунистическую гвардию, не узнающую себя в этих безликих фигурах. Последние оставшиеся в живых антифашисты и жертвы нацизма, находящиеся на ключевых политических должностях, еще подтверждают своим авторитетом социалистическую идею, но структурно господствует уже следующее поколение. Его габитус был сформирован в гитлерюгенде, а в Союзе свободной немецкой молодежи был переориентирован в содержательном плане. В атмосфере господства экономических понятий это поколение не имеет иных критериев для суждений, кроме критериев экономической эффективности. Данная проблема в сочетании с перестройкой в СССР делает актуальным для ГДР тот же вопрос двойного разрыва между поколениями, с которым столкнулась ФРГ в конце эпохи Аденауэра.
Это возвращает нас ко взаимнодополнительной констелляции опыта у послевоенных поколений – насколько ее можно разглядеть в нашем примере. Что объединило и удерживало вместе эти типы опыта? Является ли этот опыт специфичным только для данного поколения, потому что он кровно связан с неповторимыми историческими условиями, или же он может быть обобщен так, чтобы основные его составляющие можно было передать молодым поколениям? Ни в коей мере не притязая на полноту и репрезентативность, я попытался проанализировать сосуществующие, но четко отличающиеся друг от друга типы опыта рабочих и рамочные условия их существования в этих возрастных и социальных классах. Эти типы нуждаются в дополнении и уточнении, но их облик и взаимодействие я хотел бы в заключение еще раз обрисовать.
Прежде всего надо сказать о тех деятелях рабочего движения и в особенности КПГ, которые за свои убеждения просидели при нацизме зачастую много лет в тюрьмах и концлагерях, и в силу этой своей судьбы пользовались в послевоенное время высоким авторитетом в этом обществе «попутчиков», в том числе и у своих идейных противников. Они в большинстве своем дисциплинированно подчинились той линии, которую задавали вернувшиеся эмигранты и политические обстоятельства, но они были необходимы для убедительности этой линии. Однако их численности и квалификации было никоим образом не достаточно, чтобы занять все руководящие посты на всех уровнях, имевшиеся в послевоенные годы в распоряжении СЕПГ, тем более что рабочие резервы левой традиции веймарских времен в годы Третьего рейха сильно уменьшились и/или только частично были или могли быть мобилизованы в советской оккупационной зоне. Поэтому на должности низового уровня пришлось рекрутировать новые кадры, которые пришли к антифашистским взглядам только после разгрома фашизма. В их личных убеждениях важные аффективные элементы их собственного исторического опыта были подвергнуты скорее формульной рационализации, и биографического слияния с политикой у них не происходило. Но независимо от этого они объективно, в глазах остальных, должны были опровергать выдвигавшиеся против них подозрения в оппортунизме, и то, что они говорили, было не очень убедительно. После 1948 года в СЕПГ была подвергнута опале прежняя – в основном социал-демократическая – левая традиция, в связи с чем еще острее стал недостаток в людях, своей судьбой подтверждавших провозглашаемые идеалы, и еще острее стала необходимость замещать их функционерами, которые годились на руководящие посты прежде всего благодаря своей молодости или прежней аполитичности {63}. Эти люди, особенно если были честными, неизбежно подчинялись политическому руководству со стороны образцовых закаленных антифашистов, которых быстро забирали на повышение.
Поэтому мы обнаружили в ГДР поколение политических функционеров старше 50, состоявшее из двух частей: одна – это быстро убывающая с 1960-х годов группа старшего возраста, несущая на себе отпечаток фашизма и сталинизма, обладающая политическим авторитетом, основанным на ее биографии; вторая группа – это приходящие в большом количестве на смену старикам выдвиженцы, которые не имеют укорененной в личном опыте левой или антифашистской традиции и привыкли скорее к авторитарному подчинению и исполнению функций, нежели к приобретению демократических лидерских качеств. Таким образом, старшее поколение руководителей сегодня в большинстве своем состоит из промежуточного между до– и послевоенными поколениями слоя, обладающего вторичным авторитетом, который опосредованно связан с констелляциями 1930–1940-х годов, в то время как само это промежуточное поколение не имело больших возможностей для формирования своего собственного взгляда. Поскольку и построение социализма, и структура этого процесса для этих людей были уже само собой разумеющейся данностью, то их жизнеощущение укоренено в четкой политической дисциплине и старательном исполнении своих функций, за которые их вознаградили неожиданно быстрым продвижением по карьерной и социальной лестницам. Эти люди деятельны и практичны, но перед лицом новых проблем и непривычных обстоятельств они пасуют; и они не могут понять, почему третье и четвертое послевоенные поколения уже не принимают в качестве само собой разумеющегося общественного долга ту дисциплинированную самоотверженность строителей социализма, которая столь характерна для них самих.
Эта некритичная дисциплинированность и трудовая этика характерны как для политических, так и для индустриальных рабочих элит; такая позиция среди старшего поколения работников промышленности может сочетаться как с политической активностью и/или идейной поддержкой СЕПГ, так и с различными формами дистанцирования от нее и оппозиционности. Очень часто, по всей видимости, именно здесь находят для себя поле деятельности люди, связанные с социал-демократической традицией, которые, напрягая порой до крайности свои силы, участвовали в созидании такого общества, конкретные политические очертания которого не отвечают их надеждам, но они не могли бы их изменить. Таким образом, энтузиазм рабочих, строивших ГДР, – особенно мужчин, но отчасти так же и женщин – объясняется в первую очередь не политическими убеждениями, а, главным образом, шансами карьерного роста, превышавшими их юношеские ожидания, трудовой и гражданской дисциплиной, усвоенной еще в Третьем рейхе, и теми преимуществами, которые дала рабочим народная промышленность в плане социальной защищенности и социального климата в трудовых коллективах. В самые первые послевоенные годы рабочие могли обрести более высокий статус, прежде всего по политической линии, а руководящие посты в промышленности тогда еще преимущественно занимали опытные в профессиональном отношении, но лишенные социальных перспектив представители среднего класса. После утечки мозгов на Запад в 1950-е годы возникла острая нужда в руководителях нижнего и среднего звена на всех технических и организационных должностях. Постепенно это движение мобилизовало не только тех, кто рано начал карьерное продвижение в национализированной промышленности, но и тех, кто прежде, в условиях переходного периода, поддерживал свою трудовую и семейную этику в нишах частного сектора. Этому поколению пришлось доучиваться и переучиваться, усваивая структурную проблематику планового хозяйства, что означало нагрузки, которые, с одной стороны, наполняли этих людей гордостью, но, с другой стороны, часто раньше времени приводили к пределу их возможностей. Вместе с так называемой научно-технической революцией, требующей большей специализации и дифференциации, это ведет к тому, что в промышленности поколения сменяются быстрее, нежели в политике. Новые же поколения уже не отличаются ни досоциалистической дисциплиной, ни готовностью к самоотверженному труду (которая у старших подкреплялась военным опытом и наградой в виде неожиданно быстрой социальной мобильности), ни высокими ожиданиями по отношению к будущему при большой личной скромности. Трудовая этика промышленных рабочих, их способность и готовность к большим нагрузкам и привычка довольствоваться малым оказались исторически специфическими чертами одного поколения, которые не передаются дальше, равно как и его опыт уже не может быть передан молодым в качестве смыслоустанавливающей и мотивирующей силы.
Людей, чей профессиональный и/или политический статус не повысился сколько-нибудь значительно, в нашей контрольной группе среди мужчин – меньшинство, а среди женщин – большинство. Применительно к обществу, в котором осуществлялась социальная революция, представляется неожиданным упоминавшийся выше факт: долговременные тренды почти не показывают значительных снижений статуса, но и до, и после 1945 года наблюдаются кратковременные падения (в основном по политическим причинам), которые в течение длительного последующего периода хотя бы отчасти снова компенсируются. Это говорит о том, что высшие слои буржуазии – по крайней мере здесь, в этом индустриальном регионе, – в значительной мере ушли со сцены за счет эмиграции или очень малого количества детей в семьях. Из представителей буржуазных слоев здесь в основном встречаются еще дети средних или мелких и индивидуальных предпринимателей, которые либо застряли на подобных же позициях, либо были взяты на средние должности в государственном секторе промышленности, куда потом пошли за ними и их немногочисленные дети. Что же касается культурного бюргерства, прежде численно не уступавшего промышленной буржуазии, то в течение всего нашего исследования нам встретилось всего несколько выходцев из этой среды, и все они (кроме духовенства) занимали высшие технические должности. В этой социальной группе процент эмиграции был, очевидно, огромен, тем более что большинство чиновников и учителей после войны были уволены.
Остаются две стагнирующие группы: во-первых, сыновья ремесленников и рабочих, которые остались рабочими или низшими служащими, а во-вторых, большое число женщин, которые тоже к выходу на пенсию не поднялись выше этого уровня. На фоне всеобщей тенденции к повышению статуса среди рабочих этого поколения не удивительно, что если такой процесс у мужчин не происходил, то за этим обнаруживаются преимущественно политические причины. Наиболее важными тормозящими вертикальную мобильность факторами представляются денацификация и своего рода политическая самоизоляция людей (часть которых была известна как весьма квалифицированные и дисциплинированные рабочие-специалисты), которые либо приобрели тяжелый личный опыт взаимодействия с советскими властями, либо сызмальства росли и формировались в социал-демократической среде и потом навсегда заняли дистанцированную позицию по отношению к режиму, но исполняли то, что от них требовалось, и потому были неуязвимы. Можно было бы себе представить в качестве мотивов такой позиции и христианское мировоззрение или опыт изгнания с родины, но в нашей выборке ни того, ни другого не обнаруживается.
Интересно то обстоятельство, что оба упомянутых стагнирующих типа, которым ГДР обязана большим количеством добросовестно исполненной физической работы, не воспроизводятся в следующих поколениях. Они исторически конечны и характеризуют только одно поколение, дети которого в ряде случаев делают даже стремительные карьеры.
Последнее относится, как было показано, и к женщинам – причем не только к тем из них, которых можно назвать политически обездоленными или разочарованными. Наиболее заметный фактор, определяющий облик этого поколения женщин в обследованном нами промышленном районе ГДР, – это тяготеющее над ними бремя последствий войны, которые на протяжении их жизни уже не компенсируются; прежде всего я имею в виду утрату фактического или потенциального партнера. В результате такой утраты женщины зачастую оказывались включены в сложные семейные системы (отчасти – продленная зависимость от родителей, отчасти – воспитание детей в одиночку, а часто – смесь того и другого), ограничивавшие для них возможности трудоустройства, которое с начала 1950-х годов стало экономически необходимым. Работать эти женщины в среднем начинали на низко– или неквалифицированных должностях, так что, потратив силы и время на профессиональное образование, они только достигали тех позиций, с которых мужчины в среднем начинали свою карьеру. А дальнейшее карьерное продвижение женщин ограничивалось, как правило, тем, что их профессиональная деятельность раньше времени заканчивалась или сокращалась, поскольку они в какой-то момент полностью или частично уходили с работы, чтобы заботиться о престарелых родственниках, прежде помогавших им, или о своих мужьях, которым их карьерный рост дался ценой подорванного здоровья. Женщины этого поколения представляли собой, таким образом, резерв рабочей силы для низовых функций, а кроме того, они взяли на себя значительную долю бремени экзистенциальных последствий войны и революции. Наградой им за это служили, главным образом, те возможности повышения профессионального и социального статуса, которые доставались их детям. Но вряд ли их дочери захотели бы взять в качестве ролевой модели эту обусловленную историческим моментом двоякую роль – трудового резерва и приватного буфера социальных кризисов. Впрочем, возможно, что они научились у своих матерей некоторой вере в себя.
В задачи нашего исследования не входило выяснять, каков был опыт младших поколений граждан ГДР и какие установки у них выработались на основе этого опыта. Этого мы не знаем. И представленные здесь типологические гипотезы – не более чем набросок, сделанный на основе небольшого количества примеров. Он ставит новые исторические вопросы и требует уточнения на основе репрезентативных источников, которые, несомненно, заставят во многом скорректировать представленную здесь картину. Но не только к прошлому адресованы вопросы, встающие в связи с опытом этого поколения, – исторически специфичным, по большей части не поддающимся переносу на другие группы, опытом поколения людей, оставшихся после войны в промышленном районе Восточной Германии и строивших там социализм. Этот опыт был связующим обручем местного общества, обладающего рудиментарными, по сравнению с западногерманскими, элементами политического консенсуса, но зато большим общим фондом унаследованной с прежних времен дисциплинированности, привычки подчиняться политическому руководству и семейной скромности. Именно благодаря ему общество ГДР отличается повышенным уровнем социальной кооперации и способностью к большим трудовым и карьерным достижениям. Когда сойдет со сцены старшее поколение, то в ГДР возникнет разрыв в передаче опыта, который обеспечивает социальные нормы, и преодолеть этот разрыв можно будет только посредством переработки последующими поколениями своего собственного опыта и своих собственных ценностей в условиях новой культуры. Если царящие в стране авторитаризм и экономизм будут как прежде пресекать эту переработку, то следует ожидать значительного ослабления сплоченности и мотивируемости общества. При взгляде извне нельзя не заметить культурного движения, начавшегося в ГДР, и его последствий. Но, поскольку это движение корнями своими уходит в базовый консенсус, то представляется маловероятным, чтобы оно поколебало четыре столпа восточногерманского общества, каковы суть ориентация на относительно эгалитарное и нацеленное на достижения социальное устройство, обобществленная промышленность как непременное условие этого устройства, принятие установившейся в результате Второй мировой войны «политической погоды в регионе» и стремление к сохранению мира.
Примечания
{1} Я приношу свою благодарность председателю Государственного совета ГДР, которого я просил о разрешении на это исследование, Институту истории Академии наук ГДР, оказавшему нам помощь в организации некоторых встреч и в других вопросах, пограничной службе ГДР за то, что удовлетворила просьбу о вывозе рабочих материалов из страны без досмотра, Фонду «Фольксваген», финансировавшему проект, моим коллегам по Университету заочного обучения в Хагене, которые отпускали нас в длительные исследовательские командировки, а также Научному коллегиуму в Берлине, в чьей гостеприимной атмосфере я в настоящее время обрабатываю материал и где я имел возможность впервые вынести на обсуждение часть из того, что изложено в этой главе. Кроме того, я хотел бы поблагодарить друзей, из которых назову здесь Додо Вирлинг и Александра фон Плато, прочитавших прежний вариант этого первого, приблизительного и частичного анализа и давших мне множество советов. Число ведомств, партийных и профсоюзных функционеров, церковных организаций, религиозных ассоциаций и т. д., которые помогали нам находить информантов и организовывать интервью, настолько велико, что я не cмог бы назвать здесь их всех по отдельности. Без них, однако, мы едва ли могли бы собрать столько материала в ГДР. Прежде всего я хочу принести благодарность нашим собеседникам – их было почти 150 человек, – которые уделили нам от двух до семи часов своего времени, оказали нам доверие и рассказали о своей жизни.
{2} См.: LUSIR. Bd. 1–3.
{3} По статистике в ГДР девять из десяти трудящихся относятся к рабочему классу, потому что рабочие и служащие (в том числе в государственном аппарате и в непроизводственных организациях) считаются вместе. См., например: Zur Entwicklung der Klassen und Schichten in der DDR. Berlin, 1977. S. 113ff.; Statistisches Taschenbuch der DDR 1987. Berlin, 1987. S. 35; реальная сфера занятий положена в основу оценок и расчетов в книге: Vogt D., Voss W., Meck S. Sozialstruktur der DDR. Darmstadt, 1987. S. 128ff.: (рабочие – 44 %, из них 59 % квалифицированные, доля последних утроилась с 1950-х годов). В этой же книге можно найти самую лучшую библиографию по данной теме.
{4} Примерно четверть составляют «переселенцы» («изгнанные»). Примерно по пятой части опрошенных составляют члены СЕПГ (18,5 % взрослого населения ГДР) и различных религиозных ассоциаций.
{5} См., например, основанные на устных сообщениях работы американских социологов: Rueschmeyer M. Professional Work and Marriage: An East-West-Comparison. London, 1985. Р. 112ff. (“Does Socialism make a difference?”); Ostow R. Being Jewish in the Other Germany: An Interview with Thomas Eckert //New German Critique. 1986. № 88. Р. 73ff.; Idem . Jews in Contemporary East Germany: The Children of Moses in the Land of Marx. N.Y., 1989 (немецкое издание: Frankfurt a. M., 1988).
{6} Одна из основных трудностей при этом состоит в том, что на любые опросы в ГДР надо получать официальное разрешение. Очевидно, это не относится к самостоятельному созданию письменных текстов, так что людей призывают писать автобиографии, но по заданному плану; этим сильно снижается субъективный фактор. При интерпретации такой «письменной устной истории» в будущем нельзя забывать указания Культурбунда (весьма дельные). См.: Räch H.-J. Erinnerungen zum Alltagsleben proletarischer Familien vor 1945. Hinweise und Anregungen für das Schreiben von Autobiografien // Kultur und Lebensweise. 1979. H. 2; 1980. Н. 1. S. 76ff.
{7} См.: Emmerich W. Kleine Literaturgeschichte der DDR. Darmstadt; Neuwied, 1981. S. 137ff. и особенно 196ff.
{8} См. прежде всего: Wander M. “Guten Morgen, du Schöne”. Frauen in der DDR. Protokolle. Mit einem Vorwort von Christa Wolf. Darmstadt; Neuwied, 1978; Herzberg W. So war es: Lebensgeschichten zwischen 1900 und 1980. Nach Tonbandprotokollen. Halle u.a., 1985 (западногерманское издание: Darmstadt; Neuwied, 1987); в том же был, видимо, замысел работы: Eckart G. So sehe ick die Sache. Protokolle aus der DDR. Leben im Havelländischen Obstanbaugebiet. Köln, 1984, из которой, однако, только отдельные пассажи удалось опубликовать в ГДР. Открытого диалога, подобного книге: Toranska T. Die da oben: Polnische Stalinisten zum Sprechen gebracht. Köln, 1987, не существует.
{9} См. компендиумы, такие как: Vogt D., Voss W., Meck S. Op. cit.; Rytlewski R., Opp de Hipt M. Die Deutsche Demokratische Republik in Zahlen, 1945/49–1980. München, 1987; а также исследования, такие как: Barthel H. Die wirtschaftlichen Ausgangsbedingungen der DDR. Berlin, 1979; Zank W. Wirtschaft und Arbeit in Ostdeutschland, 1945–1949. München, 1987.
{10} Синтез см. в работах: Staritz D. Geschichte der DDR, 1949–1985. Frankfurt a. M., 1985; Weber H. Geschichte der DDR. München, 1985; Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik / 2 Aufl. Berlin, 1981; см. также сборники: Die DDR in der Übergangsperiode / Hg. von R. Badstübner, H. Heitzer. Berlin, 1982; Parteiensystem zwischen Demokratie und Volksdemokratie: Dokumente und Materialien zum Funktionswandel der Parteien und Massenorganisationen inder SBZ/DDR, 1945–1950 / Hg. von H. Weber. Köln, 1982. Разбор литературы с вниманием к нюансам см. в работе: Weber H. Die DDR, 19 45– 1986. München, 1988. S. 105ff.
{11} О западногерманских исследованиях см.: Staritz D. Op. cit.; о восточногерманских: Hübner P. Forschungen zur Sozialge schichte der DDR: Arbeiterklasse. Hagen, 1988/89; Jahrbuch für Geschichte. 1984. Bd. 31.
{12} О нынешнем состоянии исследований см.: Meyer G. Frauen in den Machthierarchien der DDR, oder: Der lange Weg zur Parität // Deutschland-Archiv. 1986. Bd. 19. S. 294ff.; Kessler C. Frauenrolle und Frauenalltag in der DDR // Frauen / Hg. von I. Ostner (= Soziologische Revue. Sonderheft 2. 1987. Bd. 10. S. 149ff.).
{13} См., например: Roesler J. Die Herausbildung der sozialistischen Planwirtschaft in der DDR. Berlin, 1978.
{14} В целях обеспечения анонимности все имена, а также некоторые иные данные о респондентах изменены.
{15} Статистических данных о числе коммунистов с довоенным стажем в послевоенные годы, насколько мне известно, нет. В последние годы Веймарской республики Коммунистическая партия Германии обладала в основном молодым и очень непостоянным составом; хотя общая численность ее была около 230 тысяч, лишь небольшую долю от этого числа можно причислять к убежденному и активному ядру. Кроме того, преследования в период нацизма и эмиграция уменьшили численность этого ядра, вероятно, еще примерно на треть. В советской зоне оккупации за неполный год после разгрома Третьего рейха численность КПД составила уже 3 % населения, а в СЕПГ за два года вступило более 10 %. Таким образом, «старые коммунисты» составляли, по всей видимости, значительно менее 0,5 % населения ГДР (старые члены СДПГ – более 2 %). Самым молодым из тех, кто еще жив, сегодня около 75 лет.
{16} На эти темы подробно пишут: Stößel F.T. Positionen und Strömungen in der KPD/SED, 1945–1954. Köln, 1985. S. 557ff.; Jänicke M. Der dritte Weg. Köln, 1964.
{17} Это моя интерпретация, основанная на моем впечатлении от личности этого человека. Господин Хабер во время беседы высказал другую, которая предполагает психологические бездны как у руководства, так и у рядового состава партии. На мой взгляд, его версия несостоятельна, однако представляет собой, по-видимому, приукрашивающую рационализацию его озлобления, и в таком качестве вполне понятна. Дело в том, что по его предположению, руководство партии намекнуло товарищам на местах – практически одновременно с его падением, – что вскоре ожидается его реабилитация, и потому те обращались с ним словно с высокопоставленным функционером, лишь временно отстраненным от должности, – каковым он на самом деле не являлся. В дальнейшем я попытаюсь вывести из его слов более глубокое понимание его опыта, исходя (по принципу экономии) из менее мрачного представления о человеке.
{18} Бывший парторг народного предприятия Зигфрид Хоман (член СЕПГ), который будет представлен в следующем параграфе, рассказывал мне о функциях секретаря заводской парторганизации следующее: «Он участвует во всех заседаниях руководства. Не бывает, чтоб общее собрание руководства без партсекретарей и без профоргов, такого просто не бывает. Его вышестоящая инстанция – это округ, у них есть там районный секретарь, и они требуют информацию по предприятию. Мероприятия, которые надо осуществить, политического характера, проведение собраний, на какие темы, – это все указывает округ, ему надо только провести. И каждый день, или у нас на предприятии через день, он ведет прием, и к нему может прийти практически каждый, – по вопросу о жилплощади или по какому-то другому вопросу. Все туда. Я вам честно скажу, такую должность я бы ни за что не хотел, даже за 5000 марок не хотел бы такую должность. Это же быть ковриком для ног. Он же не может это все реализовать так, как хочет. Есть вещи, где можно разобраться, потому что глупость была сделана, такие вещи, когда говорят: „Вот этого назначаем“. Тогда он вмешивается. Он его зовет к себе. У нас ведь такого нет, чтоб, как говорится, перед строем обложить, это совершенно не принято и совершенно нелогично. Если мнение сразу людям выложить, то становится бессмысленно. Так не делают. Их вызывают. Разговор ведется только с глазу на глаз, и потом я то-то и то-то должен исправить. То есть дел у него хватает. Я бы и за 5000 марок не стал этим заниматься. [Интервьюер: «А какие люди этим занимаются?»] Ну, прежде всего люди, которые уже хорошие партийные школы прошли, которые с рождения так воспитаны, они должны быть из хорошей семьи, быть верными делу и обладать политической дальновидностью, это тоже надо. Ну и, как я сказал, много любви нужно, чтоб этим заниматься».
{19} Отец Зигфрида Хомана, рабочий-металлист, был председателем социал-демократической фракции в совете этого промышленного местечка; СДПГ там была самой сильной партией. Нацисты выгнали его не только из депутатов, но и с работы. Несколько лет он был безработным, семья страдала от политической дискриминации и бедности. Председатель же местной организации СДПГ – чиновник администрации – перешел в НСДАП и был оставлен на своей должности. А в 1945 году сложилась удивительная политическая ситуация: отец Зигфрида Хомана был бесспорным лидером социал-демократического большинства, но от всего пережитого устал; бургомистром стал вернувшийся из концлагеря старый коммунист, которого через год с небольшим сменил представитель Христианско-демократического союза Германии. При объединении рабочих партий старый Хоман все еще представлял большинство, но в руководство новой партийной организации, составленное на паритетных началах из ведущих социал-демократов и коммунистов, он уже не попал. Зато ему досталась простая работа: он стал садовником в больнице. Через несколько лет он умер. Его сын был спортсмен и рубаха-парень, в армии ему поначалу понравилось. Отец в первые военные годы напрасно пытался подорвать его веру в цели этой войны. Только в 1945 году, после трех ранений, он стал больше прислушиваться к словам отца. Тот посоветовал ему вступить в КПГ, но в то же время рекомендовал не делать политическую карьеру.
{20} Сравнение нескольких таких карьер показывает, что на путь Зигфрида Хомана продолжало отбрасывать длинную тень социал-демократическое прошлое: он уважает коммунистов как руководящую силу, антифашистской борьбой доказавшую свое право на лидерство, однако его самого на руководящие политические должности назначать не захотели. После ликвидации производственных советов (которые, впрочем, на его родном предприятии почти никакой роли не играли) его в 1948 году направили по профсоюзной линии, а потом при удачной возможности – в технические управленческие кадры. Это говорит о том, что его профессиональные качества уважали и использовали, но политических функций не доверяли. См. продольный хронологический срез идеологических позиций коммунистов и социал-демократов в ГДР: Spranger H.-J. Die SED und der Sozialdemokratismus: Ideologische Abgrenzung in der DDR. Köln, 1982.
{21} О методологических проблемах интервьюирования, воспоминания и интерпретации см. статью «Вопросы – ответы – вопросы» в настоящей книге.
{22} Во многих интервью у нас возникало впечатление, что люди в ГДР непринужденнее говорят при посторонних о своих медицинских проблемах, чем в ФРГ.
{23} Госпожа Эргер сама говорит о меланхолии своего отца.
{24} При этом следует еще раз подчеркнуть, что доля «изгнанных» в населении исчезающе мала, поэтому данная группа отчасти характеризуется региональными особенностями, а отчасти создана особыми условиями существования. Эта часть опроса проводилась в районах (прежде – отдельных промышленных предместьях) одного большого города в Саксонии, где имеется давнее оседлое местное рабочее население. Но в одном из этих районов есть крупное, сильно засекреченное предприятие, среди работников которого предположительно очень высок процент «изгнанных». Поскольку мы в этом районе опросов не проводили, количество местных уроженцев среди наших респондентов искусственно завышено по отношению к реальности.
{25} Под ближайшими родственниками здесь и далее понимаются родители, братья и сестры, супруги или спутники жизни и дети интервьюируемых.
{26} Из них одна треть – женщины. Профессиональная принадлежность родителей: 4 – ремесленники, 4 – мелкие предприниматели, 4 – чиновники (в том числе один высокопоставленный).
{27} Из них одна треть – женщины. Профессиональная принадлежность родителей: 4 – ремесленники, 4 – мелкие предприниматели, 4 – чиновники (в том числе один высокопоставленный).
{28} Один ребенок еще ходит в начальную школу.
{29} Приведенная в таблице цифра искажает реальную картину, поскольку в данную группу попали два многодетных католических пастора. Без этой «помехи» детей было бы около 10, что составляет менее половины от того числа, которое обеспечило бы воспроизводство соответствующих родительских пар.
{30} При этом большая сумма положительных или отрицательных событий (в расчете на группу и единицу времени) делилась на меньшую, так что в результате получалась величина >1. Знак + / – указывает на преобладание положительных или отрицательных событий.
{31} Здесь – слабое место этого отображения, поскольку не учитываются рождение детей и другой опыт, связанный с детьми, так как он исключительно редко расценивается как событийный. Поэтому данное утверждение надо рассматривать вместе с тем, что было сказано выше о роли женщин в воспитании детей, – или во всяком случае учитывать этот момент, потому что самоощущение женщин в значительной мере основывается, помимо всего прочего, на оценке личностного и социального развития их детей, а она обычно проявляется скорее в общей итоговой оценке.
{32} Из них одна треть – женщины. Профессиональная принадлежность родителей: 4 – ремесленники, 4 – мелкие предприниматели, 4 – чиновники (в том числе один высокопоставленный).
{33} Это значение так мало потому, что дети из мелкобуржуазных семей мечтали не о тех специальностях, которые им разрешено было получать. Дети же из рабочих семей не решались мечтать о большем и потому значительно более позитивно воспринимали те небольшие возможности вертикальной социальной мобильности, которые у них имелись. С поправкой на эти несбывшиеся мечты данное значение должно было бы составлять +2,7. Это все еще ниже, чем у юношей из рабочей среды, потому что в данной группе присутствуют женщины, а им по большей части отказывали в профессиональной квалификации.
{34} Если бы мы в этой строке исключили фактор болезни (и ухода за больными), то получились бы значения, на-гляднейшим образом демонстрирующие издержки общества, в котором господствует вертикальная социальная мобильность (а общество ГДР представляет собой выдающийся пример подобного общества): +1,2 у представителей буржуазии, не поддающееся выражению (в силу необходимости делить на 0) значение +24 у мужчин пролетарского происхождения и 7 у женщин из того же слоя.
{35} Без антисемитской дискриминации (2 случая) +6.
{36} С учетом войны; без нее около +3.
{37} С учетом плена; без него около +3,8.
{38} Без болезни +19.
{39} Из них одна треть – женщины. Профессиональная принадлежность родителей: 4 – ремесленники, 4 – мелкие предприниматели, 4 – чиновники (в том числе один высокопоставленный).
{40} В 1945 году в концлагере Терезиен-штадт вместе родителями и сестрой, которые тоже остались живы.
{41} В 1935–1945 годах – в заключении за коммунистическую деятельность.
{42} Отец, вернувшийся с Первой мировой войны с нервной болезнью, был умерщвлен в 1941 году.
{43} Трое индивидуальных предпринимателей, из которых двое ради того, чтобы получить политические гарантии безопасности для своей профессиональной деятельности, вступили в ЛДПГ; все трое занимали – в том числе длительное время – различные коммунальные должности от этой партии и от Христианско-демократического союза Германии. Сюда же относится один студент-теолог, в 1950 году вышедший из ХДСГ, который утратил его доверие.
{44} Из них один в 1946 году снова вышел из партии.
{45} Среди них – господин Хабер, госпожа Димер, один ученик слесаря, состоявший в гитлерюгенде, после войны сделавшийся старшим офицером полиции, а потом начальником отдела кадров на промышленном предприятии, и одна работница текстильной промышленности, ставшая впоследствии редактором.
{46} В том числе один бывший учитель, дважды (в 1946 и 1956 годах) уволенный со службы, и один бывший член НСДАП, впоследствии председатель профкома отдела; один техник, в свое время весьма активный член гитлерюгенда, а потом председатель конфликтной комиссии; одна дочь пекаря, служившая позже на писарской должности в профкоме предприятия, получившая профессиональное образование по торговой части, вступившая в СЕПГ и в возрасте около 40 лет ставшая заведующей отделом культуры и социальных вопросов на предприятии; и наконец, одна работница текстильной промышленности, которую в 45 лет уговорили стать председателем профкома предприятия, для чего она вступила в СЕПГ. 47 В том числе в 1940–1950-х годах – помимо случаев, уже упомянутых выше в тексте, – следующие: один член СЕПГ едет в сельскую местность за продуктами, его грабит служащий вспомогательной полиции, после чего он выходит из партии; один заместитель руководителя городской организации НСДАП в 1944/45 году по доносу арестован Красной армией и проводит пять лет в Бухенвальде, не имея возможности известить семью о своем местонахождении, а в день своего освобождения (согласно справке – «без поражения в правах») умирает; на одну женщину в 1951 году поступает донос, что она «водила дружбу с военными преступниками», и ее увольняют, а после того как спустя несколько недель доносчица эмигрирует на Запад, ее восстанавливают на работе; один человек, с 1920 по 1945 год занимавший пост бургомистра в деревне (в период Веймарской республики он принадлежал к социал-демократическому большинству) за членство в НСДАП провел пять лет в денацификационном заключении и вышел сломленным человеком; у одного владельца предприятия 17 июня 1953 года «по ошибке» отбирают его собственность, но после его заявления возвращают; у одного человека в 1950-е коллегу надолго сажают в тюрьму за политический анекдот; одного человека увольняют с высокой должности за то, что он в 1958 году публично ссылался на статью конституции, гарантировавшую свободу вероисповедания (по поводу конфирмации дочери); один пастор имел конфликт с бургомистром (христианским демократом) по вопросу о «празднике вступления молодежи в жизнь» в конце 1950-х.
{48} В их числе – одна женщина, у которой это объясняется преклонным возрастом.
{49} Из них трое – служащие среднего и высшего звена, последние – функционеры СЕПГ.
{50} Среди наших респондентов есть только одна работница, которая на выдаче товара на фабрике заработала медаль Клары Цеткин, а на наградные деньги наконец смогла купить себе японский телевизор.
{51} При этом следует учесть, что разломы и разрывы в политической культуре рабочего движения были в ХХ веке столь значительны, что неверно было бы предполагать, будто дети, как правило, придерживались той же политической ориентации, что и родители. Конфликт поколений зачастую способствовал, хотя бы на время, и занятию полярных политических позиций. См. фундаментальное исследование: Zimmermann M . Ausbruchshoffnung: Junge Bergleute in den Dreißiger Jahren// LUSIR. Bd. 1. S. 97ff.
{52} Прежде всего в американской зоне оккупации, где каждый взрослый, желавший получить продовольственную карточку, должен был заполнить анкету для денацификации; сообщенные в ней сведения часто проверялись с помощью наличных документов, которые собирались в региональные архивы. В советской же зоне денацификацию, по всей видимости, проводили в основном по месту работы, основываясь на личных делах сотрудников. В условиях послевоенной высокой мобильности такая процедура оставляла больше «дыр», особенно для людей, не имевших капитала или земельных владений и не служивших в государственных организациях. Поэтому, несмотря на строгость, с которой проводились чистки в отношении чиновников и владельцев собственности (см. об этом: Meinike W. Die Entnazifizierung in der sowjetischen Besatzungszone 1945 bis 1948 // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 1984. H. 32. S. 968ff.), не вызывают недоверия то и дело встречающиеся в наших интервью упоминания о рабочих или представителях мелкой буржуазии, состоявших в НСДАП или в СС и либо вовсе не проходивших денацификацию, либо прошедших ее самым неформальным образом.
{53} Из 71 опрошенного мужчины 41 принимал участие в войне как военнослужащий, 80 % были в плену – две трети на Западе, треть – на Востоке. Это приблизительно соответствует данным по всей Германии, согласно которым из приблизительно 11 млн немцев, побывавших в плену, около 3,5 млн оказались в СССР, а из них около 2 млн не выжили. Необычно в этих интервью то, что опрошенные часто рассказывают о длительном, по несколько лет, пребывании в западном плену.
{54} Удивительно, что нам не попался ни один из тех сотен тысяч человек, которые в начале 1950-х годов были исключены из СЕПГ (только во время большой партийной проверки было аннулировано членство около 150 тыс. человек, см.: Weber H. Op. cit. S. 221). Вероятно, эти исключения из партии отражали – и порождали – значительные потери состава вследствие миграции. Кроме того, среди исключенных могло быть большое число умерших людей, которые были сочтены виновными в «социал-демократизме». Бывших активных социал-демократов нам тоже почти не удалось отыскать. И наконец, не исключено, что тот или иной респондент мог стыдливо умолчать о перерыве в своем партийном стаже.
{55} Интервью оставили у меня впечатление (его невозможно проверить с помощью исследований такого рода), что в ГДР эта цель – мир – обладает большей непреложностью и абсолютной неоспоримостью по сравнению с ФРГ, где на первое место среди целей, важных для населения, она встает только в ситуациях, когда возникает угроза войны. В ГДР эта цель не только представляет собой платформу для единения людей любых взглядов с политическим руководством, но и прежде всего отражает тот факт, что в опыте жителей этой части Германии Вторая мировая война отделена от современности не такой большой дистанцией, потому что последствия ее были несравненно более тяжкими и ощущались всеми гораздо дольше, чем на Западе.
{56} При этом регулярно приводится тот аргумент, что опасность войны уменьшится, если вывести из игры тех, кто наживается на производстве вооружений.
{57} Это несущая составляющая общественного консенсуса: социализм приравнивается к строго бесплатному, пусть и сравнительно однообразному и не очень качественному жилью, питанию и общественному транспорту. Тем самым урезаются возможности экономических реформ, так как эти дотации поглощают значительную долю государственного бюджета и из-за этого происходит застой в удовлетворении более дифференцированных потребностей.
{58} Ходатайства и личные заявления граждан в ГДР столь же распространены, как в СССР – письма в газету. Они адресуются городским, окружным советам, но прежде всего председателю Государственного совета, который выступает в роли верховного омбудсмана. Для граждан они – инструмент борьбы с инертностью бюрократии, потому что в отличие от заявлений, подаваемых в бюрократические инстанции, на ходатайства приходят ответы с обоснованиями. Для партии они, подобно отказу от голосования на выборах, – сейсмограф, показывающий, чем граждане недовольны. Окружные партийные органы периодически запрашивают у государственных инстанций данные о числе, происхождении и предметах полученных ими заявлений. Ходатайства, подаваемые в Государственный совет, могут касаться личной дискриминации человека, содержать просьбу о выделении газового обогревателя женщине, больной ревматизмом, или разрешения на ремонт крыши церкви. Успех зависит, помимо всего прочего, и от настойчивости отправителя: ведь в первом раунде эти письма передаются на рассмотрение тем самым инстанциям, которые до сих пор ничего не сделали. Поэтому сначала проситель зачастую получает только отписки и отговорки. В случае повторного обращения пометка о передаче на рассмотрение, видимо, для этих инстанций уже более неприятна; во всяком случае на второй или третий раз граждане очень часто добиваются того, о чем просили. Десятки тысяч людей обходят таким путем бюрократические трудности. Добившись успеха, многие из них благодарят за него лично главу государства и рассказывают об этом так, словно государственная услуга была личным подарком им от «генерала». Тем самым в народе закрепляется старинный, типично монархический паттерн. СЕПГ тоже набирает очки за счет антибюрократизма, но характерно, что и тут это происходит не столько на уровне низовых организаций, сколько через руководителя партии в роли руководителя государства. В таких обстоятельствах сторонники демократических преобразований в СЕПГ ставят на первое место в своем списке приоритетов учреждение независимых административных судов.
{59} Одним из наиболее запоминающихся побочных впечатлений, которые мы вынесли во время наших поездок по промышленным районам ГДР, было то, что интеллигенция там представлена минимально и мало знакома с этими районами. Политические и интеллектуальные силы (в том числе реформаторски или оппозиционно настроенные) сосредоточены в столице и в немногих крупных городах в такой же степени, какая характерна для Франции.
{60} Эта машина, обеспечивающая консенсус в западных обществах, не может быть заменена ни социальными ролевыми играми, ни символической репрезентацией расхождений, ни процессом согласования экономических интересов между партнерами по блоку. На локальном же уровне наблюдаются попытки партий «антифашистско-демократического блока» продемонстрировать собственный профиль: отчасти они перенимают политические темы у западных гражданских инициатив и играют на большей подвижности сателлитов по сравнению с главной партией – СЕПГ.
{61} У людей, опрошенных нами, эти фантазии гораздо реже, чем на Западе или у молодых восточногерманских интеллектуалов, направлены на Горбачева. Отчасти это – проявление выжидательной позиции по отношению к любой «политической погоде», отчасти же за этим стоят экономические причины, потому что в этом аспекте Советский Союз, как представляется, больше нуждается в реформах, нежели ГДР. Культурные и демократические импульсы, исходящие из СССР, менее важны для старшего поколения восточных немцев. В разговорах с нами, однако, Горбачева несколько раз сравнивали с Вальтером Ульбрихтом, который, как говорили наши собеседники, еще пытался бороться с коррупцией и инертностью среднего слоя бюрократии, лично вмешиваясь в дела на местах.
{62} В большинстве своем это были люди, не активные политически.
{63} В нашем примере это были шесть освобожденных заводских партийных и профсоюзных функционеров (в том числе служащих, например кадровиков, редакторов и т. д.), в основном женщин, которые получали значительно меньше, чем государственные и технические административные чиновники, руководившие теми же предприятиями. Никто из этих функционеров до 1933 года не состоял в какой-либо левой партии и не происходил из семьи члена КПГ или СДПГ, а тем более – жертвы нацистского режима; наоборот, половина из них имеют по крайней мере одного близкого родственника с нацистскими взглядами или сами в течение какого-то времени были увлеченными членами гитлерюгенда или Союза немецких девушек. Правда, если верить словам этих функционеров, в НСДАП никто из них не состоял.
6 Что вы делали 17 июня? или Ниша в памяти
I
В Восточной и Центральной Европе 17 июня 1953 года выделяется как главное событие в истории ГДР: в этом регионе это было первое после смерти Сталина крупное народное выступление против сталинизма. Однако по сравнению с тем, что было в Венгрии и Польше в 1956 году, в ЧССР в 1968-м, а потом в Польше и Венгрии в 1980-х, этот протест в ГДР, длившийся один-два дня, представляется по своему характеру неясным и спорным; во всяком случае это волнение было коротким, но произошло оно на самом раннем этапе существования Германской Демократической Республики. В ходе ее истории это был переломный момент, каких не было потом вплоть до распада этого государства осенью 1989 года. Это был спонтанный протест, за один день распространившийся на большинство городов и промышленных зон страны и сразу поставивший под угрозу существование государственного строя. С точки зрения соседних стран характерными чертами этого конфликта стали именно его ранняя дата, угроза для существования государства и неповторимость. На протяжении последующих 36 лет – дольше, чем в любой другой из индустриальных стран социалистического лагеря, – общественные конфликты в ГДР удавалось гасить – правда, после постройки Берлинской стены достигалось это ценой небывалой самоизоляции от другой части немецкой нации.
Восприятие этого раннего конфликта в публичной сфере было с самого начала в высшей степени политизированным и связанным с вопросом о существовании ГДР как государства. Руководство СЕПГ обличало протесты 17 июня как организованную фашистами и западными империалистами попытку путча, которая нашла отклик в народе из-за ошибок руководства ГДР (а именно из-за слишком быстрого продвижения вперед при построении социализма). После разгрома этого путча Советской армией и замедления темпов обобществления экономики единство руководства и народа вновь восстановлено, говорила официальная пропаганда. В публицистике и исторической науке ГДР конкретное рассмотрение событий этого дня было пресечено, документы исчезли, посвященные говорили, что в событиях приняли участие 6 % населения, и не забывали прибавить, что количество бывших нацистов в ГДР составляло, по оценкам, столько же. Многочисленные участники – и те, кто выступал от имени протестующих, и те представители государственных и партийных органов, о ком говорилось, что они «дали слабину», – подверглись преследованиям и увольнениям; многие, не дожидаясь репрессий, бежали в Западную Германию. Этот шлейф преследований и запретов в такой же мере, как и преемственность правителей, и реакция со стороны ФРГ, способствовали тому, что официальную легенду невозможно было подвергнуть пересмотру.
В Западной Германии события 17 июня 1953 года большинством рассматривались как надклассовое национальное и антикоммунистическое «народное восстание» против Советского Союза и его наместников в «Зоне». Этот день был объявлен в ФРГ национальным днем памяти, т. е. сделан орудием тогдашнего западногерманского правительства в борьбе за прерогативу единоличного представительства всей Германии. Но такая интерпретация стала расшатываться уже через десять лет, когда ФРГ после строительства Берлинской стены стала проявлять готовность смириться с существованием двух немецких государств. Во-первых, по мере того, как формировалось свое отдельное чувство «мы» у населения ФРГ, интерес общественности к событиям 17 июня ослабевал, а с изменением политического курса по отношению к ГДР празднование этого дня стало превращаться в политическую неприятность. Во-вторых, историки обработали те источники, которые были доступны на Западе, и утвердили новое прочтение событий, определив их как «протест рабочих», т. е. как внутреннюю проблему ГДР. При этом исследователи указывали на то, что основную массу участников демонстраций и забастовок составляли именно работники промышленных предприятий, а также на то, что поводом к началу волнений явилась дискриминация рабочих: в отношении среднего класса чересчур поспешные меры по переходу к социализму были в рамках нового политического курса отменены, а одновременно введенные повышенные нормы выработки для рабочих – нет.
После того как режим СЕПГ не смог ни принять новую европейскую политику Горбачева, ни удержаться без опоры на СССР, эпоха существования двух немецких государств завершилась расширением ФРГ до самого Одера. Внутренними движущими силами этого объединительного процесса были, во-первых, поток молодежи, двинувшийся на Запад в последние шесть месяцев существования ГДР, а во-вторых, осенние демонстрации за либерализацию режима, превратившиеся в общенациональное движение за присоединение к ФРГ. Не только результат действия этих факторов – конец существования ГДР, – но и вопрос об аналогии в динамике процессов сделали вновь актуальной интерпретацию событий 17 июня как первоначального конфликта ГДР. Сегодня есть возможность использовать восточногерманские источники.
Так было ли это в самом деле народное восстание? И если да, то что это могло означать? Иными словами: можно ли считать, что у ГДР не было своей истории, своего пространства опыта, а четыре десятилетия ее существования были остановившимся временем, которое началось и закончилось демонстрациями, где люди скандировали сначала «Мы – народ!», а потом формулировка очень скоро поменялась и они начинали скандировать «Мы – один народ!»? Было ли для Восточной Германии время между 1953 и 1989 годами лишь замороженным мгновением, в течение которого ничего не изменилось и только люди состарились? Или это все же были два разных народа – один, который через восемь лет после крушения рейха вышел на улицы протестовать против Ульбрихта, и другой, который сверг сначала старцев, потом флюгеров [26] , а потом, после нескольких недель бесперспективности, от недостатка альтернатив высказался словами Иоганнеса Бехера [27] в пользу Запада и наконец, придя к избирательным урнам, призвал черного великана [28] , избрав квалифицированным большинством голосов старые силы СЕПГ и сделав их как бы своим заводским профсоюзным комитетом в национальном споре о плате за объединение (но члены этого профкома оказались совершенно неискушенными в конфликтах такого рода)?
Если взглянуть на ГДР глазами ее восточных и южных соседей, то в период между серединой 1950-х и серединой 1980-х годов она представляла собой общество вытесненных и подавленных конфликтов, потому что там людям предлагалось – в рамках социалистических условий – сравнительно много социальных шансов, и потому что эта страна была образцово-показательной моделью соцлагеря и младшим партнером Советского Союза в кругу отсталых, менее ориентированных на достижения или более конфликтных обществ. Теперь, когда Восточная Германия переселилась из бельэтажа социалистического дома призрения неимущих в мансарду капиталистического дома торговли, может показаться, что имеет место некая традиция выбора в пользу Запада, и тогда между выбором, сделанным СССР в пользу ГДР, и выбором, сделанным ею в пользу ФРГ, скроется ее собственная история. Но опыт людей таким образом не высвобождается.
Будучи внешним наблюдателем, который не может предвосхищать результаты не проведенного еще исследования, я не хотел бы делать вид, будто я – человек с Запада – уже знаю, как все было на самом деле. Но я хотел бы представить здесь некоторые результаты анализа биографических интервью, которые мы смогли записать в 1987 году в промышленных центрах ГДР. Среди прочего мы спрашивали респондентов: «Где вы были 17 июня?» или «Что вы делали в этот день?» Я исхожу из предположения, что опыт, приобретенный тогда, предопределил – а точнее, ограничил – будущие возможности восприятия и действия, т. е. что переработка событий 17 июня в памяти может сказать нам нечто о политической культуре ГДР в целом. И я хотел бы эту переработку – хотя бы приблизительно – вставить в контекст биографий до и после 1953 года, чтобы внести вклад в разгадку загадки: почему ГДР после 17 июня развивалась успешнее, чем Чехословакия, но казалась менее конфликтной, чем Румыния?
Пожалуй, еще одно предварительное замечание: многим людям в бывшей ГДР, которые сегодня разрываются между ощущением, что Запад их осыпал подарками, и ощущением, что он лишил их всего, моя постановка проблемы может не понравиться, потому что им может показаться, что вот явился еще один всезнайка с Запада, который утверждает, будто ему о них известно больше, чем им самим. Но я этого не утверждаю. Скорее я задаю вопросы, да и то лишь потому, что мне и моим коллегам – Александру фон Плато и Доротее Вирлинг – довелось обстоятельно опросить больше респондентов в ГДР, чем при «старом порядке» разрешено было даже восточногерманским историкам.
II
Начну с одного наблюдения, которое сразу подводит нас к центральной проблеме: как связывается личный опыт с коллективной памятью? Наблюдение это заключается в том, что среди наших собеседников – а это были люди, которым в 1953 году было от 18 до 55 лет, – заговаривали по собственной воле о событиях 17 июня только члены, особенно функционеры, СЕПГ. Очевидно, официальная легенда об империалистическом путче и поддавшихся на его посулы массах давала им такую прочную основу для рассказа о пережитом ими лично, что они не боялись затронуть эту чреватую конфликтами тему. А ни у кого из тех, кто сам участвовал в демонстрациях или хотя бы смотрел на них со стороны, такой прочной основы для рассказа не было. Только после дополнительных вопросов нам удавалось что-то от них узнать, и то не всегда. Причина не могла быть в том, что о событиях 17 июня не было известно или они не имели для интервьюируемого большого значения, ведь все наши респонденты, даже если в остальном датировки вызывали у них затруднения, при словах «17 июня» сразу понимали, о чем мы их спрашиваем. Лишь один раз нас переспросили, какой год мы имеем в виду. Переспросила 26-летняя внучка нашего респондента, случайно присутствовавшая при беседе, и вызвала этим неудовольствие деда. Для современников день 17 июня и постройка Берлинской стены – две самые памятные даты в истории ГДР. Воспоминания о них поддерживались западными СМИ, выступавшими как бы в роли внешней коллективной памяти, однако в самой ГДР эти воспоминания относились к внутреннему кругу приватных тем, куда доступ можно было получить только путем дополнительных расспросов после того, как было установлено доверие между интервьюером и респондентом.
В принципе можно выделить три типа реакции на такие расспросы.
Довольно большая часть опрошенных отвечала, что с ними в этот день ничего не происходило. Как правило, это обосновывали тем, что находились за городом или на юго-востоке республики, где радио RIAS Berlin не принималось, т. е. они хотели сказать, что узнали о событиях, которые в Берлине продолжались два дня, а в других промышленных центрах ГДР один день, только когда уже все кончилось. Несколько респондентов уверяли нас, что не могут ничего вспомнить, потому что тогда у них еще не было телевизоров. Однако такое описание способа восприятия политических событий отталкивается скорее от реалий позднейших времен, когда вся территория ГДР находилась в зоне охвата западных средств массовой информации, а не от ситуации начала 1950-х годов, когда главными были радио и слухи. Одним из вариантов не-ответа на вопрос был открытый отказ, но он свидетельствовал не о недостаточном, а, наоборот, о слишком сильном переживании. Так, например, один сталевар, когда в парном интервью с ним и его женой был задан этот вопрос, с улыбкой и множеством извинений срочно отпросился в туалет, а после возвращения так и не дал направить разговор на эту тему. Или один электрик в Биттерфельде, который уже на вопрос, почему он не член СЕПГ и сказывается ли это негативно на его жизни, со вздохами отвечал, что это – вопросы, которые заходят слишком далеко; на вопросы же о 17 июня он отвечал так:
...
– Что вы делали 17 июня?
– Был с друзьями здесь на Рыночной площади.
– Да? Здесь разве что-то серьезное происходило?
– Да.
– А почему вы принимали в этом участие?
– Не хотел бы вдаваться в это: у меня там в задней комнате окно открыто. Оставим это. Не буду.
Те сравнительно немногочисленные респонденты, которые признали, что активно участвовали в забастовках и демонстрациях (о содержательной стороне их воспоминаний я скажу ниже), делали это только ближе к концу разговора, после того как устанавливались более доверительные отношения и интервьюер еще раз сообщал им, что наши кассеты не будут контролироваться при вывозе из ГДР. Кроме того, они почти не опасались санкций на тот случай, если их сообщения будут направлены куда следует, потому что двое из этих респондентов были уже глубокими стариками, третий был в 1953 году слишком молод, четвертая не работала, а пятый перед интервью выпил для храбрости – он, кстати, и в СЕПГ вступил в 1948 году спьяну, во время праздника на заводе, а потом не решался из нее выйти. В Третьем рейхе он служил в элитном воинском подразделении, его отец был активным национал-социалистом, сделал карьеру, живя в Вартегау, а когда эта территория отошла в 1945 году обратно к Польше, покончил с собой. Теперь этот наш собеседник был особо заслуженным и уважаемым рабочим, но здоровье его было подорвано, и он вот-вот должен был досрочно уйти на пенсию. Из оставшихся четверых трое тоже пользовались в ГДР общественным уважением, а прежняя их жизнь была прямо или косвенно связана с национал-социализмом: один из пенсионеров заведовал коммерческим отделом большого завода, был членом НСДАП, поклонником прусского офицерского корпуса и антисемитом, но, несмотря на это, его в советской оккупационной зоне не денацифицировали и даже не уволили с работы. Наоборот, в 1954 году он поднялся еще выше и ему предложили вступить в СЕПГ, от чего он, правда, отказался. Его дети пошли в жизни самыми разными путями – от партийного функционера до жены священника. Второй респондент из этой категории был специалистом по садоводству и активным христианином, пользовался уважением у себя в общине за образованность и рассудительность; его личность сформировалась под влиянием членства в молодежном движении, а потом в гитлерюгенде – он до сих пор ежегодно устраивает встречи товарищей по этой организации, на которые собираются по несколько десятков поседевших друзей юности. Третий в 1953 году был еще учеником мастера; его отец – нацист – после смерти жены в 1950 году подался на Запад, бросив в ГДР двоих сыновей-подростков. Этот респондент стал руководителем отдела производственного обучения на большом предприятии и в преддверии экзамена на мастера на всякий случай вступил в Либерально-демократическую партию Германии, но активным членом ее не был: его интересы были направлены на педагогическую работу и постройку весьма солидного собственного дома. И наконец, в этой группе была одна женщина – уборщица, которая всегда жила в стесненных условиях и 17 июня маршировала вместе с остальными, потому что с обочины дороги увидала среди демонстрантов своего мужа; он работал рассыльным, состоял в свое время в НСДАП и СА, а с войны вернулся с тяжелыми ранениями.
Возможно, этот набор биографий выглядит так, словно я хотел подкрепить тезис СЕПГ о фашистском путче. Вовсе нет, я просто характеризую тот фоновый опыт, который имелся у людей, признавших в интервью с нами свое участие в событиях 17 июня. В большинстве своем наши информанты живут в городе, который раньше был оплотом левого рабочего движения; о нем известно, что события 17 июня были там особенно бурными: акции начали кадровые рабочие с нескольких комбинатов, и они же были их основной движущей силой. В забастовочном комитете, неформально избранном на собрании, в котором участвовало около 50 000 человек, не было ни одного нациста, зато были социал-демократы и даже один коммунист. Большинство тех, кто стояли во главе стачек, потом подались на Запад, а из оставшегося меньшинства не многие прожили долго после выхода из тюрьмы, где некоторые провели длительное время. Во всяком случае на месте былых событий никого из тогдашних активистов найти не удалось, а те, кто сегодня признавались, что участвовали в демонстрациях, не принадлежали к активному их ядру. Тот факт, что они вообще признавали свое присутствие, связан, как представляется, в первую очередь с тем, что они уже больше не хотели или не могли продвигаться по общественной лестнице, а в силу своего прошлого, связанного с Третьим рейхом, в ГДР занимали политически маргинальное положение, что позволяло им с большей легкостью преодолеть собственную осторожность в разговоре с человеком с Запада. Иными словами: активная память о 17 июня в ГДР не рассматривалась как что-то положительное.
Третий тип реакции наших респондентов, не состоявших в СЕПГ, не только встречался намного чаще, но и был, на мой взгляд, особенно характерным для фрагментированной памяти восточногерманского общества. Речь идет об «информированной непричастности». Этот тип – соединение высокой степени информированности с низкой аффектацией и участием – уже в 1950-е годы был отмечен (например, Льюисом Эдингером) как характерное наследие, полученное демократией от тоталитаризма. В нашем исследовании оно порождало порой курьезные картины.
Так, например, на мой стандартный вопрос о 17 июня один начальник опытного садоводческого хозяйства при химическом заводе ответил: «Ну, это, опять же, связано с пчелами». Дело в том, что его хобби – пасека, и как раз в тот день он отправился на велосипеде в Делич, чтобы забрать у одного коллеги рой пчел. Даже в Деличе все были на улицах, но он – с роем пчел на багажнике – должен был как можно скорее проехать сквозь весь городок, и потому может с полным основанием утверждать, что все видел, но ни в чем не участвовал.
Другой респондент – приходской священник из Фюрстенберга – лишь мельком, проходя мимо, видел издали, как строители громили ратушу и срывали транспаранты с лозунгами и как потом приехали танки: сам же он по средам вечером всегда ходил к своему другу-врачу играть в бридж, и запомнил он все это потому, что в тот вечер ему пришлось повернуть обратно, так как был введен комендантский час. Женщина, старший бухгалтер из города, переименованного незадолго до событий в Сталинштадт, рассказывает, как она ранним вечером неподалеку от вокзала увидела колонну демонстрантов, в которой шли рабочие с самой большой стройки республики и несли транспаранты: «Они радовались, что оккупация, наверное, кончилась, что они смогут избавиться от русских, но не прошло и получаса, как приехали танки, и все это было разбито, т. е. за час все было кончено». Это проективная интерпретация: вывода советских войск забастовщики почти нигде не требовали, демонстрации в этом городе, насколько известно, проходили только утром и в полдень, а русские танки прибыли лишь вечером. Тем не менее интервьюер спросил у респондентки, почему она не пошла вместе с демонстрантами, и получил такой ответ: «Да потому что я поезда своего ждала!» Один бригадир каменщиков из того же города рассказывает, что еще утром заметил, как его коллеги снимают спецовки. Сам он, кстати, прежде тоже был членом СА в Восточной Пруссии, но, несмотря на «изгнание», находился в этот момент на квалифицированной должности, с перспективами. Он был за порядок, но без своей бригады сделать ничего не мог, поэтому и не бастовал, и не работал, а принес себе из столовой бутылку вина, сел на стройплощадке на ящик и весь день так просидел. Один сцепщик с сортировочной товарной станции в Биттерфельде (он был старым социал-демократом, но в 1933–1945 годах сумел удержаться на должности государственного служащего) рассказывает, что он тоже заметил еще утром, как рабочие с заводов парализуют всю работу в городе. Тогда он взял несколько бутылок пива, пошел на свой садовый участок и пил до вечера.
Еще более удаленный наблюдательный пост занял один рабочий химической промышленности, бывший солдат войск СС: он за работу в воскресенье взял посреди недели отгул и, «слава богу», поехал к матери за город убирать сено:
...
Это только хорошо, что я там на лугу был… И тут вдруг показались наши, с работы. Я говорю: «Что такое сегодня?» – «Ах, да ты, наверно, и не знаешь ничего». – «Нет», – говорю. «Да ты что, там бастуют. Весь завод бастует». – «Да ну», – я говорю. «А ты что думал?» Тут я про все и узнал. А на другой день поехал туда. Сначала поглядел, что творится. Да. Все тихо. Все стояло. А потом приехали эти с русскими и стали палить в воздух.
Три дня завод, на котором обычно работают круглосуточно, стоял. Наш собеседник снова приступил к работе только в воскресенье. Потом, добавляет он, много изменилось, «и улучшилось отчасти»: потом ведь наступили самые лучшие годы, когда все купить можно было.
Что способствует конструированию таких тыловых наблюдательных постов, выжидательных промежуточных позиций и попутных свидетельств в памяти? На первый взгляд может показаться, что все просто так и было, и в некоторых случаях (например, в последнем), такого объяснения может быть достаточно. Но в большинстве случаев утверждение, что рассказчик видел все мельком и издали, скрывает за собой два обстоятельства: во-первых, личное участие и отношение к событиям, а во-вторых – тот факт, что восприятие когда-то наверняка было гораздо более многогранным, а потом наблюдатель выбрал и зафиксировал эту единственную точку зрения в той нише своей памяти, где уже одно только пространственное расположение данной точки делает его неуязвимым. К тому же благодаря этому отпадает необходимость четко формулировать собственное мнение, которое можно вместо этого выразить в форме рассказа о других людях.
Этот уход в пассивность был выгоден по нескольким причинам и одновременно соответствовал амбивалентности описываемого явления. От начала до краха протестного движения прошло всего несколько часов, и рухнуло оно не в бою с вооруженной силой: достаточно было этой силе просто появиться, и прежний порядок был восстановлен. Во многих местах толпа разошлась еще до прибытия танков, и люди поодиночке наблюдали их появление и патрули советских солдат. Столкновения с войсками, которые, по свидетельству очевидцев, имели место в Берлине, ни в одном из рассказов наших респондентов в провинции не упоминаются. Началу протеста не предшествовал также никакой публичный процесс разъяснения его характера и целей, так что аргумент СЕПГ, согласно которому многие присоединились к движению, не зная, о чем, собственно, речь, имеет под собой некоторые основания. Во всяком случае потом, задним числом, на это могли ссылаться многие, пошедшие на попятную, собенно члены партии, присоединившиеся к демонстрантам, приводили нам этот аргумент, чтобы реабилитировать себя: ничего не знали, пошли со всеми. Политический контроль и производственная дисциплина были ужесточены только несколько месяцев спустя, а в первые дни и недели они, похоже, были ослаблены, так что люди могли открыто высказываться, на предприятиях были созданы конфликтные комиссии, в состав которых были включены и забастовщики. Были отменены повышенные нормы выработки и началось улучшение материального благосостояния в рамках «Нового курса».
Общеполитические импликации протеста были блокированы символическим появлением вооруженной силы. Благодаря этому он был сведен к экономическим требованиям, которые, казалось, были сняты последующими улучшениями материального положения рабочих. Среди старшего поколения жителей ГДР было много людей, которые, подобно одному из наших собеседников, вспоминали 1950-е годы как лучшие годы своей жизни, потому что тогда было уже и еще можно купить все, что позволял кошелек. Отсутствие политических альтернатив обрекало массы на пассивность и ограничивало их интересы чисто материальной сферой. Те составляющие протеста 17 июня, которые в кратчайшие сроки после начала движения превратились в требования государственного переворота и свободных выборов и в выражение национального чувства, впоследствии не только замалчивались в публичной сфере из-за цензуры, но и в приватной сфере о них все труднее становилось рассказывать. В нише памяти осталась в итоге только картина автономного волнения, которое снесло границы дозволенного и вывело на поверхность то, что было вытеснено. Волнение кончилось неудачей и было сурово осуждено новым-старым режимом, поэтому приходилось от него дистанцироваться, но воспоминание о неожиданной возможности такого протестного движения осталось – правда, возможность эта не воспринималась людьми как нечто реальное и касающееся непосредственно их самих.
III
Как уже говорилось выше, по собственной воле сочинять историю произошедшего стали не участники и не свидетели событий 17 июня, а их противники – партийные функционеры. Только они в наших интервью либо сами заговаривали на эту тему, либо почти никогда не отказывались отвечать на наши вопросы о ней. Причин тому две. Одну я уже назвал: они опирались на официальную коллективную память. Вторая же причина была противоположная: они ощущали себя в оборонительной позиции по отношению ко второй, неофициальной публичной сфере, в которой царили западные средства массовой информации, смыкавшиеся с неофициальными мнениями, курсировавшими в народе. Особую роль сыграло еще и то, что в ФРГ 17 июня было объявлено государственным праздником, в силу чего некоторые члены СЕПГ переоценивали значение этого дня для западных немцев. Во всяком случае несколько раз наши собеседники намекали, что, по их мнению, этот «день памяти» был своего рода государственным трауром по неудавшемуся так называемому «дню Икс», т. е. дню, когда ФРГ собиралась разнести ГДР. Надо добавить, что этот «день Икс» был известен только официальной пропаганде ГДР: западные немцы ничего о нем не знали.
Наряду с тремя описанными здесь типами воспоминаний о 17 июня отдельный тип образуют воспоминания членов СЕПГ. Этот главный тип воспоминаний может сочетаться с двумя подтипами или вытесняться ими. Главный тип представляет собой стремление личным свидетельством подтвердить официальную легенду о фашистском или империалистическом путче и о том, как его зачинщики сумели с помощью ложных обещаний повести за собой народ. Первый подтип таких воспоминаний – когда сам рассказчик был среди обманутых и присоединился к демонстрации, поскольку всегда ходил на демонстрации, а тут лишь с опозданием заметил, что демонстрация не официальная, а направлена в конечном счете против режима. Второй подтип – когда день 17 июня описывается как ситуация пробуждения, в которой рассказчик, особенно если он был тогда молодым человеком, осознал, что народная собственность в опасности, что возможны диверсии, и поэтому в дальнейшем стал «более общественно активным»: как правило, это означает вступление в партию или в заводскую дружину (это были такие отряды, в которые объединяли рабочих, чтобы после 17 июня подчинить их военной дисциплине).
Проблематичность главного типа партийных воспоминаний состоит в том, что, когда рассказчик хотел подтвердить официозную легенду примерами из собственного опыта, – прежде всего это воспоминания о массах рабочих, виденных в тот день, и о том, как сам респондент правильно себя повел, – рассказ не ладился и в конечном итоге история либо вовсе разваливалась, либо ее приходилось сокращать настолько, что она утрачивала убедительность. В этом смысле коллективная память существовала лишь на бумаге; когда нужно было выразить ее в рассказе, основанном на личном опыте, воспоминания самих функционеров подрывали ее конструкции.
Ритуальное требование выдержать испытание на верность партии подразумевало, что человек и в критической ситуации не откажется от своей партийной принадлежности и заявит об этом так, чтобы подать пример массам. Но это было либо абсолютно безрезультатно, либо рискованно. В Биттерфельде главного партийного функционера при такой попытке толпа скинула в ближайшую речку; руководитель профсоюза на одном химическом предприятии с изумлением обнаружил, что те, кого он считал своими коллегами и товарищами, шли мимо него колонной по восемь человек в ряд и не обращали никакого внимания на его увещевания. Один молодой функционер, вышедший на улицу в униформе «Службы во имя Германии» – добровольного трудового отряда Союза свободной немецкой молодежи [29] – в мгновение ока остался в одних трусах. Начальник отдела кадров городской администрации, возвращавшийся с небольшого завода – единственного, который не был охвачен забастовкой, потому что там в этот день должны были выдавать зарплату, – приближаясь к зданию партийного комитета, увидел, что демонстранты выкидывают из окон бумаги и портреты. Он быстро подхватил под руку одну верную соратницу по партии, и они прикинулись влюбленной парочкой, чтобы пройти неузнанными сквозь «разбушевавшуюся толпу».
Другой респондент – будущий профсоюзный руководитель – в качестве доказательства своей верности партии рассказывал, что в тот день он не бастовал, а продолжал работу; когда же интервьюер расспросил его об этом подробнее, выяснилось, правда, что он – тогда еще член партии – работал на центральном телефонном коммутаторе завода и один из представителей забастовочного комитета попросил его оставаться на своем посту.
В Галле одна партийная функционерка, сидевшая дома с маленьким ребенком, решила продемонстрировать свою верность партии тем, что, отправившись с малышом в поликлинику в центре города, не сняла партийный значок. Но за несколько кварталов до цели, увидев толпы народа, она вынуждена была повернуть обратно, и тогда, как она рассказывает, она вынула ребенка из коляски и прижала его к своей груди. Отвечая на дополнительный вопрос интервьюера, она признается, что угрозы для ребенка не было: просто ей было противно снимать партийный значок.
Одна активистка Союза свободной немецкой молодежи – а прежде нацистского Союза немецких девушек – уже рано утром увидела на заводе вокруг себя «несколько лиц с угрожающим выражением» и сбежала от одного их вида; она явилась в распоряжение партийного руководства, которое окопалось на административном этаже завода SAG. Свою верность партии наша собеседница и находившиеся под ее руководством подростки из общежития отдела производственного обучения доказали тем, что делали бутерброды и носили кофе для сбежавшего начальства. Впоследствии эта женщина доросла до директора завода и в интервью подчеркивала, что своим тогдашним ученикам она написала в личные дела хвалебные характеристики, обеспечившие им карьерный рост.
Вообще в этом индустриальном районе Восточной Германии нам только один раз рассказали о том, как человек действительно успешно демонстрировал свою верность партии, т. е. не прикрывал отступление, не участвовал в патрулировании территории завода уже после того, как все кончилось, и не обращался за помощью в советский гарнизон, а устроил встречную демонстрацию. Эту историю рассказал нам старый социал-демократ, один из соучредителей местной организации СЕПГ, от которого уже в 1950 году коммунисты из заводского партийного начальства избавились. В порядке выходного пособия ему дали место коменданта в здании партийной школы, поэтому его верность партии осталась непоколебленной. Когда демонстрация, возглавляемая одним мастером, бывшим социал-демократом и членом производственного совета, проходила мимо партшколы и демонстранты попытались сорвать висевшие там плакаты, комендант со своими овчаркой и догом вышел на крыльцо и пригрозил спустить собак с поводка. Плакаты остались на месте. Они возвещали о том, что недавно жилой массив при сталелитейном комбинате «Ост» получил название «Сталинштадт».
Такая нонконформистская отвага встречалась редко. Чаще в рассказах звучал мотив страха и удивления. Как правило, респонденты открыто говорили, что рабочие волнения начались совершенно неожиданно, «как гром среди ясного неба». При этом у рассказчиков полностью отсутствовала какая бы то ни было рефлексия по поводу того, почему партийный аппарат дал так себя застать врасплох и почему оказались по разные стороны баррикад рабочие и те, кто якобы были их руководящей и направляющей силой. Некоторые респонденты говорило о «разбушевавшейся толпе», о «буянах», против которых следовало бы разрешить применять оружие. Большинство же говорили о заговоре, причем никогда не называя поименно тех фашистов или западных империалистов, которые стояли за кулисами событий (между тем называемые по имени предводители забастовщиков были, как правило, известными прежде в городе социал-демократами). И наконец, отчужденность от рабочего базиса заложена часто в неуклюжих и самообличительных кодах функционерского языка, например, когда говорится, что «тогда была еще довольно большая часть трудящихся, которые не были политически подкованы и практически оказались сбиты с толку»; другой пример: дочь пекаря, прилежная студентка, в начале 1953 года вступила в партию, чтобы соответствовать критериям для должности редактора заводской газеты; она не понимала, как это рабочие могли подняться против своего государства, и объясняла это нам их необразованностью: «Коммунист – это должен быть очень образованнейший человек, а таких-то у нас ведь еще очень немного, надо честно сказать, потому что это – в перспективе, когда меня уже на свете не будет». Или такой пример: наш собеседник признает, что изменения линии партии часто оказываются необходимы, но добиваться их с помощью забастовок и демонстраций – это «нам чуждо».
Это сказала одна из немногих женщин среди «капитанов индустрии» ГДР, директор большого комбината, дочь рабочего, во время войны учившаяся в нацистском педагогическом вузе. В июне 1953 года она была женой директора местной партийной школы и хотя (или именно потому что) она была на восьмом месяце беременности, 17-го числа ее на служебной машине отправили в Берлин для передачи секретных документов в окруженный толпами демонстрантов Центральный комитет СЕПГ. Но уже на окраине города стало понятно, что на служебной машине проехать не удастся, и ей пришлось, прикрываясь своей беременностью, совершить изнурительный пеший марш, причем шофер, пошедший с нею вместе, постоянно уверял ее, что они уже почти пришли. Понятно, почему ей этот день запомнился как «сплошное мучение», тем более что, как она добавляет, «было жарко, как в пекле».
Берлинская сводка погоды гласит, однако, что в тот день был дождь. Жарко было в другом смысле. Но перевод политических ощущений в метеорологические метафоры («погоды на дворе», «оттепель») имеет в ГДР особую традицию, характеризуя большую политику как сферу в одно и то же время предзаданную и переменчивую, изменить которую человек не может, а должен к ней приспосабливаться. Те, кто приспособились к холодной войне, были не готовы к внезапно наступившей жаре. Такого рода проективные метафоры для обозначения страха и экзистенциальной неуверенности, которые возникли у функционеров при виде вырвавшихся из оков народных масс, встречаются то и дело в их воспоминаниях об этом неожиданном дне.
А вот еще один пример: уже упоминавшийся кадровик, который сожалел, что партийным функционерам не раздали оружие, в первый день наших бесед упомянул, что его жену грозились убить. В дальнейшем ходе разговора, при котором жена присутствовала, он поправил себя, сказав, что ей угрожали «бузотеры». Потом жена рассказала, как было дело: она была с маленькими детьми дома, и когда по улице пошла колонна демонстрантов, она почувствовала для себя в этом угрозу и заперлась в квартире, потому что ей показалось, что кто-то «возится» у дверей. Никаких угрожающих выкриков с улицы она припомнить не смогла, только сказала: «По человеку же видно, с дружескими намерениями он идет или с угрозой». Ее муж, который в это время изображал с коллегой парочку влюбленных перед зданием партийного комитета в «орущей толпе», предлагает стереотипную формулу для того страха, который испытала она у себя в жилом районе: «Горлопанили: „Пора сводить с вами счеты!“», но жена уточняет: «Некоторые это слышали. Я сама-то от страха даже и не услыхала».
IV
Путем расшифровки таких метафор и проекций мы попадаем на другой уровень истории опыта событий 17 июня: уровень конфликта чувств и их предысторий. Но, чтобы правильно определить историческое место этого конфликта, я хотел бы еще раз остановиться и высказать одно наблюдение и одну провокационную оценку. Дело в том, что в наших интервью, где нашими собеседниками по преимуществу были рабочие, подробные и нагруженные эмоциями рассказы о 17 июня мы лишь в редких случаях слышали от рабочих, чаще же всего – от представителей среднего класса и от функционеров.
Было бы, разумеется, совершенно неверно толковать это как свидетельство в пользу того, что ведущую роль в забастовках и демонстрациях якобы играли не рабочие. Против такой интерпретации говорит большинство данных, имеющихся на данный момент в нашем распоряжении, и тот факт, что стачки начались из-за изменения норм выработки, и те лозунги, которые скандировали демонстранты, например: «Мы не хотим больше быть рабами / Коллеги, шагайте с нами!» Это был лозунг, наполненный духом прежнего рабочего движения и выражавший отношение не только к сталинизму, но и к фашизму, и ко всякому угнетению рабочих. Под этим лозунгом проходила демонстрация в Биттерфельде, на которую стекались рабочие со стольких окрестных заводов, что один функционер, забравшийся от страха на крышу, потом говорил, что и не знал, как много дорог, оказывается, ведет в Биттерфельд. Стачка таких масштабов была последней в истории ГДР, но в прежнем опыте рабочих имелись подобные прецеденты.
Неожиданное, совсем иное впечатление, нежели боязливые проекции многих партийных деятелей, произвела на меня позиция того бывшего социал-демократа, который в Веймарской республике и в Третьем рейхе дважды вылетал с работы за бунтарское поведение, а теперь с собаками защищал от своих коллег сталинистские плакаты: он назвал события 17 июня бурей в стакане воды, уподобил их семейной ссоре, после которой говорят: «Ладно, забудем», и привел для сравнения трудовые конфликты во многих частях света, которые зачастую длились гораздо дольше, а порой обострялись до боев, напоминающих гражданские войны. По меркам таких конфликтов стачка 17 июня была всего лишь чем-то вроде стихийной предупредительной забастовки – очень короткой, очень широкой по охвату и, надо признать, очень действенной: при такой длительности, пожалуй, самой успешной в истории. Ведь изначальным экономическим поводом к забастовке было повышение норм выработки (вполне оправданное с точки зрения интересов производительности), а оно в итоге было полностью отменено. Руководство предприятий – само из рабочих – потом еще несколько месяцев тряслось от страха – таково, во всяком случае, было общее впечатление. И оно надолго усвоило урок: нельзя ради государственного интереса трогать кошелек рабочих.
Однако в другом, более глубоком смысле стачка 17 июня потерпела полную неудачу. Ведь ее нужно мерить не только мерками трудовых конфликтов: это был не только, а может быть даже и не столько трудовой конфликт или тем более бунт, сколько конфликт чувств, вспыхнувших на один день, а потом надолго похороненных. Во-первых, это был шок, перенесенный партийными кадрами, которые здесь, в провинции, отнюдь не все были оторванными от народа бонзами: шок от того, что они, оказывается, полностью утратили контакт с товарищами, для которых хотели строить социализм, и от того, что обманчивая, авторитарно навязанная нормальность жизни лишила их всякого инстинкта, позволявшего чувствовать настроения рабочих. Им казалось, что все произошло «как гром среди ясного неба», и они не могли найти другого объяснения кроме того, что всем этим заправляли какие-то закулисные темные силы; на эти силы они проецировали свои собственные тайные и явные методы руководства массами. Во-вторых, у партийных кадров было ощущение, что они, подобно сказочному королю, внезапно оказались голыми перед толпой, и нереальность этого ощущения усиливалась тем, что «крикуны», как назвал их один из функционеров, уже несколько дней спустя снова приветливо подавали ему руку. Они всем своим видом убеждали людей, что вновь воцарилась нормальная жизнь. В этой жизни, если непосредственные экономические жалобы удовлетворялись, никакие другие проблемы уже не могли быть сформулированы и заявлены. Чувства страха и ярости у партийных функционеров трансформировались в долгосрочную стратегию: сочетать стимуляцию экономического потребительства с авторитарным контролем.
Как могло случиться, что произошла эта неверная переработка опыта, подкрепляющая тезис, что при социалистическом режиме не было и не могло быть никаких демократических альтернатив? Звук советских танков, одно лишь появление которых положило конец надеждам, не расслышать невозможно, однако он объясняет не все, и главное – он не помогает понять наплыв чувств. Поэтому я хотел бы вернуться к интервью с теми респондентами, которые признались, что в тот день участвовали в демонстрациях. Об этих людях я до сих пор сообщил лишь то, что все они – кто прямо, кто косвенно – пережили формирующее воздействие фашизма. Такая строгая корреляция, конечно, может быть случайным совпадением, и при большей выборке могла бы не подтвердиться, но все же данное обстоятельство указывает нам на некоторые факторы, обусловившие поведение этих людей. Их рассказы не дают никаких оснований полагать, что 17 июня они представляли собой как-либо организованную, целенаправленно действующую или тем более объединенную заговором силу: все они присоединились к уже двигавшимся колоннам демонстрантов, вышли из «подполья», на которое обрекали их скрываемые и задавленные чувства, и влились в массу, которая скинула бюрократические оковы и в которой соединились протест против социальной дискриминации, чувство возвращенной свободы и дееспособности и символ национального единства. Если бы Германия вновь воссоединилась, казалось этим рабочим, то можно было бы преодолеть тоталитарную сталинистскую деформацию рабочего движения, неравномерное распределение бремени репараций и вынужденную двойную милитаризацию страны. Для тех, кто влился в колонны массовых демонстраций под национальной символикой, это было чувство освобождения от гнета их непроработанного прошлого.
...
Мы отметились на выход, у проходной нас становилось все больше, а когда мы пришли в Биттерфельд, то это была уже солидная процессия. Мы все – там многие еще до нас пришли, со всех заводов пришли, все шли, – мы пошли колонной к тюрьме, к административному суду, там людей вытащили, освободили. Гестапо – гестапо нет, служба госбезопасности располагалась рядом с вокзалом, оттуда тоже людей вызволили. …Такой манифестации Биттерфельд еще не видывал. И был страшный энтузиазм, пели песню «Германия, Германия», это было волнующе. Я и по сей день [плакать] начинаю, когда эту песню слышу, – такое волнение. Даже по телевизору.
Я спрашиваю о том, что говорили люди и что еще происходило. Он отвечает:
...
Мы все были так заняты самими собой, так радостно возбуждены, что ни о чем особо не задумывались.
Другой собеседник, который сказал, что «пошел заодно» с «шествиями и массами» заводчан, на тот же вопрос отвечает так:
...
Ну, свобода мнений, свобода прессы. [Размышляет.] Там и финансовые вопросы были, с финансовым управлением. Что это было? Так, наверное, лучшей оплаты требовали или что-то такое.
Это, очевидно, была не его проблема или, во всяком случае, не то, что врезалось ему в память. Но потом он продолжает:
...
Я тоже был на площади и там слушал. И был живейший, живейший энтузиазм у людей тогда. Много участвовало. То есть люди стояли у окон, у них слезы были на глазах. Потом кто-то хотел на переговоры к совету округа, те, кто там во главе оказались, и потом это рассосалось. Я пошел домой, а вечером по городу проехали русские танки и заняли заводы. Да, тут сжимались кулаки в карманах… Да, тут у нас настроение было примерно такое, как у чехов при вступлении немецких войск в Прагу в 1939 году, в марте. Возмущение в народе, а приходилось всем молчать. Танки все-таки слишком были сторонниками другого мнения.
Основное, что вспоминают эти люди, – движение. Под этим имеется в виду прежде всего движение протеста против воспитывающей население диктатуры – изначально по замыслу антифашистской, но очень быстро закосневшей. Однако в еще большей степени людям помнится их собственное движение в колоннах, их волнение при звуках песни «Германия, Германия». После этого им было не до разработки стратегий борьбы против режима или против советских войск: взволнованные, они пошли по домам или вспомнили о своем долге и вернулись на завод, чтобы довершить недоделанную работу на благо общества, или вспомнили, как выразился один ветеран войны, каков диаметр ствола у танковой пушки и какие большие дыры оставляют ее снаряды, – и тогда в карманах сжимались кулаки. Или (такая реакция была у пятого из наших пяти информантов) начинали ненавидеть американцев и западных немцев за то, что те, как им казалось, их бросили. Все пятеро не могли забыть потом этот день публичного высвобождения своего чувства, но все потом, хотя бы внешне, приспособились к режиму, после того как увидели истинную опору его власти и бессилие его противников. Но в нише их памяти день 17 июня остался как фундаментальный опыт альтернативы, пусть и оказавшейся несбыточной.
Партийные функционеры перед лицом фрагментарной памяти народа и подавленных чувств своих противников не могли опереться на официальную память ГДР, причем не столько потому, что ее легенда была мало похожа на реальность, сколько потому, что они сами в эту легенду совершенно не вписывались. Грубо говоря, они со своими биографиями принадлежали к двум исторически специфичным категориям новейшей германской истории, которые в публичном имидже руководящего авангарда рабочего класса были не предусмотрены.
Одни были функционерами обеих фракций прежнего рабочего движения, они в рядах СЕПГ боролись за построение социализма. Для них 17 июня стало своего рода кронштадтским мятежом, они конструировали теории заговора и мечтали о применении силы против рабочего базиса, который так плохо соответствовал проекту их жизни. При этом, как показало наше исследование, их собственные биографии были поломаны реализацией этого самого проекта, а они тем не менее держались за него: каждого из них хотя бы раз в годы сталинизма лишали должности; подвергали сомнению их антифашизм, выстраданный зачастую в длительном заключении или в эмиграции; бывшего социал-демократа дискриминировали или унижали в СЕПГ за его прошлое… Историческое свидетельство таких людей было для других убедительным лишь в том отношении, что оно давало некое рациональное объяснение феноменам, которые люди воспринимали только на эмоциональном уровне.
Другие – адепты партийной легенды, которые говорили, что рабочие еще не прошли выучку или что им самим стачка «чужда по духу», – принадлежали к более молодому поколению функционеров, под властью которого прошла вся вторая половина истории ГДР: их социализация осуществилась в нацистских детских и юношеских организациях, а потом в рядах Союза свободной немецкой молодежи они претерпели моральную и идеологическую переориентацию, но сохранили свой активистский и исполнительский тип поведения. Этому классу послевоенных выдвиженцев неведома была живая традиция рабочего движения. Их картина мира состояла из верности руководству, готовности к борьбе и черно-белых (точнее, коричнево-красных) моральных дихотомий. При таком мировоззрении рабочие протесты казались им угрозой для тех условий жизни, к которым они приспособились, и искушающим возвращением их прошлого, преодоленного зачастую лишь ценой тяжелых кризисов. Иными словами, в силу континуитета тоталитарного образа мысли свобода показалась им фашизмом, а прорыв чувств, вытеснявшихся после падения фашизма, – организованной контрреволюцией.
V
В заключение на примере двух историй продемонстрирую значение фактора времени (восемь лет после крушения Третьего рейха) и прежнего опыта в формировании точки зрения, трещину национального раскола, прошедшую даже через индивидуальный опыт, и размывание перспектив. Эти две истории не вписываются в классификацию типов опыта, а как бы с периферии бросают специфический свет на историческую ситуацию. Одна история рассказана с позиции внутренней отдаленности, другая – с позиции внешней близости.
Первую историю рассказал нам один польский еврей, который сбежал из Освенцима, сражался в партизанском отряде, а в 1945 году в Силезии влюбился в немку. Поскольку она с маленьким ребенком не хотела уезжать ни в Израиль, ни в Америку, они застряли в ГДР, где он – независимый и деятельный – стал преуспевающим и весьма востребованным предпринимателем. От немецкой политики он держался в стороне, СДПГ считал партией авторитарной и коррумпированной, однако воздавал должное той защите, которую авторитарный строй гарантировал жертвам фашизма перед лицом народа, чье отношение к фашизму осталось непроясненным.
...
Тут много чего происходило. Я помню, как горел павильон «Национального фронта» тут на Рыночной площади, и все эти беспорядки, и как все эти партийные значки валялись здесь на улице, как срывали флаги и все эти транспаранты. – Это я как сейчас помню. Но знаете, я так был занят тогда своими проблемами, что, во-первых, не хотел участвовать во всем этом деле, а во-вторых, я наблюдал тоже, как различные элементы ждали чего-то – не того, что я бы одобрил, это я хочу подчеркнуть; им больше всего хотелось бы, чтобы вернулось то, что было: Третий рейх, национал-социализм. Такие нацистские элементы здесь снова поднялись со дна.
Интервьюер: Вы лично это видели?
Ответ: Это я лично видел.
И.: Вы можете это конкретно описать?..
О.: Я не сказал «все», я сказал «элементы», которые присутствовали. Конкретно – что они кричали «долой социализм» и как они начали людям, носившим партийные значки, – как они их били, что я сам видел. Это я сам видел и надо это признать!
И.: Но когда кто-то кричит «долой социализм», я в этом еще не вижу однозначных признаков фашизма.
О.: Но когда били людей, – ведь любое дело не начинается сразу с газовых камер. Все начинается сперва с таких вещей. А потом опять очередь доходит и до тебя, и тогда может повториться то, что было. И мы знаем, что разных [людей] забивали до смерти. Этого я сам не видел. Партийных товарищей, возможно, [за то] что они тут слишком сурово действовали и безвинным людям тут причиняли страдания, ради собственной выгоды, как это было принято и как сегодня, возможно, все еще принято тоже. Это были тоже факты, которые [были] мне не по вкусу и не соответствовали моим политическим убеждениям. Я ведь политику в то время не любил, честно признаюсь. Но чтоб не повторилось тут снова то, что было. Сначала все помалу начинается, но потом разрастается. И не зря сказано: душить надо в зародыше.
Вторая история была рассказана нам одним бывшим функционером СЕПГ. Она – о двух братьях-близнецах из рабочей национал-социалистской семьи, жившей в индустриальном районе Центральной Германии. Они были непохожи между собой и уже в детстве получили прозвища: один был Бродячий Волк, другой – Маленький Профессор. Оба были в гитлерюгенде, потом на фронте и в плену, оба вернулись в родные края, только Бродячий Волк использовал шансы, а Маленький Профессор стремился к трудовым свершениям и верил в новую идеологию так же, как до самого конца войны верил в прежнюю. Волк вел непостоянную жизнь, работая то на одной, то на другой стройке, заводил романы и был шалопаем, а Профессор показывал себя образцовым сотрудником в лаборатории, образцовым членом Союза свободной немецкой молодежи, с 1950 года одновременно учился на мастера производственного обучения по химической специальности и преподавал краткий курс истории ВКП(б)/КПСС в партийной школе своего предприятия. В день 17 июня Бродячий Волк был в местном забастовочном комитете, а Маленький Профессор пробирался домой из партшколы и раздумывал о том, снять ли ему партийный значок. Потом один спрятался у родни в Тюрингии, а другой стал мастером производственного обучения.
В 1954 году возникли проблемы. Волк уже давно вернулся, в период «оттепели» казалось, что дело поросло быльем, но внезапно до Профессора дошли сигналы, что его брату грозит опасность; он предупредил его, и Волк подался на Запад. А Профессор недолгое время спустя и без видимой связи с этим оказался вовлечен в неприятную историю со своим начальником по лаборатории и потерял партбилет и работу. Его буквально поставили на колени: ему пришлось на стройке класть плитку.
В 1956 году его исключение из партии было объявлено «недоразумением» и он получил назад свой партийный билет и свою должность, но на ней и застрял, выше не пошел. Попробовал стать писателем, даже получил премию, но подлинного успеха не добился.
Тем временем Бродячий Волк на Западе поступил на фирму IG Farben и дорос там до заведующего отделом в лаборатории. А у Маленького Профессора уже в 50 с небольшим со здоровьем стало совсем плохо и он получил инвалидность. Потом, в 1980-х, ему первый раз разрешили съездить на Запад, и он был счастлив, что брат его принял в объятия, несмотря на то что пути их разошлись и 30 лет не было никакой связи.
Вернувшись домой, Профессор сидел на своем крохотном садовом участке и сравнивал свою беседку с бунгало брата, свой велосипед с его «мерседесом», свою пенсию по инвалидности с почти вдесятеро большей пенсией (плюс надбавка от завода), которую предстояло получить Бродячему Волку. В 1987 году, когда я с ним повстречался, он мучился раздумьями о выходе из партии, но все еще занимался активной общественной работой, председательствовал в кружке садоводства, но там никто ничего не делал кроме как на собственном участке, поэтому председателю собственной персоной приходилось косить газоны и выдирать траву на общественных дорожках. На собраниях кружка он делал доклады на политические темы, но посещаемость их сократилась на две трети. Профессор был в ужасе от падения дисциплины, беспокоился по поводу своей следующей поездки на Запад, от Горбачева ожидал одновременно открытия Железного занавеса и наведения строгого порядка. Его резюме: «Нет для немца ничего менее подходящего, чем демократия!»
Основываясь на материале наших интервью, я попытался указать на причины непрояснимости опыта 17 июня в памяти жителей ГДР, лежащие, как мне представляется, в конфликте чувств, и предложить некоторые контуры их классификации, не совпадающие с официальными интерпретациями этих событий, а потому долго не имевшие возможности проявиться. Эти чувства волновали лишь небольшую часть людей, переживших 17 июня, однако они предопределили фрагментацию и вытеснение памяти об этом дне на долгие десятилетия и привели к тому, что отношение к проблеме демократии во все годы социализма оказывалось окрашено спецификой послевоенной ситуации в Германии. Большинство же современников дистанцировались от своего опыта, убрав его в нишу «непричастной осведомленности», поскольку угроза насилия не оставляла альтернатив, а нормализация жизни в условиях социалистической экономики позволяла надеяться на постепенное повышение уровня жизни. Я сомневаюсь в том, что эта фрагментированная память могла образовать мотивационный фон для демонстраций осени 1989 года. Ведь их главной движущей силой была молодежь, не помнившая о том конфликте на заре существования ГДР, и, в противоположность взрывному характеру событий 17 июня 1953 года, на сей раз прошло несколько недель, прежде чем, увидев отсутствие экономических перспектив у правительства и оппозиции, манифестанты перешли от требования демократизации ГДР к требованию национального и экономического единства. Правда, для такого поворота событий имел особое значение тот факт, что в движение постепенно включилась часть старшего поколения, и только в этом смысле можно предположить, что фрагментированная память о 17 июня сыграла свою роль. Национальный плебисцит 1989 года показал, что у сложившейся ситуации нет будущего. События же 1953 года были вызваны сочетанием разных опытов прошлого и тем, что не было такой традиции, на которую режим мог бы тогда опереться.
III Коллективные размышления
7 Восприятие войны в послевоенном немецком обществе
Заданная мне для участия в этой конференции тема содержит в себе несколько скрытых проблем. Они связаны с единственным числом тех существительных, которые употреблены в ее формулировке. В начале моего небольшого очерка, посвященного этой огромной теме, хотелось бы сказать об этих проблемах, потому что они дали мне повод к некоторым наблюдениям более общего плана. Далее я собираюсь представить результаты эмпирических исследований биографического опыта послевоенного десятилетия и связать между собой эти два уровня.
I. «Восприятие», «война», «послевоенное общество»
Что касается первого существительного, то тут проблемы с единственным числом представляются еще сравнительно безобидными. Ведь каждому сразу понятно, что это собирательное существительное единственного числа, т. е. что среди немцев после войны существовало не одно какое-то ее восприятие, а множество самых различных: слишком разные были судьбы у людей в эти шесть лет, да и до того, во время нацистского господства, и особенно после; их невозможно свести к какому-то одному общенациональному восприятию. Традиционные классовые или гендерные стереотипы в этом случае тоже могут принести историку мало пользы в деле структурирования экзистенциального опыта. Более полезной представляется гипотеза, что фашизм, война и их последствия в конечном итоге словно бы пробили в Германии все традиционные границы между общественными группами и общностями и сделали опыт в значительной мере индивидуальным.
Так, во всяком случае, обстоит дело, когда мы обращаемся к эмпирической истории опыта индивидов, изучая ее на основе биографических интервью и других эго-документов, многообразие содержания которых таково, что может приобрести более или менее обозримый вид только посредством глубинно-герменевтических интерпретаций и новых абстракций. Если же смотреть на послевоенное восприятие войны немцами через оптику истории культуры, обращая по традиции внимание на символы, то проявляются более единообразные паттерны, особенно при сравнении с другими странами – у держав-победительниц и у освобожденных ими наций Вторая мировая война имеет, как правило, репутацию последней «правильной войны» или, во всяком случае, рассматривается как война, ценой величайших жертв – особенно в освобожденных странах Восточной Европы – реставрировавшая традицию их национального суверенитета. Местные различия относительно легко можно свести к трем основным центральноевропейским типам: на Западе эта война – олицетворение бессмысленности, на Востоке – источник всякого смысла, на Юге – она олицетворяет общность безответственности. Именно такое сравнительное единообразие различий заставляет задаться важными вопросами по поводу зазора между публичной памятью и приватными воспоминаниями.
Со вторым существительным в единственном числе («война») дело обстоит уже сложнее, потому что в опыте большинства немцев не было одной войны как некоего единого комплекса: были несколько отдельных военных отрезков, в течение которых человек мог пережить в том числе и самые противоположные вещи. Отчетливее всего разница между 1939–1942 годами, когда серия блицкригов за пределами Германии принесла нацистскому руководству восторженную поддержку большинства населения страны, и 1943–1945-м, когда фронты на Востоке стали откатываться в обратном направлении, а бомбардировщики западных союзников стали разрушать германские города. Впоследствии многие вытесняли воспоминания о положительных чувствах первого периода, а уж после Сталинграда, утверждали все наши собеседники, каждому стало понятно, что эта война бессмысленна или по меньшей мере обречена на неуспех; некоторые даже говорили, будто поняли тогда, что военная агрессия как таковая преступна, а отдельные респонденты заявили, что у них открылись глаза и на массовые военные преступления. Различия военного опыта связаны, однако, не только с хронологическими фазами, но и с географическими регионами: одни провели войну в тылу, другие – на фронтах, причем на разных: кто-то на Западном, где до середины предпоследнего года продолжалось «прекрасное время коллаборационизма»; кто-то на Восточном, где партизанское сопротивление притупляло у солдат вермахта муки совести от соучастия в операциях СС по уничтожению евреев и восточных народов; кто-то на Южном, где Италия в результате восстания в одну ночь превратилась из союзного фашистского государства во врага; кто-то на Северном, где даже после капитуляции еще судили дезертиров; кто-то на Атлантическом океане, где германские подводные лодки столь же бесчестно, сколь рискованно и успешно топили торговые суда союзников; кто-то в карстовых горах Балканского полуострова, где коллаборационизм и уничтожение евреев сплелись воедино еще плотнее, чем на Западе, но тем не менее именно там была самостоятельно освобождена целая страна без участия или даже хотя бы желания великих держав антигитлеровской коалиции.
Наконец, третье словосочетание в единственном числе: «германское послевоенное общество». Существовало ли оно, и если да, то сколько времени? Вопрос не только в том, была ли еще в 1945 году одна немецкая нация, одно общество, стремившееся к суверенитету. Я склонен на этот вопрос отвечать отрицательно и полагаю, что Гитлер оставил после себя народ, для которого в целом уже даже шанс на коллаборационистские отношения с каждой из держав-победительниц был реальной утопией. Это, несомненно, спорная точка зрения (по крайней мере среди немцев), но если в ней имеется зерно истины, то встает прежде всего вопрос о возможностях, а это – при учете того, какие планы и договоренности были у союзников относительно Германии и Австрии, – означает вопрос о разделах. Счастливая Австрия с огромной охотой приняла на себя роль полуосвобожденной первой жертвы Гитлера и почти на сорок лет предала забвению собственное ликование в день аншлюса. Западная часть Германии, обладавшая значительным потенциалом, который был востребован не только в годы холодной войны, была избавлена западными державами от выплаты репараций Советскому Союзу и его сателлитам и отделалась меньшими расходами – денежными компенсациями евреям, пережившим холокост. Примирившись со своими западными соседями, эта часть Германии получила не только возможность постепенно взять управление своей страной в собственные руки, но и шанс участвовать в западноевропейской интеграции – довольно запутанной и едва ли действительно демократической, но, несомненно, наиболее экономически успешной в ХХ веке модели мирного национального самопреодоления. Восток же Германии был наполовину оккупирован Польшей – а на самом деле Советским Союзом – и подобно другим зонам расселения немцев в восточной части Центральной Европы подвергнут этнической чистке, затронувшей 12 миллионов человек. Другая половина – советская зона оккупации, затем ГДР – после отказа западных держав удовлетворять репарационные требования СССР и других восточноевропейских стран почти на десять лет сделалась беззащитной мишенью сконцентрированных советских репарационных интересов и (в явном противоречии с ними) одновременно объектом гигантского эксперимента по внедрению государственно-социалистических структур в сравнительно высокоиндустриализованное общество. Сначала робко, а после 1948 года все более решительно советская империя вовлекала ГДР в свое западное предполье и покрывала ее своими системными структурами. Первый, длившийся практически всего один день, выплеск народного гнева в ГДР 17 июня 1953 года стал сигналом о том, что попытка империализма «снизу» (где в иерархии индустриальных обществ находился СССР) в долгосрочной перспективе имела небезграничные возможности. Этот же урок преподнесли кремлевским хозяевам еще более внятно Польша и Венгрия в 1956 году, Чехословакия в 1968-м, а потом снова Польша в 1980-х. Плоды они наконец смогли пожать во время «мирной революции» осенью 1989 года.
Если австрийцы довольно быстро обрели государственную независимость и двигались, хотя довольно нерешительно и медленно, по пути модернизации, а западные немцы от «восстановления» перешли к «модернизации» уже в конце 1950-х и в 1960-е годы, то у восточных немцев «послевоенное общество» просуществовало фактически до 1990 года. В кризисный период смены общественного строя Восточная Германия, с одной стороны, получала от Западной массированную поддержку, но, с другой стороны, страдала от ее засилья. Поэтому в экономическом и социально-психологическом отношении восточные немцы пережили совсем иной переходный процесс, нежели остальные бывшие социалистические страны. Это обстоятельство позволяет жителям бывшей ГДР выступать в качестве моста или соединительного звена между восточно– и западноевропейским опытом «долгой» послевоенной эпохи. Эпоха эта во многих странах Восточной Европы еще не закончилась даже и в 1990 году. А на экономически интегрированном Западе, где раны войны зарубцевались гораздо раньше, своеобразие этой эпохи в культурном отношении основывалось на различии исходных позиций стран – наследниц Третьего рейха и его противников.
Таким образом, в отдельных регионах и государствах, входивших некогда в состав Третьего рейха, ритмы существования «послевоенного общества» были неодинаковы, а значит и воспоминания о фашизме и войне необходимо рассматривать дифференцированно. Австрия во время войны была в основном вне досягаемости для западных бомбардировщиков, а после 1945 года по единодушному решению союзников была в соответствии с принципом «разделяй и властвуй» отделена от бывшего рейха и пользовалась возможностью управлять собою сама; она быстрее всех достигла внешне нормальной жизни, однако четыре десятилетия спустя ее ранний уход в выгодную поначалу роль жертвы превратился в национальную и интернациональную проблему.
ФРГ, наоборот, для всех в мире (в том числе и в Восточной Европе) была олицетворением «послевоенной Германии» и вместе с тем – немецкой работоспособности. Она свои грехи искупила быстро и поверхностно, тем более что уже с 1950 года она снова стала нужна. За одно-два десятилетия справившись с последствиями войны, здесь начали справляться с последствиями фашизма, и эта работа будет продолжаться еще долго, но уже в рамках открытой и пронизанной множеством международных связей политической системы.
А в Восточной Германии часы шли медленнее, да и все ритмы социализма были неспешнее: на протяжении всего существования ГДР война оставалась главной основой легитимации государства, а оставленные ею разрушения во многих явлениях повседневной жизни были несравненно более заметны, чем в ФРГ: там, на востоке, «новая Германия» гораздо меньше позволяла забыть старую. Под конец уже трудно было различить, где старые руины, полученные государственным социализмом в наследство, а где новые, созданные им самим.
II. Фазы восприятия войны
Если посмотреть из сегодняшнего дня на то, как немцы начиная с 1945 года воспринимали минувшую войну, то можно различить три большие фазы.
1. В первое послевоенное десятилетие жизнь немцев на бытовом уровне была подчинена преодолению непосредственных последствий Второй мировой войны, а на политическом уровне – решениям союзников и затем неравному разделу страны в годы холодной войны. Сочетание этих двух важнейших условий образовывало рамки, в которых сложились паттерны воспоминания о войне, сохранявшие свое действие очень долго – как на политическом и культурном уровнях, так и на бытовом, и на уровне личных воспоминаний.
2. Следующие три десятилетия можно, с нашей точки зрения, рассматривать как фазу борьбы за память о войне и национал-социализме. Линии фронта проходили в каждом из трех государств – наследников Третьего рейха по-разному, и ритмы были тоже разные, однако во всех трех случаях в конце концов утвердилось в культуре и в средствах массовой коммуникации суждение, что эту войну можно понимать только в связи с национал-социализмом и (это особенно относится к Западной Германии) что холокост представляет собой важнейший элемент памяти о войне, который навсегда сохранит парадигматическую роль главного, о чем стоит помнить. Такой прогресс познания имел свои издержки – прежде всего они выразились в том, что необработанные военные воспоминания большинства современников оказались изолированы, лишены связи с осмысляемым жизненным опытом. Кроме того, в политической сфере воспоминания о войне облеклись в форму затертых инсценированных мемориальных ритуалов.
3. Затем наступило время, длящееся до сегодняшнего дня, которое, как мне кажется, характеризуется тем, что в средствах массовой информации и в политической сфере поднимаются одна за другой волны расширения восприятия и выдвигаются вызывающие споры толкования. По главной тенденции эту фазу можно назвать фазой открытия памяти на пороге перехода от коммуникативной памяти современников и свидетелей событий к ориентированной на будущее памяти культуры. Чтобы наглядно показать противоречивость этого процесса открытия, достаточно привести несколько ключевых слов: в Австрии это спор по поводу Вальдхайма [30] и хайдеровский популизм [31] ; в ФРГ – «спор историков» об уникальности холокоста, встреча Г. Коля и Р. Рейгана на солдатском кладбище в Битбурге, где рядом с американскими и немецкими военнослужащими похоронены эсэсовцы, скандал вокруг речи Р. Йеннингера, указавшего немцам на простые и радостные человеческие чувства, связывавшие их с Гитлером и нацизмом; в ГДР в последние годы ее существования – символическое признание особого долга немцев по отношению к еврейству, в объединенной Германии – дебаты вокруг создания мемориала холокоста в Берлине, дискуссии о восточногерманском «предписанном антифашизме»‚ споры о преступлениях вермахта, о компенсациях подневольным рабочим, о бомбардировках и авиационной «охоте на людей», об изгнании немцев из Восточной Европы. Борьба за места в культурной памяти будущего ведется с применением политической власти и приватизированных средств массовой информации; в этой борьбе неприкрыто проявляются специфические групповые интересы, а также рыночные тактики реагирования на настроения масс.
Наука может влиять на такой процесс лишь сравнительно слабыми рациональными средствами. Но она может хотя бы его изучать, и в последние десять лет многочисленные исследования, посвященные памяти и воспоминаниям, показали прежде всего то, что историки принимают в создании истории будущего лишь ограниченное участие. Но все же голос историков не остался вовсе неуслышанным: он в последние лет 15 весьма способствовал тому, что коммуникативная память, приватные воспоминания обычных людей о войне и террористическом режиме оказались восприняты, причем не популистским образом, и соединены с культурными дискурсами. За счет этого значительно расширилось представление о круге жертв политического насилия: заговорили о преследовании цыган и гомосексуалистов, о военнопленных с обеих сторон, о подневольных рабочих, об «изгнанных», об изнасилованных, о войне на уничтожение на Востоке, о бомбардировках городов на Западе. Это представление было приближено к реальности и претерпело даже первичную интеграцию; но главное – историческая наука начиная с 1980-х годов все больше делала этот дискурс по поводу восприятия и интеграции интернациональным, в том числе преодолевая барьеры холодной войны и охватывая страны к востоку от «железного занавеса».
С многих точек зрения мне эта последняя фаза в истории восприятия войны, когда были сломаны границы между воспоминаниями, представляется самой интересной. Она ставит перед европейскими историками новые задачи: нужно будет объединить и по-новому упорядочить разные восприятия нашей истории. Тот факт, что мы здесь, в Харькове, можем разговаривать друг с другом о подобных вопросах, есть многообещающее проявление этой новой научной практики. Возможность принять участие в данном разговоре является для меня личным стимулом, потому что я – сын немецкого солдата и члена НСДАП, во время войны бывшего здесь, на Украине, и потом в качестве военнопленного проведшего здесь же, в Харькове и Днепропетровске, семь лет на принудительных работах. Но главное в нашем разговоре – не только благонамеренные программные декларации самого общего толка, но и поддающиеся научной обработке фрагменты материала, и потому я теперь – в соответствии с темой нашей конференции – обращусь к первой из вышеописанных трех фаз восприятия войны немцами. При этом я ограничусь рассмотрением двух моментов: во-первых, скажу о Германии под управлением Контрольного совета, а во-вторых, сравню некоторые доминирующие тенденции в истории индивидуального опыта на западе и востоке Германии.
III. Война после войны
Внешние обстоятельства
Если задаться вопросом о том, когда кончилась война, то на военно-политическом уровне ясно, что Вторая мировая война завершилась для германского рейха полным поражением 8–9 мая 1945 года. На всех прочих уровнях ясности меньше. Последствия войны начались для Германии еще за два с лишним года до ее окончания: налеты союзной авиации начиная с 1943 года оставляли руины на месте городов, куда население, частично бежавшее в сельскую местность, вернулось зачастую только много лет спустя. Уже почти за год до капитуляции войска антигитлеровской коалиции и на западе, и на востоке стояли на немецкой земле. Одни соседние государства были освобождены еще раньше – сначала большая часть Италии в 1943 году, потом значительная часть СССР, Франция и Польша, в то время как в других – например, в Венгрии – в последний год войны только началось уничтожение евреев, а в Скандинавии германская военная юстиция продолжала действовать даже после капитуляции. Отделение восточных провинций рейха и изгнание немцев из восточной части Центральной Европы достигло своего апогея фактически только через год после капитуляции, а лишь незадолго перед этим вернулись к себе на родину – в основном в Польшу и на Украину – большинство из тех десяти с лишним миллионов иностранцев, которые были пригнаны в рейх на принудительные работы или привезены в качестве военнопленных, а потом провели зачастую по несколько месяцев в советских фильтрационных лагерях.
Из более чем 10 миллионов немецких военнопленных большинство попало в руки союзников только в момент капитуляции. Кому повезло тогда или раньше попасть в американский или британский плен (их было почти три четверти), те в течение года вернулись домой, а если они оказались в лагерях для военнопленных задолго до этого, то их там даже хорошо кормили и давали возможность повысить свой образовательный уровень. Если же человек попал в военные годы в советский плен, то шансов выжить у него было почти так же мало, как и у тех пяти миллионов советских солдат, что оказались пленными вермахта: из них уже в первый год войны на Востоке три миллиона умерли от голода в прифронтовых немецких лагерях. А если человек был среди тех 3 миллионов немецких солдат, которые были депортированы с территории рейха в СССР лишь с окончанием войны, тогда шансы на выживание у него были гораздо выше, но зато времени в лагерях ГУПВИ [32] , походивших на лагеря ГУЛага, ему пришлось провести гораздо больше: от трех до десяти лет.
В Германии, управляемой Контрольным советом, союзники интернировали свыше миллиона человек по более или менее тяжким политическим обвинениям. Судьба этих людей тоже была неодинаковой на Западе и Востоке. На Западе это были, как правило, люди, повинные в более серьезных политических грехах, но кормили их лучше, чем гражданское население, и между 1946 и 1950 годами, в основном в 1947/48-м, их выпустили на свободу. На Востоке политических заключенных, чья вина в среднем была менее серьезна, а также многих вовсе невиновных помещали в лагеря без права переписки, где треть узников умерла с голоду, а остальные имели шанс освободиться в 1948 или чаще в 1950 году либо быть переведенными в тюрьмы ГДР и выйти на волю в 1957 году. Иными словами, с точки зрения истории человеческого жизненного опыта «конец войны» для значительной доли немцев варьировал в хронологическом интервале около полутора десятилетий. В рамках этого интервала исследователи выделяют в качестве основного периода 1943–1948 годы («от Сталинграда до денежной реформы»).
Для чего важно такое напоминание? Есть ли оно всего лишь проявление той тенденции, которая все отчетливей видна в германских средствах массовой коммуникации в последние годы, – стремления обращать внимание прежде всего на страдания немцев во время войны: на ночные бомбежки, катастрофу под Сталинградом, изгнание немецкого населения с восточных территорий? Эта тенденция вызывает – и не только у наших соседей – опасения, что предпринимаются попытки устроить «взаимозачет», дабы больше не отвечать за Вторую мировую войну вкупе с геноцидом и прочими преступлениями, совершенными в тылу. Я не думаю, что дело именно в этом, хотя учитываю, что в СМИ и заинтересованных политических кругах такие интерпретации могут возникнуть. Но в общем и целом можно констатировать, что попытки добиться признания последствий войны для немцев – попытки, сравнительно слабо поддерживавшиеся государством, – потерпели неудачу. Эти последствия по большей части замалчивались и превращались в частные воспоминания, в то время как культурное восприятие и политическое признание ответственности немцев за военные преступления и преступления против человечества в годы Второй мировой войны с 1960-х годов все больше утверждалось в культурном сознании. Много было осознано такого, что лишь второе поколение смогло принять, и притом действительно близко к сердцу; но переживания немцев в качестве жертв были первичными переживаниями, которые могут быть интегрированы в общую картину, а главное – позволяют верно оценить и признать, в более глубоком и истинном смысле, реальный и более значительный опыт жертв, каким обладают евреи и другие европейские нации, особенно на Востоке.
Опыт и истолкования
С другой стороны, глубинно-герменевтическое историческое изучение жизненного опыта показало, что в конце войны в Германии имела место ситуация, которая демонстрирует определяющее воздействие нацистской идеологии на сознание и ожидания людей. На Западе она проявилась как комедия, на Востоке больше как трагедия. Я имею в виду встречу мирных жителей – прежде всего женщин – с солдатами передовых частей союзников. Тут необходимо знать, что в войсках западных держав был повышенный процент негров и что советская пропаганда перед капитуляцией Германии рекомендовала своим солдатам немецкое население в качестве объекта для невозбраняемой мести. Я не могу здесь пересказывать такие истории, но в конечном итоге смысл их сводится к следующему: западные немцы ожидали после поражения, что их будут насиловать победившие «недочеловеки» в лице «черномазых» (они настолько зациклились на цветных, что о белом большинстве солдат и офицеров почти никогда не вспоминают), и были весьма удивлены, когда ничего не произошло; в их воспоминаниях вступление западных армий превратилось в фантастическую карнавальную процессию, где развязные янки восседали якобы все время на своих сверхсовременных танках и джипах, швыряя в толпу конфеты (в действительности никаких приветствующих толп на улицах не было, немцы использовали все возможности, чтобы спрятаться). Остатки национал-социалистического консенсуса были разрушены этой встречей с победителями.
В Восточной же Германии нам рассказывали менее фантастические истории, которые можно свести к двум основным мотивам. Один мотив тоже касается удивления, которое вызвали победители: образованные немцы поражались, с каким знанием дела и восхищением относились к немецкой культуре советские офицеры из культотделов, часто еврейского происхождения; другие изумлялись экзотической человечности советских войск, которые прибыли в Германию на лошадях и подводах и совершенно непонятным образом обратили в бегство сравнительно высоко технически оснащенную немецкую армию. (К этой же категории относятся рассказы о том, как советские солдаты защищали немцев от насилия со стороны поляков и чехов в районах, откуда изгонялось немецкое население; при этом само изгнание они остановить либо не могли, либо не хотели.) А другой мотив связан с насилием в отношении побежденных: прежде всего это изнасилования женщин, но также и сравнительно менее тяжкие проявления произвола и неуважения, например то, что солдаты отнимали у мирных жителей часы или велосипеды. Сексуальных связей между немецкими женщинами и солдатами союзных армий было огромное множество по всей Германии, однако на Востоке о них вспоминают почти исключительно как об изнасилованиях. Очевидно, дело здесь было не столько в сексе, сколько в архаических формах лишения чести. В большинстве случаев подготовленные нацистской пропагандой ожидания в Восточной Германии скорее сбывались, нежели опровергались.
В обеих частях страны в первые годы после войны в сфере культуры, находившейся под надзором союзников, стали раздаваться голоса жертв нацистского режима, которые пытались разъяснить природу фашизма, формулировали экзистенциальный опыт, извлеченный из войны, и стремились указать немцам на их ответственность и за эту войну, и за массовые преступления, которые тогда еще почти не были расследованы. Культура оккупационного периода предлагала больше информации (и не только об организованном союзниками Нюрнбергском суде), чем последующее десятилетие, однако она лишь в небольшой мере смогла достучаться до приватной памяти индивидов, полностью занятых преодолением последствий войны. Поэтому первое послевоенное десятилетие в среде просветительски настроенной молодой интеллигенции часто называли временем вытеснения (наиболее сильная работа в этом ключе – книга Александра и Маргареты Мичерлихов «Неспособность горевать» 1967 года). Но взгляд историка, учитывающий сопоставимые феномены, например, в Израиле, может увидеть, что эти годы были одновременно и годами, когда экзистенциальные перегрузки предшествующего десятилетия «брали в скобки», с тем чтобы вернуть хотя бы немного нормальной жизни, пусть даже фиктивной, и чтобы справиться с преодолением последствий насилия, творившегося на фронте, на оккупированных территориях и в концлагерях. Таким образом, тезис Германа Люббе, что предпосылкой западногерманской демократии стало коммуникативное молчание о прошлом (1983), не лишен оснований. Но он вызывает по меньшей мере два вопроса. Первый, что это была за демократия, которая в своей институциональной публичной сфере затушевывала экзистенциальный опыт и, как утверждали Мичерлихи и как показали впоследствии микроисторические исследования, отвлекала неотработанные чувства на замещающие объекты – холодильники, автомобили, телевизоры, журнальные столики и другие материальные фетиши времен «экономического чуда», так что с ними оказались в ФРГ связаны гораздо более сильные эмоции, чем в других европейских обществах, где модернизационные процессы начались немного позже. Но главное: после 1990 года возникла возможность видеть и сравнивать обе части Германии, и теперь вся эмфаза тезиса Люббе рушится, ибо то же самое коммуникативное молчание о личном опыте членства в нацистской партии и участия в войне, который теперь был связан со страхом и стыдом, помогло государственно-социалистическому режиму в ГДР утвердить без особых возражений свою воспитательную антифашистскую диктатуру. Но если тезис сокращается до утверждения, что публичное вытеснение приватного опыта служит легитимации политических систем любого толка, тогда он теряет всякую связь с демократией.
Второй вопрос – был ли якобы коммуникативно замалчивавшийся опыт настолько ясным и всеобщим, что все молчали об одном и том же? Была ли это, как полагали Мичерлихи, фанатичная любовь к Гитлеру, особенно с 1933 по 1942 год? Она, конечно, представляла собой табу в публичной сфере 1950-х годов, и прошло еще два десятилетия, прежде чем первые вспомненные чувства такого рода смогли быть публично высказаны и соответственно смогло начаться их преодоление. Молчание в буржуазных семьях 1950-х годов лежало бременем на следующем поколении и позволило ему с чистой совестью отважиться на бунт в 1968 году. В ходе этого бунта молодежь идентифицировала себя в первую очередь с подавленными традициями немецких левых и жертвами национал-социализма (другое дело, что идентичность эта существовала лишь в фантазии молодых бунтарей).
Однако на бытовом уровне для многих в послевоенные годы протекал в плане жизненного опыта иной процесс: снова собрались вместе семьи, которые во время войны были искалечены почти так же, как и в Восточной Европе, а теперь оказались единственной подлинной социальной сетью, какая была в обществе, переживавшем коллапс и частичное исчезновение государства. Теперь проработка последствий войны была облегчена – прежде всего потому, что многие женщины вернулись к своим традиционным поддерживающим ролям и отложили свою эмансипацию и профессиональную карьеру, а также потому, что после следующего – несомненно, гораздо более мягкого – общественного кризиса (1948 – начала 1950-х годов) материально-экономическая сфера стала притягательной и открывала шансы: в ней многие представители рабочих слоев почти обрели то, что нацисты обещали им перед войной. Достаточно назвать такие реалии, как внеклассовое равенство возможностей, например, в отношении образования и социальной мобильности (на Западе это равенство возникло позже и было поначалу менее выраженным, чем на Востоке, но зато продолжалось потом дольше), более динамичное социальное обеспечение в старости (неведомое людям в зацикленных на производстве обществах Востока), компенсация урона от войны (прекращенная на Востоке в 1950 году, когда на Западе она только началась), открытие рекреационных и потребительских ресурсов для всех, независимо от участия в процессе производства, что на Востоке означало низведение всех до уровня рабочих, а на Западе под знаком «демократии потребления» последовательно размывало культуры нижних и средних классов.
Далее я хотел бы на примере трех выбранных мною дифференциалов (из сфер социальной, культурной и политической истории) продемонстрировать принципиально новые факторы дифференциации жизненного опыта между двумя германскими послевоенными обществами и внутри каждого из них.
Гендер как дифференциал
Доминирующий в памяти стереотип – причем как в «обществе виновников», так и в «обществе жертв» – можно свести к одному слову: «прорваться», т. е. приспособиться к новым динамическим структурам жизни. И попутчики нацистского режима, и его выжившие жертвы демонстрировали удивительно схожие паттерны индивидуализации. Они перестали вспоминать о политической ответственности и политических взаимосвязях между событиями в прошлом общества, а вместо этого стали вспоминать о том, как им удавалось выжить и сохранить свои семьи. Во внешней жизни республика переживала «пубертатный период», несколько неловко осваивая заново стереотипные гендерные роли – сильного оберегающего мужчины и слабой беззащитной женщины; в то же время реальный опыт, стоявший за этим, был совсем иным: война превратила мужчину (если говорить об идеальном типе) в побежденного, загнанного, убегающего, раненого, арестованного или еще каким-либо образом травмированного человека, а женщину – в противоположность изначальной программе нацистов – поставила лицом к лицу со множеством неведомых ей прежде испытаний в общественной и приватной сферах, и большинство женщин эти испытания прошли – в одиночку воспитывая детей, служа во вспомогательном армейском подразделении, разбирая развалины, превратившись в «мамашу Кураж», приобретя профессиональную квалификацию и заменив мобилизованных на фронт мужчин, не растеряв свою семью в потоке беженцев или эвакуации. Когда вернулись те мужчины, что смогли вернуться, оказалось, что эта – зачастую вынужденная – эмансипация была делом временным. Те женщины, которые остались одни, – а таких, особенно на Востоке, было много, – продолжали работать, но те, кто снова обрели партнера, стали использовать свои новые профессиональные навыки в приватной сфере: вели дом и семью – теперь с прицелом на последовательное повышение материального и социального статуса – и старались морально восстанавливать своих ставших слабыми мужчин.
Законодательная власть и управление экономикой в первые годы существования ФРГ находились преимущественно в руках пожилых мужчин. Они поддерживали этот процесс реставрации прежних порядков: вернули численность женщин, занятых профессиональной деятельностью, к традиционному показателю (около одной трети) и отдали «социальное обеспечение» инвалидов войны и изгнанных с восточных территорий в основном на добрую волю их жен, спутниц жизни или родственниц. Те же, о ком не заботилась никакая женщина, вынуждены были выходить на рынок труда.
На Востоке это было совершенно иначе. В ходе советизации ГДР к власти пришел такой антифашизм, который восточных немцев, вынужденных в одиночку платить репарации за весь рейх, объявил в идеологическом отношении историческими победителями, при условии что они подчинялись новому порядку и Советскому Союзу. За счет этого приватная память, в которой мотив «прорваться» был укреплен специфическим опытом послевоенного насилия, еще сильнее подвергалась изоляции и подавлению. Но ГДР – как и большинство послевоенных обществ советского блока – являлась обществом, которым управляли почти исключительно мужчины, но которое в основной своей толще было отчетливо женским. Превышение численности женщин по отношению к численности мужчин было в ГДР вторым по величине после Белоруссии. Сильные женщины послевоенной эпохи были очень важным ресурсом государственного социализма, который в 1950-х годах довольно брутальными мерами заставил их включиться в общественное производство и шаг за шагом вынужден был делать им уступки в виде организованных при предприятиях социальных учреждений для присмотра за детьми и для коллективизации части домашнего труда. В течение 1950-х годов женщины в среднем превратились в квалифицированных рабочих, благодаря чему многие мужчины из квалифицированных рабочих поднялись на руководящие должности, заменив сбежавших на Запад или уволенных буржуазных специалистов. Сила женщин этого поколения заключалась в той энергии и работоспособности, с которой они принимали на себя и работу, и семью, сосредоточиваясь таким образом на своем приватном мирке и не идя в политику – а значит в том числе, и в политическую оппозицию. Тем самым они вносили двоякий вклад в стабилизацию нового порядка. Их пассивная поддержка была важна, так как активными поборниками этого нового порядка было только меньшинство общества. Их активное участие в производстве было важно, поскольку молодые мужчины из рабочей среды, число которых и так сократилось из-за войны, были увлечены открывшимися возможностями получения образования и социального роста, а значительная часть их ровесников из буржуазной среды эмигрировала на Запад (половина всех беженцев из ГДР в 1950-е годы были молодые мужчины в возрасте от 18 до 25 лет). Во всяком случае гендер является особо важным дифференциалом в восприятии войны и формировании двух очень разных культур повседневности на востоке и западе Германии в первое послевоенное время.
Миграция как дифференциал
Сходным по значимости является такой дифференциал, как миграция, ибо она в эти годы, как правило, была связана с войной и ее последствиями. Почти половина немцев весной 1945 года тем или иным образом хотя бы временно была «перемещена», причем даже если не считать классических «перемещенных лиц» (а это были ждущие возвращения на родину подневольные рабочие, военнопленные, узники концлагерей и восточноевропейские евреи, уцелевшие после холокоста и, как правило, ожидающие выезда в другие края). Поэтому послевоенная миграция, связанная для каждого данного индивида часто с огромными бытовыми и душевными нагрузками, для общества в целом означала в долгосрочной перспективе прежде всего индивидуализацию, повышение мобильности, модернизационный ресурс, а также трудовые ресурсы для будущего восстановления страны. Наиболее компактной группой среди мигрантов того времени были 12 миллионов немцев, изгнанных из восточных провинций рейха и из Судет. Они несли на себе бремя одного из самых тяжких последствий войны, хотя и не могли понять, какая их личная ответственность повлекла за собой решение союзников урезать территорию Германии, переменившее их судьбу.
В первые послевоенные годы «изгнанные» создавали большие проблемы: их нужно было где-то размещать и кормить. В советской зоне оккупации, где осела непропорционально большая их часть, они были быстро расселены и худо-бедно интегрированы за счет перераспределительных мер. Однако в 1950 году, когда молодая Германская Демократическая Республика должна была признать границу с Польшей, проведенную по Одеру и Нейссе, особая судьба этих людей на сорок лет была в публичной сфере табуирована, и им запрещено было создавать какие-либо самодеятельные организации. Зачастую они, уроженцы католических сельских общин, оказавшись в индустриальном обществе ГДР, управляемом коммунистами и протестантском по культурной традиции, оказывались поначалу в жесточайшей изоляции, покуда не исчезла та особая внешняя причина, по которой они пребывали в этом обществе на лишенческом положении. Многое говорит в пользу предположения, что католические общины в ГДР отличались сравнительной замкнутостью и стабильностью именно благодаря притоку «изгнанных». С другой стороны, они составляли непропорционально большой процент среди руководящих (в том числе и партийных) кадров республики: таковы два лица миграции – с одной стороны крепкие культурные связи, с другой стороны готовность приспосабливаться и добиваться успеха.
Подобное можно найти и в Западной Германии, но в совершенно ином контексте. Здесь в период оккупации «изгнанных» по большей части не интегрировали, чтобы подчеркнуть временный характер отторжения восточных территорий. Поэтому они образовывали в ФРГ сильные организации, представлявшие их интересы, и даже целые политические партии или фракции в крупных партиях. Они преследовали две взаимно противоречившие друг другу цели: во-первых, воспрепятствовать общественному признанию тех границ Германии, которые установили союзники, а во-вторых, получить от местного населения компенсацию за ущерб, понесенный от войны. В достижении первой цели они долгое время добивались большего успеха, чем второй: их вето на протяжении десятилетий парализовало политику ФРГ по отношению к вопросу о границах, а их землячества, возглавлявшиеся порой бывшими нацистскими функционерами, на государственные дотации вели культурную работу, в которой сочетались организованная ностальгия и протест (зачастую агрессивный) против того, чтобы ответственность за войну реализовывалась за счет «изгнанных». В том, что касается материальных компенсаций, успехи были не так велики: пусть общая сумма компенсационных выплат и производила внушительное впечатление, но эти платежи были распределены на пятую часть населения и растянуты на десять лет, так что в результате люди получили в основном лишь жалкие подачки. Потом, во время «экономического чуда», «изгнанные» оказались нужны, и ущемленность их положения уменьшалась по мере того, как набирал силу рынок. Они стали первыми «гастарбайтерами» ФРГ, а после того, как закончилась их экономическая интеграция, их сменили мигранты из Южной Европы.
Холодная война как дифференциал
Третий дифференциал, оказавший сильнейшее воздействие на вторую половину первого периода, когда восприятие войны затмили хлопоты по преодолению ее последствий, – это холодная война. Она, по-видимости, началась из-за балканских конфликтов, однако в подоплеке ее всегда действовала заинтересованность в потенциале Германии. В период Корейской войны, когда подготавливалось вооружение обоих немецких государств, изменились внешние условия для восприятия войны германским обществом. Холодная война пришла в Германию несколькими волнами. Она была подготовлена конкуренцией союзников, наперегонки стремившихся оккупировать страну, и постановлением Контрольного совета, гласившим, что в случае, если союзники не договорятся, каждый командующий зоной может действовать по собственному усмотрению. Первыми предвестниками холодной войны стали отказ США допустить выплату репараций Советскому Союзу, покуда тот отказывался признать все оккупационные зоны единым экономическим пространством, а также создание в советской зоне Социалистической единой партии Германии. Начиная с 1947 года США стали добиваться раздела Германии, чтобы хотя бы две трети ее удержать и консолидировать под контролем Запада. Когда СССР не дал своим сателлитам принять план Маршалла, собрал их в Коминформ, а непослушные страны либо оттолкнул, как Югославию, либо устроил в них революции, как в Чехословакии, то в Европе сложились идеальные условия для раздела Германии на два государства. Несмотря на конфликты между странами антигитлеровской коалиции, они были единодушны во мнении, что тот противник, в войне с которым они объединились, должен оставаться демилитаризованным.
Табу на вооружение было сломлено Корейской войной: оба германских государства, при поддержке своих оккупационных властей снова стали планировать создание воинских подразделений. На Западе эти вооруженные силы планировалось включить в структуру Европейского оборонительного сообщества, чтобы не допустить самостоятельного управления ими со стороны национального правительства и умилостивить соседей. На Востоке Сталин приказал, чтобы ГДР вооружалась в таких же объемах, что и ФРГ, а в пересчете на душу населения это означало втрое большую армию. Так в последний год Сталин поставил свое «нелюбимое дитя» на грань банкротства и подтолкнул его к восстанию 17 июня 1953 года. После этого скандала на Востоке милитаризация повседневной жизни в ГДР была усилена за счет создания заводских дружин («боевых групп»). На Западе тоже имел место скандал, хотя и меньший, когда французы, бывшие инициаторами создания ЕОС, в 1954 году сами же его развалили. Год спустя ФРГ была принята в НАТО, смысл существования которого применительно к Западной Европе один высокопоставленный британский военный выразил тогда следующей сжатой формулой: «To keep the Americans in, the Russians out, and the Germans down» [33] .
Реально вооруженные силы были созданы только в последующие годы, но дебаты по поводу ремилитаризации на Западе и не обсуждавшееся распоряжение о ремилитаризации на Востоке породили значительную внепарламентскую оппозицию, особенно среди молодых ветеранов (под лозунгом «Без меня!»). Однако высокопоставленные офицеры вермахта снова заняли важное место в обществе, а избирательные интерпретации военной истории получили широкий резонанс. К этому добавились регрессивные тенденции в базовых структурах обоих немецких индустриальных обществ: на Западе это была реставрация традиционных интересов в тяжелой промышленности (которая теперь, правда, была интегрирована в международные западноевропейские структуры) и рейнского капитализма. На Востоке же это наращивание вооружений понимали как сталинистский примат тяжелой промышленности над производством товаров народного потребления.
На Западе в 1952 году в ходе урегулирования внешних долговых обязательств Германии самый большой из этих долгов – компенсацию подневольным рабочим, подавляющее большинство которых происходило из Восточной Европы, – отложили до второго пришествия, но ответственность за холокост признали и начали выплачивать – при поддержке США – денежные компенсации, которые достались главным образом людям, жившим на Западе, и государству Израиль.
В качестве символического жеста в официальный канон памяти было включено покушение на Гитлера, совершенное военными 20 июля 1944 года, и некоторые из участвовавших в нем и оставшихся в живых генералов были назначены правительством на роль разработчиков планов ремилитаризации. Они призваны были репрезентировать ту часть вермахта, которая могла стать основой традиции, и служили в силу своего профессионализма мостиком между армией Третьего рейха и будущей армией демократической Германии, девизом которой было: «Солдат – это гражданин в военном мундире». Если прежде война на официальном уровне отвергалась как таковая, то теперь было введено различие: военные преступления приписывались только Гитлеру и СС, а армия, как утверждалось, во время войны осталась «чиста». Так сложилась живучая легенда, разрушить которую до конца удалось только четыре десятилетия спустя. Эту легенду активно поддерживала масса бывших участников войны, последние из которых вернулись из советского плена в 1955 году. Но она породила и значительно более далеко идущие ревизионистские устремления: союзы бывших военнослужащих СС стали требовать, чтобы их рассматривали наравне с прочими участниками войны, а осужденные за военные преступления, но досрочно отпущенные союзниками генералы предлагали свои услуги для начала новой – на сей раз успешной – войны на Востоке. Наиболее известным из таковых стал генерал-фельдмаршал Манштейн со своими мемуарами «Проигранные победы» (1955), где он объяснял поражение в войне безграмотным вмешательством Гитлера в профессиональное ремесло военных. Не отставала и праворадикальная пропаганда, восхвалявшая в книгах и специальной «Солдатской газете» военные успехи вермахта и войск СС, клеймившая покушение на Гитлера как предательство, а компенсации жертвам холокоста – как еврейское долговое рабство. Это были, правда, лишь единичные – хотя и довольно живучие – ростки частичной реставрации; но все же в течение нескольких лет лозунг первого послевоенного времени «Не допустим больше никогда войны!» преобразовался в более частные, но и более конкретные: «Не допустим больше никогда диктатуры!» и «Не допустим более никогда Освенцима!»; они вызывали споры, но все же постепенно возобладали. Правда, в условиях повседневной борьбы с последствиями войны при оккупационном режиме трудно было избежать того, что внимание людей быстро сконцентрировалось на страданиях, перенесенных в военные годы ими самими, и теперь к этой сосредоточенности на собственном горе добавилась оправдательная легенда, будто большинство немцев не несут никакой личной ответственности за войну и совершенные в ходе нее массовые преступления. Таковы были – в плане истории человеческого жизненного опыта – исходные позиции, с которых в середине 1950-х годов началась длительная борьба за память.
На Востоке исходная ситуация перед началом ремилитаризации в годы холодной войны была схожая: ведь это был тот же самый немецкий народ. В Восточной Германии тоже нужна была оправдательная легенда и нужны были профессионалы военного дела, тем более что милитаризация общества здесь началась раньше и уже в 1950-е годы приобрела значительно большие масштабы, нежели на Западе, так как маленькая ГДР должна была не отставать от большой ФРГ. После 17 июня было создано специальное ополчение для предупреждения внутренних беспорядков. В качестве оправдательной легенды в ГДР откопали предание о Национальном комитете «Свободная Германия», который был создан после Сталинграда среди немецких военнопленных в СССР и в конце войны, когда его диверсионная деятельность показала в целом свою безуспешность, был распущен советскими властями. Оправдательное действие должна была оказывать идея, что только нападение на Советский Союз было преступлением, что ответственность за войну нес финансовый капитал (т. е. Запад), а при осознании руководящей роли Советского Союза военная служба необходима и почетна. Прошедшие антифашистскую переподготовку офицеры под надзором пролетарских кадров СЕПГ, которые впоследствии их сменили, планировали и создавали «Народную армию» и крепили «братский союз» с бывшим главным противником и главной жертвой войны – Советским Союзом, – выбирая из исторического предания те редкие моменты, когда Пруссия или Германия в союзе с Россией выступала против Запада. Прежде всего речь шла о наполеоновских войнах, но при этом не упоминалось о последовавшем за ними Священном союзе, с которым, кстати, у Варшавского пакта по его реальным функциям было больше сходства. Под коммунистическим девизом «Главное не форма, главное – содержание!» военнослужащие Национальной народной армии ГДР были ради укрепления связи с народом даже облачены в мундиры, напоминавшие вермахтовские, а на парадах вышагивали в ногу прусским шагом.
Но все эти ориентации и инсценировки были предписаны сверху. О том, как реально воспринималась война в народе, публичных разговоров избегали, а всякие формы самоорганизации для сохранения исторического предания или отстаивания групповых интересов строго пресекались. На темы «изгнания» и изнасилований было наложено табу, зато подчеркивали «бомбовый террор» западных союзников (на примере Дрездена) и причастность бундесверовских генералов к уничтожению мирного населения в годы войны на Востоке. В то же время уничтожение евреев удивительным образом оставалось в тени, а Израиль назывался авангардом империализма на Ближнем Востоке. Таким образом, профашистские установки, существовавшие среди населения, на Западе в 1950-е годы нашли ясное выражение в реакционных организациях и публикациях, но в ходе открытого социального взаимодействия их удалось в значительной мере устранить. На Востоке же они сохранились дольше, так как были заметены под ковер «германо-советской дружбы», в которой каждый был обязан клясться и непременно состоять в соответствующей организации. К тому же бытовая борьба с последствиями войны затянулась здесь на гораздо более долгое время, чем в ФРГ.
IV. Попытка стереофонии воспоминаний
Чтобы завершить этот критический анализ эволюции и разновидностей восприятия войны немцами в первые послевоенные годы на более позитивной ноте, скажу еще о том, как формировалось тогда раздвоенное, а при взгляде из сегодняшнего дня как бы стереофоническое осознание ответственности за величайшие преступления Второй мировой войны. Это было связано с холодной войной. Во время наших биографических интервью, которые мы проводили в Западной и Восточной Германии в 1980-е годы, почти каждый наш собеседник на Западе вспоминал о том, как лично наблюдал случаи дискриминации, а порой даже депортацию евреев из своего района. На Востоке столь же распространены были воспоминания о подневольных рабочих и узниках из Восточной Европы. Разумеется, в обоих случаях это были только прелюдии наихудших преступлений, однако в обеих частях страны эта странным образом раздвоенная публичная память стимулировала личные воспоминания, которые в своей совокупности стали важным фундаментом для готовности более полного восприятия войны. Оно было для большинства невозможно в первый период преодоления ее непосредственных последствий и в годы холодной войны. Теперь же, когда две части Германии воссоединились, такое более полное восприятие Второй мировой возможно, и интернационализация исторического дискурса по ее поводу является в этом деле важной подмогой.
8 Биография и биократия. Об исследовании в ГДР – пять лет спустя
I
В ГДР на проведение интервью требовалось разрешение. Из-за этого первые шаги устной истории там совершались полулегально и скорее в литературной форме {1}, а иностранные исследователи, которые должны были получать разрешение ни много ни мало от Совета министров ГДР, в ответ на свои обращения получали отказ. Поскольку те, кто были знакомы с положением дел в стране, ожидали подобного, то почти никто с подобными просьбами и не обращался {2}.
В 1985 году на волне перестройки и гласности показалось, что что-то может измениться. С одной стороны, нескольким активистам удалось немного расширить зону свободы для проведения полулегальных экспериментальных исследований, основанных на технике опроса {3}. С другой стороны, начался официальный культурный обмен между двумя немецкими государствами, и я стал поддерживать контакты с восточногерманскими коллегами. Через них я – западногерманский историк, занимавшийся устной историей {4}, – подал заявку на разрешение опросить в ГДР всего 25 пожилых рабочих обоего пола. Я набрался наглости и попросил также допуск в исторические архивы ГДР, которого не получал дотоле ни один посторонний.
После длительного ожидания осведомленные сотрудники Академии наук ГДР дали мне понять, что моя просьба будет отклонена. Доступа в архивы точно не приходится ожидать, а что касается устной истории, то дело обстоит следующим образом: ГДР – государство, ведомое вперед политически сознательным авангардом, а народ по природе своей обладает отсталым сознанием. Придавать огласку содержанию этого отсталого сознания нельзя, так как это задержит исторический прогресс.
Тогда я послал официальное письмо непосредственно главе партии и государства, пользовавшемуся репутацией человека более милостивого, нежели его бюрократы, и возобновил свое прошение. Прошел еще примерно год, и в самом деле было выдано разрешение мне и моим сотрудникам Александру фон Плато и Доротее Вирлинг (под опекой четверых остепененных историков из Академии наук ГДР) проинтервьюировать пожилых рабочих в трех промышленных городах. Более того, нам предоставили неслыханную в те времена привилегию – открытую визу на несколько месяцев и письмо от одного из директоров академии, чтобы при въезде и выезде пограничная служба ГДР не контролировала наши рабочие материалы и магнитофонные кассеты. Это был наш единственный письменный документ, из которого косвенно следовало, что проект разрешен. Такая бумага была уже делом неслыханным, и она убедила всех пограничников и всех опрошенных нами респондентов, что у нас наверняка было разрешение от самой высшей инстанции. На самом деле письменного разрешения мы так и не получили; вместо него я еще через несколько месяцев получил от Государственного архивного управления ГДР письменный отказ в доступе к его фондам (обоснование: нехватка персонала).
И вот в 1987 году мы провели 150 интервью, большинство которых длилось по несколько часов. Среди рабочих, которых мы опросили в трех городах, мужчины и женщины составляли примерно равные доли; возраст респондентов был между 55 и 95 годами; треть опрошенных были членами или функционерами государственной социалистической партии – это, разумеется, непропорционально много, но среди взрослых жителей ГДР в СЕПГ состояли все же 18,5 %, а еще 4 % – в различных других партиях, шедших у нее в кильватере. Около третьей части бесед были организованы официальным путем через производственные партийные и профсоюзные инстанции; примерно при каждом седьмом интервью присутствовал кто-то из опекавших нас восточногерманских историков. Этого было достаточно для того, чтобы сложилось впечатление плотного контроля. Однако реальный уровень контроля, к тому же сильно различавшийся в разных городах, был гораздо ниже, чем мы ожидали {5}.
Неудивительно поэтому, что критики на Западе и завистники на Востоке впоследствии обвиняли нас в том, что мы сознательно организовали коллаборационистский проект или же были настолько наивны, что не поняли, как органы госбезопасности использовали нас в своих целях {6}. Последнее обстоятельство нас самих, естественно, тоже заботило – уже хотя бы в плане безопасности наших респондентов и информативности наших интервью. В полевой работе нам приходилось с этим сталкиваться: иногда, хотя и редко, люди отказывались с нами разговаривать или явно боялись контроля, а когда мы во время наших поездок слишком уж отклонялись от маршрута, за нами следовала типичная машина штази. Но никакого иного контроля, кроме этого, мы не заметили, и наши рабочие материалы у нас никто не похищал и не проверял. С другой стороны, мы знали, что опекавшие нас коллеги из Академии наук ГДР должны были писать отчеты: потом, когда мы с ними сдружились, они даже показывали нам их {7}.
Поэтому нам было интересно после того, как ГДР перестала существовать, поискать в ее открывшихся архивах следы какого-нибудь другого контроля за нами. Два раза были обстоятельно просмотрены фонды так называемого ведомства Гаука, которое теперь распоряжается архивами штази: ни одного дела, относящегося к нам, обнаружено не было. Но из личных дел наших опекунов следовало, что все они – кроме одного, которого мы больше всего в этом подозревали, – работали на органы госбезопасности в то или иное время, однако в основном не в период нашего проекта. Досье на самих себя – будь то в роли использованных агентов или объектов наблюдения – мы тоже не нашли. Нашлось всего несколько, по сути дела, незначительных указаний на то, что и наш проект, и моя особа вызывали у штази критическую или даже обеспокоенную реакцию, однако эти общие оценки не свидетельствуют о том, что это ведомство было осведомлено о деталях {8}.
Более результативными оказались поиски в партийном архиве: там в бумагах члена Политбюро, отвечавшего за науку (ему глава партии и государства передал мое прошение для проверки), нашлись документы, отражающие часть процесса выдачи разрешения, в том числе довольно подробная записка заведующего отделом ЦК СЕПГ. Из этих документов следует, что мою заявку сочли достойной более пристального рассмотрения, видимо, только потому, что премьер-министр нашей федеральной земли Иоганнес Рау по моей просьбе направил правительству ГДР краткое письмо в поддержку нашего прошения. А Рау – не только политик, пользующийся необычайно высоким авторитетом в обеих частях Германии, но к тому же он был в то время кандидатом на пост федерального канцлера от крупнейшей оппозиционной партии – СДПГ. Благодаря его заступничеству мы превратились в политический проект и оказались в привилегированном положении. В записке члена ЦК был дан взвешенный портрет заявителя {9} и было высказано – по согласованию с Отделом по вопросам безопасности ЦК СЕПГ – соображение, что в доступе к архивным фондам следует под неким предлогом отказать, ибо там речь идет о «политически взрывоопасных» темах, которыми даже историкам ГДР «пока еще» не разрешено было заниматься {10}. Разрешение же на опросы предлагалось выдать, хотя этим и создавался прецедент; но группу должны были сопровождать местные историки, которые и сами должны были проводить интервью. Все следовало «тщательно подготовить» с привлечением региональных партийных инстанций. В заключение записки ее автор ставил вопрос о том, следует ли вынести решение на рассмотрение секретариата ЦК. По всей видимости, член Политбюро, отвечавший за науку, спустил дело ступенькой ниже и ограничился устным разрешением, которое легко было пересмотреть. Тем самым наша судьба была поставлена в зависимость от устной практики управления в ГДР, а она была многогранна. Но главное, по всей видимости, благодаря предписанной высшим партийным начальством схеме, в которой сотрудничество сочеталось с контролем, мы оказались выведены из сферы компетенции штази – крупнейшей европейской тайной полиции всех времен.
Различное отношение властей предержащих к архивным изысканиям и устным интервью заслуживает отдельного внимания. Очевидно, они больше боялись, что известность получит реальная жизнь «марксистско-ленинского передового отряда трудящихся», чем отсталое сознание самих этих трудящихся. Кроме того, они явно надеялись, что посредством «тщательной подготовки» сумеют пресечь или по крайней мере свести к минимуму проявления такой отсталости. В то же время у властей ГДР существовал, очевидно, пусть и обставленный всяческими оговорками, собственный интерес к устной истории, потому что сопровождение проекта историками из Академии наук – в отличие от тщательной подготовки силами партийных органов – мотивировалось не необходимостью контроля, а тем, что власти «со своей стороны… заинтересованы» в проведении этих опросов, данные которых могли бы «иметь значение для научной и историко-пропагандистской работы» {11}. Возможно, обитатели огромного здания партийной бюрократии, жившие между собственной придворной историографией, пользовавшейся консервативнейшей методикой, и фантастическими образами врага, рисуемыми в отчетах штази, чувствовали себя отрезанными от реальной жизни собственной страны и ощущали потребность в наверстывающей методологической реформе, дабы получать неискаженную информацию о том, что думает народ? На основании данных, содержащихся в этой документации, следует задним числом признать правоту наших критиков в том смысле, что момент коллаборационизма – по крайней мере со стороны СЕПГ – в нашем проекте имел место. Вместе с тем я не могу обнаружить ничего предосудительного в этом объективном сотрудничестве, о котором нам стало известно лишь теперь. Ведь его целью явно был ограниченный эксперимент со свободной исследовательской работой, его мотивом было любопытство по отношению к тому, что на самом деле думало население. Я был бы рад, если бы почаще имел место такой коллаборационизм {12}.
С этой точки зрения можно сказать, опека над нами осуществлялась по старому ленинскому принципу «кто кого». Так же смотрели на дело и наши опекуны. Они помогали нам, были сдержанны и любознательны. Им, жившим смолоду в столице, биографическое богатство провинциальной рабочей среды было так же, как и нам – приезжим с Запада, – одновременно чуждо и близко, хотя, возможно, в иной пропорции. Лишь постепенно, за вечерними разговорами «в поле», мы узнали, насколько они сами были заинтересованы в наверстывающей реформе – исходя из интересов своей собственной работы. Им тоже было свойственно «пристрастие к методам социальной истории и устной исторической традиции», но реализовать его они не могли, так как неблагоприятные условия и организация их труда, связанная с цензурой, не давали им такой возможности. Уже много лет они – молодые историки средних лет, работавшие в одном из двух главных исследовательских центров по новейшей отечественной истории, – были заняты подготовкой сборника статей по социальной истории ГДР, и все эти годы они тщетно ждали позволения на его публикацию.
Из этих четверых только одна – бывшая преподавательница университета, подвергшаяся политическим репрессиям в 1970-е годы, – имела опыт проведения опросов: после того как ее выгнали из высшей школы, она работала в архиве одного предприятия и там, в рабочей среде, пыталась найти подлинный социализм. У нее было несколько кассет, на которые она записывала нескончаемо длинные истории жизни рабочих своего предприятия, а потом переписывала их на бумагу, чтобы использовать пленку снова: магнитофонные кассеты были редкостью, а денег на исследования не давали, тем более таким, как она {13}.
II
Именно эта женщина в конце полевой фазы нашего проекта и написала о ней самый подробный отчет властям. Раньше, чем это смог бы сделать кто-то из нас, западных исследователей, она подвела предварительный итог работы. Она описала то, что проявилось не только в интервью, взятых с ее участием, но и в остальной массе нашего материала: пропасть, отделявшую базис от партии, и отсутствие перспектив в провинции. Изложила она это, используя неуязвимые социалистические выражения, но настолько неприкрашенно, что ее начальство не дало отчету хода. Видимо, не хотели будить лихо в высших партийных инстанциях и привлекать внимание к проекту, к своему институту, к методу… – не знаю. Но и сам этот весьма критичный отчет для внутрипартийного пользования, и его сокрытие теми, кто думал то же или примерно то же, что в нем было написано, мне кажутся очень показательными для реально существовавшего отношения между социалистическим режимом и опросами населения.
Мне самому понадобилось полгода после завершения полевой фазы, прежде чем я изложил на бумаге первый анализ наших интервью. На этой фазе реальное количество опрошенных выросло впятеро против запланированного. Помимо интересовавших нас биографий и истории восточных немцев мы узнали многое из области этнологии этой другой части Германии. Но после возбуждения, сопровождавшего полевую работу, наступили депрессия и растерянность. Дело было не только в том, что мысль об обработке примерно пятисот 90-минутных кассет казалась кошмаром, и не только в том, что переход из «поля» за письменный стол действовал подавляюще: во время осуществления нашего проекта рухнули надежды на перестройку в ГДР; берлинское начальство впервые в жизни совершило самостоятельный поступок, а именно пошло против Советского Союза, охваченного лихорадкой горбачевских реформ, и тем приблизило собственный конец. Но поначалу этого еще невозможно было предвидеть, ибо никто на Западе (включая меня) не мог себе тогда представить, что русские так быстро уйдут. Во время поездок на Восток мы чувствовали застой, чувствовали растущую бесперспективность в настроении наших собеседников, кошмарное давление, которое вызывало отчаяние, замкнутость, стремление уехать.
Тогда, зимой 1987/88 года я гостил в одном роскошном исследовательском институте в Западном Берлине {14}, в квартале фешенебельных вилл, и сидел перед своими 500-ми кассетами, перемешивая депрессию наших собеседников со своей собственной. В итоге получилась первая диагностическая статья, которая, если я не ошибаюсь, оказалась едва ли не единственным в то время в Западной Германии прогнозом грядущего кризиса ГДР {15}. Написана она была благодаря проведению трех очень разных аналитических операций с нашим материалом: этнолого-биографического анализа, социально-статистического изучения смены поколений и исторической диагностики текущего момента.
В первом случае мы делали предметом и инструментом нашей интерпретации все чуждое, задевающее, непонятное, что наблюдали «в поле». Этой процедуре я научился от швейцарских друзей-этнопсихоаналитиков, проводивших исследования в Латинской Америке {16}: когда пытаешься понять чужую культуру, надо то, что непонятно и раздражает, не заключать в скобки и отодвигать в сторону, а наоборот, вместе с собственным раздражением ставить в центр рассмотрения. Ведь это раздражение маркирует культурное различие – отличие от того, что внутри нашей собственной культуры существует как данность, которая не требует прояснения. В данном случае меня раздражало «раздвоенное мышление» наших собеседников: их рассказы о собственной жизни представлялись мне удивительно «общественными», их сдержанный и экономный язык казался в то же время выразительным и шизоидным.
Я попытался продемонстрировать это на примерах. Вот женщина, пережившая много тяжкого во время войны и строительства социализма; она называла себя шизофреничкой, и под защитой этой болезни ей удавалось поразительно внятно формулировать осознанный ею диссоциативный социальный характер ГДР {17}. Вот профессор философии, которого мне отрекомендовали как образец антифашиста и который мне рассказал о своем рабочем детстве и о тюремном заключении в Третьем рейхе, но хотел умолчать о том, что после 1945 года он стал первым культурным лидером ГДР, не справлялся с этой ролью, а потом партия обвинила его в том, что он выдал гестапо своих товарищей, и он был свергнут, но потом снова стал пользоваться почетом и получил титулы профессора и образцового антифашиста {18}. Вот еще пример: сын рабочего, павшего жертвой гитлеровской «эвтаназии», нацист и восторженный член гитлерюгенда; во время войны влюбляется в женщину-офицера, дочь коммуниста и активиста Сопротивления, который для того, чтобы себя обезопасить, без ведома дочери направил ее по военной стезе. Этот человек резко критикует ГДР, он всегда был против этого строя, однако любит технику и верен долгу, поэтому пускается на всякие импровизации, чтобы хорошо выполнять свою работу; смирился с обстоятельствами, подорвал работой здоровье. А жена, чей отец-коммунист в 1950-е годы был так разочарован социализмом, что покончил с собой, удобно устроилась в жизни и внутренне дистанцировалась от реальности {19}. Или вот, наконец, рабочий, которого в молодости, сразу после войны, уговорили вступить в партию. Он сделал головокружительную карьеру, почти дорос до главного инженера своего металлообрабатывающего завода, но по медицинским причинам то и дело вынужден был отступать на шаг назад. Свою партийную работу он описывает как бегство из семьи: женился на женщине старше себя, в отношениях с нею воспроизвелись в более сносной форме его травматичные отношения с матерью. Для своей первой биографической презентации он избрал самую избитую схему, которой пользуется подавляющее большинство граждан ГДР для организации своих автобиографических рассказов {20}.
Эта схема обязана своим формированием единой структуре всех личных дел в ГДР: по ней заполняли формуляры в отделах кадров, писали автобиографии для всевозможных инстанций, прежде всего партийных. В 1950-е годы этому даже специально учили. Формальный принцип этого публичного изложения своей биографии заключался в том, чтобы жизнь никогда не становилась цельной, а все время была разделена на графы: работа, семья, политика, иногда также деньги, и даже хобби – все излагается в отдельных колонках от начала до конца, одна тема за другой. Эта программа не допускала формирования идентичности: она предусматривала систематическое подчеркивание социальных лиц человека в ущерб его собственному личному «я». Вместе с тем она освобождала его от трудной и не всегда приятной ответственности за свою цельную и обладающую неким центром личность. В этой общественной форме биографии свое, личное нельзя было представить. Но оно не пропало, оно всплывало в разговоре, когда интервьюер задавал уточняющие вопросы, – всплывало как отгороженная приватная сфера, но потом при случае раскрывалось как целая сложная реальность, которая, однако, другую – общественно организованную, шаблонную – реальность не отвергала как лживую, а сосуществовала с нею. У человека, вполне овладевшего искусством быть гражданином ГДР, очарование и глубина заключались в наличии у него второго и третьего дна; в приватной сфере это позволяло ему хорошо справляться с действительностью, в публичной делало его незаметным и/или позволяло ему делать карьеру. К этой схеме я скоро вернусь, когда попытаюсь разъяснить странное понятие «биократия», вынесенное в название статьи.
Социально-статистическая обработка, которой я подверг примерно третью часть наших интервью (а именно те, которые были собраны в одном промышленном пригороде в Саксонии), разумеется, как и вся устная история, не претендовала на репрезентативность, а была направлена лишь на получение количественных опорных точек, позволяющих наметить некие типы поколений. Я обсчитал этапы карьер и рождения детей, происхождение и политические убеждения. В результате получилось, что два старших поколения людей, живших в этих местах, обладали необычайно высокой социальной мобильностью, направление которой в общих чертах можно описать так: для мужчин – из квалифицированных рабочих в другие сферы, для женщин – из других сфер в квалифицированные рабочие. Несмотря на весь свой политический антиамериканизм в годы холодной войны, ГДР в политическом и культурном отношении была «Америкой маленького человека», потому что детям рабочих и молодым людям, вступавшим в жизнь после 1945 года, она предоставляла шансы социальной мобильности, превратившиеся в базовый экзистенциальный опыт и заменившие религиозные ценности экономическими. Однако, в отличие от Америки, распределение социальных шансов здесь определялось политическими факторами, и это породило фиксированный на авторитарной системе тип выдвиженца из низов. Политический и экономический кризис, охвативший страну в период осуществления нашего проекта, как правило, вызывал у людей такого рода ощущение утраты перспектив, которое они порой лишь с трудом могли скрыть {21}. Это привело к тому, что три года спустя в этой местности, некогда коммунистически настроенной, подавляющее большинство рабочих стало голосовать за западные консервативные партии, обещавшие покончить с социалистической депрессией посредством импорта капитализма.
Мы в то время еще не могли этого знать, но уже тогда бросалось в глаза, что отсутствие перспектив порождало в людях очень большие ожидания. Точно так же бросались в глаза и гордость старших поколений тем, чего они достигли в условиях ГДР, и их отчужденность (чтобы не сказать ненависть) по отношению к младшему поколению, у которого ожидания были менее скромные, а материальные возможности менее ограниченные, нежели у стариков – тяжело работавших, многократно потрепанных жизнью и многократно к ней приспосабливавшихся, благодарных за все и лишенных перспектив {22}.
Рассмотрев упомянутый выше феномен «раздвоенного мышления» и проанализировав разрыв между поколениями, я не мог не сделать вывод, что в ГДР близится культурный кризис. Политическая интеграция старших поколений оказалась возможной благодаря уникальному социальному опыту, какого у младших поколений быть уже не могло, потому что освобождение пролетариата было для них уже давно свершившимся фактом, а вину за нацизм они не ощущали. Опыт старшего поколения, приобретенный в уникальных исторических обстоятельствах, не был системно обусловлен и потому не мог быть передан младшим, которые по необходимости должны были искать свой путь. Каким будет этот путь, я тогда не знал и знать не мог. И не я один – таких было много, но это меня не радует, ибо это значит, что многие были слепы и не смогли распознать, куда движется Советский Союз: чем же тут гордиться?
Прежде чем моя статья, в которой я прогнозировал кризис ГДР, была опубликована в одном небольшом научном журнале на Западе (1988) {23}, я познакомил с нею нескольких друзей на Востоке, в том числе и наших «опекунов». Они удивились, что я использовал устную историю для политического прогнозирования, поправили несколько ошибок в деталях и категорически потребовали переформулировать одну фразу, в которой я по чисто языковым причинам, говоря о периоде правления тогдашнего главы государства, употребил глагол в прошедшем времени. Я ничего особенного не имел в виду и поменял формулировку, но мне запомнилось, что подлинное табу в последние годы существования ГДР было наложено не столько на прогноз грядущего крупного кризиса, сколько на слова, выражавшие просто возможность того, что время правления главы государства, которому к тому моменту перевалило за восемьдесят, когда-то может закончиться. Но это была цензура на низшем уровне. Как я узнал впоследствии из архивных документов штази, служба госбезопасности явно тоже ознакомилась с моим манускриптом, и там не стали останавливаться на подобных пустяках, а просто сделали вывод, что я злоупотребил полученным разрешением на опросы. Если бы ГДР не прекратила существовать, то, вероятно, в последующие годы стало бы еще труднее получать добро на проекты в области устной истории – по соображениям государственной безопасности.
III
Но через два года ГДР рухнула. С той поры интервьюирование граждан Восточной Германии переживает расцвет: социологи, политологи, этнологи, педагоги и историки воспользовались открывшимися возможностями. Опубликовано, в частности, множество биографических рассказов, записанных на пленку и зачастую обработанных в стиле документальной литературы {24}. Среди них есть много сложных биографий, но нет тех признаков, которые мне показались характерными: «раздвоенного мышления», социальной мобильности как паттерна легитимации, разрыва между поколениями и разрушающей идентичность схемы биографического рассказа «по графам». Какой вывод следует из этого?
Можно было бы подумать, что мы все сделали неправильно и что наше официально дозволенное исследование продемонстрировало нам только внешний слой действительности ГДР, а не скрытую под ним и защищенную диктатурой подлинную идентичность граждан, которая смогла проявиться лишь теперь, в более свободных условиях. Поэтому мы сделали попытку в 1992 году снова проинтервьюировать наших респондентов пять лет спустя после первых интервью. Но на наши письма откликнулись только 10 % из них, а во время повторных интервью лишь в нескольких случаях респонденты – все они были членами не СЕПГ, а других партий блока – нам рассказали совсем не те истории, что в первый раз: то, что раньше представлялось как выстраданная ими поддержка режима, теперь описывалось как сопротивление ему в условиях вынужденного коллаборационизма. Но в целом принципиальных изменений в историях не было, только добавились кое-какие детали и эпизоды. Вышеупомянутая схема рассказа «по графам» более не проявлялась, но это ни о чем не говорило: эта форма, служившая для официального представления автобиографии, была уже больше не нужна респондентам ни в публичных контекстах, ни в контексте нашего проекта, в котором они и прежде рассказывали о своих жизнях по гораздо более сложной схеме.
Но более всего озадачило нас, конечно, то обстоятельство, что лишь очень немногие были готовы участвовать в еще одном интервью, в то время как в 1987 году процент отказов у нас был очень небольшой, а некоторые (в основном далекие от режима люди) тогда едва ли не сами рвались рассказать нам, людям с Запада, свою историю. Может быть, мы тогда напугали людей или задели их своим высокомерием, или еще как-то неправильно себя с ними вели? Встречаясь впоследствии с некоторыми из наших собеседников, мы не замечали у них подобных чувств. Но еще в первый раз респонденты нам часто говорили после окончания интервью, что они не ожидали такого подробного разговора и сказали больше, чем собирались, и не так, как собирались. Хотя интервьюер никогда не может знать, что остается после беседы в душе у каждого его респондента, я все же думаю, что странный эпилог нашего проекта объяснялся не тем, как опрошенные оценивали наше поведение, и не тем, что теперь они могли бы рассказать совсем другую историю своей жизни.
Намного правдоподобнее представляется мне другая гипотеза: такой резкий культурный слом, как тот, что произошел с крушением ГДР и объединением Германии, заставляет людей стыдиться континуитета. Биографические рассказы основаны на постоянном соотнесении воспоминания о пережитом с господствующими на данный момент в культуре формами его изложения. Поэтому человек может до и после культурного кризиса правдоподобно и связно рассказать свою жизнь, но несравненно тяжелее рассказывать ее одному и тому же слушателю, с которым у рассказчика имеются общие воспоминания о формах изложения, примененных в прошлый раз, а теперь ставших неприменимыми.
Описание этой проблемы в моральных понятиях исказило бы ее суть и глубину. То есть неверно было бы утверждать, что люди хотели рассказывать выдумки о своей жизни только в соответствии с господствующими на каждый данный момент мерками, но не быть при этом пойманными за руку: это означало бы исходить из того, что индивид автономен от окружающей его культуры. Однако такой полной автономии не существует, хотя степень зависимости индивида от культуры бывает самой разной. Даже когда он демонстративно дистанцируется от окружающей культуры, он делает это, как правило, в ее же формах.
Эта привязанность к коммуникативному контексту может элиминироваться в разговоре тет-а-тет между двумя индивидами, которые принадлежат одной и той же субкультуре или давно знакомы друг с другом: отставив в сторону то, что принято на данный момент в «большой» культуре, они могут, например, предаться ностальгическим воспоминаниям о старых добрых временах и вести себя так, словно те еще продолжаются. Однако интервью, особенно такие, какие применяются в исследованиях по устной истории, – это не задушевный разговор с глазу на глаз, а культурное мероприятие. Собеседники чаще всего либо вовсе не знакомы, либо знают друг друга лишь очень недавно. Они обычно принадлежат к разным поколениям, чаще всего к разным общественным слоям или – как в нашем случае – даже вовсе к разным культурам. За интервьюером стоит культура (обычно чуждая повседневной жизни респондента), для которой разговор записывается и в которой его текст интерпретируется – по ее правилам и ради ее интересов. Разумеется, при хорошем интервью возникает такая атмосфера человеческой общности, словно бы этих предпосылок и последующего анализа разговора не было, но все же в нем имеет место встреча культур, едва ли не более реальная, чем человеческая общность.
IV
Не случайно автобиографическое интервью получило в ФРГ большее распространение в исследованиях по устной истории, нежели в других странах. В этом проявились множественные культурные и политические разрывы, которыми отличается история Германии в ХХ веке, особенно после 1945 года. После крушения Третьего рейха не осталось почти ничего из того, что традиционно было ясно и однозначно. Чтобы понять человека в его историческом представлении о самом себе, нельзя уже было относить его высказывания к сфере исторического опыта какой-то одной более или менее стабильной субкультуры. Сначала нужно было проследить индивидуальный путь этого человека, а потом уже его высказывания, основанные на его жизненном опыте, соотносить с этим путем. В культурах, существовавших «после», те различия, что существовали и были важны «до», трансформировались и сглаживались. Поэтому биографическая устная история была в одно и то же время выражением глубоко засевшего недоверия людей к собственной культуре и глубокими археологическими раскопками, имевшими целью критически реконструировать – вопреки множеству разрывов – связи с прошлым.
С этой точки зрения в западногерманской истории можно выделить четыре фазы обращения к биографической тематике, которые тесно связаны с ответственностью за национал-социализм. Первый раз тема биографии была актуализирована, когда союзнические оккупационные власти в период денацификации начали крупномасштабный процесс принудительной биографизации. Биографическая анкета, не заполнив которую нельзя было в первые послевоенные годы получить доступа к источникам пропитания, освещала жизнь с точки зрения членства в политических организациях и предположений относительно той или иной политической вины. После того как в годы холодной войны денацификация потерпела крах, на долгие годы были созданы условия, когда многие люди получили возможность не оглядываться на свое прошлое. Философ Герман Люббе даже говорил, что основой принятия демократии в западногерманской политической культуре сделалось согласное, «коммуникативное молчание о прошлом». Инвективы из ГДР, направленные против реставрации общественных элит Третьего рейха в ФРГ, натыкались в то время на эту стену молчания и отскакивали от нее. В 1960–1970-е годы эту стену начали разрушать процесс Эйхмана, потом процесс над палачами Освенцима, потом начало студенческого движения 1968 года, потом новая историография, опиравшаяся на архивные документы, и, наконец, после того как ответственное за нацизм поколение в значительной мере ушло со сцены и тем самым от ответственности, возник новый и более дифференцированный интерес к биографическим темам. Носителями этого интереса стали прежде всего люди, которые в свое время состояли в нацистских молодежных организациях, но которых лично почти не в чем было обвинить. В этот период в Западной Германии начались исследования по устной истории. Ее самое важное воздействие на широкие массы заключалось не в том, что она реконструировала утраченные миры, а в том, что она восстанавливала воспоминания о политизированной повседневной жизни при Гитлере. Поскольку индивидуальные обвинения не имели более никаких практических последствий, началась – через 40–50 лет после разрыва – совместная работа индивидуальной и коллективной памяти по осмыслению континуитета.
V
В Восточной Германии такие фазы – пусть в иных формах – тоже имели место. Например, фаза интереса детей Третьего рейха к собственной биографии была там инициирована получившим огромную популярность романом Кристы Вольф «Образы детства» – книгой, которую и на Западе многие читали. Однако в ГДР эти фазы были не главным, потому что там в гораздо меньшей степени наличествовала самоуправляющаяся социальная память, колеблющаяся между вытеснением и открытостью. В ГДР социальной памятью в большей мере руководили государственные и партийные органы учета и контроля. В том, что касается официальной коллективной памяти, проявляющейся в общественной интерпретации истории, контроль был практически полный, и это давно известно. Но, как показало изучение организаций, ведавших исторической памятью страны, они глубже воздействовали на структурирование людьми своих биографий, чем можно было заметить при взгляде извне и чем хотели признать сами носители индивидуальной памяти. Благодаря этому глубокому воздействию культура «раздвоенного мышления» охватывала большинство восточных немцев и из нее не было выхода.
Такую культуру, в которой осуществляется непосредственное бюрократическое управление индивидуальной биографической памятью – ходом, содержанием, формой внутренних автобиографических рассказов, – можно было бы назвать «биократией». Биократия в ГДР имела разные степени интенсивности в зависимости от ранга политической значимости темы как в собственной пирамиде власти, так и в сфере деятельности реальных или мнимых врагов.
Современные общества обыкновенно управляются в общем плане – посредством норм, а в частностях – посредством надзора за их соблюдением и посредством бюрократического делопроизводства. Управление персоналом с помощью таких административных методов осуществляется из множества независимых друг от друга центров, оно подчинено общим нормам, а во главе его стоят выбранные на определенный срок должностные лица, подчиненные контролю избирателей. К ГДР такое описание едва ли было бы приложимо. Там общество непосредственно управлялось из центров власти – через кадровые решения, при отсутствии незыблемых норм, неподконтрольным для управляемого индивида образом, на основе централизованных, секретных, бюрократически схематизированных историй жизни («личных дел»), в которых накапливалась обновляемая и дополняемая информация обо всех «кадрах». Память партии, профсоюза и многих других организаций, ведающих учетом и контролем, в значительной мере состоит из личных дел; точно так же память партии о проблемных зонах общества («государственная безопасность») состоит в основном из личных дел. Не так важно решать проблемы, как контролировать кадры вместе со всеми их биографиями и связями; затраты средств и усилий ради такого контроля не имеют себе равных в культурной истории современного мира – разве что в литературных антиутопиях.
Принцип подобного управления биографиями разгадать нелегко. Во всяком случае, ему чужда всякая экономия. Чужды этому управлению в конечном счете и нормы, которые оставляли бы управляемому индивиду какое-то пространство свободы действия; но при этом оно подчинено внутренним регулятивам компетенции и формы. Не чужды ему и чувства – прежде всего чувство принадлежности и чувство подчиненности.
Одной из важнейших ценностей в этой системе является «искренность»: кто честно сознается, тому могут простить почти все (государственное уголовное право тут не при чем, его действие при необходимости может быть отменено); но от искренне сознавшегося требуется искупить свою вину и доказать, что он исправился: это означает выполнение какого-нибудь неприятного и рискованного – например, компрометирующего – задания, которое укрепляет внутреннюю связь индивида с организацией и отчуждает его от его приватного окружения. Кроме того, всякая исповедь (равно как и всякий донос, даже анонимный) сохраняется в деле, и при случае ее тайна может быть раскрыта и оглашена. Личное дело – это исповедь без отпущения грехов: вместо прощения дается кредит доверия, причем всегда временный.
Еще одна важнейшая ценность этой системы – покорность, в частности, и даже в особенности, там, где надо подчиняться вопреки собственному разумению или без понимания смысла. Если кто-то отказывается выполнить приказ партии или даже проявляет хоть небольшое поползновение в сторону самостоятельности или хотя бы просто индивидуальной обособленности перед лицом притязаний партии на право распоряжаться всем и всеми, то этот человек теряет благорасположение партии и вынужден проходить особенно обстоятельные и уничтожающие персональную идентичность покаянные ритуалы. Самая страшная формулировка, которой в ГДР может быть заклеймен враг или нелояльный человек: «настроен враждебно-негативно». Понятно, что речь идет не о разногласиях по тому или иному вопросу, а о нежелании человека признать свою принадлежность к системе и подчиненность ей. Но вместе с тем речь идет и о недостатке «позитивности» – веры в глобальный проект партии, в мудрое его осуществление вождями – теми, которые существуют на каждый данный момент. Пожалуй, в целом этот принцип можно назвать одновременно и религиозным, и семейным, и воинским (в том смысле, что все нормы отменены, как во время гражданской войны). В центре его стоит полководец, верховный жрец и отец, единовластно распоряжающийся жизнью вверенных его власти людей. Его власть не может быть поставлена под вопрос, потому что идет война, потому что он мудрее и потому что каждый является членом руководимой им общины-семьи-армии.
Коммунистические системы власти советского типа, конечно, представляли собой не клерикальные государства, а политические режимы, созданные в условиях современного мира и организованные с учетом его социальных особенностей, в первую очередь – вертикальной социальной мобильности. Базировались они в конечном счете на эффективном присвоении или создании монополии на насилие. Мудрость их вождей была заемной, а борьба их – в основном фиктивной; остается, таким образом, только управление лояльностью. Оно было тем интенсивнее, чем выше по социальной иерархии (или пирамиде власти), а инструментом его было кафкианское управление биографиями. Еще до того, как было создано ведомство государственной безопасности, и даже до кампании по социал-демократизации, СЕПГ проявила интерес к контролю над личными делами и контролю с их помощью: в 1947 году она заинтересовалась биографиями антифашистов, состоявших в ее рядах; все должны были написать биографические записки о том, что они делали с 1933 по 1945 год в рейхе (как в это время жили вожди партии, находившиеся в Москве, не спрашивалось). Руководство партии постановило перенести этот материал («Реконструкцию истории партии в подполье») на именные карточки, поручив это дело кадровому управлению. Потом начались позднесталинские чистки. Детям Третьего рейха было все прощено, если они встали на сторону «исторических победителей» и влились в ряды. Для них были организованы особые курсы, где их учили писать покаянные и классово сознательные автобиографии для своих будущих персональных дел – в тех графах, где происхождение и война относились к «карьере», а «политика» начиналась только со вступлением в политическое рабочее движение. В 1948 году создали специальную партию для бывших офицеров вермахта и национал-социалистов, готовых к сотрудничеству с новым режимом. Единственным условием их социальной реабилитации была лояльность: они должны были признавать руководящую и направляющую роль СССР и СЕПГ. Когда в 1950 году была создана служба госбезопасности – «щит и меч» партии, – то для нее стали искать квалифицированный персонал (из кого, интересно, его можно было набрать?); был выпущен соответствующий указ. Всех, включая руководителей отделов и округов, периодически заставляли писать от руки автобиографии и обязательства, в которых они не только самих себя, но и свои семьи отдавали в полное распоряжение и под полный контроль своего ведомства.
В западных странах тоже всякий, кто ищет работу, пишет многократно свою биографию; некоторые видоизменяют ее от случая к случаю, приспосабливая к ожиданиям адресата, как они их себе представляют. Какие-то автобиографии сохраняются, большинство же попадает в мусорную корзину. А в ГДР такие тексты писали гораздо чаще, причем и в тех случаях, когда человек не искал работу, а, например, переезжал на новое место службы или выполнял приказ партии; и все эти автобиографии собирались – по крайней мере потенциально – в том самом ведомстве. Поэтому их автору приходилось быть гораздо внимательнее и уметь писать их так, чтобы они не противоречили друг другу. Тот, кто вполне выучился на гражданина ГДР, особенно если он имел честь принадлежать к правящему рабочему классу, хорошо умел писать автобиографии, т. е. хорошо умел скрывать свою индивидуальность и демонстрировать в этом секретном и в то же время публичном тексте свои социальные идентичности, которые его связывали все новыми и новыми способами со всеми остальными гражданами.
VI
Если в выдвинутом здесь предложении рассматривать ГДР как «биократию» есть зерно истины, то это одновременно свидетельствует о том, что наше проведенное в ГДР в 1987 году исследование по устной истории как исследование культуры привело к важным находкам и что оно неповторимо. Культура ГДР была организованной культурой, и она кончилась, когда перестали существовать ее организации. Пусть сохранились пережитки, ностальгия по осмысленности жизни, по скромности, по разговорам, по общности (будь то в поддержку режима или против него), но кончился биографический контроль, приводивший к раздвоению мышления не только в рабочем базисе, но даже в еще большей степени на высших ступенях общественной иерархии с их более высокими требованиями биократической приспособляемости. Этот контроль мог действовать только в контексте того режима власти, и только в том контексте можно было задокументировать проявления его интериоризации. Когда перестало действовать магнитное поле, создаваемое этим режимом, биографии индивидов утратили свою форму. Кто-то, возможно, и по сей день рассказывает свою жизнь так, как привык тогда, но это не имеет более никакого культурного смысла. Кто-то другой, возможно, нашел новую красную нить для автобиографии – свое сопротивление режиму, – которая в другой половине его раздвоенной головы всегда существовала, а в условиях нынешней культуры девальвируется. А еще кто-то, возможно, рассказывает историю своей жизни почти в вольной форме, – так, словно он автономный индивид. В многообразии жизни все это по-своему интересно, но провести биографическое интервью в качестве средства изучения биократической культуры теперь уже нельзя. А поскольку биократический контроль препятствовал использованию других способов сбора биографической информации о культурных формах, то мои сегодняшние рассуждения, вероятно, следует рассматривать как ретроспективное, «посмертное» осмысление биократической культуры.
Примечания
{1} В ГДР существовала беллетристическая документальная литература, основанная на интервью, подвергнутых обработке, степень и характер которой не поддавались определению. Богатство этой литературы оказалось больше, чем полагали западные специалисты, как показывает исследование: Schröder HJ. Interviewliteratur zum Leben in der DDR: Das narrative Interview als biografisch-soziale s Zeugnis zwischen Wissenschaft und Literatur. Bremen, 1993.
{2} Изучение общественного мнения количественными методами тоже было в ГДР окружено секретностью, ср.: Niemann H. Meinungsforschung in der DDR: Die geheimen Berichte des Instituts für Meinungsforschung an das Politbüro der SED. Köln, 1993.
{3} См.: Clemens P. The State of Oral History in the GDR // The History of Oral History. BIOS. Special Issue. 1990. P. 115ff.
{4} См.: Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet, 1930–1960 / Hg. Von L. Niethammer, A. von Plato. Berlin; Bonn, 1983–1985. Bd. 1–3.
{5} Об отчете одного из членов контролировавшей нас группы сотрудников Академии наук ГДР см.: Schütrumpf J.
Kopie für die “Abteilung 01”. DDR 1987: Wie wir auf westdeutsche Historiker aufpaßten // Wochenpost. 1991. 17 Oktober.
{6} См., например: Schroeder K., Staadt J. Die Kunst des Aussitzens // Geschichte und Transformation des SED-Staates: Beiträge und Analysen. Berlin, 1994. S. 347–354.
{7} Примеры приведены в приложении к нашей публикации: Niethammer L., Plato A. von, Wierling D. Die volkseigene Erfahrung: Eine Archäologie des Lebens in der Industrieprovinz der DDR. Berlin, 1991. S. 609ff.
{8} Так, например, в материале под названием «Данные о деятельности в ГДР империалистических исследовательских организаций по изучению Восточной Европы и сотрудничающих с ними государственно-монополистических учреждений» от 15 декабря 1986 года, на который любезно обратил мое внимание Райнер Эккерт, говорится: «Благодаря инициативе западногерманского историка проф. Лутца Нитхаммера (Университет заочного обучения в Хагене) проводившиеся и прежде встречи историков ГДР и ФРГ были настолько форсированы, что в настоящее время проходят ежегодные встречи и имеют место рабочие контакты разной степени интенсивности. […] Он пытается найти подходы, которые побудили бы историков ГДР занять в своих научно-исторических воззрениях и вытекающих из них оценках прошлого такие позиции, результатом которых были бы, в частности: 1) установление противоречий между официальной политикой партийного и государственного руководства в вопросах видения истории и современным историческим развитием в условиях реального социализма; 2) создание предпосылок для обсуждения ошибок послевоенной политики СССР и 3) развитие личных контактов с историками ГДР с целью опоры на них в дальнейшей работе» (Erkenntnisse über das Wirksamwerden imperialistischer Ostforschungseinrichtungen und den mit ihnen zusammenwirkenden staatsmonopolistischen Institutionen in der DDR. 15 Dezember 1986. BStU. HA XVIII/ 6 178. Bl. 4–12).
{9} «В этих беседах и дискуссиях [с историками ГДР] Нитхаммер занимал такую позицию, которая показывала, что он прочно стоит на почве капиталистического общественного строя ФРГ. Однако, невзирая на принципиальные политические и идеологические различия и четко определяемые разногласия, он старается наладить конструктивный диалог с историками из ГДР, с тем чтобы, по его собственным словам, внести вклад в укрепление мира. Относительно Нитхаммера можно предполагать, что он относится к тем историкам ФРГ, от которых скорее всего можно ожидать отхода от определенных клишированных представлений о КПГ, СЕПГ и ГДР. Он придерживается той точки зрения, что стихийные, спонтанные действия рабочего движения имеют решающее значение в историческом процессе. Однако необходимость марксистско-ленинского авангарда для освобождения трудящихся он отрицает. Отсюда проистекает его пристрастие к методам социальной истории и устной исторической традиции» (SED Hausmitteilung Hörnig an Hager. 10 Februar 1986: SAP-MO-BA, Vorl. SED 40128, unpag. 3 S.)
{10} Как утверждалось, эти архивные документы «еще не открыты и для исследователей из социалистических стран» и «даже нашим историкам… доступны лишь в ограниченной мере». Формулировка указывает на то, что запрет на пользование архивными фондами объяснялся страхом (возможно, напускным) перед Советским Союзом.
{11} SED Hausmitteilung Hörnig an Hager. 10 Februar 1986: SAP-MO-BA, Vorl. SED 40128, unpag. 3 S.
{12} Сегодня западногерманские интеллектуалы посмеиваются над своими восточногерманскими коллегами, которые не способны привыкнуть к тому, что демократия и рыночная экономика лишили их труд значимости. Обычно это сопровождается утверждениями, что «деятели культуры» ГДР были придворными льстецами социализма, пользовались привилегиями и знаками внимания со стороны властей. Если рассматривать ситуацию внутри ГДР, то обвинение это отчасти верное, хотя и слишком огульное. Но когда оно звучит из уст западных немцев, это просто непорядочно. Ведь условия жизни и возможности для самореализации даже у таких привилегированных граждан ГДР были намного хуже, чем у среднестатистических деятелей культуры на Западе. Характерно, что в самой Восточной Германии это обвинение слышится гораздо реже: ведь большинство оппозиционеров, даже если не пользовались прежде никакими привилегиями, тоже страдают от того, что их деятельность лишилась значимости. Германский социализм был поразительно идеалистичен; он искренне верил, что разум являет собой действенную силу, как в положительном, так и в отрицательном смысле. Мы в ходе работы над нашим восточногерманским проектом тоже вкусили этот наркотик: кто в нашей западной системе может себе представить, чтобы у нас руководство государства проявило интерес к результатам исследований в рамках проекта по устной истории или хотя бы раздумывало над тем, разрешить его или запретить? Для этого проект должен был бы быть чем-то более важным, нежели просто проходной темой в новостях, а исследования в области устной истории вообще редко даже упоминаются в СМИ. Я благодарен за академическую свободу Запада, но не стану делать вид, будто я забыл, какое приятное волнение вызывала во мне мысль, что я в условиях диктатуры осуществляю проект, по-видимому одобренный высочайшей инстанцией, а при этом объективно подразумевающий критику системы.
{13} Еще раз о привилегиях деятелей культуры: в 1978 году эту женщину изгнали из университета за то, что она на занятиях использовала песни Вольфа Бирмана – певца, критиковавшего режим и только что высланного из страны. Но она сумела найти для себя новую нишу в Академии наук, где прилично зарабатывала и не имела ни права, ни обязанности печататься. Теперь она достигла уже среднего возраста и последние пять лет сидит без работы. В Германии стать безработным не значит впасть в ничтожество, однако ведомство труда и занятости недавно решило, что раз эта женщина больше не может получить места в качестве научного работника, то и пособие ей теперь следует определить в размере, полагающемся вспомогательному конторскому персоналу. А это означает, что женщина окажется за чертой бедности на год раньше, чем ей полагалось бы перейти на положение получателя социальной помощи (так в Германии называется пособие по бедности).
{14} В июне 1988 года мы (т. е. Мэрилин Рюшемайер – американская феминистка, которая во время своих визитов в Восточную Германию была впечатлена успехами ГДР в области юридического равноправия женщин, но все же задавала неудобные вопросы, – и я) смогли провести в ГДР небольшой воркшоп на тему «Рабочие и образованные слои в ГДР: континуитет и перемены в двух культурных средах». На наш воркшоп заглянул, в частности, ведущий восточногерманский специалист по эмпирической культурологии Дитрих Мюльберг из Университета имени Гумбольдтов в Восточном Берлине. Этот человек, в котором пролетарская импульсивность сочеталась в зыбком равновесии с профессионализмом и хорошим знанием зарубежной науки, был явно огорчен, чтобы не сказать разозлен, тем, что его ученики (довольно многочисленные) располагали в ГДР гораздо менее благоприятными возможностями для исследований, чем мы двое на Западе. Им приходилось ретироваться в исследовательские области, относящиеся к истории Германской империи, и результаты их работы мог оценить с политической точки зрения лишь тот, кто понимал эзопов язык. Мы тогда еще не знали, что незадолго до нашей встречи Дитрих Мюльберг, высказавшись в университете за бóльшую международную открытость культурологии, впал в немилось у партийных органов и его вызывали на допросы.
{15} Основываясь на еще более эфемерной базе – на политическом анализе новейшей восточногерманской беллетристики – политолог Антония Груненберг тогда тоже констатировала кризис в ГДР, однако и ее прогнозу было суждено быть опубликованным в виде книги лишь после того, как он сбылся. См.: Grunenberg A. Aufbruch der inneren Mauer: Politik und Kultur in der DDR, 1971–1990. Bremen, 1990.
{16} См., например: Erdheim M. Die gesellschaftliche Produktion von Unbewußtheit: Eine Einführung in den ethnopsycho analytischen Prozeß. Frankfurt a. M., 1982; Nadig M. Die verborgene Kultur der Frau. Frankfurt a. M., 1986.
{17} Подробнее см. в статье: Zerreißproben // Die volkseigene Erfahrung… S. 409ff.
{18} Подробнее см. в статье: Widerwillige Geschichtsarbeit // Ibid. S. 182ff.
{19} Подробнее см. в статье: Ein dauernder Zwiespalt // Ibid. S. 441ff.
{20} Подробнее см. в статье: Der Prügelknabe // Ibid. S. 450ff.
{21} Эту точку зрения я разработал подробнее с целью приложения ее к политической социологии и социальной истории ГДР в статьях: Volkspartei neuen Typs? Sozialbiografische Voraussetzungen der SED in der Industrieprovinz // Prokla. 1990. Bd. 20. H. 3. S. 40–70; Erfahrungen und Strukturen: Prolegomena zu einer Geschichte der Gesellschaft der DDR // Sozialgeschichte der DDR / Hg. von H. Kaelble u.a. Stuttgart, 1994. S. 95–115.
{22} Эти впечатления я попытался потом использовать для интерпретации крушения ГДР в послесловии к книге: «Wir sind das Volk!» Flugschriften, Aufrufe und Texte einer deutschen Revolution / Hg. von Ch. Schüddekopf. Hamburg, 1990. S. 251–279.
{23} Статья «Annäherung an den Wandel» была опубликована впервые в изд.: BIOS. 1988. Bd. 1. S. 19–66, затем включена в сборник: Alltagsgeschichte / Hg. von A. Lüdtke. Frankfurt a. M., 1989. S. 283–345, вышедший впоследствии на французском (Paris, 1994. Р. 267–329) и английском (Princeton, 1995. Р. 252–311) языках.
{24} Из огромного числа публикаций (в том числе статей) приведем для примера лишь несколько наименований книг: Ändert R., Herzberg W. Der Sturz: Honecker im Kreuzverhör. Berlin; Weimar, 1990; Herzberg W. Überleben heißt Erinnern: Lebensgeschichten deutscher Juden. Berlin; Weimar, 1990; “Wenn Du willst Deine Ruhe haben, schweige”. Deutsche Frauenbiographien des Stalinismus / Hg. von M. Stark. Essen, 1991; Deutsche Lebensläufe: Gespräche / Hg. von M. Engelhardt. Berlin, 1991; Plato A. von, Meinicke W. Alte Heimat – Neue Zeit: Flüchtlinge, Umgesiedelte, Vertriebene in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR. Berlin, 1991; Das gelbe Elend: Bautzen-Häftlinge berichten, 1945–1956 / Hg. vom Bautzen-Komitee. Halle, 1992; Demonteure: Biographien des Leipziger Herbst / Hg. von B. Lindner, R. Grüneberger. Bielfeld, 1992; Kaulfuß W., Schulz J. Dresdner Lebensläufe. Zeitzeugen berichten vom Leben und vom Umbruch im ehemaligen Bezirk Dresden. Schkeuditz, 1993; Auf den Anfang kommt es an. Sozialdemokratischer Neubeginn in der DDR 1989 / Hg. von W. Herzberg, P. von zur Mühlen. Bonn, 1993; Kleint S. Verliebt. Verlobt. Verheiratet… Liebesgeschichten zwischen Ost und West. Berlin, 1993; Hering S., Lützenkirchen H-G. “Anders werden”: Die Anfange der politischen Erwachsenenbildung in der DDR. Berlin, 1995.
9 Евреи и русские в памяти немцев
Когда меня попросили принять участие в определении «исторического места национал-социализма», я задался вопросом: что бы это могло означать – отвести нацизму и Третьему рейху место в истории? Ведь обычно историю уподобляют реке или метафорически говорят о ходе истории, т. е. история движется мимо мест или сквозь них, оставляя их позади. Места – это могут быть места привалов на пути или города, через которые протекают притоки реки, питающие или отравляющие ее. Но так или иначе, места не движутся вместе с историей, они располагаются на территории прошлого, через которую человечество когда-то прошло, а теперь может познать ее только ретроспективно, с расстояния, по отдельным фрагментам. Территория же прошлого характеризуется неподвижностью: ведь это не прошлое проходит, а река, ход истории уводит нас от него прочь, так что его места пропадают из поля нашего зрения и мы больше не видим его во всей полноте. Карту территории прошлого мы можем составить только на основе множества сообщений о путешествиях по ней.
Не буду углубляться в эти метафоры; укажу лишь на то, что, как в последние годы неоднократно отмечалось, с Третьим рейхом дело обстоит иначе: история явно не уходит от него. Переживания, которые, казалось, уже ушли в прошлое, возвращаются через большие промежутки времени; восприятие становится благодаря дистанции более четким, и словно бы приступами накатывает непроизвольное воспоминание. Это на сегодняшний день уже не индивидуально-психологический феномен «навязчивого повторения» травматического опыта – это что-то, относящееся к культуре общества, ведь это явление стало охватывать и поколения, родившиеся позже, не имеющие собственного опыта жизни в Третьем рейхе. Что-то, похоже, неладно у немцев в отношениях между историей и прошлым. Едва ли не заклинанием выглядит заголовок, данный президентом ФРГ Рихардом фон Вайцзекером сборнику своих речей: «Германская история движется дальше». Разве река истории грозила остановиться? Наоборот, жизнь Вайцзекера пришлась на эпоху, когда германское общество переживало более быстрые, глубокие и амбивалентные перемены, чем когда-либо прежде. Очевидно, что река немецкой истории, которая, казалось, затопила пол-Европы, после 1945 года стала более узкой и разделилась на два рукава, а союзники пытались направить ее в искусственное русло. И тем не менее в ней с тех пор появились – и, кажется, продолжают появляться – странные подводные камни, словно бы эта река тащила с собой песок и валуны с тех самых мест прошлого, от которых она утекла. Свидетельством тому – и «спор историков», в начале которого именно историки сетовали на то, что прошлое не проходит (как будто оно когда-то проходило!), и судьба второго человека в государстве – Филиппа Йеннингера [34] , чья политическая карьера рухнула за несколько часов после произнесения им речи – довольно, надо признать, неудачной, – в которой он пытался в критическом свете предъявить немцам их прошлое. Дело было явно не в одном только косноязычии оратора: скорее дело было в том, что вынудившие его в рекордные сроки к уходу отставку политические партии, объединившиеся тогда в единую правящую коалицию, избегали политических воспоминаний, а их представления о собственной идентичности сильно расходились. Предшественник Йеннингера, Райнер Барцель, который, будучи обвинен в коррупции [35] , уходил со своего поста гораздо медленнее, в тот же вечер выступил по телевидению и помянул немцев, ставших жертвами войны и «изгнания», отдал долг чести немецким офицерам, воевавшим на фронтах Второй мировой, а потом призвал, вместо того чтобы без нужды углубляться в детали, придерживаться формул, хорошо зарекомендовавших себя в качестве средств преодоления прошлого и возвращения Германии мирового значения, и главная из этих формул: «Мы не хотим забывать и уважаем тех, кто не может забыть».
Что именно не хотят или не могут забыть – не говорится. И есть сомнения: действительно ли все мы, немцы, хотим помнить и действительно ли все мы уважаем, например, цыган? Но более важным в этом фрагменте выступления Барцеля на траурной литургии мне представляется то, что наше отношение к «движущейся дальше» германской истории и к нацистскому прошлому изображается как проблема памяти и субъективного опыта: ведь совершенно очевидно, что кто-то не может забыть, а кто-то может. Действие памяти выглядит у Барцеля чем-то, с одной стороны, непроизвольным, чтобы не сказать навязчивым, но, с другой стороны, подвластным воле. А эта воля – несмотря на то, что память у каждого своя, – связывается с коллективной идентичностью («мы»), противопоставляемой другим коллективным идентичностям («те, кто не могут забыть»). Эти имплицитные и, на мой взгляд, верные структурные дефиниции памяти о недавнем прошлом, наверное, способствовали успеху этой фразы Барцеля в такой же степени, как и ее бессодержательность.
Но что было бы, если бы эту пустую фразу наполнить содержанием? Если попытаться выяснить, что в памяти немцев сохранилось, не забылось, и почему это помнится? Может быть, тогда мы приблизились бы к ответу на вопрос, почему история не уводит нас вдаль от национал-социалистического прошлого, а снова и снова – зачастую отчетливей, чем прежде, – предъявляет его нам? Или, иначе говоря, – почему проект историзации Третьего рейха вопреки увеличивающейся хронологической дистанции не приводит к увеличению моральной дистанции и облегчению?
Подступаясь к этому вопросу, я хотел бы начать с наблюдений, сделанных мною на основе биографических рассказов, записанных в 1980-е годы со слов стариков в Рурской области и в промышленных городах ГДР. Интерпретация такого рода источников не дает верифицируемых или тем более репрезентативных в количественном плане результатов. Но, невзирая на огромное разнообразие индивидуального опыта, в них встречаются некие доминирующие паттерны, которые позволяют историку поставить новые вопросы или уточнить старые. Я собираюсь вкратце рассказать о том, какие паттерны опыта обнаруживаются в воспоминаниях о 1930–1940-х годах применительно к восприятию двух самых многочисленных групп жертв нацистского режима {1}.
I
Воспоминания об этих группах вообще трудно найти в памяти немцев, ведь лишь немногие отдают себе отчет в том, что самыми многочисленными группами жертв нацизма были иностранцы – евреи и жители СССР, которые в большинстве своем жили и были убиты за границами рейха. В рейх большинство евреев были привезены для уничтожения из других европейских стран, прежде всего из Польши. «Русские» (я здесь и далее использую применительно к советским гражданам разных национальностей это краткое название, само по себе неверное, но укоренившееся в разговорном языке Западной Германии {2}) попадали в Германию в качестве военнопленных и умирали там от голода или прибывали в качестве подневольных рабочих и гибли на работах; но большинство из них погибли у себя на родине в результате военных действий и немецкой оккупационной политики.
Чтобы дать читателю некоторое представление о размерах этих групп и возможностях контакта немцев с ними, назову несколько приблизительных цифр, частично взятых мною из официальной статистики, частично – из наилучших известных мне исследований {3}. Численность погибших в результате нацистской политики уничтожения евреев оценивается примерно в 5–6 миллионов человек. Это примерно две трети всех евреев, проживавших в Европе. Примерно половину этого числа составили польские евреи, германские же (ок. 165 000) – значительно меньше 5 %. Из приблизительно 550 000 евреев, проживавших в 1932 году в Германии, более половины сумели эмигрировать или бежать за границу в годы дискриминации, до начала отправки в лагеря уничтожения.
Летом 1944 года на территории рейха были заняты подневольным трудом почти 2 миллиона иностранных военнопленных, из них 630 000 – русские. Из 5,7 миллиона гражданских лиц, пригнанных на работу из-за границы, русские составляли более 2,1 миллиона.
Примерно четверть всех работников промышленности и примерно половину всех работников сельского хозяйства в Германии составляли к концу войны иностранцы {4}.
Советский Союз потерял во Второй мировой войне около 20 миллионов человек, т. е. примерно 12 % своего населения. Больше потеряла только Польша (17 %) {5}. Примерно половину советских потерь составили те, кто погибли в германском тылу: гражданские лица, в том числе погибшие на принудительных работах (7 миллионов {6}), и военнопленные, из которых, по оценке лучшего эксперта в этом вопросе, умерли или были убиты 58 %, т. е. 3,3 миллиона человек – цифра, сравнимая с общей численностью немецких солдат, погибших на всех фронтах Второй мировой.
Довольно цифр, они смущают и запутывают читателя. Я взял здесь для примера только две самые большие группы жертв нацистского режима. Погибшие все равны между собой, но отношение к тем, кто выжил, в каждой группе было различным. Различны были и вероятность, и характер контакта между этими группами и немцами. Если рассматривать все группы – бойцов Сопротивления в какой-нибудь европейской стране, цыган, умерщвленных инвалидов, принудительно стерилизованных лиц, помещенных в концлагеря преступников и многих других, – то разнообразие типов стало бы необозримым. Поэтому я выбрал только евреев и русских, поскольку относительное большинство первых и наибольшее абсолютное число вторых были умерщвлены немцами вне боевых действий.
Пропорции этого самого страшного проявления режима насилия (мало отраженные пока в политическом просвещении в ФРГ) таковы: численность заключенных всех германских концентрационных лагерей в довоенные годы, когда там содержались преимущественно политические противники режима, в особенности коммунисты, составляла менее 10 тысяч человек в год. Это было слишком много, если иметь в виду личную судьбу каждого узника, но это было мало по сравнению с тем, что началось во время войны, когда в лагеря стали сажать представителей этнических меньшинств и иностранцев. Численность граждан Германии нееврейской национальности, проведших какое-то время в концлагере, оценивается примерно в 100 тысяч. Это равно приблизительно половине числа тех германских евреев, которые не смогли покинуть страну в 1930-е годы и были депортированы и уничтожены. Они, со своей стороны, составили менее 5 % от всех умерщвленных евреев Европы. А невообразимо огромная численность погибших европейских евреев, в свою очередь, примерно вполовину меньше численности тех русских гражданских лиц, которые были убиты немцами вне боевых действий (а погибших русских солдат было еще столько же).
В течение второй половины войны в экономике Германии было занято принудительным трудом количество русских, более чем вчетверо превышавшее численность когда-либо живших в Германии евреев и более чем в 10 раз превышавшее численность евреев, оставшихся в стране к 1939 году. Этим двум группам суждена была общая участь, поскольку они располагались на нижней ступеньке нацистской расовой и политической иерархии и потому подвергались самой сильной дискриминации и содержались в самых худших условиях.
Если эти статистические данные рассматривать с точки зрения истории человеческого опыта, то можно сказать, что дискриминация евреев в 1930-е годы была настолько сильной, что каждый второй еврей бежал из Германии. Прежде всего страну покинули наиболее молодые, активные, знаменитые и богатые из них. Заметили ли это их сограждане – не евреи? Предпринимали ли они что-то против этого? Предлагали ли они помощь? Такие вопросы, если адресовать их массе немцев, весят тяжелее, чем вопрос об их отношении к депортации евреев в лагеря уничтожения в 1940-е годы, потому что к тому времени местное немецкое население в результате войны уже уменьшилось, перемешалось и эгоистически сосредоточилось на собственном выживании.
Верно, что уничтожение евреев проводилось под покровом секретности и дезинформации; но рассказы современников – например, тогдашних детей – показывают, что всякий, кто только хотел, мог знать, что с евреями на Востоке творили нечто невообразимое и страшное.
Но в этот же момент началось и массовое использование в Германии труда иностранных рабочих, которые жили и трудились в ужасающих условиях. Одновременно приобрели небывалую жестокость действия армии и оккупационной администрации в отношении гражданского населения занятых областей на Востоке, прежде всего в Польше и СССР. Эти скандальные факты невозможно было не заметить; вопрос заключается в том, замечали ли их и воспринимали ли их как скандальные?
II
В автобиографических рассказах пожилых немцев о довоенном времени евреи фигурируют довольно редко, а о дискриминации до осени 1938 года почти вовсе не упоминается. Если о евреях говорят, то, как правило, это работодатели, торговцы или работники сферы услуг (например, врачи). Мое впечатление таково, что в Западной Германии их вспоминают (самостоятельно или после наводящего вопроса) чаще, чем в Восточной. И вообще социальная дистанция между представителями западногерманской буржуазии и евреями кажется меньшей, чем в других регионах и слоях общества. О собственных антисемитских установках люди, бывшие в 1930–1940-е годы взрослыми, вспоминают и на Востоке, и на Западе, насколько я могу судить, лишь в том случае, если и по сей день сохраняют и желают демонстрировать эти установки, – такое встречается, хотя и редко. Такой антисемитизм всегда замешен на политических дрожжах и никак не соотносится с личным опытом общения с евреями.
В обеих частях Германии, если задать вопрос, поддерживал ли респондент отношения с евреями, то чаще всего в ответ называют окрестные ателье, лавки и универмаги, принадлежавшие евреям, а также вспоминают, что покупали товары в еврейских магазинах: это, как правило, приводится в качестве более или менее эксплицитного доказательства того, что респондент в те времена не был антисемитом. Очень часто добавляют при этом, что цены, особенно на самые ходовые предметы одежды, были в этих магазинах сравнительно невысокими или что там предлагались выгодные условия покупки в рассрочку, а еврей – владелец магазина очень охотно шел навстречу клиентам, действуя по принципу: «Пусть продам дешевле – зато больше!»
Контекст этих рассказов о личном знакомстве с евреями свидетельствует о том, что подобного рода визиты в магазины имели место до 1933 года. К более позднему времени относятся, как правило, только два воспоминания: те, кто тогда были детьми, часто вспоминают, что только из-за дискриминации в школе обратили внимание на еврейство своих однокашников. Нередко они добавляют, что были лично возмущены введенными различиями, но родители, учителя либо другие взрослые заставили их смириться или замолчать. Кроме того, они иногда вспоминают официальную антисемитскую пропаганду, например, в повсеместно расклеенной в специальных витринах газете «Штурмовик» или на уроках в школе. Иногда задним числом респонденты стыдятся того, что в то время верили ей, но гораздо чаще говорят о том, что их детской доверчивостью злоупотребляли. Многие опрошенные вспоминают, как в один прекрасный день вдруг исчезла еврейская семья, жившая неподалеку, и никто ничего плохого при этом не подумал.
Почти все пожилые немцы, как на Востоке, так и на Западе, помнят, что своими глазами видели разоренные еврейские магазины, грабежи и горящие синагоги наутро после так называемой Хрустальной ночи. Многие, услыхав о разрушениях, специально отправились в город, чтобы посмотреть на них. Почти все рассказчики уверяют, что отрицательно отнеслись к погрому, – зачастую на том основании, что он представлял собой нарушение порядка. Нет ни одного интервью, в котором респондент говорил бы о собственном участии в погроме или о присвоении имущества из разграбленных еврейских магазинов и домов. Но почти никто не рассказывает и о том, что помог жертвам или в какой-либо форме вступал с ними в контакт. Представители буржуазии порой вспоминают, что помогали эмигрировавшим евреям, приобретая у них имущество. Почти каждый немец помнит прохожих с желтыми звездами на одежде. Иногда (чаще на Западе) респонденты рассказывают, что некоторые из людей, носивших этот еврейский отличительный знак, были им лично знакомы, но, – как правило, добавляют они, – те сами уклонялись от контактов.
В рассказах о первых годах войны господствует общегерманский стереотип: те евреи, которые еще оставались в округе, однажды вдруг «исчезли», и никто не знал, куда они подевались, и никто ничего плохого при этом не подумал.
Услышав вопрос, знали ли они что-нибудь о концлагерях и об уничтожении евреев, пожилые немцы, как правило, делаются неразговорчивы. Подавляющее большинство отвечает, что ничего не знали. В том, что касается существования концентрационных лагерей как таковых, эти слова – просто неправда. Применительно к систематическому уничтожению евреев – неясно. Сравнительно небольшая группа респондентов (на Востоке, мне кажется, она больше, чем на Западе), состоящая в значительной мере из людей, бывших в те годы детьми, рассказывает о ходивших тогда слухах, будто на Востоке с евреями делают что-то ужасное, о шутках по поводу «мыла из евреев», о солдатах-отпускниках, намекавших на невообразимо жестокое обращение с евреями, а также о собственных впечатлениях от виденных гетто и лагерей в Польше и обращения с их узниками. Среди тех немногих, кто рассказывает о подобных впечатлениях (в основном это – как в ФРГ, так и в ГДР – активные христиане и несколько левых диссидентов), большая часть подчеркивает, правда, что ни с кем – в том числе и с родными – не могли об увиденном поговорить; некоторые объясняют это тем, что боялись доноса.
Большинство же утверждает, что только после войны услышали о холокосте и других преступлениях нацистов, а многие поначалу даже не поверили услышанному. В ГДР обычно подчеркивают, что узнали правду почти сразу: например, вспоминают сообщения о Нюрнбергском процессе или антифашистские фильмы студии Defa, например «Профессор Мамлок». Потом, однако, странным образом эти воспоминания сливаются – особенно у коммунистов – с уважительными словами об антифашистском Сопротивлении и воспоминаниями о поездках, например в музей концлагеря Бухенвальд, хотя и та, и другая тема к судьбе евреев имеют мало отношения. В социалистических странах уничтоженных евреев причисляют в соответствии с гражданством к погибшему населению того или иного государства и таким образом они как жертвы перестают быть евреями. В ГДР евреи более не представляют собой никакой социальной величины. После антисемитской кампании, развернутой в Восточной Европе в последний год жизни Сталина, в ГДР уже практически не возвращаются еврейские эмигранты, хотя руководство республики в тот момент не допустило у себя в стране самого худшего. Отношения с Израилем до самого последнего времени не поддерживались, и в восточногерманских средствах массовой информации еврейское государство ежедневно клеймилось как «фашистское». Официального юдофильства в ГДР не существует. Фашизм там объясняют с классовых позиций, экономически, и согласно этому объяснению евреев уничтожали в интересах капитала – трудом или иными способами. Поскольку масштабы коммунистического сопротивления задним числом непомерно преувеличивают и число его сторонников всячески стремятся ретроспективно повысить, то проблема консенсуса с нацистским режимом и распада солидарности в обществе, управляемом тоталитарным государством, по политическим причинам не ставится. Благодаря этому большинство населения Восточной Германии освобождается пусть не от солидарности с жертвами, но во всяком случае от вопроса о личной вине. Это отражается в воспоминаниях восточных немцев о евреях: они, как правило, менее спонтанны, более прохладны, сильнее подвержены стереотипам. С другой стороны, у граждан ГДР менее навязчив характерный для западных немцев рефлекс самооправдания. Впрочем, не следует преувеличивать такие количественные различия, более заметные в коллективной памяти восточных немцев, нежели в личной. Ведь личная память через западные СМИ сообщается с западногерманским дискурсом, для которого характерны иные темы и иной ритм. Кто хочет что-то воспринимать – тот воспринимает и задает себе и своим друзьям соответствующие вопросы. А кто не хочет – того официозный антифашизм и не заставляет этого делать.
На Западе, похоже, начался более медленный, но зато более глубокий процесс активации памяти. Этому предшествовал период полной бесчувственности в послевоенные годы. Когда в Верхней Баварии собрались массы перемещенных лиц из числа евреев – бывших узников, – местное население относилось к ним безучастно, а при возникновении конфликтов проявляло неубывающий антисемитизм. По данным опросов общественного мнения в народе после 1945 года сохранялись фашистские ориентации, которые поблекли лишь в той мере, в какой экономическое чудо легитимировало демократию. Когда первые лица ФРГ в первые годы ее существования по моральным, внешнеполитическим и внешнеэкономическим соображениям решили выплачивать денежные репарации оставшимся в живых жертвам холокоста и государству Израиль, они натолкнулись не только в широких слоях народа, но и в среде политической элиты на жесткое сопротивление, которое им, правда, удалось преодолеть. Были начаты так называемые компенсационные выплаты (Wiedergutmachung), и для исторического сознания западногерманской общественности это имело в долгосрочной перспективе прежде всего тот эффект, что с вопроса о вине немцев перед евреями было снято табу. Только после этого могла начаться борьба за воспоминание {7}.
В 1960-х годах шли крупные судебные процессы, которые находили отклик в обществе, где произошла смена поколений. Молодая интеллигенция отождествляла себя с жертвами Третьего рейха и провоцировала своих беспамятных родителей. Эпоха оледенения заканчивалась, лед молчания был взорван. Бросается в глаза большое количество респондентов, озабоченных проблематикой личной ответственности: кто-то стыдится того, что в свое время ничего не замечал или не сделал, кто-то снимает с себя вину, подчеркивая свое неведение. В 1970–1980-е годы тема преследования евреев стала актуальной в публичной сфере в связи с процессами против нацистских преступников, а также в связи с вопросами, которые задавали старшим дети, или в связи с поездками в Израиль. Многие немцы тогда стали вспоминать о прежних своих нацистских убеждениях, о евреях, об их преследовании. Увидеть за пропагандистскими личинами снова лица своих соседей удалось прежде всего тем, кто были в годы нацизма детьми или сами пострадали от преследований, или были в оппозиции режиму и потому не принимали на себя вмененную вину за холокост.
Правда, такая реконструктивная работа памяти может изменить только оценки, но не структуру былого восприятия: если в 1930–1940-е годы сознание отказывалось воспринимать дискриминацию евреев и их депортацию, то реконструировать нечего. Остается лишь вопрос, как толковать эти пустоты в памяти: как обвинительный приговор или же как оправдание. Наиболее отчетливо эта взаимосвязь структуры и оценки проявляется в невинных, нестыдных воспоминаниях: вспоминая евреев Веймарской республики, почти все помнят их как владельцев магазинов, т. е. ассоциируют их с деньгами и товарными отношениями. Это указывает на стереотип, закрепляющий большую социальную дистанцию. С одной стороны, этот стереотип находит опору в реальности: среди евреев в Германии было втрое больше предпринимателей и втрое больше лиц, занятых в торговле, чем среди неевреев. С другой стороны, он затушевывает реальную сложность социального состава германских евреев, из которых менее пятой части владели магазинами. Таким образом, даже воспоминание, ищущее положительные моменты, остается в плену стереотипа, пусть и не антисемитского, но закрепляющего отчужденность. В порядке компенсации все эти владельцы магазинов помнятся необычайно любезными и нежадными, хотя их щедрость и объясняется холодным расчетом («Пусть дешевле, зато больше!» – это аргумент из дискуссии по поводу универмагов).
И наконец, связь истории с личными воспоминаниями имеет свои границы. Границы эти тем непроницаемей, чем крепче они укоренены в коллективной памяти. Евреи из других стран, т. е. более 95 % всех жертв холокоста, в воспоминаниях немцев – как восточных, так и западных – практически не фигурируют {8}. Большинство наших респондентов с ними не встречалось. Освенцим для них – нечто совершенно абстрактное, причем не только в том смысле, что поставленное на промышленную основу умерщвление целых этнических групп превосходило всякое воображение и не описывалось даже в самых критических антиутопиях современной литературы: Освенцим абстрактен еще и в том смысле, что жертвы по большей части остались совершенно неведомы обществу, на котором лежит ответственность за их уничтожение. О них даже не говорили хотя бы отрицательно, как о военном противнике {9}. Есть, по сути, лишь два исключения: одно из них касается встреч с теми иностранными евреями, которых депортировали, но отправили не в газовые камеры, а на работы в оборонной промышленности на территории рейха. Такое случалось в основном в последний год войны. Значительная часть этих людей выжила – но это была, конечно, исчезающе малая доля всех европейских евреев, охваченных так называемым окончательным решением еврейского вопроса. Кроме того, эти евреи едва ли могли донести до сознания немцев правду о массовом уничтожении своих соплеменников – и потому, что сами многого не знали, и потому, что им были запрещены контакты с немецкими рабочими, и в силу языкового барьера, и в силу того, что они представляли собой небольшую группу, растворявшуюся в многоликой массе иностранных рабочих. Если их кто-то замечал в критические последние месяцы существования Третьего рейха, то воспринимали их скорее как знак того, что евреи все еще продолжали существовать даже после своего исчезновения со сцены повседневной жизни в Германии.
Вторым исключением были те люди, которые контактировали с евреями потому, что были заняты их выявлением, переселением в гетто, отправкой в концлагеря и уничтожением. Это были в основном – но не только – эсэсовцы. Те из них, что остались после войны в Германии, пытались замалчивать этот свой опыт. Собственно, их о нем стали спрашивать только после начала судебных процессов над Эйхманом и другими нацистскими преступниками, совершавшими преступления в лагерях. В ходе судебных разбирательств процесс уничтожения реконструировался с неизбежностью, от которой обвиняемые пытались уйти, отказываясь давать показания или умаляя преступность своих деяний. Именно благодаря этому немногочисленные поначалу признания обвиняемых (например, коменданта Освенцима Рудольфа Хесса) стали диффузно распространяться в коллективной памяти, так что наиболее чувствительные из молодых немцев начали подозревать почти в каждом человеке старшего возраста нацистского преступника и каждого человека считать способным на преступления. Эта диффузия имела основополагающее значение для моральной возбудимости нашего общества, но она создала лишь иллюзию исторической конкретизации абстрактного образа Освенцима.
III
А русские? О них большинство немцев – особенно западных – мало что помнит. Лично встречались с русскими до войны очень немногие. Великая страна на востоке была для немцев скорее экраном для проекций: сначала в ней видели традиционный оплот реакции, потом – неожиданно – колыбель мировой революции, предмет надежд коммунистов и страха почти всех остальных. Ни те, ни другие, впрочем, ничего в точности не знали о Советском Союзе и его жителях. Летом 1941 года, когда германское командование начало войну, рассчитывая за несколько недель сокрушить якобы прогнившее здание большевизма и победить недочеловеков-славян, ситуация изменилась. Множество немецких солдат в течение 1941–1944 годов провело то или иное время в боях на территории этой страны. Наибольшее число жертв среди немецких военнослужащих было именно там. В советском плену находилось больше всего германских солдат и офицеров (3,1 миллиона), и провели они в нем в среднем больше времени, чем те, кто были в плену у союзников. К 1956 году домой вернулись только 2 миллиона. С другой стороны, почти 3 миллиона русских военнопленных и гражданских лиц были доставлены во время войны в Германию, а еще 3 миллиона военнослужащих умерли или погибли в немецком плену. В 1944–1945 годах Красная армия оккупировала почти половину территории рейха, отделила от нее пятую часть, изгнав оттуда немецкое население, и отдала эти земли Польше, сместив ее таким образом к Западу. Под советской оккупацией оказалась примерно четверть всех немцев. Свои репарационные требования, обращенные ко всей Германии, СССР с согласия союзников удовлетворял за счет вывоза ценностей из своей оккупационной зоны. Победа стоила Советскому Союзу, как уже было сказано, минимум вчетверо больше человеческих жизней, чем стоило Германии ее поражение.
Однако эти потери почти не всплывают в воспоминаниях немцев. В них русские как противники на фронте или пленные в тылу вообще безлики: респонденты обычно не замечают у них никаких достойных упоминания личных черт; редко кто помнит хоть одно имя; тех русских, что добровольно или подневольно работали на немцев, считают скорее в «штуках», чем в «человеках»; любые количества солдат противника сводят к единственному числу, говоря о них собирательно «русский» или «иван», – это, впрочем, соответствует психологии войны на всяком фронте. Если кого-то различают среди гражданского населения оккупированных территорий (и, кстати, потом иногда среди надсмотрщиков в советских лагерях) то, с одной стороны, это национальные группы – особенно такие, как украинцы и прибалтийские народы, из которых рекрутировались добровольные помощники немцев, а с другой стороны – вызывающие страх «бандиты» (так называли партизан) и крестьяне, обычно бедные и дружелюбные, которые давали немецким солдатам приют и помогали им или спасали их от опасности. Такие сцены обычно очень стереотипны. О коммунистах или «красных» почти никогда не упоминается; это говорит как о том, что взятых в плен комиссаров согласно приказу расстреливали, так и о том, что противника воспринимали не в категориях европейской гражданской войны, а в национальных и расистских категориях континентального империализма. Эти категории лишь отчасти оказывались поколеблены реальным опытом: глядя на примитивные условия жизни и вооружение русских и на их коммунистический режим, никто не поверил бы, что они могут проявить такую боеспособность, упорство и самопожертвование. Символом удивления, в которое они приводили немецких солдат, стало стереотипное воспоминание о повозках, запряженных малорослыми лошадками, об однокомнатных крестьянских хатах, в которых вся семья лежит на печи, о скудной пище, из которой в памяти сохранились прежде всего капуста, кукуруза, водка и самокрутки из газеты. Воспоминания о населении подчинены стереотипам культурных различий, подобно воспоминаниям о встречах с христианизируемыми дикарями в колониях: в них есть нечто детское или звериное, они часто удивляют своей неожиданной эмоциональностью и готовностью помочь, но в то же время пропасть, отделяющая немца от их примитивной культуры, кажется – по крайней мере до того, как он попадет в плен, – непреодолимой: их готовность принять все, что с ними произойдет, представляется тупостью и непредсказуемостью. У западных немцев такие стереотипы восприятия в основном сохранились в застывшей форме, в то время как у восточных они тоже встречаются, но зачастую в иной интерпретации: те же самые сцены рассказываются как опыт первой встречи с человечностью русского народа.
Такая же разница проявляется – даже еще более отчетливо – в рассказах о советской военной оккупации, об освобождении иностранных рабочих, об изгнании немцев из Польши, о плене. Ни восточные, ни западные немцы не забыли о насилии, которое при этом творилось. Однако в Западной Германии, где личного опыта взаимодействия с русскими меньше, немцы в этих рассказах неизменно выступают в качестве жертв – в частности, жертв нападений, грабительских набегов и поджогов, устраиваемых русскими и поляками, отпущенными с принудительных работ в Рурской области, не говоря уже о волне грабежей, изнасилований, унижений, разрушений и зверств, которые творили солдаты Красной армии в Восточной Германии: о них слыхали все, кто бежал оттуда, но на собственной шкуре их испытало гораздо меньшее число опрошенных. Те, кто провели на Востоке больше времени, – например, жили там в период между вступлением советских войск и «изгнанием» или были в плену, – зачастую рисуют намного более дифференцированную картину: они проводят различия, например, между боевыми и оккупационными частями или между поляками и русскими; они рассказывают о том, как ловко им удалось спасти самих себя или свои семьи от насилия, царившего в округе. Порой рассказывают и о пребывании в плену: о суровых, но оказавших большую помощь русских врачах или начальниках лагерей; о меновой торговле с русскими, которые на воле жили не лучше, чем немецкие солдаты в плену; о шкурничестве, доносительстве и других подлостях, имевших место среди своих же товарищей-немцев. Однако на Западе такие дифференцированные рассказы, как правило, служат только фоном для историй о той работе по выживанию, которой занимался рассказчик. Но в целом наиболее часто вспоминаются насилия, которые творили русские в конце войны: это было ожидание, которое находило достаточно подтверждений как в собственной жизни респондента, так и в рассказах о пережитом другими. Немцы в этих рассказах предстают жертвами той самой звериной непредсказуемой натуры, которую они и прежде чуяли за славянской тупостью и эмоциональностью. Иными словами, если американские негры, тоже изображавшиеся нацистами в качестве зверей, приятно разочаровали немцев, то в восприятии русских в конце войны расистская схема не рушится, а подкрепляется; впоследствии, в годы холодной войны, появляется возможность рационализации этих предрассудков путем превращения их в антикоммунистическую позицию. При этом большинство респондентов, сетующих на свою тяжкую судьбу в 1945 году и после, ни слова не говорят о том, поделом ли досталось немцам. Как правило, они оставляют этот вопрос открытым; некоторые, правда, принимают в расчет то, что «Гитлер первым начал войну».
В ГДР же картина, как правило, совершенно иная. Воспоминания о насилии, пережитом в конце войны, там даже больше распространены, чем на Западе, и зачастую более конкретны. И в интервью респонденты редко замалчивают этот опыт. Однако паттерны опыта на Востоке более разнообразны и, как правило, помещаются в иные контексты. Начать с того, что там по-другому говорят об иностранных рабочих: я ни разу не слышал, чтобы их считали в «штуках»; нередко рассказчик может вспомнить какую-нибудь личную встречу с одним из них; многие знают, где находились лагеря, в которых жили пригнанные из других стран работники (на этих местах сегодня, как правило, стоят памятники), или по собственной инициативе рассказывают о том, в каких ужасных условиях те жили, о колоннах заключенных, которых в последние недели войны гнали через города и деревни. Более молодые респонденты сообщают о тех расистских картинках, которые им показывали в школе и исходя из которых они ожидали адских зверств от приближавшихся русских войск.
Такая работа воспоминания не представляла собой (в подавляющем большинстве случаев) результата простого «промывания мозгов»: это было видно по тому, что опрошенные говорили и об изнасилованиях, творимых солдатами фронтовых частей, в том числе неоднократно описывая особо страшные случаи, имевшие место у них в семьях, но у них на этой основе не сложилось стереотипа, в котором сексуальные отношения между русскими и немцами по определению конструируются как изнасилование: в них оставалось место и для эротики, и для комизма, и для проституции. Стереотипными можно скорее назвать утверждения большинства рассказчиков, будто насиловали почти одни только фронтовые части в угаре первых дней или недель после прихода Красной армии в германские города и деревни, а потом якобы очень быстро и жестоко была восстановлена дисциплина и войска были выведены или помещены в казармы. После нападений солдат на мирных немцев или немок, неизменно рассказывают респонденты, приезжал армейский грузовик, пьяных солдат кидали, «как бревна», в кузов и после этого никто «никогда о них больше не слыхал».
В самом деле уже через несколько недель после вступления советских войск в повседневной жизни русских почти не было заметно. Правда, было известно, где они стояли на квартирах: там на окнах вместо занавесок были газеты. Приехавших потом жен офицеров можно было определять по запаху: они злоупотребляли сладко пахнущими духами. Однако чувство культурного превосходства над победителями, сквозящее в подобных наблюдениях, дела не меняло: всем заправляла теперь советская комендатура, а на заводах появилось советское начальство, которое состояло зачастую из образованных, квалифицированных специалистов, противоречивших колониально-фантастическому образу русских как гостеприимных медведей и вечно неграмотных крепостных крестьян. Но лишь в исключительно редких случаях имели место личные встречи с ними или тем более устанавливались личные отношения. Дистанция между оккупационными властями и местным населением в Восточной Германии была, похоже, гораздо больше, чем в Западной – особенно в американской зоне.
В том, что касается изгнания немцев из стран Восточной Европы, истории, рассказываемые в ГДР, не сильно отличаются от тех, что рассказывают в ФРГ те, кто перенес «изгнание» лично. Тяготы, издевательства, грабежи и насилие, правда, при этом обычно ставят в вину полякам и чехам, в то время как русские предстают скорее в виде некоего фактора порядка. Подобную же структуру обнаруживают порой рассказы респондентов, которые в 1945 году были молодыми солдатами и были, например, в Чехословакии спасены Красной армией от жестокой мести населения.
В плену – после того как уходила в прошлое первая встреча, отличавшаяся в условиях боевых действий на Восточном фронте весьма жестоким характером, – появлялось повышенное ощущение равенства: плохо жилось всем. В целом воспоминания восточных и западных немцев о плене не сильно различаются, но в ГДР респонденты меньше делают упор на собственные страдания, а даже подчеркивают, что русские не обращались с ними как с людьми второго сорта, в отличие от того, как относились к русским немцы. Едва ли найдется хотя бы один рассказ о лагерях для военнопленных, где не упоминалось бы о голоде, но в то же время многие упоминают о разрушениях и потерях, нанесенных вермахтом. Почти каждый добавляет: «Нам давали ту же еду, что и русским».
Очень многие в ГДР рассказывают о том, как изменились их представления о русских, причем именно благодаря собственному опыту; в особенности это были переживания, связанные с неожиданной сердечностью, часто имевшие место во время поездок в СССР с туристическими группами или делегациями, начиная с 1950-х годов. В самой ГДР среднестатистическому жителю редко выпадала возможность пообщаться с русскими, потому что контакты с размещенными там войсками строго регламентировались и ограничивались офицерским составом. Нельзя, однако, недооценивать и влияние русской литературы, особенно классической: из всех культурных веяний, пришедших с Востока, она, пожалуй, оказала наиболее широкое и глубокое воздействие на культуру ГДР. Сравнимого русского или американского влияния в ФРГ не наблюдалось.
Исключением из сказанного надо, наверное, считать молодежь 1940-х годов, которая была воспитана в гитлерюгенде и составила большинство членов Союза свободной немецкой молодежи. Для этих юношей и девушек наиболее часто вспоминаемый лозунг: «Учиться у Советского Союза – значит учиться побеждать» – облегчал хотя бы мысленный переход с позиции побежденных на позицию победителей. Некоторые из них с самого начала смотрели на Красную армию с непредвзятым изумлением, дивясь примитивности ее технического оснащения, которая не помешала ей, однако, одержать победу в войне. А если предвзятость и была, то она пропадала при первой же встрече благодаря тому, что многие русские очень приветливо относились к детям. Позже, в рядах «свободной немецкой молодежи», юноши и девушки получали такие возможности самореализации, что негативных предрассудков по отношению к Советскому Союзу и его людям у них не возникало. Для отношения детей и подростков к победившей державе не так важно было, верили ли они раньше в окончательную победу Германии: важнее было, смотрела ли их семья теперь в будущее с надеждой или же с безнадежностью, если была, например, обременена нацистским прошлым, отец был уволен с работы, попал в плен или погиб. Депрессия и ущемленное положение таких родителей часто передавались детям, для которых встать на сторону победителей казалось в этих случаях предательством.
Эти различия в восприятии русских связаны с двумя факторами, которые имеют для ГДР фундаментальное значение: это доминантное присутствие самих русских в стране и репарации, взимание которых Советским Союзом оказало сильнейшее влияние на экономическую ситуацию в Восточной Германии. Об этих двух факторах там очень редко говорят – то ли потому, что и так все понятно, то ли потому, что жизнь, структурированная чужим господством, возможна лишь тогда, когда это господство вытесняется из сознания. То, что люди в ГДР вынуждены жить в таких условиях, – это их судьба, которой они, насколько я смог понять, попрекают не столько русских, сколько западных немцев. Редко упоминая по собственной инициативе о репарациях, которые ГДР за всю Германию выплачивала Советскому Союзу, восточные немцы почти всегда подчеркивают в интервью, что ФРГ своим богатством обязана плану Маршалла. Не говорят они и о том, что после того, как в 1940-е годы потерпели неудачу попытки найти компромиссное решение для сохранения единого немецкого государства и равномерного распределения бремени репараций, они – жители советской оккупационной зоны – оказались в положении заложников стремления СССР обеспечить свои интересы. Вместо этого они говорят о некоей общей политической ситуации в регионе, и по крайней мере старшее поколение рассматривает эти геостратегические последствия Второй мировой войны в качестве гораздо более важных факторов для ГДР, нежели структурные реформы внутри СССР.
Хотя восточные немцы особенно заинтересованы в разрядке, разоружении и мире, – не в последнюю очередь в силу того, что война и ее последствия здесь еще ощущаются намного живее, чем в других странах, – многие представители старшего поколения, причем отнюдь не одни лишь ветераны партии, скептически смотрят на восторги западных немцев по поводу Горбачева: сколько непроясненного прошлого замутило их взор? Выжидательная позиция старшего поколения жителей ГДР по отношению к реформам и новой внешней политике «старшего брата» имеет глубокие корни. Населению этой страны пришлось вынести непропорционально большую долю возмездия за континентально-империалистическую политику Германии и выплачивать большую часть материальной компенсации за нее. Поэтому люди здесь считают, что научились яснее видеть как человечность русских, так и их имперскую мощь.
IV
Здесь были лишь предварительно и фрагментарно намечены паттерны воспоминаний немцев о двух самых крупных группах жертв Третьего рейха и некоторые факторы, определившие характер этих паттернов. В заключение попробуем соотнести получившуюся картину с поставленным в начале статьи вопросом о трудностях, связанных с определением исторического места национал-социализма. Я стремился показать субъективность памяти, ее коллективные референции и те принуждения, которым она подчиняется. Тем самым я рассчитывал подойти ближе к ответу на вопрос, почему история не удаляет нас от нацистского прошлого, а все вновь и вновь, порой отчетливее чем раньше, являет его нашему взору. С этой целью сформулируем три заключительных тезиса.
1. Каковы бы ни были культурные сходства и различия между ФРГ и ГДР, для обеих сторон бесспорно то, что они связаны наследством общей истории. Важнейший элемент этого общего наследства – период нацизма и Второй мировой войны: это наиболее актуальная референтная точка национальной истории немцев. Однако воспринимается это наследство не совместным и единым образом, оно в важных своих аспектах разделено. Как я попытался показать на примерах памяти и материальной компенсации по отношению к двум крупнейшим группам жертв Третьего рейха, представление об ответственности немцев различно. Мы как бы слышим стереозвук: с двух сторон доносятся разные ноты, которые взаимно дополняют друг друга, и только тот, кто слышит оба голоса, воспринимает целостное звучание. В годы холодной войны немцы на Востоке и Западе под давлением международных политических обстоятельств волей-неволей имели дело с разными группами жертв: западным немцам довелось иметь дело с евреями, восточным – с русскими. И то, и другое происходило фрагментарно, однако при внимательном рассмотрении нельзя не заметить, что нечто все же произошло. При этом инструменты, звучащие в этом немецком стерео, слышны в принципе с обеих сторон, но распределены все же по-разному: мне кажется, что вклад западногерманской историографии и публицистики в реконструкцию коллективной памяти в последние годы стал более продуктивным: было обращено внимание на расистскую общую идеологию национал-социализма и на более или менее бессознательное принятие этой идеологии широкими слоями населения; постепенно в зону внимания вводилось все большее число групп жертв нацизма, но в то же время сохранялось представление о парадигматической уникальности индустриализованного умерщвления большинства европейских евреев. С другой стороны, память народа в ГДР, как мне представляется, содержит больше проблем, хотя и хуже способна их выразить. Причина, наверное, не только в том, что восточные немцы в принципе испытывают больше проблем, но и в том, что они в большинстве своем воспринимают фрагменты как восточно-, так и западногерманского публичного дискурса.
2. Я постарался показать, что личные воспоминания – источник и мерило общественного интереса к темам новейшей истории – очень фрагментарно отражают проблематику Третьего рейха и без соотнесения с политической, научной и дискурсивной динамикой коллективной памяти не имеют никакого смысла. Кульминационной точкой общей немецкой истории – единого наследия двух немецких государств – стало время, когда единая гитлеровская Германия завоевывала Европу, уничтожала евреев, колонизовала и истребляла славянские народы. Совершенные тогда немецкими органами преступления были для большинства людей настолько абстрактны, что не поддавались восприятию. Их абстрактность была двоякой: во-первых, гигантские проекты уничтожения этнических групп по своему индустриальному характеру и своей интенсивности и целенаправленности превосходили все мыслимые масштабы и не соотносились ни с какими аналогами в общественной памяти; во-вторых, реализация этих проектов происходила вне поля зрения большинства немцев, и подавляющее большинство причастных к ней лиц как до, так и после 1945 года стремились соблюдать секретность. По мере того как в ходе международного судебного и исторического процесса реконструкции совершаются все новые и новые попытки покончить с этой секретностью и этой абстрактностью, немцы сталкиваются с новыми сведениями, взывающими к их чувству политической и человеческой ответственности, и это проникает во все поры их частной жизни и бессознательной интернализации общественной власти. Подобный вызов, как я старался показать, стимулирует работу памяти, направленную на восстановление фрагментов воспоминаний. Она совершается по-разному на Востоке и Западе и, разумеется, в неодинаковой мере у каждого индивида. Однако в значительной степени совершается она вхолостую: например, в том, что касается восприятия дискриминации евреев до так называемой Хрустальной ночи, или в том, что касается колонизации, порабощения и частичного истребления славян во время войны, немцам, несмотря на работу памяти, оказывается нечего вспомнить. Такое отсутствие впечатлений свидетельствует, помимо вытесненного страха, прежде всего о том, что сознание людей обладало иммунитетом по отношению к ним – благодаря неосознанному согласию с расистскими концепциями гитлеровской идеологии, облеченными в бытовую форму. В той мере, в какой этот иммунитет оставался неосознанным и не осмыслялся в памяти как проблема, его в послевоенные годы можно было трансформировать – на Западе, например, в антикоммунизм, а на Востоке – в слепоту по отношению к воздействию идеологии и террора на массы. И тут, и там вытесненная энергия господства была по экономическому каналу перенаправлена на решение, казалось бы, невинной и злободневной задачи: восстановление разрушенной войной страны.
3. В 1980-е годы между двумя голосами этого немецкого стерео в восприятии истории стали возникать совпадения. В ГДР в последнее время оказывают усиленное содействие сохранившимся иудейским религиозным общинам и предлагают компенсационные выплаты (в размерах, которые на фоне экономических проблем страны надо признать не символическими) представителям евреев, проживающих за пределами ГДР, и даже государству Израиль. В ФРГ привлекли к себе большое внимание новые исследования, посвященные таким проблемам, как преступления против советских военнопленных, использование подневольного труда иностранных рабочих и взаимосвязь нацистской политики с расизмом и континентальным империализмом. Благодаря школьным конкурсам на лучшие исторические работы были обнаружены новые материалы о нацистских преследованиях меньшинств и остатки лагерей иностранных рабочих во многих населенных пунктах. Возникла даже дискуссия (не приведшая пока к заметным результатам) о том, почему ФРГ более 90 % из приблизительно 80 миллиардов дойчмарок компенсаций выплатила только немцам, а остальное – только западным государствам и Израилю [36] .
В такой обстановке общее историческое наследство ФРГ и ГДР сделалось предметом научно-публицистических дебатов. На Востоке это – дискуссия о наследии и традиции, т. е. формульный и робкий, но жизненно необходимый разговор, способствующий открытию коллективной памяти для более многостороннего восприятия истории. На Западе это так называемый спор историков об уникальности феномена холокоста, и я не дерзну характеризовать его подобно тому, как я характеризовал дискуссию в ГДР. Он, конечно, протекал гораздо более открыто и динамично, однако вопросы, затрагивавшиеся в нем, обнаруживали двоякое несоответствие с нарождающейся способностью западногерманского общества разглядеть вытесненные расистские аспекты нацизма. С одной стороны, в этот дискурс вмешивалось сравнение холокоста с ГУЛАГом в попытке апологетически расшатать субъектную референцию нашего восприятия истории и в конце концов даже объяснить массовые убийства по расистским мотивам как оборонительную реакцию на ожидаемые массовые убийства по мотивам классовым. В действительности же речь идет о двух различных видах преступлений, которые возникли независимо друг от друга, и если между ними и была связь, то скорее в обратном направлении. Каждый из этих комплексов требует изучения, и хорошо, что теперь и русские взялись за эту работу; но это не причина, чтобы нам, немцам, заниматься ею же, а нашу работу тем временем не выполнять.
Другая сторона в «споре историков» отстаивала уникальность Освенцима, и в пользу ее позиции можно привести более веские аргументы. Их нам следует принять, однако нельзя, чтобы под их влиянием мы перестали расширять круг своего исторического восприятия и оставили за его пределами другие группы жертв, а также политический и культурный контекст их дискриминации, преследования и – во многих случаях – изничтожения. Признавая уникальность холокоста, нам не следует на этом основании возвращаться к той точке зрения, будто единственными проблематичными сторонами Третьего рейха были антисемитизм его руководства и рискованная война, за которые мы якобы уже расплатились материальными компенсациями и разделом Германии. Только тогда, когда мы примем к сведению все аспекты национал-социализма, Третий рейх найдет свое место в германской истории – истории, про которую нельзя с уверенностью сказать, движется ли она дальше. А пока реконструкция памяти во всех частях Германии будет сопровождаться наплывами фрагментарных воспоминаний и сопротивления им.
Примечания
{1} Основой для настоящего очерка послужили впечатления, вынесенные из нескольких сот биографических интервью с пожилыми немцами, проведенных нашей исследовательской группой в рамках проектов, посвященных изучению истории жизни и социальной культуры в Рурской области в 1930–1960 годах (проект осуществляется с 1980 года в Эссенском университете и Университете заочного обучения в Хагене) и «народному опыту» жизни в ГДР (проект осуществляется с 1987 года). Хотелось бы подчеркнуть, что речь не идет о результатах систематического анализа этого объемистого и трудного комплекса источников, из которых я знаком лишь примерно с половиной и проработал меньше четверти: речь идет именно о впечатлениях относительно того, какие стереотипы в этих биографических рассказах господствуют или по крайней мере бросились мне в глаза. Большую помощь в работе оказал более систематический анализ части рурского материала на предмет высказываний о евреях. Эта работа была проведена Франком Штерном (Иерусалим) в рамках исследования о юдофильстве в послевоенной Германии (см.: Stern F. Die Weißwaschung des gelben Sterns. Phil. Diss. Tel Aviv, 1989. Kap. 4). Подробнее о наших проектах и применяемых в них методах анализа источников см. в книге: LUSIR. Bd. 1–3; Niethammer L. Annäherung an den Wandel: Auf der Suche nach der volkseigenen Erfahrung in der Industrieprovinz der DDR // Alltagsgeschichte / Hg. von A. Lüdtke. Frankfurt a. M.; N.Y., 1989. S. 283–345; BIOS. 1988. Bd. 1.
{2} Если бы мы были в ГДР, то таким общепринятым кратким названием было бы скорее слово «друзья», которое насаждалось во второй по величине массовой общественной организации ГДР – «Обществе германо-советской дружбы».
{3} Об истории вопроса и о численности жертв см.: Hilberg R. Die Vernichtung der europäischen Juden. Berlin, 1982; Herbert U. Fremdarbeiter. Berlin; Bonn, 1985; Idem. Geschichte der Ausländerbeschäftigung in Deutschland 1880 bis 1980. Berlin; Bonn, 1986; Streit C. Keine Kameraden. Stuttgart, 1978; Pingel F. Häftlinge unter SS-Herrschaft. Hamburg, 1978; Krausnick H., Wilhelm H.-H. Die Truppe des Weltanschauungskrieges. Stuttgart, 1981; Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas / Hg. von E. Kogon u. a. Frankfurt a. M., 1983. По общему историческому контексту см. сборники: Ist der Nationalsozialismus Geschichte? / Hg. von D. Diner. Frankfurt a. M., 1987; Der Judenpogrom 1938 / Hg. von W.H. Pehle. Frankfurt a. M., 1988.
{4} Для сравнения: на пике так называемого использования приглашенных рабочих в ФРГ в 1973 году примерно каждый девятый работающий в стране был иностранцем. Гастарбайтеры всех национальностей вместе взятые составляли в этот момент примерно три четверти от численности одних только русских, которые были заняты в экономике Германии во время войны. По расчетам Ведомства по изучению военной истории во Фрайбурге, на территориях СССР, оккупированных Германией, еще около 15 миллионов человек были вынуждены работать прямо или косвенно на оккупантов: это почти вдвое больше работников, чем во всей ГДР или в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
{5} Германия потеряла около 4 миллионов. К ним после 1945 года добавились около 1,2 миллиона во время «изгнания» и еще около миллиона этнических немцев в Восточной Европе.
{6} Для сравнения: в Германии потери гражданского населения составили 1,65 миллиона.
{7} В то же время в так называемом Штутгартском признании вины Евангелической церкви (1945) – первом акте исторической моральной сознательности в Западной Германии – о масштабах уничтожения евреев вообще еще ничего не говорится.
{8} Исключение составляют только воспоминания сравнительно небольшой группы бывших солдат, которые были дислоцированы в Польше и у которых – например, в силу их активной христианской жизненной позиции – моральное восприятие было менее притуплено, чем у большинства их товарищей по оружию.
{9} Документальное исследование холокоста, осуществленное Раулем Хильбергом и Клодом Ланцманом, производит на немцев особо сильное впечатление именно потому, что, говоря о поездах, ехавших через всю Европу в лагеря уничтожения, авторы позволяют читателям представить себе как жертв, так и само уничтожение. Стена невообразимости, таким образом, оказывается сломанной.
Интервью с интервьюером. Беседа с Лутцем Нитхаммером
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Лутц, ваша новая книга посвящена устной истории, поэтому в качестве послесловия мы решили включить в нее большое биографическое интервью. Для начала расскажите о себе, чтобы читатели могли представить вашу биографию в контексте времени и на фоне того поколения, к которому вы принадлежите; чтобы таким образом они могли лучше понять те вопросы, которые занимают вас как историка.
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Важную роль в моей жизни и моем становлении сыграло то, что я воспитывался в буржуазной среде. Мать происходила из некогда преуспевающей, но захиревшей бюргерской фамилии из Рейнской земли. Ее отец, мой дед, был банкиром, а взгляды имел либерально-католические. Мой отец, напротив, был родом из семьи мелкобуржуазной, представители которой сумели подняться по социальной лестнице. Дед с отцовской стороны тоже в некотором роде занимался финансами: был управляющим на пивоваренном заводе в Швабии. Так что в моей семье впервые пересеклись две линии: мелкой буржуазии и культурного бюргерства. Я всегда идентифицировал себя с семьей матери, впрочем, это отчасти объяснялось тем, что своего отца я узнал, когда мне было уже 12 лет. До этого он был на фронте и в плену. Его призвали в сентябре 1939 года, а я родился через несколько месяцев, под Рождество. Существует даже семейная легенда, что, когда отец однажды приехал в отпуск, а мне тогда было, кажется, года три, я якобы сказал: «Пусть дат уйдет!», в смысле «Пусть солдат уйдет!» Потому что я тогда вообще не понимал, что это такое – отец, а увидел только незнакомого человека в форме. Надо сказать, что помимо бюргерского начала в нашей семье присутствовал и творческий элемент: мои родители оба были графиками и занимались промышленным дизайном.
Меня воспитывали мать, бабка и тетка, т. е. я, по сути, рос в той самой католической либеральной среде, к которой принадлежал еще мой дед. Отец же был совсем из другого теста: в 1933 году он вступил в НСДАП, а затем в СА. Впоследствии он полностью подчинил себе мою мать, которая поначалу сопротивлялась, а потом смирилась. Дело в том, что в 1920-е годы она, в отличие от отца, всерьез увлекалась современным искусством. Так что в период нацизма ей пришлось приспосабливаться, в том числе и творчески. Помню, в юности меня это глубоко поразило, так как после войны она вместо бывшего тогда в моде стилизованного китча вновь стала делать авангардные вещи, и мне казалось, что у меня на глазах рождается замечательная современная художница, хотя на самом деле она просто вернулась к тому, с чего начинала.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Как вы думаете, она когда-нибудь всерьез задумывалась о том, что произошло с ней и с ее искусством?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Видите ли, после прихода нацистов она – во многом по настоянию моего отца – решительно разорвала все связи с авангардистской средой. А потом просто вернулась в нее как ни в чем не бывало. Полагаю, что никакой рефлексии по этому поводу у нее не было. Я хорошо помню те вещи, которые она делала, когда мне было пять-шесть лет, для французских, а потом и для американских оккупационных офицеров. Это было нечто в примитивистском духе и вполне котировалось даже в нацистские времена. Впрочем, денег ее картины приносили мало, так что жили мы довольно скудно. Потом, когда я уже стал постарше, то своими глазами мог наблюдать своеобразную обратную эволюцию ее живописи: постепенно ее работы становились все более и более беспредметными, и мать даже разрешала мне придумывать для них названия. Так что у меня создалась полная иллюзия движения от предметной живописи к абстрактной, хотя на самом деле это было не так. В отличие от моего отца, у матери были друзья среди евреев. Она часто говорила, что отец заставил оборвать все связи с ними. Например, прекратить отношения с одной подругой-еврейкой, которой удалось эмигрировать еще до холокоста. Воспринимала ли она это как приспособленчество? Не думаю. Во всяком случае, она никогда не говорила об этом прямо. Когда мне было два с половиной года, в наш дом в Штутгарте попала бомба, погибли и все работы моей матери, а то немногое, что осталось от того периода ее творчества, я берегу как зеницу ока.
После того как нас разбомбили, мы всей семьей перебрались в деревню к моей бабке и тете, которая преподавала в местной гимназии французский, английский и историю. Пожалуй, именно она оказала на меня в юности наибольшее интеллектуальное влияние. Благодаря ей я увлекся литературой и стал интересоваться религией (хотя она была католичкой, но взгляды имела вполне широкие). Окрестили меня в протестантской церкви, так что я воспитывался сразу в двух традициях: протестантской и католической. Возможно, именно поэтому я потом поступил на теологический факультет. Отец мой был совершенно не религиозным человеком, да и мать скорее была неверующей. Верующими были обе мои бабки и с отцовской, и материнской стороны. Бабушка с материнской стороны была католичка, впрочем, относилась к этому не без юмора и даже некоторого цинизма, а с отцовской, наоборот, – ревностной протестанткой и вообще довольно серьезной дамой. Впрочем, близкие отношения у меня были именно с первой. А дедов своих я не знал вовсе.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Сохранились ли у вас воспоминания о войне?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Реальных воспоминаний у меня осталось очень немного. Я часто пытаюсь воссоздать те первые картины, которые должны были бы сохраниться у меня в памяти. Но беда в том, что у меня нет таких воспоминаний-картин. Есть, пожалуй, одно-единственное – о том, как наш дом разбомбили. Я отчетливо помню, что нас эвакуировали из города еще до этой бомбежки. Однако мой брат, который на несколько лет старше, утверждает, что в ночь бомбардировки мы еще оставались в нашем доме. Но я, как ни стараюсь, не могу этого вспомнить. Когда я мысленно возвращаюсь к тем событиям, то вижу перед собой такую картину: мы сидим на кухне нашего загородного дома в 70 километрах от Штутгарта, и окна выходят на север, так что виден весь город и над ним ярко-красное зарево. Бабушка говорит: «Теперь – это ваш новый дом». Так оно и случилось.
Эту сцену помнят все члены семьи, но одни говорят, что она произошла уже после бомбардировки и что нас, детей, вообще не было на кухне, а мой брат, например, утверждает, что дом обрушился прямо на нас и что сцена на кухне произошла уже позже, во время другой бомбардировки. Я думаю, мы все-таки успели эвакуироваться раньше, но точно сказать не могу. Помню только, как бабушка сказала: «Все, дому в Штутгарте конец».
Другие ранние воспоминания касаются главным образом последних дней войны и вхождения в нашу деревню оккупационных войск – сначала французских, затем американских. От тех времен у нас сохранились две семейные легенды. Одна совершенно душераздирающая. Дело в том, что рядом с нашим деревенским домом (кстати, я недавно его обнаружил, он стоит пустой, но в полной целости и сохранности) был сад, а в саду росло большое грушевое дерево. Пригороды, как правило, не бомбили, но каждый раз, когда раздавалась воздушная тревога, мы на всякий случай прятались в подвале. Однажды (дело было за несколько дней до конца войны) в наш сад все-таки упала бомба, правда, сам дом не пострадал, но когда мы вышли из подвала, дерева в саду уже не было – на его месте осталась только воронка. Но ужас был в том, что когда мы бежали в подвал, то видели, как под ним пытался укрыться остарбайтер.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: И когда вы вышли, его уже не было?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Да. Только воронка осталась. Мне тогда было всего пять лет.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Он был поляк или русский, не помните?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Этого я не знаю. Знаю только, что он был один из тех, кого по нацистским законам не разрешалось пускать в дом. Хотя мои бабка с теткой из-за своей религиозности нацистов терпеть не могли, в данном случае им приходилось подчиняться.
Другое воспоминание о «рабочих» в полосатой одежде, которых гнали через мост на располагавшиеся неподалеку шахты. Тогда я еще не понимал, что это идут заключенные концентрационного лагеря.
А еще я отчетливо помню, как в нашу деревню вошли французы, вернее, марокканцы, – это были колониальные войска. Их приход показался мне похожим на карнавал. Однажды один марокканец попросил у бабушки нож и принес его обратно в зубах, потому что руки у него были полны конфет, предназначавшихся нам, детям.
Еще я помню, что вокруг дома была каменная дорожка, по которой мне не разрешали кататься на деревянном самокате, поскольку от этого якобы портились плиты. Разумеется, я был глубоко возмущен: других подходящих дорожек в деревне не было, и самокат все время застревал в грязи. А французы разбили лагерь прямо у нашего дома, поскольку напротив находилось стратегически важное шоссе; поставили у нас на заднем дворе свои танки и, конечно, разнесли эту ненавистную дорожку вдребезги. Я был счастлив. И с тех пор считал их настоящими воинами-освободителями.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: А что стало с вашим отцом?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Отец воевал сначала в Польше, затем некоторое время во Франции, пока в 1941 году его не отправили на восточный фронт. Он был обычным солдатом, во время войны никакого повышения не получил: сначала был водителем у офицера, потом, когда выяснилось, что он умелый рисовальщик, стал картографом. Некоторое время он даже был санитаром. Что само по себе удивительно, ведь отец был членом нацистской партии и мог бы рассчитывать на гораздо лучшую военную карьеру. Но, по-видимому, он не особенно к этому стремился. Впрочем, я его подробно не расспрашивал, мы в то время вообще старались не задавать лишних вопросов про войну. Знаю только, что служил он на Украине, причем, как потом выяснилось, в местах массового уничтожения евреев. Между прочим, у нас с братом был игрушечный деревянный паровоз, ярко раскрашенный и с немецкой надписью, но что именно было на нем написано, я никак не могу вспомнить… Не правда ли, классический случай подсознательного вытеснения?! А ведь это было первое прочитанное мною слово. По-моему, название города.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Украинского?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Нет, нет.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Может быть, белорусского? Случайно, не Витебск?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: По-моему, нет. Кстати, в детстве я очень любил эту игрушку. Вспомнил! Могилев. Отец прислал мне ее, когда нас разбомбили, и никаких игрушек в доме не осталось. Мы тогда жили вчетвером с матерью в одной комнате.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Это типичная советская игрушка 1930-х годов. Ее часто можно увидеть на фотографиях тех времен.
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Вот, и у меня такая была. Между прочим, я уже тогда понимал, что Могилев – это, должно быть, какое-то место, вроде Зюльца, куда нам пришлось бежать.
В 1944 году отец попал в плен, сначала был в лагере под Харьковом, потом еще в нескольких лагерях в районе Днепропетровска, где он какое-то время проработал на шахте как военнопленный. Затем до самого освобождения был санитаром. Кстати, отец всегда с большим уважением вспоминал начальницу лагерной больницы, которая, между прочим, была еврейкой. Что, конечно, не могло не вызывать у матери определенных ассоциаций с ее еврейской подругой, но тогда я этого еще не осознавал.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Между прочим, моя семья родом из Днепропетровска. Бабушку с дедушкой эвакуировали, а прабабка и другие еврейские родственники остались и были убиты, по-видимому, в начале ноября 1941 года.
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Вот как, я этого не знал.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Да. Бывают странные сближения. А вы помните, как отец вернулся домой из плена?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Я помню фотографии и письма с фронта, но, честно говоря, для меня они не имели большого значения. Я ведь рос исключительно среди женщин: в доме помимо моей бабки, тетки, матери и старшей сестры жили еще три пожилые дамы, торговавшие тканями. Но не могу сказать, что мне не хватало мужского общества и что я чувствовал себя каким-то образом обделенным. Даже война, если не считать истории с разрушенным домом, в общем, прошла стороной, хотя не исключено, что некоторые воспоминания я просто вытеснил. Помню, что в 1951 году появился какой-то человек, изможденный и бледный. В юности он, должно быть, был очень спортивным, подтянутым и бодрым, я же увидел его исхудавшим, нервным и погруженным в себя. Умом я понимал, что возвращение отца – это важное событие для всей семьи, но для меня оно было с самого начала омрачено тем, что я вынужден был покинуть материну мастерскую. После того как бабка с теткой переселились в соседний городок, в доме образовалась лишняя комната, которую мать оборудовала под студию – там она писала свои работы и пила кофе. Мне как самому младшему разрешалось в ней играть: помню, у меня были такие маленькие игрушечные гномы. А когда отец вернулся, в мастерской поставили его рабочий стол, а меня выселили. Тогда, в 11 лет, я впервые понял, что детство скоро закончится. Мой старший брат был как раз в подростковом возрасте, и, разумеется, тут же вступил с отцом в страшный конфликт. Отец требовал, чтобы в доме был порядок и чтобы брат был более усердным и старательным.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Типичная история. Прямо как в кино: отец возвращается с войны и не может ужиться со своими повзрослевшими детьми…
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Причем у нас семейные ссоры, как правило, заканчивались побоями. Тогда ведь и в школах часто били. Но я у матери был любимчиком, к тому же невольным свидетелем и спутником ее творческой эволюции или скорее возвращения к истокам, наверное поэтому она строго-настрого запретила отцу меня бить. Помню, я все удивлялся, что он вечно набрасывается на брата, который, надо отдать ему должное, был в то время ужасным бездельником, а меня при этом трогать не смеет, словно вокруг витал какой-то незримый ангел-хранитель. Впрочем, я был довольно тихим и послушным ребенком. К тому же, ужасно неспортивным. Поэтому мой отец, который, наоборот, был большой спортсмен, вообще считал меня несколько недоразвитым: еще бы, в футбол не играет, плавать не плавает… И все же он как мог старался наладить отношения с женой и детьми. И был даже благодарен матери, что она вопреки его указаниям сохранила мастерскую и стала совершенно самостоятельной, в том числе и в творческом плане; а потом благоразумно уступила ему руководство, так что отец, кроме всего прочего, занимался еще и поиском заказчиков.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: А чем именно они занимались – живописью, скульптурой?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Главным образом промышленным дизайном. Отец после войны стал проектировщиком выставочных помещений. А мать занималась мелкой пластикой. Кстати, ее вещи пользовались в 1950-е большим спросом, так что жилось нам хорошо. Много лет спустя я узнал, что отец добился успеха во многом благодаря своим прежним нацистским связям. Дело в том, что в СА был своего рода союз художников под названием «Кюнстлер-штурм» и директора нескольких крупных штутгартских рекламных фирм были в свое время членами этого союза. Родители иногда брали меня с собой на всякие неофициальные встречи с клиентами – это были сплошь старые знакомые отца с нацистских времен. В 1953 году мы всей семьей вернулись в Штутгарт и дела наши шли, особенно по тем временам, весьма и весьма неплохо. У нас даже была своя машина.
Кстати, история этой машины весьма примечательна: мой отец и старший брат были страстные автолюбители, так что еще до войны мы купили желто-коричневый необычайно элегантный кабриолет, который отец перед отправкой на фронт аккуратнейшим образом спрятал в лесу под спиленными деревьями. В 1951 году они с братом нашли эту машину, которая, естественно, вся проржавела. К счастью, у отца был знакомый автомеханик, который тоже недавно вернулся из плена и открыл автомастерскую неподалеку от нас. Так что кабриолет был благополучно отреставрирован и заново покрашен в бело-серые тона. Личный автомобиль в те времена считался большой роскошью. И отец надеялся с помощью машины подкупить нас, детей, поскольку мать решительно заявила, что по выходным она занимается своей авангардной живописью, а это не могло его не раздражать. Так что он всячески соблазнял нас воскресными поездками на машине, отчасти чтобы не дать матери спокойно порисовать. Надо признаться, этот трюк часто срабатывал.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Я думала спросить об этом позже, но раз уж речь зашла о детских воспоминаниях, скажите, вы идентифицируете себя с так называемым поколением 68-го года? Дело в том, что у вас довольно характерная для этого поколения биография: росли во время войны без отца, воспитывались матерью… Иными словами, вы ощущаете себя частью некоего целого? И возможно ли вообще создать коллективный портрет поколения «ахтундзэхцигер»?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: На самом деле я только сейчас понял, что мы действительно были «поколением». Раньше я просто относил себя к некой возрастной группе, чье детство пришлось на войну. Нас объединяет то, что мы восприняли эту войну с присущей детям непосредственностью, т. е. мы все видели, но толком ничего не понимали. Впрочем, нельзя недооценивать силу этих первых впечатлений, тем более что многие из них так или иначе связаны с насилием и жестокостью, творившимися тогда повсеместно. Как, например, мое детское воспоминание о грушевом дереве и погибшем остарбайтере.
Разумеется, важнейшую роль в моем становлении сыграло и то, что я рос фактически без отца. С одной стороны, я прекрасно понимал, что такие семейные отношения не вполне нормальны, с другой – когда в ранней юности я впервые заметил, как мы с отцом похожи, мне стало не по себе. Потому что я не желал иметь с этим чужим для меня человеком ничего общего, а хотел быть только маминым ребенком, появившимся на свет без участия отца. И тут вдруг оказывается, что мы с ним чуть ли не одно лицо.
И хотя все студенческие годы я жил дома с родителями, отношения с отцом у меня так и не сложились. В школе я издавал газету, в университете изучал теологию. И то, и другое казалось отцу непрактичной и подозрительной ерундой. Но благодаря вмешательству матери я для него всегда оставался вне досягаемости. А когда старшего брата со скандалом выгнали из дому, я еще сильнее почувствовал на себе этот невидимый покров материнской защиты. Впрочем, в отличие от своего брата, я никогда открыто против отца не выступал, хотя относился ко всем его советам и наставлениям с плохо скрываемой иронией, чем раздражал его неимоверно. Но несмотря на это мы все же пытались, насколько могли, приспособиться друг к другу. Однажды он предложил свозить меня на море, которого я никогда прежде не видел. У него тогда была уже другая большая машина, и на ней мы поехали на Северное море. И хотя само по себе это удовольствие было для меня довольно сомнительным, так как в отличие от отца я очень плохо плавал, я все же оценил его усилия и охотно пошел ему навстречу. Впоследствии было еще несколько таких акций с его стороны: он, к примеру, оплатил мне автошколу, чтобы я мог получить водительские права. И все-таки по-настоящему сблизиться нам так и не удалось.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Типичная ситуация для людей вашего поколения: отец либо погиб, либо стал чужим.
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Да, к этому следует, пожалуй, добавить, что тогдашние молодые люди, выросшие уже в свободном обществе, крайне подозрительно относились к своим родителям, бывшим нацистам. Родители же, со своей стороны, чувствовали, что младшее поколение как бы ускользает от них. Но даже в очень авторитарных семьях дело обычно заканчивалось не перевоспитанием непокорных детей, а скандалами и навсегда испорченными отношениями. Именно это и произошло с моим отцом и братом.
Вообще говоря, война и нацистский режим оказали свое разрушающее действие на каждую семью, вопрос лишь в какой степени. У тех, кто не был эвакуирован из городов, воспоминания о гибели людей и разрушениях гораздо ярче и драматичней, чем у тех, кто, как наша семья, смог укрыться в деревне. Моя первая жена, например, всю войну оставалась в разрушенном Берлине.
Пожалуй, именно это больше всего объединяет нас, представителей поколения 68-го года: мы очень рано столкнулись со злом и насилием, смутно осознавая при этом, что и то, и другое исходит откуда-то сверху и имеет политические причины. Думаю, именно поэтому наше поколение в отличие от поколения моих детей всегда воспринимало политику и мораль как вещи неразрывно связанные.
Помимо этого был еще опыт бедной, ну или по крайней мере скудной жизни. Особенно это ощущалось в послевоенное время. Впрочем, я не помню, чтобы мне чего-нибудь не хватало, хотя все взрослые вокруг жаловались, что исчезла их любимая еда. Просто для нас было непривычно жить за счет собственного огорода, обменивать вещи на продукты и ютиться втроем в одной комнате. Но все же я не могу понять, как можно всерьез говорить о страданиях немецкого народа во время войны: разумеется, были и разрушенные семьи, и разбомбленные дома, и эвакуация, – все это мне знакомо, но я не считаю, что эти страдания, как бы велики они ни были, можно сравнить со страданиями, скажем, жертв Освенцима. Так что все эти рассказы о пережитых немцами ужасах меня совершенно не трогают. Больше того, я даже рад, что у меня есть опыт скудной жизни, потому что благодаря этому я знаю, как мало нужно человеку, если только он на самом деле не умирает с голоду.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Сейчас в том числе и у нас в России «шестидесятников» охотно критикуют за то, что они, якобы, все видят в примитивном черно-белом свете, излишне политизированы и склонны к морализаторству. Что вы об этом думаете?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Признаться, мне трудно ответить на этот вопрос. Поскольку, мне кажется, что мои сверстники отнюдь не самые политизированные в этом поколении. Политические страсти кипели среди тех, кто был помладше, а когда я в 1968 году перебрался из консервативного бюргерского Гейдельберга в беспокойный Бохумский университет, мне было уже 28 лет. Ганс Моммзен как раз получил там профессорское место и взял меня к себе ассистентом. От пребывания в Бохуме у меня осталась масса впечатлений: я впервые оказался в большом индустриальном городе, и это было так же важно для меня, как студенческие бунты 1968 года.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Вот как? Но ведь среди лидеров немецкого левого движения было много ваших ровесников? Руди Дучке, например.
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Пожалуй, но они все-таки были еще студентами, хоть и на старших курсах. Но вообще-то все наши тогдашние вожди Сопротивления пошли в школу раньше меня, а я только в 1945-м – в те времена это была существенная разница.
Другое сильное впечатление, которое оставило у меня пребывание в Бохуме, – это забастовка рабочих-сталелитейщиков. Дело в том, что раньше я никогда не видел рабочей забастовки и вообще понятия не имел ни о каком рабочем движении.
Ну и, конечно, события 1968 года в Чехословакии… Иногда в книгах по истории я натыкаюсь на довольно странное утверждение, будто на Западе ввод войск в Чехословакию прошел почти незамеченным. А между тем, я отчетливо помню, как волновалась молодежь в Бохуме, как собралась демонстрация, кажется, по призыву СДПГ и профсоюзов, – ведь у многих в Праге были друзья и знакомые. Видите ли, до пражских событий у нас были надежды на либерализацию Восточной Европы, на пресловутый «социализм с человеческим лицом». А когда в Прагу вошли советские танки, мы вдруг поняли, что это утопия, и наши надежды лопнули, как мыльный пузырь. Для многих моих сверстников именно события в Праге стали первым серьезным политическим потрясением. Впрочем, важную роль для моего поколения сыграли и другие политические конфликты и протестные движения: выступления против ядерного оружия, отказ идти на службу в Бундесвер, берлинская стена, наконец. А для меня, хотя до того я никогда не был ни в одной из стран социалистического лагеря, очень важную роль сыграли события 1956 года в Будапеште. Кроме того, нельзя не упомянуть волнения 17 июня 1953 года в Берлине. Дело в том, что я в то время организовал школьную газету и посвятил этим событиям целый номер, где они освещались вполне в духе холодной войны. В этом номере мы поместили фотографии, где видно, как немцы швыряют булыжники в советские танки. Думаю, мы в то время придавали этим событиям большее значение, чем сами восточные немцы. Сейчас мне, конечно, за это стыдно, но тогда я очень собой гордился и даже послал номер в канцелярию федерального канцлера, чтобы показать, что и мы в провинции тоже не лыком шиты. Причем ответил мне не кто иной, как сам Глобке.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Для моего поколения Глобке стал символом реваншизма в Западной Германии. Во всяком случае, об этом трубила советская пропаганда.
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Я просто пытаюсь объяснить, почему у меня такое сложное отношение к 1968 году. Дело в том, что именно в это время я впервые открыл для себя немецкую леволиберальную традицию. Профессор, ассистентом которого я в то время являлся, был социал-демократом, и мы с ним организовали большую выставку, посвященную забастовке горняков.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Вы имеете в виду ту старую донацистскую социал-демократическую традицию?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Да, а также традиции немецкого коммунизма, Розу Люксембург и пр. Все это было для меня ново, ведь я воспитывался в совершенно иной среде. Так что знакомство с немецким левым движением в лице бохумских студентов, стало важным событием в моей жизни. Хотя мне, признаться, никогда не нравилась ни подчеркнутая агрессивность этих левых, ни их преувеличенная самоидентификация, ни фракционизм. Поэтому я всегда старался, насколько позволяло мое положение профессорского ассистента, наладить диалог между радикально настроенными студентами и преподавателями.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Во время студенческих забастовок?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Да, у нас, ассистентов, было в то время много возможностей. Я вспоминаю одно студенческое собрание, которое состоялось весной 1968 года: его участники требовали, чтобы в университетском совете были в равной мере представлены преподаватели, аспиранты и студенты. Преподаватели, разумеется, были решительно против, ведь для них это означало развал традиционной университетской системы. Студенты, наоборот, заявляли, что трехсторонний совет – это еще минимальное требование. Я придерживался умеренной позиции, но эксперимент с трехсторонней системой казался мне вполне осуществимым. Поэтому, когда напряжение в зале сделалось невыносимым, я предложил создать специальную комиссию по реформам и с помощью нее утвердить трехсторонний совет: если преподавателям эксперимент покажется неудачным, они могут обратиться в комиссию, в противном случае она должна стать постоянно действующим органом. Предложение понравилось, и, не успел я оглянуться, как меня уже выбрали председателем этой комиссии. Так мы стали вторым после института Отто Зура в Берлине учебным заведением в Германии с трехсторонней системой управления.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: «Мы» – это Бохумский университет?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Да, и основную роль в этом сыграл исторический факультет. Я считаю трехстороннюю систему университетского управления нашим большим достижением, хотя теперь об этом мало кто помнит. Вся слава досталась Гейдельбергу, Франкфурту и Мюнхену, пожалуй, еще Бремену, а остальные университеты будто бы и вовсе не участвовали в событиях 1968 года. Но на самом деле это не так, более того, мне кажется, что толку от маленьких университетов в те времена было гораздо больше. Сейчас, к примеру, много говорят о связях рабочего и студенческого движения, а в нашем университете действительно были такие связи, мы даже устраивали совместные акции и ходили на общие демонстрации. Я был убежден, что, работая в этом направлении, мы могли бы принести гораздо больше реальной пользы: например, добиться долгожданных перемен в косном послевоенном обществе. Во всяком случае, подобная деятельность казалась мне гораздо более осмысленной, чем бесконечные и, признаться, довольно бессмысленные идеологические баталии тех лет. Впрочем, я по мере возможности старался в них не участвовать, и довольствовался скромной ролью посредника между разными идеологическими группировками. Надо сказать, что я был вполне признан в этой роли, и ко мне часто обращались лидеры самых разных студенческих групп. Пожалуй, среди радикалов наиболее разумными были троцкисты, они по крайней мере вызывали у меня больше симпатии, хотя сам я отнюдь не был левым.
Вообще, в нашем университете тогда многое изменилось. Например, в мои студенческие времена все носили галстуки и обращались друг к другу исключительно на «вы». А тут вдруг пропали и «вы», и галстуки, и отношения полов стали гораздо свободнее. В воздухе запахло переменами, и сама жизнь стала интересней и насыщенней. В 1968 году у меня родилась дочь. Моя первая жена училась в то время на юридическом факультете в Гейдельберге. Мы оба были убежденными социал-демократами, но она, в отличие от меня, происходила из вполне благополучной в идеологическом плане семьи: ее отец, хоть и не участвовал в Сопротивлении, но был убежденным антифашистом. Наш брак, увы, вскоре распался, и думаю, не последнюю роль в этом сыграло то, что она с маленьким ребенком на руках не могла да и не хотела участвовать в нашей лихорадочной университетской деятельности, я же, напротив, целыми днями пропадал на факультете, а по ночам садился за диссертацию, работа над которой у меня слишком затянулась.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Как вы считаете, почему сейчас все в один голос ругают поколение 68 года?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Видите ли, сам я довольно нетипичный представитель этого поколения. А в глазах большинства, поколение «ахтундзехцигер» – это сплошь радикально настроенные леваки-студенты, участники так называемых К-групп.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: То есть коммунистических фракций?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Да, причем по большей части маоистского толка. Ну и РАФ, разумеется. Вот вам типичные 60-е. Ведь младшее поколение представляет себе нашу жизнь только по рассказам, и нет ничего удивительного в том, что многое кажется им теперь абсурдным и смешным. Кроме того, их раздражает, что у поколения 1968 года было, на их взгляд, слишком много карьерных возможностей, так что по сравнению с ними мы оказались в привилегированном положении. Я, к примеру, защитил диссертацию, когда мне был 31 год, а уже через два года стал ординарным профессором.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Слишком быстро по теперешним временам.
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Не только по теперешним, но даже и по тем временам. Дело в том, что в силу изменившихся обстоятельств – открытия новых университетов и кафедр – мы оказались на профессорских должностях довольно рано, и, соответственно, занимали их гораздо дольше, чем принято в немецкой академической практике. Так что новому университетскому поколению пришлось в прямом смысле стоять в очереди за место на кафедре. Многих это злило, ведь они не без оснований считали себя гораздо образованней, а в нас видели оппортунистов, получивших свои должности только благодаря тогдашнему хаосу и неразберихе.
Такое отношение младшего поколения спровоцировало у старших чрезмерную рефлексию. Началось повальное увлечение методологией, которое в меньшей степени затронуло нас, историков, зато расцвело пышным цветом среди социологов и педагогов-теоретиков. Думаю, историки вообще не любят абстрактных рассуждений о методе. Во всяком случае по сравнению с другими нашими коллегами-гуманитариями мы несколько больше связаны с миром. Чего не скажешь, например, о социологах и литературоведах, которые в те времена писали довольно странные вещи – местами очень интересные, но страшно эзотерические.
Так что мода на разного рода методологические исследования была вызвана этим своеобразным конфликтом академических поколений, когда старшие делали карьеру слишком быстро, а младшие – слишком медленно. Отношения осложнялись еще и тем, что старшие, стоило им уйти на пенсию, стали немедленно вспоминать о страданиях, пережитых ими во время войны. Тут уж младшие не на шутку разозлились: конечно, сидели тут 30 лет, занимая наши места, а теперь еще и жалуются на трудное детство. Отчасти поэтому споры о страданиях немцев и особенно немецких детей во время войны приняли в нашей среде такой ожесточенный характер. Впрочем, как я уже говорил, мне все это глубоко чуждо. Дело в том, что я сознательно никогда не причислял себя к какой-либо группе, будь то социальной или политической. Даже в университете, когда был председателем комиссии по реформам, я всегда старался заниматься исключительно конкретными вопросами: такими, которые приходилось решать всем, независимо от партийной принадлежности и политических убеждений. При этом сам я никогда ни в одну из университетских группировок не вступал. Меня считают социал-демократом, однако в партии я никогда не состоял, хотя в профсоюзах участвовал. Впоследствии я даже возвел это в принцип: историк не должен быть партийным.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Верно ли утверждение, что именно ваше поколение впервые смогло дать верную оценку прошлому и таким образом способствовало его «проработке»?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Это важный вопрос. Пожалуй, да. Но эта «работа над прошлым» началась еще гораздо раньше. Когда я учился в гимназии, то восхищался героями Сопротивления: участниками группы «Белая роза» и заговора «20 июля».
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: А откуда вы о них узнали?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Главным образом из книг. Тогда печаталось довольно много литературы о Сопротивлении, в основном героического толка. Главная идея этих книг заключалась в том, что человек всегда может поступить по совести вне зависимости от своих политических убеждений. У меня сложилось ложное впечатление, что все участники заговора «20 июля» были борцами за демократию. Позже благодаря Моммзену я узнал, что на самом деле многие из них мечтали вовсе не о демократии, а об очередном авторитарном режиме, и что сами эти движения возникли не столько в силу политических причин, сколько как своего рода «бунт совести». Так, между прочим, называлась одна популярная в то время бесплатная брошюра о Сопротивлении. Кроме того, было еще издание под названием «Rothfels Sache» («Дело Ротфельза») – настольная книга всех интересующихся политикой школьников. Разумеется, мы читали и более серьезные сочинения, к примеру, два тома «Die Zerstörung der deutschen Politik» («Крах немецкой политики»), выпущенные Гарри Проссом, будущим главным редактором Radio Bremen, и Голо Манном; а еще изданную Вальтером Хофером подборку официальных нацистских документов, которая вышла в карманном формате в издательстве Fischer.
Вопреки бытующим мнениям, вытеснение нацистского прошлого в 50-е годы никогда не было вполне сознательным. Хочешь узнать правду, бери книгу и читай, вот только решиться на это было не так-то просто. Ведь все понимали, почему родители упорно молчат о том времени. В конечном счете их молчание только усугубляло наши подозрения, и скелеты мерещились нам в каждом родительском шкафу.
Так что мы, как могли, пытались разобраться с нацистским прошлым наших родителей, и важную роль при этом играли возникшие тогда независимые молодежные организации, такие, например, как наш городской совет школьных старост, где я некоторое время был ответственным за прессу, или школьная газета, где я тоже активно подвизался. В общем, все, как у больших. Но надо признать, что эти игры помогали отвлечься от унылой послевоенной действительности и в конечном счете способствовали пробуждению у нас гражданского сознания. Между прочим, я был одним из первых немцев, отправившихся в Израиль работать в кибуце. Это тоже было довольно характерно для моего поколения.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Как раз собиралась спросить, как и когда вы впервые узнали о холокосте?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Об Освенциме я узнал еще в детстве, но не мог толком представить себе ни масштабов, ни методов, которыми осуществлялось массовое уничтожение евреев.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: А откуда узнали? Из послевоенных фильмов?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Скорее из книг. Я, по-моему, уже упоминал вышедшую тогда большую подборку документов Третьего рейха. Кстати, я был в Израиле как раз во время процесса над Эйхманом. Тогда же в 1961 году познакомился со своей первой женой.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Вы вместе работали в кибуце?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Да, три недели мы провели в кибуце, а потом просто ездили по стране. У нее были знакомые в Тель-Авиве, владельцы небольшого издательства, как и она, родом из Бреслау. Дело в том, что родители моей жены, в отличие от моих, всегда поддерживали связь со своими эммигрировавшими еврейскими друзьями.
Тогда я как раз изучал теологию и, конечно, у нас был курс древнееврейского языка. Вообще, наша поездка задумывалась как своего рода паломничество, мы хотели лучше понять этот народ, столько переживший по нашей вине. Разумеется, в действительности все оказалось не совсем так, как мы себе представляли. Принимавшая нас дама из кибуца, светловолосая и голубоглазая, не только выглядела как типичный член Союза немецких девушек, но и рассуждала почти как они. Дело в том, что наш кибуц находился на так называемых охраняемых территориях, т. е. палестинцы жили там под полным военным контролем израильтян. Все это, мягко говоря, не соответствовало нашему, совершенно идеализированному представлению о евреях и Израиле. Кроме того, местные палестинцы казались нам более экзотичными, чем израильтяне. Так что мы часто наведывались в их весьма живописные маленькие поселения, и один раз даже получили приглашение на свадьбу. К большому неудовольствию наших кибуцников, которые все спрашивали, зачем эти немцы ходят к палестинцам.
Но, несмотря на все разочарования, это была первая и, возможно, единственная в моей жизни настоящая образовательная поездка. Потом, правда, я получил очень престижную стипендию и решил на эти деньги съездить в Польшу. В те времена в Восточную Европу никто особенно не ездил. А мы собрали группу студентов с разных факультетов и отправились в Польшу. Принимал нас один польский врач, который организовал нам небольшой тур по стране. Наше путешествие длилось две или три недели; мы побывали в Варшаве, Познани и, конечно, Освенциме.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Когда это было? В середине 60-х?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: В 63-м или 64-м, точно не помню.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: А почему вы решили изучать теологию?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Сам не знаю. Ведь я никогда не хотел быть пастором. Должно быть, все дело в моей тетушке, которая была, как я уже говорил, ревностной католичкой, но отнюдь не святошей, а, напротив, женщиной трезвой и прекрасно образованной. Два раза в жизни она даже позволила себе влюбиться: один раз в своего научного руководителя, впрочем, он оказался женат, а другой (чтобы уж наверняка ничего не получилось) – в аббата. Помню, как она в детстве таскала меня по католическим монастырям. Но зато благодаря этому у меня возник живой интерес к религии.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Любопытно, что именно к религии, а не философии.
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Вообще-то я в юности хотел стать журналистом. Я тогда был председателем молодежного пресс-клуба, редактировал школьную газету и даже писал тексты для радиопередач. Кстати, во время учебы это был мой главный заработок, потому что я нарочно не хотел, чтобы отец оплачивал мое образование, хотя он, конечно, не стал бы возражать, тем более что вполне мог позволить себе такие траты. В результате этой деятельности я завел множество знакомств среди журналистов, и все они в один голос говорили мне: не поступай на журналистику, там тебя все равно ничему не научат. Лучше получи какое-нибудь солидное образование и занимайся тем, что тебе интересно, а в журналисты переквалифицироваться всегда успеешь. Вот я и решил выбрать самую непрактичную из всех возможных дисциплин – теологию. Потому что, во-первых, меня действительно интересовала религия, а во-вторых, я твердо решил заняться чем-нибудь гуманитарным. Как ни странно, отчасти в силу своей природной застенчивости и неуверенности в себе. Будь я на три года младше, непременно стал бы психологом. Но тогда я пытался излечиться от мучивших меня комплексов посредством теологии. Возможно, все дело в моей неспортивности, но в подростковом возрасте я казался себе недостаточно мужественным. Так что работа в газете и школьном совете оказались как нельзя кстати, потому что и то, и другое помогало справиться со стеснительностью.
Таким образом, несмотря на увлечение журналистикой, я все же решил изучать теологию, причем не как сопутствующую дисциплину, а в полном объеме со всеми мертвыми языками. Для этого мне пришлось за год до поступления записаться на курсы древнегреческого и древнееврейского языков, вместе со мной эти курсы посещали начинающие пасторы – публика совершенно для меня чуждая, поскольку священником становиться я уж точно не собирался. Однако сами занятия доставляли мне большое удовольствие, особенно древнееврейский, хотя учили мы его тогда не лучше, чем теперешние студенты латынь. Что, впрочем, не помешало мне засесть за собственный перевод одной из библейских книг – получилось нечто экзальтированное в духе Мартина Бубера, которым я тогда страшно увлекался. Все это – и занятия библеистикой, и поездка в Израиль – несомненно, было следствием моих идеализированных представлений о еврейском народе.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Не было ли это еще и неосознанным или, наоборот, совершенно осознанным отказом от родительских ценностей?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Разумеется. Только я отказался от них еще гораздо раньше.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Когда начали изучать теологию?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Да, и древнееврейский. Меня он завораживал своей непохожестью на европейские языки, странной грамматикой и тем, что читать нужно справа налево. Мне хотелось лучше узнать эту экзотическую для нас культуру, вот я и отправился в Израиль, хотя в те времена немцы старались туда не соваться. Конечно, представления у меня были, как я уже говорил, совершенно идеализированные…
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Это была своего рода идеализация жертв?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: До некоторой степени. Кроме того, во время учебы в Гейдельберге я занимался главным образом Ветхим Заветом, а еще читал Мишну и Талмуд с одним польским раввином, но это скорее для развлечения… Так что пока будущие пасторы штудировали Новый Завет, я быстро сдал все положенные экзамены и спокойно ходил на занятия к древникам. Среди них был один особенно яркий и харизматичный профессор, Герхард фон Рад, кстати, именно он в свое время выдвинул меня на стипендию Фонда содействия образованию. Как видите, даже из занятий теологией и Ветхим Заветом можно было извлечь вполне ощутимую выгоду. Больше того, когда я еще ходил на курсы, мне неожиданно прислали повестку и к полному моему ужасу признали годным к военной службе. Армии я, конечно, боялся как огня. В принципе меня должны были призвать немедленно, но не призвали. А потом случилось чудо. В качестве сделанной для церкви уступки, активно протестовавшей против политики вооружения, всех теологов неожиданно объявили невоеннообязанными, хотя это решение было, по-моему, не вполне обосновано с законодательной точки зрения.
Я вовсе не хочу сказать, что выбрал теологию только для того, чтобы получить освобождение от армии (все-таки к тому моменту я уже год изучал древние языки), однако подобная перспектива не могла меня не радовать, хотя я отлично понимал, что получил отсрочку незаслуженно, поскольку никогда не собирался становиться священником. Одним словом, теологией я занялся из чистого любопытства, но был не прочь получить от этого хоть какую-то практическую выгоду.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Так как же вы все-таки стали историком?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Вначале я занимался и тем, и другим, т. е. я прослушал полный курс на теологическом факультете, а, кроме того, еще несколько дополнительных курсов по истории Средних веков и Нового времени. Древней историей я не занимался, поскольку считал, что мне вполне достаточно Ветхого Завета. Потом я как-то незаметно для себя увлекся Новейшей историей и довольно быстро примкнул к исследовательской группе Конце – его вообще-то считают нацистом, но тогда он совершенно не производил такого впечатления. Он скорее был похож на прусского штабного офицера умеренно националистических взглядов. Ведь у нас в то время было такое же ложное представление о нацистах, как и о евреях. Последние виделись нам чересчур идеальными, а первые все сплошь походили на демонических персонажей фон Штрогейма из американских фильмов. Именно поэтому немецкие студенты так восхищались Карлом Шмиттом, еще бы: мягкий, либеральный, прекрасно образованный, он совершенно не соответствовал нашим представлениям о нацистах. Так что до некоторой степени все мы жили в плену иллюзий.
Я тогда написал работу о книге Иова, это был, как сейчас помню, литературоведческий анализ ее последних глав. За эту работу меня и выдвинули на стипендию. Причем собеседование проводил сам Юрген Хабермас.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Он лично вас интервьюировал?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Он и еще один профессор. На основании этого собеседования они должны были дать мне характеристику. Кажется, в ней было написано, что студент я способный, но недостаточно мотивированный (не смог объяснить, почему, собственно, я занимаюсь теологией). Мне отказали, и я решил уйти. В общей сложности я проучился на теологическом факультете семь семестров, не считая двух, проведенных на языковых курсах. В том же году я поступил младшим ассистентом к профессору Конце. Вокруг него собиралась чрезвычайно любопытная компания ученых-историков, в которую я вполне успешно влился.
Помимо неудачи со стипендией, была еще одна причина, заставившая меня отказаться от теологии. Дело в том, что первая, так называемая экзегетическая, часть курса посвящена древней истории, истории церкви и собственно экзегезе, т. е. толкованию текстов. Всем этим я с удовольствием занимался. А вторая посвящена педагогике, которой я не особенно интересовался, и догматической теологии, которая мне не нравилась. Помню, нам ее читал Эдмунд Шлинк, отец известного современного писателя, своим резким фальцетом и общей манерой он был чрезвычайно похож на гедеэровского преподавателя марксизма-ленинизма. Одним словом, благодаря нашим гейдельбергским догматикам я сразу почувствовал неприязнь к этой дисциплине, и перспектива сдавать по ней изнурительный государственный экзамен мне совершенно не улыбалась. К счастью, я еще раньше начал готовить себе пути к отступлению: помимо занятий историей я посещал лекции по социологии, политологии и государственному праву.
Впрочем, о годах, проведенных на теологическом факультете, я никогда не жалел, более того, именно теология научила меня внимательному чтению. Можно сказать, я к каждому тексту отношусь, как к Священному Писанию: подмечаю малейшие детали, а затем, как истинный протестант, подвергаю их скрупулезному критическому анализу.
Что же касается социологии, то многие мои коллеги-историки по привычке заходят в нее как в лавку готового теоретического платья, а мне она открыла новый научный мир, причем во всех смыслах: ведь большинство моих друзей занималось именно социальными науками. Думаю, я увлекся устной историей именно потому, что в ней присутствуют оба этих важных для меня элемента – социологический и экзегетический.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: К устной истории мы еще вернемся, но я хотела спросить вас вот о чем: насколько я поняла, среди ваших учителей и университетского окружения было много старых нацистов. Скажите, как сами они относились к своему прошлому? Раскаивались ли, признавали ли ошибки?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Трудный вопрос. Например, я целый семестр ходил на лекции к старику Шидеру и ни за что бы не сказал, что он или мой бывший шеф Конце имели хоть какое-то отношение к нацистскому режиму. Их прошлое всплыло только в конце 60-х годов, к тому моменту оба они занимали высокие посты в университетах Кельна и Гейдельберга. Кстати, они ведь были учениками Ротфельза, который, несмотря на свое еврейское происхождение, был в то время националистом и консерватором. В 1933 году ему, разумеется, пришлось эмигрировать, и вернулся он уже ярым антифашистом, ратовавшим за восстановление исторической справедливости и признание немцами своей вины. Он даже был одним из основателей Института современной истории. В общем, связь Конца и Шидера с Ротфельзом служила им своего рода индульгенцией; лучшей рекомендации и представить себе было невозможно. Мы и вообразить не могли, что ученики этого знаменитого либерала-просветителя были нацистами. К тому же, как я уже говорил, ни Шидер, ни Конце не соответствовали расхожему представлению об идеологах фашизма. Вот, к примеру, Шидер; родом он был из Баварии, держался всегда подчеркнуто сдержанно, чем сразу внушал к себе уважение. Про таких обычно говорят: «где сядет, там и глава стола», но при этом он совершенно не казался нам человеком авторитарным, даже напротив, скорее выглядел мягким и либеральным. Одним словом, вы бы в жизни не заподозрили в нем скрытого нациста. Умом-то я понимал, что Шидер и ему подобные несут полную ответственность за все преступления режима, ведь именно они подготовили идеологическую почву для холокоста, но внешне они мало походили на преступников или, вернее, на тот образ нацистского преступника, который сложился у нас в головах. Как и в случае с той еврейской активисткой из кибуца, выдуманный образ решительно не соответствовал реальности. Приведу еще один пример: среди гейдельбергских социологов был кружок так называемых шмиттианцев, т. е. поклонников того самого Карла Шмитта, который в нацистские времена играл в университете довольно скверную роль. Спустя 20 лет я записался к одному из этих шмиттианцев на семинар и передо мной предстал скромный, высокообразованный и либерально настроенный немецкий профессор. Не удивительно, что мы, студенты, пребывали в полнейшем замешательстве. Не случайно первую свою книгу я посвятил радикальным политическим движениям (тогда как раз только что образовалась НДПГ). Сначала я написал большую статью о радикализме, которая попала в руки одному из сотрудников издательства Fischer, после чего мне предложили написать целую монографию. И я охотно согласился, хотя ради этого мне пришлось прервать работу над диссертацией. Дело в том, что книга о радикализме, особенно о «правом» радикализме, оказалась в тот момент неожиданно актуальной. Ведь в 50-е мы думали, что с фашизмом покончено навсегда, а тут вдруг НДПГ получила 10 % на выборах в земельные ландтаги.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: В каком году это было?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Работать над книгой я начал где-то в 1968–1969-м.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: А как вы объясняли себе тот факт, что в 30-е годы эти культурные и образованные люди увлеклись нацистскими идеями?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Этого я никак не мог понять. Тогда даже в нашем маленьком университетском мирке все казалось слишком запутанным.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Так вам удалось найти ответ на этот вопрос?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Думаю, я искал его всю жизнь. Во всяком случае обе мои главные книги «Постистория» (1989) и «Коллективная идентичность» (2000) именно об этом: об отношениях интеллектуалов и власти, о психологическом механизме приспособленчества и тому подобных вещах. Так я пытался осмыслить и свой собственный юношеский опыт. Но чтобы понять, как могла наша интеллектуальная элита поддаться нацистскому соблазну, надо и для себя допустить такую возможность. В этом смысле я менее категоричен в своих моральных оценках, чем некоторые мои коллеги-философы, пишущие на ту же тему. У меня дурные человеческие импульсы вызывают любопытство, они же считают их не заслуживающей внимания моральной девиацией, исследование которой все равно не приведет ни к чему хорошему.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: У вас необычайно широкий круг научных интересов, разнообразие тем, которыми вы занимались, просто поразительно. Мне кажется, такое нежелание останавливаться на каком-то одном историческом сюжете чрезвычайно характерно для историков вашего поколения. Например, как случилось, что вы занялись устной историей?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: На то было много причин. Однажды к нам приехал один американский знакомый-историк. У себя в Америке он участвовал в одном исследовательском проекте – брал интервью у ветеранов американской политики. Он настойчиво советовал нам сделать то же самое в Германии – взять интервью у отцов-основателей немецкой демократии.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Это было в начале 70- х?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: То ли в 75-м, то ли в 74-м, точно не помню. Я тогда занимался довольно узкой темой – вопросами жилья для рабочих в Англии, Франции и Германии. У меня уже были собраны основные материалы, когда я вдруг решил все бросить. В то время я как раз стал профессором и чувствовал, что на новую большую тему у меня не хватит сил. Кроме того, после более близкого знакомства с рабочим движением я понял, что все это левое теоретизирование хоть и увлекательно само по себе, но имеет мало отношения к действительности. К тому же многие требования, которые наши леваки-студенты выдвигали в 1968-м, так и остались требованиями на бумаге. Потому, между прочим, что основывались они на политических теориях семидесятилетней давности, которые, на мой взгляд, давно нуждались в проверке реальностью. И тогда, вместо того чтобы спокойно сесть за докторскую, как это сделали многие мои коллеги, я отправился на два месяца в Америку, где объехал все центры устной истории.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Американцы были пионерами в этой области?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Думаю, да. В Америке я первым делом отправился в библиотеку Колумбийского университета, директором которой впоследствии стал известный американский профессор Рон Грил, учредитель одного из самых престижных тамошних институтов устной истории. Тогда основная работа в этой области велась при так называемых президентских библиотеках. После визита в Колумбийский университет я отправился в путешествие по всей стране и объездил ее вдоль и поперек, а по возвращении написал большую статью об устной истории в Америке. В статье говорилось, в частности, что оral history — очень интересное и продуктивное направление в исторической науке, но американцы, во-первых, слишком доверчиво относятся к устным свидетельствам, а во-вторых, опрашивают почти исключительно людей знаменитых, причем с явной целью соорудить из этих интервью мемуары. Я же, напротив, был убежден, что самые лучшие свидетели – как раз те, чьи голоса не слышны: жертвы репрессий, рабочие, крестьяне, деревенские жители и др. Однако и к их рассказам следовало относиться как к любому другому историческому источнику, т. е. предельно критически, ведь человеческая память несовершенна и к тому же избирательна. Вообще, на мой взгляд, проблема памяти в контексте оral history заслуживает отдельного изучения, чем американцы в то время вовсе не занимались. Наконец (и это особенно актуально в странах, переживших диктатуру) интервью следовало проводить так, чтобы все сказанное опрашиваемым можно было использовать против него, т. е. чтобы логические несоответствия в его рассказе были легко обнаруживаемы исследователем. И, разумеется, всякое интервью, вне зависимости от того, что конкретно вас интересует, непременно должно начинаться с биографии. И хотя у американских и английских коллег не было такой практики, мне самому это казалось крайне важным, особенно когда речь шла о новейшей европейской истории. Я в свое время написал 1300-страничную диссертацию о том, как проходила денацификация в Германии, и не понаслышке знаю, как можно незаметно подкорректировать собственную биографию. Для этой и еще одной работы об антифашистском движении мне пришлось взять множество интервью у разных немецких политических деятелей, кстати, пользовался я при этом не магнитофонными записями и расшифровками, а по старинке блокнотом. Признаться, эти интервью оказались сплошным разочарованием: столь сильна у наших политиков привычка ко лжи, что добиться от них правдивого рассказа было решительно невозможно. Поэтому я считаю интервью с политиками пустой тратой времени, лучше опрашивать тех, кто никогда не напишет мемуары.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Скажите, вы одновременно занимались и практической, и теоретической работой? То есть брали интервью и исследовали механизмы исторической памяти?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Я с самого начала понимал, что для устной истории нужна теоретическая база. Вначале мы выработали некоторую пробную стратегию и придерживались ее, двигаясь, так сказать, на ощупь. Постепенно в процессе интервьюирования у меня начало складываться некоторое представление о том, что такое память и как она функционирует. В какой-то мере мы могли опираться на работы Хальбвакса. В науке он был для меня как старший брат: стоило мне заинтересоваться какой-то темой, как тут же оказывалось, что он уже об этом писал. Но все-таки главные выводы я сделал самостоятельно, на основании собранных мною устных свидетельств. Первый мой большой проект по устной истории был посвящен рабочему движению в Рурской области. Вообще в 1970-е годы царило повальное увлечение рабочим движением.
У нас сложилась следующая картина: вначале наибольшее влияние в Руре имели коммунисты, католики и социал-демократы, потом в нацистские времена все было глухо, а после снова возродились социал-демократы. Прежде всего нас интересовало, что происходило там в темные времена нацизма. Передо мной стояла следующая научная задача: как можно сделать субъективный опыт предметом объективного исследования. У нас были противники из самых разных лагерей. Одни утверждали, что рабочие, которыми мы занимались, вообще не заслуживают внимания как социальный слой, так как в политике все решают элиты. Другие, в основном наши левые коллеги, напротив, считали, что все, включая личный опыт индивидуума, определяется только производственными отношениями. Но мне такие рассуждения казались чересчур абстрактными и далекими от реальности. Третьи же возражали против самого понятия «индивидуальный опыт», так как, по их мнению, все поступки и желания человека формируются под влиянием исторических событий, а не наоборот. Сартр, к примеру, писал в 1950-е годы, что ключевой проблемой экзистенциализма является вопрос о том, что делает человек с тем, что из него делает история. Я обнаружил эту цитату довольно поздно, хотя мода на экзистенциализм началась, когда я был еще школьником. Его теоретики были нашими кумирами, правда, скорее Камю, чем Сартр.
Перед тем как стать профессором, я год прожил в Англии, участвовал в проекте под названием History Workshop. Там я познакомился с историком Полом Томпсоном, так зародилось научное направление, которое потом получило название Erfahrungsgeschichte [история опыта]. В рамках этого направления мы изучали различные социальные группы за исключением правящих элит, используя при этом субъективный подход. Субъективность в данном случае рассматривается не просто как абстрактное понятие или продукт некоторых общественных отношений, а как процесс, который развивается под влиянием внешних исторических обстоятельств и который таким образом можно исследовать шаг за шагом.
Потом уже в Германии мы создали исследовательскую группу и написали большую книгу об антифашистском движении. Характерно, что в школьные и студенческие годы я всегда был одиночкой, а в 70-е мы все вдруг принялись работать в группах. Вместо отдельного маленького «я» появились «мы», объединенные не политическими, а исследовательскими интересами. Тогда вообще была мода на коллективную работу, но во многих случаях из нее либо вовсе ничего не получалось, либо получалась ерунда. Потому что участники таких коллективов, как правило, заранее знали ответы на вопросы, поставленные в их так называемых исследованиях. А наша группа, состоявшая главным образом из историков, занималась реальным научным поиском. В первом нашем большом проекте по устной истории участвовало восемь человек. Каждую неделю мы собирались и анализировали собранные интервью, так как главным для нас была работа с источниками.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: То есть самым важным для вас была именно интерпретация устных свидетельств, а не их механическое собирание? Ведь в 70-е появилось множество проектов, участники которых собирали интервью и публиковали их в сыром неоткомментированном виде. Что, по-моему, не шло на пользу науке.
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Вы правы. Тогда действительно было множество разных проектов и исследовательских групп, с некоторыми из них мы периодически сотрудничали. Основных тенденций было две. Первая, наиболее плодотворная, возникла как своего рода демократический импульс в исторической науке: отныне история должна была писаться «снизу», основываясь на свидетельствах обычных людей; а вторая, спорная, с моей точки зрения, тенденция, заключалась в формуле «давайте поможем народу обрести язык» (как говорили тогда во Франции). Это означало, что задача историка – именно собирать и публиковать, а не интерпретировать источники. Но мне такая установка кажется ошибочной, ведь устная история не обслуживает народ или какие-то отдельные социальные группы, а исследует то, что с ними произошло, обращаясь при этом не к одному большому связному нарративу, а к разрозненным воспоминаниям и впечатлениям, к тем причинно-следственным связям, которые возникают в головах у исторических свидетелей. Но помимо этих так называемых малых нарративов, важную роль для изучения механизмов памяти могут играть вещи на первый взгляд незначительные: память на запах, например (помните, как это описано у Пруста?), или память тела, когда рабочий 20 лет спустя может во время интервью в точности воспроизвести все движения, которые он делал, работая на своем станке.
Таким образом, для устной истории важны две вещи: во-первых, всегда надо иметь в виду, что человеческая память разнообразна и необычайно сложно устроена. А во-вторых, вступать в коммуникацию с носителем этой памяти, так как именно коммуникация стимулирует процесс воспоминания. Поэтому я считаю неправильным выдавать свидетельства, полученные в результате интервью, за непреложный исторический факт. Я убежден, что многие исследования зашли в тупик именно из-за этой ошибочной установки.
Важным препятствием для исследователя могут стать его собственные предвзятые мнения. Как это было у меня с моими профессорами, бывшими нацистами. Иногда у интервьюера даже возникает личная симпатия к респонденту, несмотря на отрицательное отношение к его взглядам. Вообще же, всякий опыт непосредственного общения с интервьюируемым потенциально может привести к тому, что мы в нашем проекте называли «эффектом разрушения стереотипа». Если эффект повторяется в нескольких интервью, значит вы на правильном пути и возникающая перед вами картина убедительна. Поэтому мы предпочитали задавать вопросы, требовавшие конкретных ответов, например: где вы были 17 июня 1953 года? Или как выглядел первый оккупационный солдат, которого вы увидели в 1945-м? Таким образом мы могли работать с множеством различных данных, полученных посредством разных каналов восприятия, а заодно исследовать его механизмы. Мне кажется, это и есть самое интересное в нашей работе наряду с изучением биографии на фоне исторических событий. Например, во время нашего первого исследования мы взяли интервью у одной женщины из католической рабочей семьи; во время войны она командовала прожекторным батальоном, не раз оказывалась под бомбежками и вообще пережила бог знает что. Но вела себя очень мужественно и даже получила офицерское звание. А после войны вдруг стала пацифисткой, социал-демократкой и членом производственных советов. Парадоксальным образом получается, что пережитое ею во времена нацизма стало своего рода подготовкой к ее будущей антифашистской деятельности. Нас как исследователей тогда особенно поразила эта способность людей даже в такие страшные времена и при таких режимах собираться с духом и менять собственные убеждения. Помню, как мы неделями сидели у себя в Эссене, разбирали это интервью и спорили. Оказалось, мы с самого начала исходили из не вполне верного представления о том, что такие люди, как наша собеседница, должны были быть гораздо более убежденными носителями идеологии, а тут мы увидели, что в их сознании могли умещаться самые разные вещи. То есть идеология, конечно, оказывала свое влияние, но был ведь еще и конкретный жизненный опыт.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: В конце 80-х, т. е. накануне падения стены, вы осуществляли большой проект, посвященный ГДР. Удалось ли вам в ходе этих исследований лучше понять психологию восточных немцев? Ведь после объединения оказалось, что жители обеих Германий имели друг о друге очень слабое представление. И это незнание и непонимание друг друга иной раз приводило к печальным последствиям.
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Мы взялись за этот проект по двум причинам: во-первых, нас интересовало, каким образом люди с общим прошлым приспосабливались к совершенно разным политическим системам – западногерманской демократии и гедеэровскому так называемому социализму. Ведь у себя в Западной Германии мы уже имели возможность наблюдать, как сознание, сформировавшееся во многом под влиянием нацизма, постепенно трансформируется в новых демократических структурах; и мы хотели понять, каким образом носители того же самого нацистского опыта приспосабливаются к совершенно иному политическому режиму. Я удивляюсь, что мои старшие западногерманские коллеги, т. е. те, кто еще был в гитлерюгенде (их в Германии называют «поколением Flakhelfer»), тычут пальцами в своих восточногерманских сверстников и говорят, что они все, как один, вступили в ГДР в Союз свободной немецкой молодежи, а вот мы на Западе всегда критически относились к власти. Как будто в ГДР все были трусами и приспособленцами. Занимаясь устной историей, я пришел к выводу, что это совершенно не справедливо. Например, для одного доклада мне пришлось исследовать биографии некоторых западногерманских ученых-социологов, которые родились в 20-е годы. Все они писали о том, что в студенческие времена, т. е. после 1945 года, Америка и американский опыт демократии оказали на них огромное влияние. Выходит, что своим свободомыслием, которое они ставили в пример восточногерманским коллегам, они во многом обязаны американцам. Ведь в то время все искали для себя новые ориентиры и ценности: у западных немцев была Америка, а у восточных – совсем другой, так сказать, худший образец. Все это я начал осознавать как раз благодаря нашему проекту по устной истории.
А вторая причина, почему я взялся за этот проект, заключалась в том, что нам – и в этом характерная черта моего поколения – до всего было дело. Нас волновала судьба Израиля и участь ГДР, Восточная Европа и события в Праге. Вообще, горизонты нашей личной ответственности были в те времена гораздо шире, чем у сегодняшних молодых.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: А как вы относились к ГДР?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Для меня ГДР была совершенная terra incognita, поскольку ни родственников, ни друзей у меня там не было. А что касается режима, то мне, человеку либеральных убеждений, он был столь же несимпатичен, как и все его авторитарные собратья. Несмотря на это, я несколько раз побывал в ГДР, например, в 1984 году, когда меня пригласили на конференцию по антифашизму (тогда они впервые стали приглашать западных немцев на подобные мероприятия). На этой конференции я познакомился с одним известным гедеэровским историком, и мы, выпив несколько лишних рюмок, решили организовать совместную исследовательскую группу. Это был новый для меня опыт, поскольку в ГДР я увидел явное несоответствие между «формой и содержанием», между унылым авторитарным режимом и живыми, интересными людьми. Однако, когда мы закончили наш восточногерманский проект, ГДР благополучно рухнула, и западное общество потребовало от восточных немцев, чтобы те как могли приспосабливались к новой ситуации. Таким образом, с исчезновением ГДР у нас практически не осталось материала для исследования, а в прежние времена нам было интересно наблюдать, как восточные немцы взаимодействуют с режимом. К примеру, у тамошней интеллигенции со временем выработался особый коммуникативный код и особая стратегия, как высказать свое мнение, не переходя при этом опасной черты. Кстати, с точки зрения социолингвистики это тоже было весьма интересно. Но с крушением ГДР мы лишились возможности наблюдать подобные явления. Возвращаясь к вашему вопросу, могу сказать, что ГДР вызывала у меня в первую очередь живейшее любопытство.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Похоже, в устной истории любопытство играет совершенно особую роль?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Да, в этом я глубоко убежден. Причем парадоксальным образом: чем меньше знаешь о будущем предмете своего исследования, тем интереснее работать. Например, – сейчас я несколько утрирую, но все же, – я совершенно не представлял себе рабочее движение и рабочую среду до того, как занялся этой темой. То же самое было и с ГДР. Дело в том, что в устной истории всегда присутствует некая этнографическая компонента, интерес к «неисследованным народам», только в нашем случае «неисследованные народы» – это те самые молчащие социальные группы, о которых я говорил выше. Между прочим, в нашем первом проекте этнология играла довольно значительную роль. Мы контактировали тогда с группой швейцарских этнопсихологов во главе с Марио Эрдхаймом и многому у них научились.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Не кажется ли вам, что многие студенты, занимающиеся устной историей, считают интервью самой легкой частью исследования, и часто путают его то с соцопросом, то с обычным журналистским интервью. Насколько мне известно, именно благодаря вашим исследованиям стало очевидно, что устное свидетельство само по себе не может являться историческим источником, а делается таковым только в результате всестороннего анализа, в том числе психологического, поскольку речь идет о человеческой памяти.
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Видите ли, устная история – это как раз та область, где должны взаимодействовать различные гуманитарные дисциплины. Мода на междисциплинарные исследования возникла еще в 70- е годы, когда границы между разными гуманитарными науками перестали быть такими четкими. Это было связано еще и с тем, что все устали от абстрактного, далекого от реальности теоретизирования и что традиционная социология, да и вообще большинство гуманитарных дисциплин, находились тогда в глубоком кризисе. Вот мы и решили, что надо по мере сил объединяться и у каждого брать что-то ценное: у лингвистов, у тех же социологов, да у кого угодно. Кстати, социологи, в свою очередь, тоже кое-чем обязаны историкам: именно благодаря нам они пересмотрели некоторые свои взгляды, к примеру, на традиционный соцопрос; заново открыли так называемый качественный (в противоположность количественному) метод в социологии, тогда же возникла и объективная герменевтика. Вообще в то время было много новых идей. Впрочем, в 1980–1990-е возникла обратная тенденция, и мы снова «окуклились» каждый в своей области. Сейчас университеты пытаются возродить междисциплинарные исследования, главным образом за счет искусственного стимулирования.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: А раньше в этом не было необходимости?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Нет, раньше мы занимались этим просто из интереса.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Тогда устная история как раз была новинкой. Возникло множество новых теорий, которые пытались создать некую общую схему функционирования человеческой памяти. Вы активно полемизировали с ними в ваших книгах «Постистория» и «Коллективная идентичность». А как вообще возник замысел написать «Постисторию»?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Я обратил внимание, что среди моих коллег-социологов «постистория», иначе говоря «конец истории», – это весьма распространенный диагноз, который ставили западному обществу. Выходит, мы, историки, каким-то образом прозевали гибель собственного предмета. Меня всегда занимали такого рода наивные суждения, и я решил выяснить, откуда, собственно, взялся сам термин «постистория». Оказалось, что существуют «правый» и «левый» варианты этой странной теории и что в 1980-е представители обоих направлений принялись активно друг на друга ссылаться. А тут еще возник Фукуяма, так что эта тема сразу стала чрезвычайно популярна в Америке (впрочем, моя книга вышла еще до того). В «Постистории» я сделал одно важное наблюдение: в основном эту теорию исповедуют интеллектуалы посттоталитарной эпохи, причем речь идет о фигурах весьма значительных, вроде Александра Кожева, Хендрика де Мана, Арнольда Гелена и Эрнста Юнгера. Все они так или иначе увлекались тоталитарными идеями, но когда тоталитарные режимы прекратили свое существование и выяснилось, что эти идеи были ошибочны, они не пожелали признать своего поражения и отказаться от роли властителей дум. Поэтому им пришлось заявить, что рухнули не только отдельные диктатуры, но и вообще вся европейская история.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Проще говоря, если они ошиблись в данном конкретном случае, то значит истории не существует как таковой?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Суть в том, что они не хотели признать своих ошибок и винили во всем внешние обстоятельства. Однако, с моей точки зрения, даже в теории «постистории» есть кое-что любопытное. Я вообще считаю, что и от заблуждения может быть польза, если понимать, на чем оно основано. Вот, я всю свою жизнь вел полемику с Карлом Шмиттом. Кстати, отличный пример того, как можно восхищаться человеком, совершенно ему не симпатизируя. Шмитт, между прочим, не только на немцев, но и на американцев и итальянцев производил сильное впечатление. Меня же всегда интересовала природа этого гипнотического эффекта. Но чтобы понять эту природу, недостаточно просто здравого смысла или отвлеченной теории, тут необходим конкретный биографический подход, который лежит в основе устной истории. То есть методы, которые мы развили, изучая биографии представителей самых разных слоев населения, применимы и к интеллектуальной элите.
Что касается моей книги «Коллективная идентичность», то она, как и ее предшественница, представляет собой нечто вроде истории заблуждения. Дело в том, что в какой-то момент термин «коллективная идентичность» стал необычайно популярным (особенно в Америке и недавно объединившейся Германии), причем каждый понимал его по-своему, но всем он казался чрезвычайно содержательным. В Америке им охотно пользовались всевозможные маргиналы, сторонники так называемой identity politics [политики идентичности], а в многочисленных статьях о collective identity [коллективной идентичности] этот термин употреблялся почти исключительно как эвфемизм, т. е. вместо «национализм» говорили «коллективная идентичность». Чтобы понять, откуда взялось и само понятие, и связанные с ним представления, необходимо было проследить его историю. Этот термин возник где-то между 1916 и 1932 годами, тогда о «коллективной идентичности» этнических или религиозных групп писали Лукач, Шмитт и Фрейд с Юнгом, а кроме того Хальбвакс и Олдос Хаксли. Причем под «этнической группой» обычно подразумевались евреи. Одни утверждали, что коллективную идентичность надо скрывать, другие, что с ней надо бороться. Вообще же, в науке того времени не существовало никакой самостоятельной теории «коллективной идентичности», – только термин. Но у всех было ощущение, что за ним скрывается нечто важное, чего нельзя сказать прямо. У меня сложилось впечатление, что коллективная идентичность – это такой научный фиговый лист. И поскольку каждый понимает этот термин по-своему, наладить с его помощью научную коммуникацию решительно невозможно. Об этом я и писал в своей книге.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Давайте теперь снова вернемся к устной истории. Как вам кажется, какое влияние оказывают на нее современные технологии. Я имею в виду, что в наши дни благодаря распространению Интернета тех самых «молчащих групп», о которых вы говорили и которыми занимается устная история, остается все меньше. Ведь теперь практически каждый имеет возможность публично высказаться, например, в собственном блоге. И если речь идет о свидетеле эпохи…
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Видите ли, я считаю, что его вообще не существует, этого так называемого свидетеля.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Мой следующий вопрос как раз об этом. Дело в том, что в России мы наблюдаем настоящую катастрофу памяти: люди стараются вытеснить все трагические воспоминания о советском прошлом. Иногда кажется, что усилия наших историков и публицистов по сохранению памяти о терроре и репрессиях пошли прахом. Некоторые даже утверждают, что нежелание помнить прошлое – это свойство русского менталитета. Очевидно, что при таком состоянии коллективной памяти любые свидетельства очевидцев приобретают особую значимость. Что вы об этом думаете?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Я считаю само понятие «свидетель эпохи» фикцией, ну, или по крайней мере искусственной конструкцией, порожденной немецкой наукой. То же касается и термина «Zeitgeschichte», который невозможно точно перевести ни на один из известных мне языков. Не знаю, правда, насчет русского.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: По-русски тоже не существует точного эквивалента.
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Думаю, это не случайно. С моей точки зрения, бывают интересные биографии и бывают свидетели разных исторических событий, но только не эпохи как таковой. Ведь эпоха есть не что иное, как время, а время – это континуум. Так вот, можно быть очевидцем лишь определенного (очень небольшого) отрезка времени. Мне термин «свидетель эпохи» не нравится еще и потому, что в Германии он имеет совершенно конкретный идеологический смысл: им, как правило, обозначаются жертвы холокоста, причем подразумевается, что они стали свидетелями событий столь немыслимых, что мы должны, не задавая вопросов, молча выслушать их рассказы. Они свидетели эпохи в том смысле, что на их долю выпало пережить самые главные и страшные ее события. Однако это не значит, что мы не имеем права задавать им вопросы: что именно они видели? Как восприняли увиденное? Как осмысляют свой опыт? Скажу больше, я даже одно время имел предубеждение против таких «привилегированных» свидетелей (жертв ГУЛАГа и Освенцима, остарбайтеров и др.), но опыт работы с источниками, т. е. с расшифровками интервью, показал, что многие из них вполне заслуживают доверия, правда, конечно, отнюдь не все. Кроме того, интересные для историка биографии встречаются и у самых обычных, ничем не примечательных людей. Ведь массы в конечном счете складываются из индивидуумов, которым есть, что рассказать непредвзятому слушателю. Но когда мы имеем дело с теми, кто пережил страшные катастрофы, то их рассказы приобретают особый статус предостережения, и наша задача сделать так, чтобы это предостережение было выслушано, даже заставить общество его выслушать, однако мы не должны забывать, что и такие важные свидетельства нуждаются в обязательной проверке. На мой взгляд, сам термин «свидетель эпохи» лишает нас права на критическую оценку. Поэтому многие историки не желают больше слушать этих свидетелей, ведь они в каком-то смысле «отнимают у них хлеб». Например, в большинстве телепередач на историческую тему рассказы очевидцев подаются как непреложная истина, так что специалист-историк оказывается как бы и не нужен. Конечно, телевидение вечно все упрощает, но я не могу отделаться от впечатления, что выпихивание на первый план очевидцев мешает нашей работе, потому что в результате такое сложное явление, как человеческая память, предстает в весьма примитивном виде. В наших исследованиях мы всегда старались показать, что память по своей природе не обладает единством, что у нее масса разных функций, помимо собственно запоминания, что при работе с ней некоторые из этих функций следует рассматривать комплексно, а в некоторых случаях даже противопоставлять друг другу. Лично я не воспринимаю этих свидетелей как конкурентов, но некоторые из них, признаться, неимоверно раздражают, и, увы, в большинстве случаев я слишком хорошо понимаю причину своего раздражения. Например, не далее как сегодня я участвовал в одном мероприятии, на котором присутствовало много бывших узников. Даже на самый безобидный вопрос они реагировали нервно и подозрительно. Видимо, мысленно возвращаясь в камеру, они вновь оказывались в психологической ситуации, когда у человека нет ничего, кроме собственного «я», так что вместе с воспоминаниями возникает и своего рода эгомания, т. е. вынужденная зацикленность на себе. Конечно, иметь дело с эгоманом-параноиком очень трудно, но мы все же обязаны его выслушать и вообще научится разговаривать с этими часто неприятными, ищущими признания людьми. И, повторюсь, главный враг историка не очевидец, а безответственные СМИ, выставляющие его напоказ. Просто мы должны помнить, что не бывает свидетелей эпохи, бывают участники событий. Некоторые из этих событий вызывают ужас, но СМИ часто представляют их таким образом, что люди даже испытывают зависть к тем, кто их пережил, поскольку сами не имеют и никогда не приобретут подобного экстремального опыта.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Но если говорить не о свидетелях, а о свидетельствах эпохи, то тут наблюдается некоторая асимметрия: у нас есть множество рассказов жертв, но почти нет рассказов палачей. Ведь вы сами говорили, как важно хотя бы попытаться понять и другую сторону, т. е. виновников преступлений.
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Согласитесь, один положительный (хотя, положительным его назвать трудновато) опыт из того, что произошло с нами в XX веке, мы все-таки извлекли, а именно: человеконенавистнические режимы имеют свойство кончаться. И новое поколение может преодолеть прошлое, в том числе и юридическим путем. В качестве примера могу привести деятельность людвигсбургского Центра по расследованию преступлений национал-социализма. В течение многих лет группа адвокатов работала над тем, чтобы привлечь к суду как можно больше нацистских преступников. При этом они собрали совершенно уникальную коллекцию материалов, состоящую в основном не из протоколов допросов, а из официальных документов. Впоследствии на основе этой коллекции был создан архив, который содержит документы или копии документов, собранные по всей Европе, начиная с Нюрнбергского процесса и заканчивая относительно новыми материалами. К сожалению, привлечь к суду удалось лишь немногих. Но ведь когда речь идет о массовых репрессиях, любая попытка формально осудить всех, кто несет за них ответственность, неизбежно обречена на провал. Однако можно собрать достаточно материалов и свидетельств, чтобы, во-первых, указать на виновных, а во-вторых, попытаться объяснить их действия. Последнее особенно важно, если мы хотим извлечь из прошлого хоть какой-то урок.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Значит в данном случае не обязательно использовать методы устной истории?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Чтобы понять и преступников, и их жертв, нужно для начала открыть все архивы. Тогда станет ясно, что свидетельства последних отражают совершенно уникальный опыт, но тем не менее мы не должны относиться к этим свидетельствам с чрезмерным, почти религиозным пиететом, потому что пережитое насилие не делает людей сильней или лучше. Так что в случае жертв методы устной истории приобретают особое значение. Когда же речь идет о виновных, они играют скорее вспомогательную роль. Поскольку документы сами по себе могут многое рассказать о преступниках, даже в тех случаях когда по формальным причинам уголовное преследование невозможно. А так бывает сплошь и рядом, когда на смену диктатуре приходит более демократический режим, который, однако, не стремится немедленно осудить всех виновных. В таком случае собранные юридические документы остаются в назидание потомкам.
Вообще, меня очень смущает современная идея «счастливого забвения». По-моему, ничего глупее нельзя вообразить. Когда я, к примеру, оглядываюсь на свою жизнь, то вижу, что интересом к прошлому и к людям я во многом обязан тому внешнему обстоятельству, что союзники насильно заставили нас, немцев, вспомнить все, что произошло с нами за 12 лет фашистского режима. Я имею в виду в первую очередь осуждение нацистских преступлений на Нюрнбергском процессе.
Этот импульс, данный нам извне, постепенно стал для нас внутренней потребностью. Я вообще считаю одним из важнейших достижений немецкой политики последних десятилетий, что мы, в отличие от многих других стран, не поддались соблазну забвения, но по мере сил стараемся держать глаза открытыми. Мы знаем, что в нас есть и темное начало, и, чтобы его сдерживать, нам необходимы разного рода общественные институты.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: О каких общественных институтах идет речь?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Я говорю о демократии. Поскольку она обеспечивает гласность и общественный контроль. И понимание этого широкими слоями населения очень важно. Тем более что мы имели возможность своими глазами наблюдать, что бывает, когда эти сдерживающие институты разрушаются: Германия, к примеру, в свое время считалась одной из наиболее цивилизованных европейских стран, а в итоге именно немцами были совершены самые страшные преступления, которые только можно себе представить. Попытка забыть эти или любые другие преступления приводит к одному, – ко всеобщему оглуплению и социальной апатии. В результате вместо сознательных граждан получаются какие-то наивные глупцы, которые в следующий раз непременно скажут: мы же ничего не знали. И вообще, по-моему, память о совершенных преступлениях делает людей более ответственными.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Но в сфере общественной памяти существуют и табу. Можно ли преодолеть их с помощью устной истории?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Лишь до некоторой степени. Я уже говорил, что главная заповедь всякого историка, да и вообще всякого сознательного гражданина страны, пережившей диктатуру: «архивы должны быть открыты», чтобы мы смогли почувствовать на себе все бремя ответственности за прошлое. Если архивы не доступны, то единственное, что у нас остается, – свидетельства самих жертв или просто сторонних наблюдателей.
Вообще говоря, с помощью устной истории никогда нельзя подтвердить или доказать тот или иной исторический факт. Она по своей природе только усложняет и углубляет, но не проясняет картину. Помню, участникам нашего гедеэровского проекта мы задавали один и тот же простой вопрос: как выглядел первый оккупационный солдат, которого вы увидели? Ответы тех, кто в 45-м был в сознательном возрасте, несут на себе явную печать гедеэровских стереотипов о советско-германской дружбе. В результате получается нечто странное вроде: «И тут на нашу землю вторглись полчища друзей». С другой, западногерманской стороны в ответах ощущалось явное влияние геббельсовской пропаганды: что пришли, дескать, какие-то вырожденцы. Особенно отчетливо разница была видна в тех интервью, которые мы брали в городе Кемниц, потому что его западные районы были заняты американцами, а восточные – советскими войсками. Совершенно иначе отвечали те, кому в 45-м было лет 8–10. Это поколение в меньшей степени подвержено стереотипам, и восприятие у них в силу возраста более непосредственное. Как у меня, когда я впервые увидел марокканских солдат. Опыт общения с русскими у них крайне разнообразный: тут было и насилие, и романы их сестер и матерей с советскими солдатами. Вообще, по этим рассказам невозможно составить себе какого-то единого представления об отношениях немцев к русским солдатам во время оккупации. Картина выходит очень сложная, почти в духе «Войны и мира».
Не случайно моя главная статья по устной истории называется «Вопросы – ответы – вопросы»: мы задаем вопросы, получаем ответы и эти ответы порождают новые вопросы. Причем последние не обязательно обращены к интервьюируемому, чаще это вопросы к самой истории, ее стереотипам. Историки говорят: у источников всегда есть право вето. А у устной истории всегда есть право усложнить или опровергнуть сложившееся в науке представление. Ведь индивидуальная память почти всегда находится в оппозиции к памяти коллективной, носителем которой может оказаться и сам исследователь.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Я знаю, что сами вы никогда не боялись нарушать табу, даже в том случае, когда ради этого приходилось спорить с живыми свидетелями.
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Всякое исследование начинается с некоего уже сложившегося представления. Наша задача – найти нечто этому представлению не соответствующее и решить для себя: должны ли мы сохранить нашу исходную посылку или отказаться от нее ввиду новых данных. Ведь наука всегда начинается с критики, в противном случае она скучна и бесполезна. Вот вкратце мое отношение к стереотипам. Впрочем, тут присутствует и личный элемент: ведь мне самому стоило большого труда от них избавиться. Постепенно (с помощью сначала теологии, а потом истории и устной истории) мне это удалось, так что теперь я могу искренне сочувствовать жертвам, не доверяя слепо каждому их слову. Поскольку человек, находящийся на краю гибели, всегда избирает некоторую стратегию выживания. В ряде случаев его поведение заслуживает всяческого восхищения. Но строить на этом целый миф для достижения собственных политических целей и продвигать этот миф в массы я как историк решительно отказываюсь. Потому что, как я уже говорил, я не верю в этих призрачных свидетелей эпохи, а верю в людей, которые интересуют меня уже потому, что обладают уникальным опытом, мне самому не доступным.
Библиографическая справка
1. Вопросы – ответы – вопросы – Fragen – Antworten – Fragen: Methodische Erfahrungen und Erwägungen zur Oral History // Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet, 1930–1960 / Hg. von L. Niethammer. Berlin; Bonn, 1985. Bd. 3. S. 392–445.
2. Тыл и фронт – Heimat und Front: Versuch, zehn Kriegserinnerungen aus der Arbeiterklasse des Ruhrgebietes zu verstehen // Ibid. Bd. 1. S. 163–232.
3. Частная экономика – PrivatWirtschaft: Erinnerungsfragmente einer anderen Umerziehung // Ibid. Bd. 2. S. 17–105.
4. «Нормализация жизни» в Западной Германии – “Normalisierung” im Westen: Erinnerungsspuren in die 50er Jahre // Ist der Nationalsozialismus Geschichte? / Hg. von. D. Diner. Frankfurt 1987, S. 153–184; первоначальный вариант: Neuland / Hg. von G. Brunn. Essen, 1987. S. 175–206.
5. Приближение к переменам – Annäherung an den Wandel: Auf der Suche nach der volkseigenen Erfahrung in der Industrieprovinz der DDR // BIOS. 1988. Bd. 1. S. 19–66; то же: Alltagsgeschichte / Hg. von A. Lüdtke. Frankfurt; N.Y., 1989. S. 283–345.
6. Что вы делали 17 июня? – Was haben Sie am 17. Juni gemacht? Oder die Nische im Gedächtnis // Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen: Kulturwissenschaftliches Institut: Das Gründungsjahr / Hg. von L. Niethammer. Essen, 1991. S. 160–178.
7. Восприятие войны в послевоенном немецком обществе – Нитхаммер Л. Восприятие войны в послевоенном обществе Германии // Эпоха. Культуры. Люди (История повседневности и культурная история Германии и Советского Союза, 1920–1950-е годы). Харьков, 2004. С. 205–221.
8. Биография и биократия – Biografie und Biokratie: Nachgedanken zu einem westdeutschen Oral History-Projekt in der DDR fünf Jahre nach der deutschen Vereinigung // Mitteilungen aus der kulturwissenschaftlichen Forschung. Berlin, 1996. № 37. S. 370–387.
9. Евреи и русские в памяти немцев – Juden und Russen im Gedächtnis der Deutschen // Der historische Ort des Nationalsozialismus / Hg. von W. Pehle. Frankfurt, 1990. S. 114–134.
Примечания
1
Примечания автора приводятся в конце статей; отмеченные «звездочками» примечания здесь и далее принадлежат переводчику.
2
Термином «изгнанные» (Vertriebene, реже – Heimatvertriebene) обозначаются этнические немцы, жившие в восточных районах Германии (Западной и Восточной Пруссии, Померании, Силезии, Судетах и т. д.) и в соседних странах Восточной Европы (Польше, Чехословакии, Венгрии, Югославии, Румынии, республиках Прибалтики), а по окончании Второй мировой войны депортированные оттуда на территорию Германии в ее новых границах и в Австрию. Соответственно, под «изгнанием» (Vertreibung) здесь и далее понимается эта депортация. По оценкам, в 1944–1948 гг. в Западную и Восточную Германию и Австрию прибыли более 12 миллионов «изгнанных».
3
Имеется в виду «дело Флика», ставшее причиной громкого политического скандала в ФРГ в середине 1980-х годов. Фирмы Ф. Флика тайно передавали крупные денежные суммы деятелям нескольких политических партий, в том числе и министрам. Это, как предполагали (доказательств, впрочем, найти не удалось), были не просто пожертвования в пользу партий, но взятка за выгодное для концерна постановление Министерства экономики. Чиновники налогового ведомства обнаружили записи об этих выплатах в бухгалтерских книгах компании.
4
В оригинале автором здесь использовано слово Prägung, употребляемое им в двояком смысле: 1) формирующее воздействие социальной среды и исторических обстоятельств на индивида или группу и 2) габитус, обусловленный этим воздействием.
5
Майденфюрерин – младшее женское командирское звание в военизированной иерархии Имперской трудовой повинности, примерно соответствовало лейтенанту в армии.
6
Юнгцугфюрер – командир отряда в гитлерюгенде.
7
Вартегау (также рейхсгау Вартеланд) – в 1939–1945 годах название территории Польши, захваченной Германией в начале Второй мировой войны. В этом регионе германская администрация стала раздавать участки земли немецким поселенцам, в том числе прибывшим из Прибалтики, затем из оккупированных районов СССР.
8
Пимпф – рядовой член юнгфолька, детской организации гитлерюгенда.
9
Фенляйнфюрер – командирская должность в юнгфольке, приблизительно соответствовала командиру роты в армии.
10
«Нулевой час» (Stunde Null, переводится также «час ноль», «время Ч» и др.) – понятие, означающее (прежде всего в языке военных) момент начала каких-то новых событий. В общественно-политической и исторической лексике послевоенной Германии им стали обозначать момент капитуляции вермахта в 24:00 8 мая 1945 года и крушения Третьего рейха. Вероятно, распространению этого выражения способствовал фильм Р. Росселини «Германия, год нулевой» (1948). По поводу того, насколько оправдано применение этого понятия к германской действительности послевоенных лет, уже давно идет оживленная полемика. Его сторонники утверждают, что в результате разгрома, длительной иностранной оккупации и развенчания всех национальных ценностей прежнее немецкое общество перестало существовать и «все» пришлось создавать заново, с нуля. Противники этой концепции подчеркивают, что, невзирая на потрясения и перемены, глубинные социокультурные институциональные и ценностные структуры и сам менталитет немцев изменялись лишь постепенно и частично, так что никакого «нулевого часа» не было.
11
«Научение» (Lernen) – термин в психологии, особенно психологии поведения, означающий приобретение знаний, умений и навыков. В отличие от педагогических понятий «обучение», «образование» и «воспитание», этот термин охватывает широкий круг процессов самостоятельного формирования опыта индивидами.
12
Курт Шумахер (1895–1952) – западногерманский политический деятель, председатель Социал-демократической партии Германии с 1946 по 1952 год и председатель фракции СДПГ в Бундестаге первого созыва (1949–1952).
13
Ганс Беклер (1875–1951) – германский политический и профсоюзный деятель, социал-демократ. В 1928–1933 годах – депутат Рейхстага. После 1945 года сыграл ключевую роль в восстановлении профсоюзов в Западной Германии, прежде всего в британской оккупационной зоне. В 1949–1951 годах – первый председатель Объединения немецких профсоюзов (DGB). В 1951 году добился принятия закона о паритетном представительстве работодателей и работников в наблюдательных советах предприятий горнорудной промышленности.
14
В современном обиходном немецком языке словом «иностранцы» (Ausländer) обычно называют не любых граждан другого государства, а прежде всего живущих в Германии иммигрантов из стран Южной и Восточной Европы, Африки, Азии и Южной Америки.
15
Молодежная организация партии христианских демократов.
16
Нацистская организация медико-санитарных работниц.
17
Под «компенсацией», или «компенсационными трансакциями» автор понимает приобретение недостающего имущества или продовольствия в обмен на ненужное.
18
Принцип, использовавшийся в британских колониях: управление осуществлялось не непосредственно английскими властями, а местными органами, подчинявшимися им.
19
Социалистическая молодежная организация.
20
«Зоной», или «Восточной зоной», в ФРГ кратко называли советскую зону оккупации Германии, а затем образованную на ее территории Германскую Демократическую Республику, которую ФРГ долго не признавала.
21
Эрих Хонеккер оставил свой пост в 1989 году.
22
«Переселенцы» (Umsiedler) – принятое в ГДР название для немцев, депортированных после окончания войны из Восточной Европы, т. е. тех, кого в ФРГ называют «изгнанными».
23
Граждане ГДР могли получить разрешение на поездку в ФРГ к родственникам после выхода на пенсию.
24
Второстепенные добродетели – такие качества характера, которые сами по себе (в отличие от первостепенных добродетелей) не имеют этического значения, но считаются важными для общественного блага. В Германии к второстепенным добродетелям традиционно относят аккуратность, тщательность, дисциплинированность, чувство долга, пунктуальность, надежность, вежливость, верность и послушность.
25
Праздник вступления молодежи в жизнь (Jugendweihe) в ГДР – ритуал, введенный партийным руководством в качестве социалистической, атеистической альтернативы конфирмации. Этим ритуалом 14-летние мальчики и девочки переводились в разряд взрослых; затем они получали удостоверения личности и право на обращение к ним на «вы».
26
Автор имеет в виду власть престарелых коммунистических вождей (Э. Хонеккера и т. п.) и тех, кто быстро переметнулся на сторону демократического движения, например Э. Кренца.
27
Иоганнес Р. Бехер (1891–1958) – поэт, автор слов государственного гимна ГДР. В первой строфе гимна содержатся слова «Германия, единая отчизна». Они звучали как объединительный лозунг, поэтому в 1970–1980-х годах, после того как ГДР официально отказалась от цели воссоединения Германии, гимн исполнялся без текста.
28
Имеется в виду Христианско-демократический союз – одна из крупнейших политических партий Германии, приобретшая очень много сторонников в первое время после падения социалистического режима в ГДР. Ее цветом традиционно является черный.
29
Союз свободной немецкой молодежи – молодежная коммунистическая организация в ГДР.
30
Курт Вальдхайм (1918–2007) – австрийский общественный и политический деятель, Генеральный секретарь ООН (1 9 72–1 9 81), президент Австрии (1986–1992). В молодости, после аншлюса Австрии, был членом Национал-социалистической студенческой лиги Германии, добровольно вступил в СА. В период избирательной кампании Вальдхайма 1986 года были обнаружены документы, свидетельствовавшие о том, что он не был демобилизован после ранения в 1941-м, как утверждал в своей автобиографии, а служил в нацистской армии до 1945 года, в том числе в Греции и Югославии, и югославская комиссия по военным преступлениям требовала его выдачи.
31
Йорг Хайдер (1950–2008) – австрийский политический деятель, бывший лидер Австрийской партии свободы (FPЦ). В апреле 2005 года он и другие руководители партии покинули ее ряды, создав новую партию – Альянс за будущее Австрии (BZЦ). FPЦ считается популистской партией, которую зачастую также относят к так называемым евронационалистическим партиям. Она выступает, в частности, за ужесточение контроля над иммиграцией, усиление борьбы с преступностью и всемерную поддержку семьи.
32
ГУПВИ – Главное управление по делам военнопленных и интернированных НКВД/МВД СССР.
33
Приблизительно переводится как «чтобы американцы остались, русские не совались, а немцы не поднимались».
34
Филипп Йеннингер – президент Бундестага (1984–1988), выступивший в 1988 году перед депутатами с речью, посвященной 50-летию погромов ноября 1938 года. Неудачные формулировки, употребленные им, вызвали такие протесты, что Йеннингер был вынужден подать в отставку.
35
Райнер Барцель был председателем Бундестага с марта 1983 по октябрь 1984 года. Ушел в отставку в связи с обвинениями в причастности к «делу Флика». Впоследствии Барцелю удалось доказать, что обвинения эти были безосновательны.
36
В настоящее время проблема выплаты компенсаций, борьба за которую была начата в 1990-х годах, решена правительством и деловыми кругами ФРГ. Был создан специализированный фонд, из средств которого осуществлялись компенсационные выплаты.

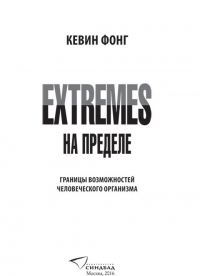



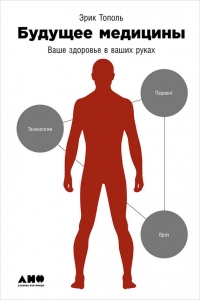





Комментарии к книге «Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории», Лутц Нитхаммер
Всего 0 комментариев