Вопрос 1. Объект юриспруденции: официальные тексты и социальные институты
Что есть право — социальный институт или официальные прескриптивные тексты, которые составляют лишь один из элементов социальных институтов?
• Юриспруденция — социальная наука (раздел социологии). Общим объектом всех социальных наук является социальная деятельность. Юриспруденция как особенная социальная наука изучает одну из составляющих этого объекта, один из аспектов социальной деятельности, а именно: особые правила, которым подчиняется социальная деятельность — правовые нормы.
• От юриспруденции нужно отличать легистику — науку о предписаниях верховной власти, официальных прескриптивных текстах (законах и т. п.). С середины XIX века легистика выступает под именем юриспруденции и противопоставляет себя социологии, выставляя ее наукой «неюридической». В действительности неюридической является легистика — разновидность документоведения.
Право как социальный институт
Социальный институт — устоявшийся порядок социальных коммуникаций или социальной деятельности, воплощающий в себе те или иные принципы, ценности, правила и выполняющий в обществе определенную функцию. В любом институте различаются так называемые позитивные нормы и механизм принуждения к соблюдению позитивных норм. Этот механизм принуждения предполагает применение насилия, которое в свою очередь тоже подчиняется неким правилам.
Если рассматривать право как социальный институт, то позитивными правовыми нормами следует считать, прежде всего, нормы частного права — правила нормальных отношений обмена, а нормами, относящимися к механизму принуждения — все правила о юридической ответственности.
Институты могут возникать и эволюционировать стихийно, когда складываются и меняются «неформальные» правила, а также в результате целенаправленной законодательной политики, моделирующей новые правила. При этом если заимствованные из-за границы модели не соответствуют обычаям и традициям данного общества, то заимствование не будет иметь успеха, т. е. здесь этого института не будет, поскольку его становлению будут препятствовать существующие «неформальные» правила.
Юриспруденция стремится выделить правовые нормы «в чистом виде», например, в том, в котором они сформулированы в официальных текстах. Но в действительности официальные тексты о нормах — это могут быть только модели норм, их проекты и даже, возможно, заблуждения относительно социальных норм. Так и возникает формально-догматическая, или просто формалистическая, «юриспруденция» (такова, прежде всего, легистика), которая отрывает свой предмет от социальной реальности, якобы рассматривает нормы «как таковые» — как будто они существуют вне реальной социальной жизни или «живут» своей самостоятельной жизнью в официальных текстах законов и других властных установлений.
Социальные нормы и официальные тексты
Правовые нормы, как и любые социальные нормы — правила, которым подчиняются социальные взаимодействия — проявляются, во-первых, в самой социальной деятельности, внешне выраженном поведении, во-вторых, в знаковой форме, в авторитетных текстах. Разновидностью авторитетных текстов являются тексты официальные, издаваемые компетентными публично-властными субъектами — законы (нормативные акты) и акты высших судов. В принципе наличие официального прескриптивного текста может придать норме наибольшую определенность, во всяком случае, он может устранять неопределенность в понимании нормы разными субъектами. Поскольку правовые нормы являются общезначимыми и общеобязательными, они (но не только они!) формулируются в официальных текстах. Официальные тексты могут формулировать уже существующие нормы, санкционируя одну из возможных интерпретаций нормы, но могут и моделировать нормы, которых в социальной практике еще нет.
Несколько упрощая, примем здесь за истинное следующее суждение: «если в определенном обществе есть некая правовая норма, то должен быть и официальный текст об этой норме». Очевидно, что отсюда не вытекает второе суждение: «если в определенном обществе законодатель создал текст о некой правовой норме, то она есть в этом обществе».
Прежде всего правовая норма есть там и тогда, где и когда ее наличие демонстрирует социальная практика. Поскольку официальный текст может иметь любое содержание (сам по себе текст выражает лишь мнение или суждение его автора), то наличие текста о правовой норме, не равносильно наличию самой нормы. Официальный текст не обладает магической силой, и с его помощью нельзя, подобно заклинанию, порождать социальные явления, которые пока еще не существуют. Новая для конкретного общества правовая норма может и в самом деле установиться после и вследствие издания официального текста об этой норме, но может и не установиться.
Социальные нормы, включая право — это правила, которым подчиняется поведение. Они либо устанавливаются «снизу» — складываются спонтанно, либо их становление начинается «сверху» — с авторитетных предписаний, но и в этом случае нормы устанавливаются постольку, поскольку социальная деятельность подчиняется, соответствует этим предписаниям.
Общезначимые нормы формулируются в законах и иных авторитетных текстах. Причем эти тексты (составленные людьми, с их частными интересами, всегда в какой-то мере произвольно) содержат не только нормы, но и требования, которые почему-либо не оказывают воздействия на социальную жизнь. В то же время некоторые уже сложившиеся или только складывающиеся общезначимые нормы могут еще не иметь официального признания и выражения в законе.
Сторонники формалистической трактовки нормы, (независимо от типа правопонимания), считают: все, что установлено законом — это нормы; как установлено законом, так и должно быть в социальной жизни. Наоборот, сторонники социологической трактовки нормы (независимо от типа правопонимания) объясняют, что законы и нормы не совпадают по содержанию.
В социологическом понимании, прежде всего в институционализме, норма права — это «реальное правило», т. е. правило которому реально подчиняется социальная деятельность, а законоположения, которым не соответствует социальная практика, нормами не признаются.
Это различие в понимании нормы хорошо иллюстрируется отношением к вопросу, существует или нет в конкретном государстве или обществе, в национальной правовой системе некая правовая норм. С формалистической точки зрения, норма существует в конкретной национальной правовой системе, если есть соответствующий официальный текст; правда возможен и такой ответ: норма существует, но она не применяется, не порождает правоотношений. С точки же зрения институционализма, этот официальный текст позволяет лишь предположить существование нормы, но определенный ответ можно дать, лишь зная социальную практику: если практика не соответствует официальной модели, то такой нормы в рассматриваемой правовой системе нет.
Вопрос 2. Типы правопонимания: право и насилие
Существует заблуждение, что разные теории интерпретируют один и тот же «сложный многомерный объект» — право, но абсолютизируют разные его стороны, а поэтому приходят к противоположным выводам относительно сущности права. В действительности в разных теориях одним и тем же термином право называются в сущности разные объекты, и поэтому такие теории несовместимы, а их адепты говорят на разных языках.
Противоположные типы правопонимания — это разное понимание правового качества социальных институтов, противоположные ответы на вопрос о соотношении права и насилия.
• В потестарном понимании, право есть разновидность насилия, и правовыми называются нормы, подкрепленные наиболее сильным или эффективным механизмом принуждения, независимо от их содержания.
• В либертарном понимании право — это нормы, которым должны подчиняться взаимодействия свободных индивидов с целью обеспечения равенства в свободе; это институты, в которых механизм принуждения предназначен для подавления агрессивного насилия.
Противоположность типов правопонимания отражает столкновение противоположных, конкурирующих социокультур, и в этом столкновении каждая из них претендует на всеобщее признание своей парадигмы правильности критерием права, правового качества.
Есть только два фундаментальных принципа, на которых могут строиться социокультуры: либо равная свобода людей (и тогда — запрет агрессивного насилия), либо насилие одних над другими (и тогда — неравенство в свободе).
Яркий представитель современного либертарианства Д. Боуз обозначил эти принципы противоположных социокультур как две политические философии:
В известном смысле можно утверждать, что история знает только две политические философии: свобода и власть. Либо люди свободны жить своей жизнью, так, как считают нужным, если они уважают равные права других, либо одни люди будут иметь возможность заставлять других поступать так, как в противном случае те бы не поступили. Нет ничего удивительного в том, что власть имущих всегда больше привлекала философия власти. У нее было много названий: цезаризм, восточный деспотизм, теократия, социализм, фашизм, коммунизм, монархия, уджамаа [ «африканский социализм»], государство всеобщего благосостояния, — и аргументы в пользу каждой из этих систем были достаточно разнообразными, чтобы скрыть схожесть сути. Философия свободы также появлялась под разными названиями, но ее защитников связывала общая нить: уважение к отдельному человеку, уверенность в способности простых людей принимать мудрые решения относительно собственной жизни и неприятие тех, кто готов прибегнуть к насилию, чтобы получить желаемое[1].
В потестарной парадигме правомерной считается такая деятельность, за которой стоит наиболее сильный механизм принуждения: например, агрессивное насилие считается противоправным, когда оно исходит от частных лиц, и правомерным, когда оно исходит от акторов верховной власти; наоборот, ненасильственная деятельность считается в потестарной парадигме противоправной, если она не дозволена верховной властью.
Агрессивное насилие — социальное взаимодействие, предполагающее со стороны одного, насильника отказ другому в значениях самостоятельности: за объектом принуждения отрицаются любые социальные ценности, кроме того, что важно или полезно, или того, что хочет видеть в нем субъект насилия[2].
В потестарной (силовой) парадигме объявляется аксиомой, что социальный порядок возможен лишь постольку, поскольку одни люди осуществляют организованное насилие в отношении других, а поэтому считается нормой то, что одни люди подчиняют себе других и заставляют их поступать так, как в противном случае те не поступили бы. В этой парадигме правовой порядок и принудительный порядок — в сущности одно и то же.
В либертарной парадигме не отрицается, что социальный порядок может опираться преимущественно на насилие, но подчеркивается альтернатива порядку такого типа — социальный порядок, построенный на свободных взаимодействиях, когда каждый человек сам определяет свое поведение (во всяком случае нормы общества этого не запрещают), признавая при этом такую же возможность для других, а публичная власть выполняет функцию защиты свободы и подавления агрессивного насилия[3]. В этой парадигме правовым считается только порядок свободных взаимодействий и публично-властного обеспечения свободы (равенства в свободе).
Таким образом, определение «право — система общеобязательных норм, установленных или санкционированных государством» дано в потестарной, силовой парадигме. Ибо здесь же государство определяется как организация, обладающая монополией на насилие.
Собственно юридическое определение гласит:
право — это система общеобязательных норм, обеспечивающая свободу, равную для всех дееспособных субъектов, т. е. социальный институт, защищающий ненасильственную деятельность и подавляющий агрессивное насилие.
Вопрос 3. Формалистическая и социологическая трактовки нормы в позитивизме
Термин «легизм» и производные от него формы происходят от латинского lex — legis (закон). В легистских концепциях правом считаются официальные прескриптивные тексты (нормативные установления в форме законов или судебных прецедентов) независимо от их содержания. Легистский позитивизм неверно называть позитивизмом юридическим. «Юридический» происходит от латинского ius — iuris (право). При отождествлении же права с законом (официальным прескриптивным текстом) получается позитивизм не юридический, а легистский, законнический.
Легисты отождествляют нормы и законоположения (официальные тексты) и называют их правовыми нормами. Для легистов некое мнение или суждение о том, как должно быть, является нормой права, если оно выражено в официальной форме, особенно если это приказ верховной власти.
Легисты отличают свое понятие правовой нормы от социальных норм. По их логике «норма права» — это «команда суверена» (командная теория Дж. Остина), и эта команда не обязательно порождает реальные социальные нормы. Например, если правило сложилось в форме обычая, то это социальная норма, а если обычай будет санкционирован судом, то появится еще и «норма права» — официальный приказ следовать обычаю. Предписание закона существует как «норма права» уже с момента вступления закона в силу, даже если этот закон не применяется судом, т. е. даже тогда, когда поведение людей этому закону не подчиняется.
Из такой формалистической трактовки нормы проистекают представления о том, что существование права — это одно, а действие права — это уже другое, что право и правопорядок — это не одно и то же, что право — это только модель, и чтобы получился правопорядок, должна произойти «реализация права».
Напротив, в социологии нормами признаются реально существующие правила, т. е. о норме говорят только тогда, когда правило проявляется в типичном поведении людей. Причем представители позитивистской социологии, как и легисты, называют нормы правовыми независимо от их содержания и определяют их по критерию принудительности.
В позитивистской социологии правовыми считаются реально действующие правила тех социальных институтов, которые обладают наиболее сильным механизмом принуждения. Это могут быть как «формальные» нормы, т. е. выраженные в официальной форме законов, так и «неформальные», такой формы не имеющие.
Позитивистская социология показывает, что далеко не всегда «формальные» нормы, устанавливаемые «сверху», обладают большей силой, чем «неформальные», складывающиеся «снизу» в форме обычаев. Более того, нормы корпораций, нормы церкви, нормы преступных организаций и т. д. в определенных социальных ситуациях могут быть сильнее, чем нормы, подкрепленные публичной властью, государственным принуждением.
Поэтому в позитивистской социологии получается так называемый правовой плюрализм. Оказывается, что в любом обществе нет такого социального института, который всегда, во всех сферах социальной жизни был бы самым сильным. Следовательно, любой фактически существующий институт может оказаться «правовым» (т. е. воздействующим на людей с наибольшей силой) в конкретной социальной ситуации, а в другой ситуации более сильным, т. е. «правовым» окажется другой институт.
Теория «правового плюрализма» означает, что позитивистская социология не способна на уровне своих понятий объяснить, чем «право» отличается от неправовых институтов.
Вопрос 4. Право и свобода, minimum minimorum свободы. Правовой и потестарный типы социокультуры
Право и свобода
В либертарной парадигме правомерной признается любая ненасильственная деятельность.
Свобода в обществе означает возможность каждого (каждого дееспособного по стандартам данного общества) беспрепятственно со стороны других осуществлять любую ненасильственную деятельность, совершать любые сделки. Любое ограничение ненасильственных действий, даже если оно исходит от большинства или предусмотрено легитимным законом, является агрессивным насилием.
Ненасильственная деятельность может быть направлена на достижение любых целей, даже если кто-то оценивает эти цели как зло. Например, действующий на свободном рынке актор может снизить цену на свой товар с целью разорить конкурентов (с целью приобрести доминирующее положение на рынке).
Возможность беспрепятственно совершать ненасильственные действия не тождественна беспрепятственному достижению цели этих действий.
Любая ненасильственная деятельность не является и не может быть препятствием или ограничением возможности другой ненасильственной деятельность. Но эффективная ненасильственная деятельность одного может быть препятствием для достижения цели другими, если их ненасильственная деятельность менее эффективна.
Возможны и нормальны коллизии или конкуренция ненасильственных действий. Свободная конкуренция означает, что каждый может использовать для достижения своей цели любые ресурсы, за исключением агрессивного насилия.
Свобода в обществе — это порядок, при котором не нарушается право отдельного человека на самопринадлежность и его право собственности.
Исторически право возникает с появлением индивидуальной свободы. Свободные индивиды — носители, суть и смысл права. Причем в исторически неразвитой правовой культуре существуют не только свободные или частично свободные (субъекты права, хотя и неполноправные), но и несвободные (объекты права). В этой ситуации правовой принцип уже проявляется, но здесь еще нет всеобщего правового равенства. Лишь при капитализме правовая свобода становится равной для всех.
Всеобщее равноправие является высшим историческим проявлением правового равенства. Его нормативным выражением служит положение, сформулированное в части 2 статьи 19 Конституции РФ: «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности».
Равноправие не тождественно равенству перед законом. Равенство перед законом означает применение закона в равной мере ко всем его адресатам без исключения. Равноправие есть, в частности, равенство перед правовым законом. Но если закон — правонарушающий, противоречащий принципу права, нарушающий равноправие, то и равенство перед таким законом есть нарушение равноправия. Равенство перед судом можно рассматривать как одно из проявлений формального равенства, равноправия, но, опять же, только в том случае, если суд правовой, справедливый, беспристрастный. Перед таким судом все формально равны.
Свобода социальных акторов как частных лиц означает возможность действовать по принципу «разрешено все, что не запрещено правом». На публично-властных акторов этот принцип не распространяется. Публично-правовые институты (публично-властные институты правового типа) дозволяют применять насилие и запрещают любое насилие за пределами дозволенного. С юридической точки зрения, государственные органы должны наделяться властными правомочиями, т. е. только такой компетенцией, которая необходима для обеспечения свободы, пресечения и подавления агрессивного насилия.
Конечно, в отношениях повеления-подчинения, охватываемых публично-правовыми институтами, никакого равенства нет. Правовое равенство остается за пределами этих отношений. Если подчиняющийся обязан подчиняться лишь в пределах того, что право дозволяет повелевающему субъекту, то во всем остальном социальные акторы-частные лица и люди, выступающие в публично-правовых институтах как публично-властные акторы, формально равны, равноправны.
Правовые институты складываются в такой социокультуре, в которой признается и публичновластно обеспечивается хотя бы необходимый, неотъемлемый минимум прав индивида. Без этих прав люди не могут быть субъектами права. Это то, без чего нет «материи» права. Следовательно, критерий, позволяющий различать правовую и неправовую культуры — это минимальная неотъемлемая свобода. Но в каждой реальной правовой культуре есть свои представления о минимальной неотъемлемой свободе. Права человека — разные в разных правовых культурах, и они развиваются по мере исторического прогресса свободы. Минимальная неотъемлемая свобода и права человека — это понятия с культурно-исторически изменяющимся содержанием.
Объем и содержание свободы, которая признается минимальной и неотъемлемой в конкретной социокультуре, определяются развитостью ее правовой субкультуры. В неразвитой правовой ситуации не может быть всех тех прав человека, которые в развитой признаются неотъемлемыми правами. Например, в неразвитой правовой культуре может не быть свободы передвижения и поселения в ее современном понимании, свободы вероисповедания, избирательных и других политических прав и свобод.
Но в любой реальной правовой культуре есть хотя бы minimum minimorum — абсолютный минимум правовой свободы. Сюда входят три компонента: личная свобода (самопринадлежность), собственность и безопасность, обеспеченная публично-властными институтами.
Личная свобода, или самопринадлежность, включает в себя распоряжение человека собой и своими способностями, его неприкосновенность, право на частную жизнь. Поскольку признается, что каждый человек владеет собой, своим телом и своим разумом, постольку признается и то, что не вполне удачно называется правом на жизнь. Имеется в виду, что агрессивное насилие, приводящие к смерти другого человека, — самое серьезное из всех нарушений его прав.
Из самопринадлежности вытекает право человека присваивать, быть собственником того, что он создает, и право собственника свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом (собственность как социальный институт означает такой порядок отношений в обществе, при котором ресурсы жизнедеятельности присваиваются).
Безопасность подразумевает право на публично-властную защиту от агрессивного насилия, особенно, полицейскую и судебную защиту (безопасность возможна лишь постольку, поскольку публично-властные институты выполняют функцию обеспечения правовой свободы).
Без этих трех взаимосвязанных компонентов нет свободы вообще. Но то, что сегодня признается минимальной неотъемлемой свободой в наиболее развитых правовых культурах, по объему и содержанию существенно шире, чем названный minimum minimorum.
Правовой и потестарный типы социокультуры
Можно рассматривать общество как систему обменов, структурированных институтами, складывающимися в разных сферах социальных взаимодействий, включая управление социальной деятельностью. Институты налагаются на «субстрат», в качестве которого выступают связи и взаимодействия семейные и родственные, этнические, поселенческие, экономические (производственно-обменные), духовные и публично-властные (политические).
Различаются два типа обмена: эквивалентный обмен, т. е. обмен, не опосредуемый публично-властными институтами, и опосредуемый таковыми, т. е. неэквивалентный обмен — государственное распределение и перераспределение ресурсов жизнедеятельности. Первому соответствуют институты правового типа, второму — институты силовые (потестарные). Институты правового типа выполняют общую для них функцию обеспечения удовлетворения потребностей по принципу эквивалентного обмена, который предполагает свободу и равенство в свободе (формальное равенство) и вытекающий отсюда запрет агрессивного насилия. Институты же силового типа, наоборот, подавляют свободу, свободный социальный обмен и упорядочивают принудительное публичновластное распределение (и перераспределение) ресурсов жизнедеятельности в масштабах общества.
В зависимости от того, какой тип институтов доминирует, получается общество (социокультура, цивилизация) правового или потестарного типа[4]. Это идеальные типы, или типологические принципы. В реальных социокультурах доминирует один из типологических принципов, но у любого народа в его культуре, наряду с господствующей субкультурой, определяющей отнесение этой культуры в целом к одному из типов, присутствует и противоположная субкультура.
Либертаризм определяет как правовые лишь те социокультуры, в которых исторически достигнута свобода социально значимых групп, и публично-властные институты (важнейший атрибут цивилизованной культуры) защищают эту свободу (в конечном счете — выполняют функцию обеспечения эквивалентного обмена). Таким образом, цивилизации различаются по институциональному критерию: какого типа институты преобладают — правовые, т. е. обеспечивающие свободу, или силовые, т. е. подавляющие свободу.
Вопрос 5. Право и морально-религиозное регулирование
Социальная этика, выраженная в форме морали (нравственности) или в религиозной форме, может быть разной у разных индивидов и разных групп. Она существенно различается в субкультурах одной и той же национальной культуры. В частности, публично-властное перераспределение всегда оценивается как социальное благо теми, кто получает от этого перераспределения, и как социальное зло (возможно, как необходимое зло) — теми, у кого в основном отбирают. Столкновение противоположных морально-религиозных позиций — нормальная ситуация в культуре правового типа.
• Моральное поведение не противоречит праву, пока оно не переходит в агрессивное насилие, пока люди не навязывают свои нравы другим, т. е. не нарушают запрет агрессивного насилия. Это утверждение равным образом относится и к религиозному поведению.
Право, с его свободой совести, предоставляет человеку возможность самостоятельно делать выбор в пределах ненасильственной деятельности, независимо от того, нравится этот выбор или не нравится некоему моральному или религиозному большинству.
Совсем другое дело — социально-властное регулирование, трансформирующее некий моральный принцип в обязательные предписания. Как таковой, моральный выбор является автономным, не навязанным извне. Но гетерономное воздействие из соображений «защиты общественной морали», «принуждение к добру» означает, что одна группа, используя силовые ресурсы, навязывает свои нравы другим.
Свобода совести исключает агрессивное насилие, но в остальном она позволяет каждому самому определять, что есть добро и что есть зло. Напротив, при моральном регулировании свободные взаимодействия, в которых нет агрессивного насилия, но которые не нравятся политически господствующей группе, запрещаются ею как «недопустимое социальное зло».
Классический пример — запрет проституции. Речь идет именно проституции, а не о насилии, которое может быть связано с проституцией. Вообще запрещать полноправным и находящимся в здравом уме и твердой памяти людям совершать сделки, касающиеся только их, просто потому что такие сделки кому-то не нравятся — это и есть агрессивное насилие. Более того, давно известно, что запрещение проституции не выполняет заявленную функцию. Следовательно, его живучесть объясняется его латентной функцией: на нелегальной проституции паразитируют все, кто призван бороться с этим «злом», и прежде всего — «полиция нравов».
Таким образом, моральное (и религиозное) регулирование противоречит принципу права, отрицает моральную самостоятельность объектов этого регулирования (их субъектность отрицается; агрессивное насилие — это воздействие, предполагающее отказ другому в значениях самостоятельности). Более того, моральное регулирование равнозначно произволу регулирующих субъектов, поскольку критерием оценки поведения как морально допустимого могут быть только представления оценивающего субъекта о добре и зле, в данном случае — властного субъекта.
Причем, в социал-капиталистической идеологии говорится о неких якобы общезначимых, общечеловеческих моральных нормах или требованиях, которыми можно ограничивать права человека. Международно-правовые акты, включая Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также конституции государств (например, часть 3 статьи 55 Конституции РФ) содержат положения об ограничениях прав человека в целях защиты морали.
В прежние времена, да и сегодня в неразвитых правовых культурах, религиозные этические требования выдвигались как общеобязательные. Теперь на Западе никому не приходит в голову официально провозгласить общеобязательной социальную этику какой-либо религии или же говорить о какой-то общечеловеческой религии. Но столь толерантной западная культура стала лишь после того, как противоречия между религиозными социальными этиками вылились в религиозные войны.
Поскольку моральное сознание не столь агрессивно, как религиозное, права человека стремятся ограничить лишь «в той мере, в которой это необходимо для защиты нравственности» (и тут же «ничтоже сумняшеся» провозглашают свободу совести!).
Ненасильственная деятельность правомерна и тогда, когда она противоречит интересам других (неких третьих лиц), например, ухудшает их имущественное положение, или когда она противоречит их нравам, убеждениям или верованиям. С точки зрения формального равенства люди, не разделяющие нравы других, даже если это моральные принципы некоего большинства, вправе не учитывать эти принципы в своих действиях, и никто — ни «моральное большинство», ни «моральные маргиналы» — не вправе навязывать свои нравы другим.
Правовой принцип исключает ограничение свободы по моральным основаниям. Он запрещает агрессивное насилие (возможно, имеющее моральное основание), но не такие действия, которые «противны общественной морали». Однако люди с неразвитым правовым сознанием убеждены, что если свобода ведет к аморальным (с их точки зрения) или греховным деяниям, то такую свободу нужно запретить, даже если это ненасильственные действия (например, стремление предпринимателей к получению прибыли или добровольные гомосексуальные связи). И многим российским «обществоведам», рассуждающим о праве и нравственности, отрыв понятия правовой свободы от «общественной морали» представляется неприемлемым, достойным наказания.
Право не знает, что такое добро и что такое зло, ибо в области права мы оперируем терминами и понятиями «правомерное» и «противоправное», снимающими моральные противоречия. Так что это словосочетание абсурдно и при различении, и при отождествлении права и закона.
Если принять, что закон является мерой права, тогда в законе, запрещающем «злоупотреблять правом», должны быть перечислены и формально определены все проявления этого самого «зла». В противном случае мерой права будет уже не закон, а мнение сильнейшего о том, что есть «зло» здесь и сейчас.
Если же согласиться с тем, что мерой права является равенство в свободе, и правомерно запрещать только агрессивное насилие, то запрет «злоупотреблять правом» окажется либо бессмысленным (если юридически трактуемое «зло» — это и есть агрессивное насилие), либо противоправным (если имеется в виду «зло» за пределами агрессивного насилия).
Наконец, это словосочетание абсурдно даже при морально-этической интерпретации права. Если мы сначала определим, что правом не может называться нечто «злое», то «злоупотребление правом» логически уже невозможно.
В действительности это словосочетание является плодом неразвитого правосознания, его реакцией на проблему правонарушающего закона: с одной стороны, считается, что законное — это и есть правомерное, а с другой — законы могут приводить к таким последствиям, которые не хочется называть правом (с какой-то ценностной позиции).
Однако в юриспруденции (и вообще в одной и той же системе суждений) «правомерное» и «злое» («юридически злое») должно определяться по одному и тому же критерию. В противном случае придется либо признать, что «злое» — это еще не есть «противоправное», либо встать на позицию правового нигилизма.
Вопрос 6. Потестарные интерпретации государства
В потестарной парадигме термин «государство» используется для обозначения принудительного порядка. При этом государственность может объясняться через так называемое социологическое понятие, когда считается, что государство (публично-властная организация) первично по отношению к «праву» — инструменту социального управления и контроля. Но в этой парадигме есть и свое «юридическое» понятие государства — в действительности не юридическое, а легистское, определяющее государственность как законоустановленный порядок формирования и осуществления публичной власти.
Социологическое понятие государства в потестарной парадигме
Это понятие строится на отрицании юридического понятия государства — независимо от того, как понимать юридическое качество. Сторонники такого понятия обычно определяют государство как организацию, обладающую монополией на принуждение (насилие) на определенной территории[5].
Это понятие государства использовалось в классическом легистском позитивизме (Дж. Остин, Г.Ф. Шершеневич) для объяснения права (при отождествлении права и закона): право есть приказ, команда «суверена», носителя верховной власти (отсюда название — «командная теория»). Здесь в принципе допускается, что формирование и осуществление публичной власти может быть регламентировано законом, но при этом закон или конституция необязательны для носителей верховной власти, каковыми могут быть «народ», или «господствующий класс», или их выборные представители, или просто верховный правитель. По этой логике, правовое государство — это нонсенс. Возможно только «самоограничение» верховной власти им же созданным «правом», которое, однако, в любой момент может быть отменено или изменено.
Разновидностью классического легистского позитивизма является «марксистско-ленинскосталинское учение о государстве и праве». Согласно этому учению, общество со времени утверждения частной собственности разделяется на антагонистические классы, а государство является политической организацией экономически господствующего класса. Сущность государства — диктатура, насилие господствующего класса для подавления других классов. Государственный аппарат, опираясь на насилие, управляет обществом так, как это выгодно и угодно господствующему классу. Диктатура класса означает несвязанность его власти какими бы то ни было законами. Диктатура есть власть, опирающаяся непосредственно на насилие, не связанная никакими законами (Ленин).
Легистское понятие государства
«Командная теория права» оказалась слишком вульгарной для западной культуры, с ее идеологией прав человека. Поэтому на Западе в потестарной парадигме она была вытеснена, с одной стороны, позитивистской социологией, рассматривающей закон (приказ верховной власти) лишь как один из факторов формирования реальных социальных институтов, с другой стороны — легистским неопозитивизмом. Последний, сохраняя отождествление права и закона, отбросил «социологическое понятие государства», т. е. отказался от объяснения «права» (принудительных норм) через понятие верховной власти, которая сама этими нормами не связана.
Теоретической «вершиной» легистского неопозитивизма является «чистое учение о праве» Г. Кельзена, открыто противопоставлявшего легистику социальным наукам (наукам об обществе, о реальных социальных институтах). Согласно Кельзену, у законоведов есть свое профессиональное знание о государстве, составленное путем систематического изучения законов, и только такое знание может быть предметом «юриспруденции». Отсюда — формалистическое «юридическое» понятие государства, когда порядок властеотношений, смоделированный в текстах конституций и законов, воспринимается как своего рода реальность и изучается в отрыве от действительно существующих институтов публичной власти.
Нельзя не согласиться с тем, что законная форма является характерной чертой государственности в развитой правовой культуре. Но даже в такой культуре реальные институты публичной власти могут отличаться от того, что предписано законом[6], не говоря уже о неразвитой правовой ситуации, для которой законность отнюдь не характерна. Конституции и законы могут быть фиктивными. Деспотическая власть может только прикрываться внешней государственно-правовой атрибутикой, как это было, например, при советском коммунистическом строе. Таким образом, легистское понятие государства не дает адекватного знания о государственности и не может быть использовано для изучения публично-властных институтов в неразвитой правовой ситуации.
Вопрос 7. Юридическая интерпретация государства
Публично-властные институты правового и силового типов
С точки зрения либертаризма, то, что в русском языке называется государственностью, представляет собой институты, которые в разных цивилизациях выполняют противоположные функции — от обеспечения свободы (и равенства в свободе) до ее подавления в условиях деспотизма и тоталитаризма.
Юридическое же понятие государства предполагает публично-властные институты, обеспечивающие хотя бы minimum minimorum свободы[7]. Но в потестарных цивилизациях таких институтов нет. Деспотизм и тоталитаризм невозможно интерпретировать юридически, поскольку здесь свободная, неподконтрольная власти социальная деятельность — всегда преступление, она официально осуждается и подавляется, не может признаваться и защищаться публичной властью.
Следовательно, юридическое понятие государства должно строиться на различении государственности как феномена правовой культуры (феномен типа res publica или state) и как феномена потестарной культуры (государство в буквальном смысле, «государь-ство»). В принципе такое различение вполне уместно, но по форме оно невыразимо на русском языке. Поскольку в российской культуре так и не сложился феномен типа res publica или state, и для обозначения публичновластных институтов мы пользуемся терминами «государство» и «государственность», то невозможно, например, перевести на русский язык с английского рассуждение о том, что в России до Петра I вообще не было state, да и после него state здесь плохо приживается; в переводе получается, что в России нет государства (?!)[8]. Еще меньше понятно русскому читателю следующее утверждение: «Государство (state) есть определенный тип правления, при котором суверенитет ограничен конституцией, писаной или неписаной»[9]. С таким же успехом можно утверждать, что понятие «королевство» предполагает конституционную монархию.
Таким образом, чтобы дать на русском языке, скажем, «der juristische Staatsbegriff» в его либертарианской версии, нужно либо вводить понятие «стейт», либо, говоря о «юридическом понятии государства», объяснять, что мы имеем в виду совсем не то, что означает русское слово «государство», а то, что обозначается терминами stato, state, Staat, Etat etc.
Далее, реальные государства, существующие в правовой культуре, всегда демонстрируют публично-властные институты как правового, так и силового типов, в том или ином их соотношении. Даже при капитализме существовали перераспределительные публично-властные институты, правда они не играли существенной роли, не разрушали и не вытесняли правовые институты, как это происходит в условиях западного социал-капитализма.
Так что знание о реальных государствах, особенно о публично-властных институтах социал-капитализма, опровергает возможность исключительно юридической интерпретации государственности.
Следовательно, адекватное либертарианское выражение государственности, даже если понимать ее в смысле «стейт», возможно только в том случае, если выйти за пределы юридического понятия государства. Либертаризму не будет противоречить и так называемое общее понятие государства, если оно позволяет рассматривать правовое государство как один из возможных типов государственности. Только там, где публично-властные институты правового типа доминируют, можно говорить о правовом государстве. Если же правовые и силовые институты конкурируют, то это — «полуправовое», интервенционистское, перераспределительное государство (здесь наравне с правовой свободой признаются и другие ценности, поэтому такое государство нельзя однозначно характеризовать как правовое). Наконец, в условиях деспотизма и тоталитаризма нет правовых институтов государственности, здесь есть «деспотическая государственность», не подлежащая юридической интерпретации.
Следует различать правовые и неправовые институты и типы государственности, подобно тому как мы различаем правовые и неправовые законы. В таком случае нужно признать, что свобода (и равенство в свободе) — это сущность права, правового закона и правового государства, но не сущность закона и не сущность государства «вообще». Сущность государственности проявляется как публично-властное обеспечение фундаментальных принципов определенной социокультуры, принуждение к их соблюдению и подавление отклоняющегося поведения. У публично-властных институтов нет правовой сущности, правовая сущность есть только у правовых институтов публичной власти, которые складываются там и постольку, где и поскольку социальные обмены строятся по принципу свободных взаимодействий и равенства в свободе.
Такое представление о государственности как институте, не существующем «вообще» и проявляющемся в цивилизациях противоположных типов, отличается и от понимания государственности в потестарной парадигме, и от излишней либертарианской юридизации понятия государства.
Мы не отвергаем возможность определения сущности государства как монополии на принуждение, но утверждаем, что такого определения недостаточно. Ибо в цивилизации одного типа этим монопольным принуждением защищается свобода и подавляется агрессивное насилие, а в цивилизации противоположного типа все происходит «с точностью до наоборот», и сама государственность проявляется как монополия на агрессивное насилие. Но именно это сущностное различие цивилизаций игнорируется в потестарной парадигме, а поэтому публично-властное обеспечение свободы представляется в этой парадигме лишь как случайность, в то время как публичновластное агрессивное насилие выглядит как закономерность.
Юриспруденция (наука о праве) изучает право, а не «государство и право». Объектом науки о праве по определению являются правовые нормы, или правовые институты. И в этом объекте можно различать публичное право — правовые нормы, которым подчиняется государственновластная деятельность (правовые нормы в публично-властной сфере социальной жизни) и частное право — правовые нормы, которым подчиняются социальные взаимодействия, свободные от публично-властного вмешательства (то, что называется гражданским обществом).
Поэтому можно говорить, что наука о праве отчасти является и наукой о государстве (специальной, юридической наукой о государстве), а также юридической наукой о гражданском обществе. Точнее: объектом науки публичного права является правовая государственность, т. е. государственно-властная деятельность, в той мере, в которой она регулируется правом. Соответственно объект науки частного права — гражданское общество в его правовом измерении.
Но вряд ли можно утверждать, что объектом (объектами) юриспруденции являются право и государство. Это не рядоположенные объекты. В одном ряду с правом стоят неправовые нормы — например, мораль, религия. В одном ряду с государством можно поместить негосударственные организации или институты — церковь, частные предприятия, некоммерческие ассоциации и т. д.
Государственность, ее разные аспекты исследуют разные социальные науки. И юриспруденция не изучает государство «как таковое», она рассматривает государство в его правовом измерении, она «видит» государственность «через право». Следовательно, государственность, в той мере, в которой она изучается юриспруденцией, уже входит в тот объект, который называется правом. Так же и теория права (объяснительная наука) объясняет один объект — право, включая правовую государственность (и гражданское общество в его правовом аспекте), а не государство и право как два разных объекта. И нет смысла называть ее теорией права и государства.
Таким образом, государственность в качестве объекта юриспруденции выступает как «часть права» (публичное право) или как «правовая часть государства». Далее, в зависимости от того, что мы будем называть правом, мы получим либо легистскую концепцию государства, как у Ганса Кельзена («юридически» понимаемое государство — это законные модели формирования и осуществления публичной власти), либо собственно юридическую:
государственность как объект юриспруденции представляет собой публично-властные институты правового типа, т. е. институты, в рамках которых принуждение используется для обеспечения свободы, предупреждения и подавления агрессивного насилия.
Вопрос 8. Понятие права и происхождение права (государства и права)
• Каждая концепция исторического возникновения права является необходимым элементом соответствующего понятия права. Нельзя придерживаться определенного понятия права и в то же время допускать множество разных представлений о происхождении права, относящихся к иным концепциям права. Нельзя, рассуждая о современном праве и о древнем, «архаичном» праве, называть одним и тем же термином «право» в сущности разные явления.
Так, в марксистском учении государство и право считаются институтами классового насилия, и, соответственно, их историческое происхождение — это вопрос о возникновении антагонистических классов, классовой борьбы и классового господства.
Однако в постсоветской учебной литературе по теории государства и права эта логика нарушена. С одной стороны, в учебниках говорится о правах человека и правовом государстве как результате исторического развития права (государства и права), с другой — оказывается, что государство и право исторически возникают в форме древнего деспотизма (так называемый восточный путь возникновения государства и права). В теоретическом отношении — это шаг назад даже в сравнении с марксизмом, который искал истоки права и государства в греко-римской цивилизации, а не в восточном деспотизме.
В этом отношении особенно показательна «теория социогенеза». Для современного социологического позитивизма характерны представления о возникновении права уже в первобытном обществе. Это так называемое архаическое право (оно же — примитивное, традиционное, обычное, первобытное и т. п.). Появление такого права рассматривается как элемент социогенеза — становления общества (первобытного общества).
«Архаическое право» не похоже на современное право, во многом противоречит сегодняшним правовым стандартам, но, тем не менее, его считают именно правом. Его основные черты — это, во-первых, регулирование отношений между общинами, группами, а не индивидами, поскольку первобытный человек существовал только в составе родоплеменной группы, во-вторых, иррациональность норм и процедур.
Если «архаическое право» — это все же право, то и современное право, и «архаическое» должны быть явлениями, выражающими одну и ту же сущность. В таком случае современное право, как и «архаическое» должно защищать коллективизм и коммунизм, ставить людей в зависимость от сверхъестественных сил, а права и свободы должны считаться чем-то противоправным, разрушающим общинный способ социального бытия. Таким образом, теория социогенеза либо извращает сущность права, либо допускает множество произвольно определяемых сущностей права.
Вопрос 9. Либертарно-юридическая теория о возникновении права
• Возникновение древнего деспотизма связано с коллективной формой труда, особенно — с широкомасштабными ирригационными работами. Возникновение же права в древнем аграрном обществе предполагает господство парцелльного земледелия.
Социальная природа человека демонстрирует два фундаментальных начала: правовое, обеспечивающее развитие человечества как вида, и потестарное, обеспечивающее выживание вида во враждебной среде. Эти два начала проявляются и как принципы противоположных социокультурных типов, и как конкурирующие институты отдельных цивилизаций.
Уже в обществах первобытных охотников-собирателей складывались институты и эквивалентного обмена, и публично-властного (потестарного) распределения и перераспределения. Если социокультура формировалась в относительно благоприятной среде, когда нет необходимости мобилизовать, ради выживания, все ресурсы общества, то могли доминировать институты правового типа. Право обеспечивает удовлетворение потребностей посредством эквивалентного обмена, стимулирует рост производительности труда, и, в конечном счете, обеспечивает не просто сохранение (выживание), а развитие человечества как вида (развитие группы на основе внутригруппового отбора делает группу более конкурентной в сравнении с теми, в которых такой отбор тормозится уравнительно-распределительными институтами). Если же социокультура формировалась во враждебной, агрессивной среде, то однозначно доминировали институты потестарного типа, подчиняющие социальные обмены «общим интересам» — в том виде, как их понимают носители социальной власти. Понятно, что в начале цивилизованной истории социокультуры формировались по второму пути, и греко-римская правовая цивилизация является исключением из общего правила.
Право возникает в греко-римской цивилизации как институт, обеспечивающий удовлетворение потребностей в процессе свободного эквивалентного обмена. Свобода же (социально значимые группы свободных людей) возникает тогда, когда в обществе складывается собственность. Собственность есть необходимое условие и важнейший компонент свободы. Люди могут быть свободными лишь постольку, поскольку обладают собственными ресурсами жизнедеятельности.
Собственность исторически возникает, когда избыточный продукт легитимно присваивается отдельными членами общества. Последнее объективно возможно только там, где отдельные члены общества (малые семейно-производственные коллективы) самостоятельно используют средства производства (в аграрном обществе — это земля). И в первобытном обществе, и в современном некий продукт считается легитимно принадлежащим тому, кто его производит.
Если для эффективного производства необходимы совместные усилия всех, то продукт принадлежит всем вместе, а его производством, накоплением и распределением управляют публичновластные органы сообщества.
Если же для производства достаточно усилий малых семейно-производственных коллективов, то продукт легитимно присваивается этими коллективами. Именно так происходило в северном Средиземноморье после гибели существовавших там ранее деспотических цивилизаций. Здесь сложилась система парцелльного земледелия, заложившая основу греко-римской цивилизации.
Множество мелких производителей вступали в отношения обмена, признавая друг друга собственниками обмениваемых благ. В результате стихийно складывались нормы частного права — правила эквивалентного обмена.
Однако право — это единый социальный институт, и субинститут частного права не может существовать без субинститутов публичного права, определяющих правовой механизм принуждения и процедуры разрешения споров между субъектами права. Прежде всего должен был складываться институт обеспечения безопасности — защиты личной свободы и собственности.
Как показывает история, в других, более ранних социокультурах тоже складывались зачатки собственности и частного права, однако правовое общение в этих культурах не смогло развиться до уровня социального института, поскольку частноправовые отношения не обеспечивались публично-властным признанием и защитой. В этих культурах произошло жесткое разделение социальных функций (ролей) крестьянина-производителя и воина, и цивилизации строились по принципу социального насилия, на основе силового принуждения крестьянской общины.
И только для греко-римской культуры парцелльного земледелия было характерно соединение ролей крестьянина и воина. Первоначально функцию обеспечения личной свободы и собственности здесь выполняла не публично-властная организация, а сами крестьяне-производители. Соединение социальных функций крестьянина и воина обеспечило minimum minimorum свободы, породило феномен равноправия граждан полиса и, в конечном счете, развитие цивилизации правового типа.
Институты публичной власти, обеспечивающей свободу, формировались в греко-римской культуре постольку, поскольку свобода укоренилась как необходимый компонент этой культуры еще до возникновения полисных (политических) институтов. Выполнение публичных обязанностей, включая военную службу, было нормой существования граждан полиса, традицией защиты своей свободы и собственности. И пока эта традиция сохранялась, цивилизация свободных граждан процветала. Когда же публично-властные институты деформировались, а их функции стали выполняться профессиональным аппаратом, включая наемное войско, греко-римская правовая культура погибла: на Западе она была уничтожена варварами, а на Востоке, где она взаимодействовала с цивилизациями потестарного типа, возникла первая в истории смешанная, «гибридная» цивилизация — Византия.
Итак, право как специфический социальный институт исторически возникло из сочетания парцелльного земледелия с соединением в одном лице социальных ролей крестьянина и воина.
Вопрос 10. Типы цивилизаций. Исторический прогресс права
Правовыми являются лишь те цивилизации, в которых исторически достигнута свобода социально значимых групп и публично-властные институты (важнейший атрибут цивилизованной культуры) защищают эту свободу (в конечном счете выполняют функцию обеспечения эквивалентного обмена). Таким образом, цивилизации различаются по институциональному критерию: какого типа институты преобладают — правовые, т. е. обеспечивающие свободу, или силовые, т. е. подавляющие свободу. Все исторически проявившиеся типы цивилизаций схематически можно представить следующим образом:
Цивилизации одного и того же онтологического типа различаются в аграрную и индустриальную исторические эпохи. В индустриальную эпоху существуют общества как индустриальные, так и аграрные, или природоресурсные. В аграрном (природоресурсном) обществе производится продукт, потребительские свойства которого, в основном, несущественно отличаются от свойств природных ресурсов. В индустриальном (интенсивно перерабатывающем) обществе, наоборот, потребительские свойства производимого продукта являются результатом творчески-созидательной переработки природных ресурсов. Отсюда ясно, что коммунизм (тоталитаризм), который иногда называют «прорывом аграрной цивилизации в индустриальную эпоху», в итоге своего «догоняющего индустриального развития на основе силового принуждения к труду» не создает, а лишь имитирует индустриальное общество. Поскольку коммунизм не решает задачу индустриальной модернизации, то, в частности, и постсоветская Россия остается обществом природоресурсным — сырьевой базой для индустриальных обществ.
Нет оснований выделять, помимо аграрного и индустриального, еще и постиндустриальное общество. Не существует таких обществ, которые жили бы, главным образом, за счет производства технологий производства. Все современные «высокотехнологические общества» укладываются в понятие развитого индустриального общества.
Античная греко-римская цивилизация, в которой впервые в истории достигается правовая свобода (институты частного права и демократии, или республиканизма), представляет собой исторически неразвитые проявления принципа права, демонстрирует сословное неравенство (неравноправие) и исключение значительной части населения из круга субъектов права. Исторически развитую цивилизацию правового типа представляет собой капитализм (правовая цивилизация индустриальной эпохи), при котором достигается всеобщее формальное равенство. Дальнейшее, «послебуржуазное» экстенсивное развитие права невозможно, поскольку принцип формального равенства постепенно распространяется на всех членов капиталистического общества.
Потестарный цивилизационный тип исторически проявляется в виде древнего деспотизма (потестарная цивилизация аграрной эпохи) и коммунизма, или завершенного тоталитаризма (потестарная цивилизация индустриальной эпохи).
Кроме того, и в аграрную, и в индустриальную эпохи, помимо цивилизаций правового и потестарного типов, проявляются и смешанные цивилизационные ситуации, в которых не просто сосуществуют в той или иной пропорции, а конкурируют институты правового типа, обеспечивающие формальное равенство, и институты силового типа, осуществляющие, прежде всего, публично-властное перераспределение.
Здесь следует подчеркнуть, что публично-властное перераспределение социальных благ, распределяющихся по принципу формального равенства, в либертарной парадигме не может рассматриваться как деятельность, подчиненная правовому принципу, даже если для ее обоснования используется некая идеология прав человека («права человека второго поколения»). Если социальные блага распределяются по принципу формального равенства, то последующее их публично-властное перераспределение может быть лишь разновидностью агрессивного насилия.
Несмотря на их смешанный характер, каждый из таких цивилизационных типов примыкает к одному из базовых типов. Поэтому смешанные типы можно условно называть «восточными» и «западными», имея в виду, что первые образуются в результате деформации цивилизаций потестарного типа, сохраняют свои потестарные социокультурные корни, а вторые связаны с цивилизацией правового типа, имеют правовую традицию. Таким образом, сохраняется принципиальное деление цивилизаций на два онтологических типа, правовой и потестарный.
Смешанные цивилизации в аграрную эпоху — это западная и восточная разновидности феодализма, в индустриальную эпоху — такого же рода разновидности социал-капитализма.
Характерное для феодализма неравноправие наиболее наглядно проявляется в распределении прав собственности: собственниками земли могут быть только члены военного сословия. Поэтому феодализм в любом его варианте демонстрирует феномен, известный под названием «власть- собственность»: собственность не имеет надлежащей публично-правовой защиты, и возможности фактического владения определяются силовыми ресурсами субъекта.
В то же время в условиях западного феодализма проявилась субкультура, унаследованная от античности, которая смогла конкурировать с собственно феодальной субкультурой, — культура средневекового города, относящаяся к правовому типу. По мере ее укрепления, она вытеснила феодальную субкультуру, «власть-собственность», в результате чего и произошло индустриальное развитие и становление институтов капитализма.
При социал-капитализме собственность публично-властно гарантируется, но «по остаточному принципу». То есть и здесь экономически выгодное или невыгодное положение субъекта зависит от его места в политических институтах, от возможности получений в ходе государственного перераспределения, от объема предоставляемых ему привилегий.
Различие же западного социал-капитализма и восточного состоит в развитости правовых институтов в первом и, соответственно, в их неразвитости во втором.
Западный социал-капитализм складывался по мере нарастания государственного интервенционизма в условиях уже существующих сильных правовых институтов, которые позволяют более или менее эффективно контролировать этот интервенционизм на предмет его соответствия официально заявленным целям. Прежде всего это относится к перераспределению в пользу социальнослабых: управляющий класс не столько присваивает средства, изымаемые в виде налогов, сколько реально делит их между законными получателями. В условиях западного социал-капитализма происходило интенсивное развитие права, в частности, становление институтов конституционной и административной юстиции, института наднациональной защиты прав человека (Суд по правам человека в Страсбурге).
Наоборот, восточный социал-капитализм складывается по мере расширения «поля» свободных социальных взаимодействий, но при сохранении авторитарного управления («управляемая демократия», запрет несанкционированной свободной социальной активности). Поскольку здесь правовые институты, в лучшем случае, отстают в своем развитии, то не может быть и эффективного контроля за соответствием государственного распределения и перераспределения официально заявленным целям: в таких условиях правящие группы прежде всего присваивают доступные им ресурсы общества и уже «по остаточному принципу» делят их между законными получателями
Общества, относящиеся к потестарному типу социокультуры, в условиях перехода от «чисто» потестарной цивилизационной ситуации (от коммунизма) к социал-капитализму не способны быстро создать публично-властные институты правового типа. Поэтому, в частности — в современной России, реальные публично-властные институты таковы, что права собственников не имеют равных публично-властных гарантий, акторы публичной власти так или иначе действуют в своих частных интересах. Власть-собственность, возникающая при разложении коммунизма, такова, что право собственности можно защитить только в той мере, в которой собственник имеет реальный доступ к публичной власти. Чем выше цена объекта собственности или доходность бизнеса, тем больше вероятность, что правомочия собственника или бизнес контролируются публичновластными акторами. Соответственно, чем выше положение человека в иерархии власти, тем больше вероятность, что его легальные доходы от объектов собственности существенно превышают его вознаграждение за государственную службу.
Переход к социал-капитализму восточного типа может быть успешным, лишь при условии перехода от природоресурсной к производящей экономике. Примером последнего является Япония, которая еще в XIX веке исчерпала свои природные ресурсы и в XX веке оказалась способной адаптировать к своей культуре некоторые западные институты (в Японии конкурируют правовые и традиционные неправовые институты). Наоборот, сохранение природоресурсной экономики делает этот переход невозможным, порождая неофеодализм, который блокирует любую модернизацию до тех пор, пока запасы природных ресурсов позволяют удовлетворять потребности основной массы населения и, особенно, правящих групп.
Греко-римская цивилизация, демонстрирующая на определенной стадии своего развития доминирование институтов правового типа (в пользу этого утверждения свидетельствует римское частное право), исторически сменяется не более прогрессивной, с точки зрения свободы, а смешанной цивилизацией западного феодализма, в которой отчасти сохраняются, хотя и деформируются, правовые институты, достигнутые в античности. Собственно феодальные институты, определяющие отношения феодала с крестьянской общиной, являются институтами потестарного типа. И поскольку они доминируют в раннем средневековье, нет оснований считать переход к феодализму историческим прогрессом права. Но институты правового типа развиваются в культуре средневекового города, что и обеспечивает Возрождение — в частности, возрождение правовой культуры.
Исторически более прогрессивным типом права является капитализм, при котором достигается всеобщее равенство в свободе, чего не могло быть в аграрном обществе, в античной исторически неразвитой правовой ситуации, не говоря уже о феодализме. Но, просуществовав полтора столетия, капитализм стал разрушаться в результате становления институтов государственного интервенционизма — институтов потестарного типа. И в ХХ веке он сменился новым цивилизационным типом — западным социал-капитализмом.
По этой логике, дальнейшее развитие правовой социокультуры должно породить переход от западного социал-капитализма к исторически новому типу права — постиндустриальному, который будет достигнут в предполагаемом «информационном обществе». Правда при условии, что западная культура, разрушаемая миллионами мигрантов-носителей потестарной культуры, не разрушится окончательно.
Параллельно развитию правовой социокультуры на Западе происходило цивилизационное развитие на Востоке, почти симметричное. Деспотические, «чисто» потестарные цивилизации деформировались по мере нарастания фактического присвоения. Но правовой институт собственности здесь так и не развился до уровня, определяющего лицо цивилизации, и потестарная «власть- собственность» доминировала вплоть до новейшего времени, так что многие народы «застряли в силовом поле деспотизма»[10]. В индустриальную эпоху восточные аграрные страны постепенно превращались в сырьевые придатки индустриально развитых стран Запада, и такое их положение является фактором, воспроизводящим институты потестарного типа. Попытки индустриальной модернизации потестарного типа явили миру исторически новый цивилизационный тип — коммунизм и показали его историческую ограниченность, невозможность индустриального развития в «чисто» потестарной цивилизации.
Историческая неадекватность коммунизма сделала неизбежным разрушение его институтов, но разрушение именно этих институтов отнюдь не означает, что вместо них сформируются институты правового типа. Поскольку сохраняется социокультурный тип, не меняется природоресурсный характер экономики, то движение посткоммунистических стран в направлении формирования собственности и других правовых институтов сдерживается доминированием институтов потестарных, или потестарным типом публичной власти[11]. Там, где формирование правовых институтов блокируется, не получается никакой капитализм — ни «социальный», ни «олигархический», ни «бюрократический». Получается неофеодализм и соответствующее ему сословное государство[12]. Такое положение не означает «историческую обреченность» народов, их неспособность к модернизации, но для модернизации потребуется как минимум переход от природоресурсной к перерабатывающей экономике.
Вопрос 11. Функции и отраслевая структура права
Право в целом, или система правовых институтов, обеспечивает удовлетворение потребностей посредством свободных, ненасильственных социальных взаимодействий. Эта генеральная функция права складывается из функций основных правовых институтов, традиционно называемых отраслями права.
• Частное право обеспечивает свободное удовлетворение потребностей посредством эквивалентного обмена.
• Институты публичного права выполняют функцию подавления агрессивного насилия и как таковые образуют механизм принуждения, обеспечивающий действие частного права.
Отрасли права
Исторически правовой способ соционормативной регуляции (правовые институты) складывается по мере возникновения и развития свободного эквивалентного обмена. Но это не значит, что правогенез ограничивается частным правом, нормами, непосредственно регулирующими отношения обмена. Для того чтобы отношения обмена, равно как и любые иные отношения, регулировались правом, требуется система правовых норм. В этой системе есть не только (1) частное, но и публичное право, а именно:
(2) право «наказательное» — уголовное и административно-деликтное, защищающее правовую свободу угрозой наказания за посягательства на правовые ценности;
(3) государственно-административное право — нормы публично-властного управления в целях обеспечения правовой свободы; это, во-первых, полицейское право — нормы, дозволяющие непосредственное администрирование, прежде всего, позволяющие принуждать к соблюдению правопорядка, пресекать правонарушения, наказывать менее значительные деликты и привлекать к уголовной ответственности; во-вторых, это «правила организации» — нормы об устройстве госаппарата, предусматривающие систему публично-властных ролей, технически необходимую для обеспечения правовой свободы: эти нормы определяют, кто законодательствует, кто администрирует, кто осуществляет правосудие, кто управляет государственной службой;
(4) право процессуальное, устанавливающее процедуру разрешения споров о нарушенном праве:
Обеспечение позитивных норм принуждением является логическим условием эффективности, о котором можно говорить применительно к любому социальному институту. Специфика права в этом вопросе, вытекающая из принципа формального равенства, состоит в том, что обвинение в правонарушении, которое (обвинение) выдвигает один субъект права против другого, равноправного ему, формально имеет не большую силу, чем простое отрицание обвинения ответчиком или обвиняемым. Отсюда вытекает презумпция правомерности и, в частности, более известная презумпция невиновности.
В потестарной парадигме (и в потестарной цивилизационной реальности) такой проблемы нет. Здесь нет равноправия, следовательно, нет презумпции невиновности, и обвинение, выдвигаемое от имени Государства, является осуществлением власти. Поэтому, как правило, за обвинением следует наказание, а суд является лишь второстепенным элементом репрессивного механизма. Здесь не может быть право-судия, здесь возможен только инквизиционный процесс, в ходе которого публично-властные акторы определяют, каким именно репрессиям нужно подвергнуть обвиненного.
В правовой цивилизационной ситуации факт правонарушения является предметом спора формально равных сторон и устанавливается (либо объявляется не установленным) независимым от них арбитром — публично-властным актором, перед которым обвиняющая и обвиняемая стороны равны и который никак не заинтересован в исходе дела. Рассмотрение и разрешение этого спора называется правосудием, или юстицией.
Поскольку правовое преследование и принуждение правонарушителя возможны только в рамках юстиции, то последняя является основным компонентом правового механизма контроля и исправления отклоняющегося поведения (агрессивного насилия), следовательно, является необходимым условием существования права в целом.
Иначе говоря, юстициабельность правового механизма принуждения является проявлением самой сущности права.
В этом ряду (частное, наказательное, государственно-административное и процессуальное) не может стоять то, что называют конституционном правом. По существу «конституционное право» — это законодательно обособляемая система принципов и основополагающих норм, которые лежат в основе всего правопорядка и конкретизируются во всей системе отраслей права. Они определяют правовой статус индивидов, других субъектов и тем самым устанавливают пределы публичной власти, а также устраивают организацию публичной власти.
Таковы функционально определяемые отрасли права (институты, составляющие право как социальный институт). Совокупность этих четырех институтов достаточна для генеральной функции права, и какие-то иные институты, например, социальное обеспечение или публично-властное регулирование труда, означает уже выход за пределы права.
Отрасли правового законодательства
Следует различать отрасли права и отрасли законодательства. Первые — это реальные институты. Вторые — это результат законодательного структурирования официальных прескриптивных текстов.
Совокупность отраслей права и совокупность отраслей правового законодательства объемлют один и тот же нормативно-правовой материал, но структурируют его по-разному. Отраслевая структура правового законодательства выражает более дробное и более сложное структурирование права.
Отрасль правового законодательства — это совокупность формальных норм (официальных прескриптивных текстов), обособленных законодателем в соответствии с доктринальным делением права на отрасли и подотрасли и в соответствии с его представлениями о задачах законодательного регулирования. В рамках отрасли законодательства тексты объединяются путем кодификации или консолидации нормативных актов, относящихся к одному предмету регулирования. Помимо правового существует перераспределительное законодательство.
Одной отрасли права могут соответствовать как одна, так и несколько отраслей правового законодательства.
В системе законодательства на первый план выдвинута конституция и конституционное законодательство. Конституционные тексты содержат общеправовые принципы и основные нормы разных отраслей права, они не только консолидируются в конституции и особых конституционных законах, но и воспроизводятся и конкретизируются в других отраслях законодательства.
Предназначение конституций и конституционного законодательства — официальное установление общих правовых рамок публичной власти. Современные конституции гарантируют права человека и определяют в основном институты государственной власти.
Диспозиции всех норм уголовного права собираются в одном уголовном законе (кодексе).
В уголовном кодексе — собрании всех диспозиций уголовного права — используется, в частности, бланкетный способ описания гипотезы. А именно, если правило о наказании за преступление «с материальным составом» имеет кумулятивную гипотезу, в которой первый элемент — определяемый уголовным кодексом вред, а второй — нарушение неких административных предписаний (например, правил дорожного движения), то, руководствуясь требованием оптимальной формы, законодатель не воспроизводит эти правила в уголовном кодексе.
Это означает, что административный закон является текстуальным источником уголовного права, но только в части гипотезы нормы уголовного права.
В административном законе по определению нет уголовно-правовых диспозиций, т. е. таких правоположений, которые устанавливают уголовную ответственность. Далее, в административном законе некое предписание является диспозицией «регулятивной» нормы (административного права), а его нарушение — элементом гипотезы другой, «охранительной» нормы (уголовного права). В административном законе сформулирована норма административного права, а при составлении текста уголовного кодекса законодатель, следуя принципу «минимум текста, максимум содержания», не повторяет текст административного закона и не дает полную формулировку гипотезы нормы уголовного права.
Другим же отраслям права обычно соответствуют несколько законодательных сборников — отраслей законодательства.
По мере исторического развития правовых систем происходит обособление и разветвление отраслей законодательства, соответствующих гражданскому, административному и процессуальному праву. При этом, во-первых, отдельные подотрасли гражданского, процессуального и административного права кодифицируются как самостоятельные отрасли законодательства. Во- вторых, формируются комплексные отрасли правового законодательства, состоящие, в основном, из норм гражданского и административного права.
Так, подотрасли гражданского права выделяются в отдельные отрасли законодательства, и получается несколько отраслей частноправового законодательства: “собственно гражданское законодательство” (гражданский кодекс), а также торговое и брачно-семейное законодательство, нормы которых кодифицируются отдельно от гражданского кодекса.
Процессуальное законодательство развивалось в форме двух отдельных отраслей — уголовно-процессуального и гражданского процессуального. Кроме того, возможно формирование административно-процессуального и конституционно-процессуального законодательства.
Государственно-административное (или просто административное) право в ХХ в. приобретает форму множества отраслей кодифицированного законодательства, соответствующих подотраслям административного права. Сюда относятся административно-деликтное законодательство, избирательное, финансовое, налоговое, таможенное, уголовно-исполнительное, экологическое и другие.
Комплексные отрасли законодательства (земельное, природоресурсное, предпринимательское) ограничивают свободу собственников по мотивам публичного интереса — обычно из фискальных соображений, в целях перераспределения.
Вопрос 12. Функции публично-властных институтов
Потестарная и юридическая интерпретации функций государства
Государственность функционально проявляется как публично-властное обеспечение фундаментальных принципов определенной социокультуры, принуждение к их соблюдению и подавление отклоняющегося поведения. В типологически противоположных цивилизациях государственность, выполняет в сущности противоположные функции: правовая государственность выступает как публично-властная институциональная форма свободы — обеспечивает равенство в свободе, подавляет агрессивное насилие; потестарная государственность, наоборот, сама проявляется как монополия на агрессивное насилие, подавление любой свободной социальной активности. Однако этой сущностной противоположностью функциональная характеристика потестарной государственности не исчерпывается.
Принципом правовой цивилизационной ситуации является возможность свободных социальных взаимодействий — в частности, не опосредованных публично-властным управлением. В развитой правовой ситуации (при капитализме) публично-властные институты образуют, главным образом, механизм принуждения к соблюдению частного права. Менее заметную роль здесь играет административное установление так называемых позитивных норм (прежде всего, налоговых) и соответственно принуждение к их исполнению. Иначе говоря, в правовой цивилизационной ситуации складываются саморегулирующееся гражданское общество и обслуживающее его «минимальное государство», институты которого предназначены в основном для официального выражения и публично-властной защиты одинаковых для всех правил свободной конкуренции. Соответственно основные акторы «минимального государства» избираются, а их деятельность реально контролируется избирателями.
Представить государственность в потестарной цивилизационной ситуации подобным образом невозможно. В этой цивилизационной реальности (деспотизм, тоталитаризм) государственность первична по отношению ко всем остальным социальным институтам. Принципом этой цивилизации является власть — публично-властное опосредование всех социальных взаимодействий. Поэтому публично-властные институты здесь не могут быть рассмотрены как механизм принуждения (субинституты) в рамках более сложных социальных институтов; здесь все социальные институты существуют как публично-властные институты.
В потестарной цивилизации общество, все виды социальных обменов (экономические, демо-социальные, духовно-культурные и т. д.) «форматируются» публично-властными институтами. Последнее означает, что здесь общая функция централизованного публично-властного управления социальной жизнью охватывает:
организацию общественного воспроизводства и сам производственный процесс, включая его техническую сторону;
изъятие производимого продукта для потребления, его накопление, распределение и перераспределение в рамках контролируемых обменов;
регулирование воспроизводства народонаселения, трудовых ресурсов, включая
— поддержание необходимого для воспроизводства рабочей силы уровня потребления,
— образование и профессиональную подготовку трудовых ресурсов,
— организацию всеобщего здравоохранения,
— культурно-идеологическое воспитание с целью легитимации существующих институтов;
контроль всех видов социальных взаимодействий (особенно, «контроль за мерой труда и мерой потребления»), подавление, наказание и исправление поведения, отклоняющегося от официально заданных норм;
захват новых территорий, природных и человеческих ресурсов; защиту имеющихся ресурсов другими государствами.
Все эти функции («основные направления публично-властного управления обществом») хотя бы в зачаточном виде присутствуют уже в древнем деспотизме и в развитой форме проявляются при тоталитаризме.
Перечисленные функции позволяют провести аналогию между потестарно организованным обществом и единым хозяйством, что предполагает социальные роли «хозяина» (хозяина всех ресурсов общества)[13], единоличного или коллективного, рекрутированных им «приказчиков» (одна из задач «хозяина» или его заместителей называется «подбор и расстановка кадров») или традиционных акторов публичной власти, составляющих служилые сословия — духовное, военное и гражданское, и все остальное население, выступающее в качестве «трудовых ресурсов».
Таким образом, в потестарной цивилизационной ситуации публично-властные институты и действующий в рамках этих институтов аппарат управления выполняют функции, которые в постсоветской учебной литературе представляются как типичные функции государственности, выражающие ее сущность. А именно, государственности как таковой приписываются функции: политическая, социальная, идеологическая, культурно-воспитательная, экономическая (хозяйственно-организаторская), контрольная, экологическая, фискальная, карательная и другие, необходимые для рачительного ведения «народного хозяйства».
Разумеется, в потестарной парадигме нет места для какой-то особой правовой функции государства. В потестарном понимании «правового» все названные функции осуществляются в «правовой форме», т. е. в форме публично-властного принуждения. Но поскольку сегодня общепризнанной является категория прав человека, то в потестарной интерпретации функций современного демократического государства появилось дополнение к приведенному списку: функция защиты прав и свобод человека и гражданина.
Получается, что «современное демократическое государство» и обеспечивает права человека, и каким-то образом умудряется выполнять «воспитательную», «идеологическую», «фискальную» и тому подобные функции, которые в правовой ситуации невозможны. Как можно, например, воспитывать публично-властными средствами или идеологически обрабатывать сознание человека, т. е. посягать на его духовную неприкосновенность, подавлять его свободу и, и одновременно защищать его права и свободы? По отношению к какому субъекту государство выполняет «функцию налогообложения»? Можно ли, признавая собственность фундаментальным правом индивида и основным социальным институтом, одновременно утверждать, что сообществу субъектов права государственность нужна постольку, поскольку она выполняет «фискальную функцию»?
Очевидно, что следует говорить не о функции, а об институте налогообложения, функции которого различны в зависимости от цивилизационного контекста. Если публично-властные институты складываются в сообществе равноправных индивидов, то здесь нет места для «фискальной функции государства», а институт налогообложения является лишь необходимым условием функций государства. Но когда в потестарной парадигме говорится о налогообложении именно как о функции государства, то предполагается, что никаких неотъемлемых прав как выражения свободы индивида не существует, что собственность производна от власти, и публично-властные институты нужны обществу для «перераспределения доходов среди различных групп и слоев населения, для обеспечения перспективного экономического, культурного, иного развития страны», т. е. имеется в виду потестарная цивилизационная ситуация.
Явные и латентные функции институтов государственности
Социальные институты, в том числе институты государственности, складываются в конкретном обществе постольку, поскольку они позволяют удовлетворять определенные социальные потребности, и существуют до тех пор, пока они выполняют эту функцию. Соответственно институты не складываются, если они препятствуют удовлетворению потребностей, хотя при этом они могут быть «идеологически правильными», могут быть предписаны конституцией и законами, «общепризнанными принципами и нормами международного права». Например, если бы в современной России установились институты рыночной экономики, гражданского общества, то большая часть населения (люди, не способные существовать в условиях свободной конкуренции) оказалась бы не в состоянии удовлетворять даже минимальные потребности, и уже поэтому сохраняются или модифицируются советские распределительные институты.
Институты могут обеспечивать удовлетворение одних социальных потребностей, но препятствовать удовлетворению других. Они могут быть выгодными для одних групп населения и не выгодными для других.
В частности это относится и к праву (и правовой государственности). Право в целом, или система правовых институтов, включая правовую государственность, обеспечивает удовлетворение потребностей посредством свободных социальных взаимодействий. Эта генеральная функция права складывается из функций основных правовых институтов, традиционно называемых отраслями права. Частное право обеспечивает свободное удовлетворение потребностей посредством эквивалентного обмена, в процессе свободной конкуренции. Институты публичного права выполняют функцию подавления агрессивного насилия и, как таковые, образуют механизм принуждения, обеспечивающий действие частного права.
Следовательно, право имеет разную ценность для конкурентных и неконкурентных членов общества, для тех, кто обладает собственными ресурсами жизнедеятельности, и для тех, кто таковыми не обладает. Отсюда вытекает, что люмпенские социальные группы являются носителями правового нигилизма и составляют социальную базу для коммунистической и вообще любой эгалитаристской, уравнительной идеологии. Они объективно нуждаются не в правовых, а в уравнительно-распределительных институтах.
Казалось бы, именно в интересах этих групп в обществе складываются и функционируют распределительные или перераспределительные публично-властные институты, ограничивающие возможности удовлетворения потребностей по принципу права, в процессе свободного эквивалентного обмена, но зато обеспечивающие удовлетворение хотя бы минимальных потребностей для тех, кто ничего не получает в условиях свободной конкуренции[14].
Здесь мы подошли к важнейшей проблеме теоретической интерпретации функций государства — проблеме различия так называемых явных и латентных функций.
Их различение ввел Р. Мертон для того, чтобы не смешивать субъективные мотивы социальной деятельности с объективными функциями институтов. В качестве явных и латентных функций он обозначал такие объективные результаты действия институтов, которые их акторы планируют и осознают, и такие, которые они соответственно не планируют и не осознают[15]. Однако уже из рассуждений самого Р. Мертона вытекает возможность другой интерпретации данного различения. А именно, во-первых, то, что названо «явной функцией», в действительности может быть лишь заявленной или мнимой функцией; т. е. такой функции объективно нет, а есть лишь заблуждение, что институт выполняет эту функцию. В таком случае, если институт, тем не менее, существует, он выполняет некую латентную функцию, которая действительно обеспечивает удовлетворение определенных социальных потребностей. Во-вторых, латентные функции Р. Мертон определял как неосознанные и непреднамеренные, однако латентность этого не предполагает. Функция института может быть скрытой от некоторых, но от всех акторов. Если функция не заявлена, это не значит, что она не предвидится теми, в чью пользу она осуществляется. Скорее, наоборот, действительную функцию некоего института открыто не заявляют не потому что ее не понимают, а потому что она не может быть легитимной с позиции социального большинства.
По этим причинам мы предпочитаем говорить применительно к публично-властным институтам не о явных и латентных, а об официально заявленных и действительных, хотя и скрываемых, функциях этих институтов. А именно, уравнительно-распределительные (и перераспределительные) институты, вопреки официальным (конституционным, законным или доктринальным) заявлениям об их функциях, действуют, прежде всего, в интересах самих акторов публичной власти, а не в интересах неконкурентных, социально слабых, «социально незащищенных», «непривилегированных» и т. п.
Функции любого социального института как объекта осуществляются по отношению к некоему субъекту, для субъекта. Функции правовой государственности заключаются в обеспечении равенства в свободе всех индивидов или самостоятельных хозяев, если их рассматривать с экономической точки зрения.
В потестарной же цивилизационной ситуации осуществляется общая функция управления обществом, которое представляет собой «государево хозяйство» (государь-ство). Понятно, что управление хозяйством осуществляется не ради процветания хозяйства как такового, а в интересах самого «хозяина»[16], т. е. по отношению к правителю или правящей группе. Поэтому рассмотренные выше функции, которые в потестарной идеологии заявлены как экономическая, социальная (как будто остальные — антисоциальные), культурно-воспитательная и т. д., направлены на удовлетворение потребностей людей, «населения» лишь постольку, поскольку «население» используется в «хозяйстве» как трудовые ресурсы или управленческие «кадры», и уровень удовлетворения потребностей зависит от того, сколь полезны люди в этом «хозяйстве».
В смешанной цивилизационной ситуации, в условиях западного социал-капитализма официально заявлено «социальное правовое государство», которому приписывается фантастическая способность совместить правовое равенство и перераспределение — в пользу неконкурентных и «в интересах общесоциального развития». Поэтому здесь с правовой функцией, осуществляемой для всех членов общества, конкурирует потестарная перераспределительная функция, осуществляемая якобы для общего блага, но фактически — только для тех, кто от нее выигрывает. А именно, перераспределение всегда происходит в пользу отдельных групп и, в первую очередь, в пользу самой перераспределяющей бюрократии.
Следует различать функции, которые реально выполняют институты государственности при социал-капитализме (их всего две — правовая и перераспределительная), и задачи «достижения всеобщего благополучия» (экономические, культурно-воспитательные, экологические, социального обеспечения, здравоохранения и т. п.), которые политический класс официально заявляет как решаемые публично-властными средствами и, тем самым, легитимирует государственный интервенционизм и расширяет сферу перераспределительных институтов.
Резюмируя рассуждения о функциях государственности, подчеркнем, что таковыми мы называем функции в сущности разных публично-властных институтов. Если социокультура строится преимущественно по правовому типу (правовому принципу), то и публично-властные институты в основном выполняют функцию обеспечения свободы и равенства в свободе (в конечном счете — обеспечения порядка удовлетворения потребностей по принципу эквивалентного обмена). Соответственно получается феномен правовой государственности — преобладания публичновластных институтов правового типа, организации и функционирования органов государственной власти в рамках публичного права. Правовая государственность достигается при капитализме. В античности же (в исторически неразвитой правовой ситуации), даже в условиях равноправия граждан полиса, в период расцвета рыночной экономики и частного права, публично-властные институты правового типа были недолговечными и эволюционировали в сторону деспотизма, нормы публичного права вытеснялись произволом правителя.
Публично-властные институты правового типа обязывают государственно-властных акторов реагировать на нарушения формального равенства (на агрессивное насилие) в экономической или иной социальной деятельности, но не позволяют им вмешиваться в социальные процессы, если принцип формального равенства не нарушен. То есть правовой принцип не допускает публично-властное вмешательство в пользу одной из формально равных сторон социальных взаимодействий. По праву нельзя вмешиваться в рыночные процессы на стороне тех, кто проигрывает в свободной конкуренции. Такое вмешательство является агрессивным насилием, а его легализация создает основу для коррупции, разрушения правовой государственности. Правовой принцип предполагает уголовное преследование в отношении тех, кто использует публичную власть для ограничения свободной конкуренции в экономике («регулируемый рынок») или в политическом процессе («управляемая демократия»).
Но не бывает «чисто правового государства». В реальном государстве правовой принцип может лишь доминировать, и всегда будет хотя бы минимальное государственное перераспределение. А именно, в реальном правовом государстве есть и перераспределительные (силовые) публично-властные институты, связанные с производством неделимых социальных благ. Так, услугами полиции и правосудия, организованными за счет налогоплательщиков, пользуются все, даже те, кто не платит налоги. Поэтому даже в правовой ситуации институт налогообложения содержит элемент принудительного перераспределения в пользу неимущих.
Если же господствует силовой принцип (деспотизм, коммунизм), то публично-властные институты однозначно строятся по силовому типу. Они выполняют функцию (систему функций) управления социальными процессами и распределения социальных благ в интересах политически господствующей группы. Здесь неправильно говорить: «доминируют» или «преобладают» публично-властные институты силового типа. Когда силовой принцип в обществе господствует, то правовая субкультура политически угнетается и подавляется, следовательно, здесь не может быть публично-властных институтов правового типа.
Наконец, в смешанной цивилизационной ситуации присутствуют или даже конкурируют публично-властные институты правового и силового типов. Не говоря уже о феодализме, где соседствовали правовые институты городской публичной власти и феодальная власть-собственность, в современном западном социал-капитализме институты государственности, с одной стороны, защищают собственность, с другой — выполняют перераспределительную функцию в таком объеме, что защита собственности происходит уже «по остаточному принципу». Что касается восточного социал-капитализма, то здесь институты публичной власти функционируют главным образом как институты распределяющие и перераспределительные.
Вопрос 13. Гражданское общество и правовое государство
• Гражданское общество — это система ненасильственных социальных взаимодействий, не опосредованных государственной властью, свободных от публично-властного участия.
В потестарной парадигме общество как порядок социальных взаимодействий видится не спонтанно складывающимся, а искусственным образованием, производным от политического управления: публично-властные институты формируют, изменяют, совершенствуют цивилизованное общество. Вопрос о соотношении государственности и других социальных институтов здесь решается по логике этатизма, начиная с утверждения, что государственный интервенционизм ведет к всеобщему благополучию, и заканчивая тоталитаристским тезисом «государство — форма общества».
В либертарной парадигме признается, что порядок социальных взаимодействий может быть достигнут и без их опосредования публично-властными институтами, и правовая государственность лишь обеспечивает правовой порядок, в рамках которого спонтанно складывается саморегулирующееся гражданское общество.
В ходе исторического прогресса свободы в капиталистическом обществе происходит дифференциация экономических и политических отношений, сферы собственности и сферы публичной власти, частного права и публичного права. Общественное развитие становится относительно независимым от государственного управления. Прежде всего экономика успешно функционирует по законам рынка, без публично-властного вмешательства в рыночные процессы. Возникает специфический для капитализма феномен гражданского общества[17] — система социальных взаимодействий, не опосредованных государственной властью и происходящих по правилам частного права.
Свобода от публично-властного вмешательства означает, что никто не вправе ограничивать ненасильственную деятельность любых дееспособных лиц, заключение и совершение ими любых сделок, образование новых юридических лиц, включая политические партии. Правительство не вправе устанавливать ограничения на деятельность дееспособного лица по соображениям защиты его интересов либо на основании предположений о намерениях или последствиях. Никто не может быть принудительно лишен своего имущества для государственного употребления по соображениям публичных интересов. Правительство не вправе вести деятельность, которую берутся и могут осуществлять частные лица; оно не вправе владеть имуществом иначе, как прямо предназначенным для осуществления дозволенной ему деятельности. Правительство не вправе не только ограничивать права, но и предоставлять привилегии, в частности, уменьшать или увеличивать налоги в зависимости от пола, национальности, вероисповедания, места жительства, работы, видов деятельности, размеров доходов и других обстоятельств, фактических различий. В гражданском обществе никто, включая акторов публичной власти, не вправе применять насилие иначе, как для защиты прав лиц и только в случае нарушения этих прав. Никто не вправе применять насилие по соображениям публичного интереса[18].
Феномен свободного (гражданского) общества, проявившийся при капитализме, означает исторически развитую правовую ситуацию, в которой достигнуто верховенство прав человека по отношению ко всем иным ценностям социальной жизни. Верховенство прав человека — это прежде всего признание в сообществе за каждым человеком фундаментального права принадлежать только самому себе и самостоятельно определять свое поведение, руководствоваться своим частным интересом вопреки любым публичным интересам — если только при этом не нарушаются такие же права других, не нарушается запрет агрессивного насилия.
В посткоммунистическом обществе, с его неразвитой правовой культурой и неконкурентной природоресурсной экономикой, по существу — докапиталистической, не может быть гражданского общества правового типа. Так, в российском обществе важнейшие социальные институты строятся «по понятиям», в которых трудно обнаружить принцип права. Когда С.Г. Кордонский, выдающийся современный исследователь, характеризует не опосредованную официальными институтами социальную жизнь в нашей стране как специфический, российский феномен «гражданского общества», он имеет в виду то, что в правовой цивилизационной ситуации называется коррупцией[19].
Саморегулирование гражданского общества
История показывает, что саморегулирующиеся общества более конкурентоспособны в сравнении с теми, где саморегулирование вытесняется публично-властными институтами. Основу саморегулирования составляет собственность — фундаментальный социальный институт, который в юридической парадигме предстает в виде системы субинститутов частного права.
Собственность мы рассматриваем, в первом приближении, как такой порядок социальных взаимодействий, при котором ресурсы жизнедеятельности легитимно присваиваются. Противоположный порядок означает, что основные ресурсы жизнедеятельности принадлежат всем вместе и никому в отдельности, а фактически их производство, накопление и распределение осуществляются в рамках публично-властных институтов потестарного типа.
Если основными ресурсами жизнедеятельности некоего народа являются природные ресурсы, то в социокультуре этого народа собственность развиваться не будет, ибо присвоение отдельными людьми того, что считается принадлежащим всем, не может быть легитимным. Поэтому во всех природоресурсных странах правовые институты неразвиты. Когда в этих странах устанавливаются демократические режимы, они всегда институционализируют публично-властное управление природными (и не только природными) ресурсами, прежде всего — их распределением и перераспределением. Проблему же модернизации, догоняющего индустриального развития (после того как происходил срыв модернизации по капиталистическому типу) такие страны пытались решать в ХХ веке переходом к коммунизму или подобному тоталитаризму. Однако оказалось, что формирование индустриального общества невозможно посредством силового принуждения, что коммунизм лишь имитирует индустриальное развитие[20].
По существу собственность — это и есть общественное саморегулирование (регулирование без «внешнего» управления), в противоположность публично-властному регулированию как «внешнему» управлению социальными процессами.
По мере исторического развития собственности в цивилизации правового типа, ее освобождения от публично-властных «наслоений» ее регулирующее действие в гражданском обществе проявляется через институционализацию свободной экономической и политической конкуренции и преобладание правового способа разрешения социальных конфликтов.
Любая социальная система складывается в среде с ограниченными ресурсами жизнедеятельности, удовлетворения человеческих потребностей (в природоресурсных странах традиционно используемые ресурсы тоже истощаются в эпоху глобального индустриального развития). Собственность же позволяет оптимизировать потребление ресурсов, закрепляет социальные институты, которые делают невыгодным нерациональное использование ресурсов. Прежде всего таким институтом является рынок, предполагающий равную для всех экономическую свободу (свободу предпринимательства)[21].
Рынок означает такой порядок удовлетворения потребностей (следовательно, порядок использование ресурсов системы), при котором выгода каждого определяется, в конечном счете, его полезностью для остальных. Иное удовлетворение потребностей невыгодно, так что рынок выбраковывает и вытесняет из активной социальной жизни тех, чья полезность меньше — неконкурентных именно в этом смысле, а не в смысле силовых методов конкуренции.
Вторжение же в рынок еще и публично-властных акторов (государственный интервенционизм) делает невозможным оптимальное расходование ресурсов социальной системы, поскольку теперь выгода для акторов рынка определяется не только и не столько их полезностью, сколько их доступом к публично-властным ресурсам. Понятно, что такое вторжение выгодно, прежде всего, тем, кто в отношениях свободного рынка оказывается в фактически невыгодном положении, и самим публично-властным акторам, паразитирующим на экономической жизни общества. Так разрушается саморегулирующееся гражданское общество.
Свободная от публично-властного вмешательства система социальных взаимодействий возможна лишь постольку, поскольку сами участники этих взаимодействий, не заинтересованные в таком вмешательстве, определяют параметры публично-властной деятельности. Поэтому важнейшим институтом гражданского общества является свободная политическая конкуренция — не контролируемый правительством формально равный доступ всех граждан и образуемых ими партий к политической деятельности. Этот институт можно считать первым условием либеральной демократии как одного из измерений правовой государственности.
Либеральная демократия, с одной стороны, позволяет свободно формирующимся и побеждающим в политической конкуренции партиям задавать такие параметры правительственной политики, которые, с их точки зрения, обеспечивают обществу наиболее благоприятные условия. Рынок, реагируя на эту политику, корректирует ее параметры: если положение в обществе ухудшается, то благодаря свободной политической конкуренции происходит смена правящей партии. С другой стороны, либеральная демократия не должна позволять никаким партиям или иным группам ограничивать права человека, в частности собственность и любые формы свободной конкуренции. Поэтому либеральная демократия (и правовая государственность в целом) предполагает рассредоточение государственной власти с таким расчетом, чтобы никакая группа, возможно, претендующая на выражение воли большинства, не могла использовать возможности публичновластного вмешательства в социальные процессы для подавления свободной конкуренции и утверждения своего монопольного господства. Непременным условием рассредоточения государственной власти (разделения властей) является независимость судебной системы от парламента и правительства, которые могут контролироваться группой, использующей публично-властные ресурсы для ограничения конкуренции в свою пользу.
Саморегулирование гражданского общества обеспечивается независимым правосудием постольку, поскольку оно препятствует вмешательству любых публично-властных акторов, включая законодателя, в процессы свободной экономической и политической конкуренции, препятствует соединению в процессе конкуренции ресурсов частных лиц с так называемыми административными ресурсами (по существу это ресурсы агрессивного насилия). Имеется в виду право-судие в буквальном смысле — разрешение судебной властью споров или социальных конфликтов по принципу формального равенства и с целью защиты ненасильственной деятельности дееспособных лиц от любых ограничений, незаконных или законных, исходящих от частных лиц или публично-властных субъектов. Независимость правосудия предполагает компетенцию судебной власти признавать юридически недействительным любой публично-властный акт, дозволяющий агрессивное насилие, нарушение прав человека.
Возможны два способа разрешения социальных конфликтов — силовой и правовой. При силовом способе, в условиях публично-властной монополии на насилие, конфликт, возникающий из экономической или политической конкуренции, решается в пользу того, кто обладает большими административными ресурсами; причем в административных ресурсах или подобной «крыше» нуждаются, прежде всего, неконкурентные субъекты, полезность которых для общества минимальна и которые могут эффективно удовлетворять свои потребности, только прибегая к агрессивному насилию. В частности, если неких хозяйствующих субъектов «крышуют» публично — властные акторы, или же сами эти акторы имеют свой бизнес, то эти субъекты будут вытеснять конкурентов, не имеющих такой поддержки, независимо от их полезности. Общество, в котором властные акторы одновременно участвуют в экономической конкуренции, непременно проиграет соревнование с рыночным обществом. Производители будут вывозить капитал туда, где меньше агрессивного насилия и больше свободы предпринимательства, где равные для всех правила конкуренции более действенно препятствуют соединению бизнеса и публичной власти.
Правовой способ означает, что возникающие в процессе конкуренции конфликты рассматриваются как споры, стороны которых равноправны независимо от размера их имущества или административных ресурсов. Соответственно правомерными признаются любые ненасильственные действия, даже если они нарушают интересы других, включая так называемые публичные или общественные интересы, за которыми всегда стоят интересы конкретных лиц или групп.
Из этих рассуждений ясно, что независимое и беспристрастное правосудие возможно лишь в таком обществе, в котором доминируют правовые институты, т. е. удовлетворение потребностей происходит, в основном, по принципу свободного эквивалентного обмена, и в котором большинство не нуждается в распределительной или перераспределительной деятельности правительства. В частности, эффективные собственники, действуя по равным для всех правилам, оказываются в фактически выгодном положении. Их действия правомерны, и поэтому они заинтересованы в разрешении конфликтных ситуаций независимым и беспристрастным правовым судом.
Если же общество таково, что выгодный или невыгодный социальный статус определяется наличием или отсутствием административных ресурсов или привилегий, предоставляемых правительством, то независимое правосудие не соответствует интересам акторов, доминирующих в таком обществе.
Вопрос 14. Правовое положение человека в государстве
Правовые институты государственности могут быть исторически развитыми и неразвитыми, более и менее развитыми в одновременно существующих культурах. Доминирование же правовых институтов обозначается как правовое государство или господство права.
Господство права достигается в условиях капитализма, и сменяющий его социал-капитализм, смешанный цивилизационный тип, не создает какое-то принципиально новое правовое государство («социальное правовое государство»). Но интенсивное развитие права продолжается и при социал-капитализме, правовые институты государственности развиваются и в рамках этого цивилизационного типа; другое дело, что их значимость при социал-капитализме существенно понижается, они потесняются перераспределительными институтами.
Господство права предполагает, что права человека признаются высшей ценностью, и публично-властные институты обеспечивают соблюдение и защиту прав человека. Однако представления о правах человека существенно различаются в потестарной и либертарной парадигмах.
Если под «правом» понимать принудительный порядок независимо от его содержания, то права человека оказываются мерой дозволенного поведения, производной от закона, от «воли господствующего класса» или иной правящей группы, от некоего «государства» — субъекта таинственного и всемогущего, источника социальных благ и носителя высшей силы. В потестарной парадигме социум мыслится, прежде всего, как система властеотношений, как господство одних людей над другими, и человек как таковой представляется как существо изначально, онтологически бесправное, права которого могут быть только октроированными[22]. При такой интерпретации не может быть естественных (дозаконных) прав человека «в юридическом смысле»[23]. То, что здесь называется естественными правами, считается моральными притязаниями, духовными или общекультурными предпосылками, а «юридические» основные права и свободы интерпретируются в этом их «юридическом» качестве исключительно как результат властного признания моральных и подобных требований. Содержание и объем прав человека полагаются в потестарной парадигме случайными: здесь допускается, что «право» в какой-то культуре может и не признавать никаких прав человека, что в разных странах, культурах, у разных народов могут быть в сущности противоположные представления об основных правах, включая отрицание индивидуальной свободы и признание только групповых, коллективных прав, и что даже в одном и том же государстве может быть одновременно право собственности и «право» правительства отнимать у имущих столько, сколько требуется для того, чтобы безвозмездно предоставлять материальные блага тем, кто не может за них заплатить.
Если же понимать право как необходимую форму свободы и правовое принуждение — как средство против агрессивного насилия, против ограничений ненасильственной деятельности, против посягательств на свободу, то права человека выглядят совсем иным образом.
С юридической позиции права человека в сущности — это безусловные притязания индивидов на свободную социальную самореализацию. Они возникают и развиваются по мере исторического прогресса свободы, независимо от их официального признания, провозглашения и формулирования (разумеется, ради их всеобщего соблюдения они нуждаются в таком признании и формулировании). Они существуют не в силу их установления неким властным субъектом, а в силу объективного процесса правообразования. Законодатели лишь фиксируют этот процесс. Отсюда — характеристика прав человека как неотъемлемых и неотчуждаемых: человек не может быть лишен этих прав (человек может быть ограничен в пользовании этими правами в рамках юридической ответственности) и заявление человека об отказе от этих прав не порождает юридических последствий.
Права человека — разные в разных правовых культурах, и они развиваются по мере исторического прогресса свободы. Но в любой реальной правовой культуре есть хотя бы minimum minimorum — абсолютный минимум правовой свободы. Сюда входят три компонента: личная свобода (самопринадлежность), собственность и безопасность, обеспеченная публично-властными институтами.
По традиции права человека называются естественными. Однако это не значит, что они естественные в прямом смысле — природные, прирожденные или принадлежащие каждому от рождения. Разумеется, логически невозможно отрицать, что если все люди от природы равны в своей человеческой сущности, то, признавая в нашей культуре, что человек принадлежит самому себе, мы должны распространять это признание и на человека в любой другой культуре. Проблема в том, что с позиции той, другой культуры, возможно, человек и не принадлежит себе (или не каждый вправе распоряжаться собой), и различия в социокультурной реальности не зависят от нашего их признания или непризнания. Права человека, как и право вообще — это социокультурное, а не природное и не логическое явление, и те или иные права как реальность, а не абстрактная потенция, принадлежат человеку не «от рождения человеком», а от рождения в такой социокультуре (в силу нахождения в таком социуме), в которой эти права признаются за каждым человеком.
Вопрос 15. Система прав человека в правовом государстве
Права человека составляют его статус свободного индивида, который (общий правовой статус) складывается из трех составляющих: status negativus, status activus, status positivus. Ниже приводится «логический ряд» прав человека, отдельные из которых могут и не признаваться в реальных неразвитых правовых культурах.
Status negativus — это права, которые очерчивают сферу свободной жизнедеятельности, в которую не вправе вмешиваться ни частные лица, ни государство. Сюда входят: право на уважение достоинства личности, включая запрет подвергать человека унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию; право на личную свободу и неприкосновенность (включая запрет силового принуждения к труду); право собственности и право наследования; неприкосновенность собственности, включая запрет конфискации в виде наказания (если имущество нажито преступным путем, то потерпевшие вправе требовать возмещения вреда, но не конфискации); свободы предпринимательства, творчества и другие частные проявления самопринадлежности человека.
В современной юридической риторике используется и словосочетание «право на жизнь» (включая право не быть подвергнутым смертной казни). Оно провозглашено в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантируется Конституцией РФ 1993 г. (правда, в тексте Конституции одновременно признается право на жизнь и допускается смертная казнь). Однако такое право не существует в одном ряду с тем, что перечислено выше. Жизнь не есть такое благо, на которое можно иметь право или не иметь права. Жизнь, как и смерть, есть фатальность, судьба, счастливая или несчастная, но отнюдь не право. Любое право можно нарушить, а потом восстановить, а «право на жизнь» нельзя нарушить в том же смысле. Из запрета смертной казни, введенного по соображениям гуманизма, ее неэффективности и т. п., вовсе не вытекает вербальная конструкция «право на жизнь»[24].
Status activus образуют права, которые очерчивают пределы свободной публичной активности человека как индивида или как гражданина определенного государства: свобода выражения мнений и убеждений, свобода информации, право на объединение, на проведение публичных мероприятий, избирательные права и другие формы публичных взаимодействий (и воздействий), включая право на самозащиту, но исключая любые проявления агрессивного насилия.
Status positivus означает систему прав человека на публично-властное обеспечение безопасности. Иначе говоря, это права на государственную защиту (полицейскую и судебную) от агрессивного насилия. К ним относятся, в частности, права, обеспечивающие доступ к правосудию, на судебный контроль за правомерностью полицейских действий (особенно, правило habeas corpus), на справедливое судебное разбирательство, на квалифицированную юридическую помощь — не только в виде государственного обвинителя, прокурора, но и государственного защитника, адвоката, и другие гарантии свободы, институционализированные в публично-властном механизме принуждения.
Во второй половине ХХ века понятие безопасности, обеспечиваемой государством, расширилось вследствие глобального экологического кризиса; сегодня признается право на экологическую безопасность, которому соответствует обязанность государства осуществлять специфическими государственно-властными средствами защиту окружающей среды и обеспечивать граждан достоверной информацией о ее состоянии.
Однако нет и не может быть «права на благоприятную окружающую среду» (это нечто аналогичное «праву на жизнь»), как не может быть «права на дождь», «на хорошую погоду», «на урожайный год» и т. п. Хотя экологический кризис — результат человеческой деятельности, правовое регулирование этой деятельности не может создать «благоприятную окружающую среду». Правовыми средствами можно лишь препятствовать дальнейшему уничтожению человеком экосистем и природы в целом, но нельзя препятствовать природным явлениям — ураганам и засухам, землетрясениям и «озоновым дырам», влиянию космоса и периодическим глобальным изменениям климата.
Права на безопасность следует отличать от притязаний социально слабых на так называемую социальную защищенность — потребительские привилегии. То, что в потестарной парадигме изображается как «права человека второго поколения», суть притязания неконкурентных или менее конкурентных групп на публично-властное перераспределение в их пользу, а удовлетворение этих притязаний является разновидностью агрессивного насилия.
Права человека в реальных правовых культурах не зависят от усмотрения властных субъектов, законодателей — не только в негативном, но и в позитивном смысле. Законы в национальной правовой культуре не могут отменять или запрещать права человека, которые уже достигнуты этой культурой (законы могут их лишь нарушать). Но точно так же законы не могут порождать или учреждать права и свободы, которые еще не достигнуты в конкретной национальной правовой культуре. И когда в стране с неразвитой правовой культурой принимается конституция, в которой воспроизводятся формулировки о правах человека, достигнутых в наиболее развитых культурах, то отсталая культура от этого не становится развитой, и права человека не становятся реальностью. Можно перечислить в конституции все права и свободы, известные на сегодняшний день; но если подавляющее большинство населения не осознает их смысл, то конституционные положения о правах человека фиктивны. Конституционный каталог прав и свобод делает человека свободным не более, чем поваренная книга — сытым. То, что сегодня в России описывается в официальных текстах в качестве прав человека, «списано» с текстов, отражающих реальность в наиболее развитых правовых культурах. По объему и содержанию этот каталог прав человека существенно шире, чем minimum minimorum свободы. В то же время в России еще не сложились социальные институты, свидетельствующие о том, что хотя бы minimum minimorum правовой свободы уже достигнут.
Вопрос 16. Конституционная юрисдикция. Marbury v. Madison (1803)
Суд конституционной юрисдикции рассматривает споры о праве между гражданином и законодателем по поводу конституционности закона, нарушающего, по мнению гражданина, его конституционные права. Он проверяет конституционность законов, т. е. контролирует их правовой характер. Закон, признанный судом противоречащим конституции, утрачивает силу полностью или частично. При этом не требуется отмена закона законодателем.
Суд в первую очередь обязан дать такое толкование проверяемого закона, которое не противоречило бы конституции. И лишь тогда, когда суд считает такое толкование невозможным, он объявляет закон не соответствующим конституции.
Различаются европейская (австрийская) и американская модели конституционной юрисдикции.
По европейской модели специально создается судебный орган — конституционный суд, который один обладает правом признавать законы неконституционными. Он рассматривает только конституционно-правовые дела. В основном это проверка конституционности законов и других актов высших органов власти и разрешение споров о конституционной компетенции. При этом используется множество процедур, которые, прежде всего, подразделяются на конституционный контроль и конституционный надзор.
Абстрактный конституционный надзор означает, что суд может по собственной инициативе, возбудить процедуру проверки конституционности нормативного акта. Нетрудно заметить, что в этом случае он выступает как судья в своем деле, что противоречит природе правосудия и одному из основополагающих правовых принципов. Это наглядно продемонстрировала деятельность первого Конституционного Суда РФ (РСФСР), обладавшего полномочиями абстрактного надзора и использовавшего их в политических целях. Деятельность этого Суда была приостановлена (силовым путем) в октябре 1993 г. Ныне действующий Конституционный Суд РФ такими полномочиями не обладает.
Конституционный контроль допускает проверку конституционности лишь при наличии спора о праве — в случае обращения в конституционный суд с запросом о конституционности или с иском о защите конституционных прав (в России такой иск называется жалобой).
Различаются абстрактный и конкретный, предварительный и последующий конституционный контроль.
Конкретный контроль осуществляется в отношении закона, который применен или подлежит применению в конкретном деле, в связи с его применением. Абстрактный контроль осуществляется по запросам компетентных государственных органов — независимо от того, применяется закон или нет.
Предварительный осуществляется в отношении законов, не вступивших в силу, или законопроектов. Соответственно последующий — в отношении законов, вступивших в силу. Абстрактный контроль может быть как предварительным, так и последующим, конкретный — только последующим.
Конкретный контроль возможен в двух вариантах. Во-первых, это инцидентный контроль, т. е. проверка конституционности закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, по запросу суда, рассматривающего это дело и полагающего, что этот закон противоречит конституции. В силу презумпции конституционности законов, принятых после конституции, суд, сомневающийся в конституционности закона, должен его применять пока остаются сомнения (сомнения — в пользу применения закона).
Во-вторых, граждане вправе обращаться в конституционный суд с иском о признании недействительным закона, который нарушает их права. Такое правомочие выражает сущность и предназначение конституционной юрисдикции, осуществляемой по европейской модели. Если создается орган, компетентный признавать законы недействительными, в этом смысле — стоящий над избираемым народом парламеном-законодателем, то это оправдано тем, что человек должен иметь возможность защищать свои права от законодательных нарушений.
По американской модели (США) конституционную юрисдикцию осуществляет верховный суд — суд общей юрисдикции, выступающий, как правило, высшей апелляционной или надзорной инстанцией.
Верховный суд США не занимается абстрактным конституционным контролем. Нижестоящие суды должны сами решать вопрос о конституционности закона, применяемого или подлежащего применению в конкретном деле. Здесь нет специального института конституционного иска, который можно было бы подавать только в верховный суд.
Верховный суд, осуществляя инцидентный конституционный надзор, выступает как судья в своем деле — выбирает законы, которые, по его мнению, неконституционны (правда, он редко пользуется этим правом). Вместе с тем он связан инцидентом — делом, в связи с которым возникает повод проверить конституционность закона. Верховный суд устанавливает обязательный для всех судов прецедент применения или, наоборот, неприменения закона по причине его соответствия или несоответствия конституции. Первым таким прецедентом стало решение по делу Мэрбери против Мэдисона (1803 г.).
Содержание этого дела сводится к следующему. Дж. Адамса, второго президента США, от партии федералистов, в 1801 г. сменил республиканец Т. Джефферсон. Но прежде, стремясь сохранить влияние федералистов, Адамс расставил своих сторонников в судах разного уровня. Так, федералисты контролировали верховный суд. Кроме того, Адамс добился учреждения новых судебных должностей, в частности — в результате принятия закона о федеральном округе Колумбия (столица США город Вашингтон). Это довольно искусственное образование в федеративной структуре США. Его создание объясняется, в частности, тем, что выделяя столицу в самостоятельную единицу, Адамс создал судебные вакансии и добился назначения федералистов. Голосование в Сенате по их кандидатурам и оформление судейских патентов затянулось до полночи в последние сутки пребывания Адамса в должности (отсюда название — «полуночные судьи»). Когда они обратились уже к новой государственной администрации за получением судейских патентов, Дж. Мэдисон — Государственный секретарь в администрации Джефферсона — отказал им, откровенно нарушив свои обязанности. Тогда один из «полуночных судей», У. Мэрбери, обратился в Верховный Суд с иском, в котором требовал обязать Мэдисона выдать судейский патент. При этом он ссылался на Акт о судоустройстве 1789 г., позволявший Суду отдавать распоряжение администрации, если она не выполняет свои обязанности.
Председатель Суда Маршалл исходил из того, что заставить Мэдисона выдать патент фактически невозможно, и если решение будет принято в пользу Мэрбери, а республиканцы его не выполнят, то престиж Суда упадет, и позиции федералистов в политике ослабеют. Поэтому Маршалл пожертвовал сиюминутными интересами, но выиграл в долгосрочной перспективе. Решение было принято в пользу Мэдисона, но с таким расчетом, чтобы извлечь из него пользу для Верховного Суда, а значит — и для федералистов. А именно: Маршалл, формулируя мнение Суда, указал, что Мэрбери имеет право на назначение, и по закону (Акт о судоустройстве) Суд вправе дать предписания администрации о выполнении требований истца. Но по Конституции, подчеркнул Маршалл, власть разделена на законодательную, исполнительную, и судебную, и нигде в Конституции не сказано, что одна ветвь власти может вмешиваться в компетенцию другой. Поскольку для конституционных органов власти не разрешенное Конституцией вмешательство в чужую компетенцию запрещено, Маршалл сделал вывод: если какой-либо закон дозволяет вмешательство в компетенцию другой ветви власти, то он противоречит Конституции и его следует считать недействительным.
Таким образом, Мэрбери было отказано в иске по формальным основаниям: положение закона, позволяющее отдать предписание Мэдисону, недействительно. Тем самым Верховный Суд ограничил свою юрисдикцию в отношениях непосредственно с исполнительной властью, но одновременно добился большего — признания за ним права судить о конституционности актов законодательной власти и, в конечном счете, определять, что дозволено и что не дозволено главе исполнительной власти.
Вопрос 17. Институты социал-капитализма. Перераспределяющее государство
Это перераспределительные институты, посредством которых все стремятся перераспределять в свою пользу.
• В цивилизации западного социал-капитализма все имеют формально-равный доступ к механизмам публично-властного перераспределения. Но в долгосрочной перспективе оказывается, что единственной группой, постоянно выигрывающей от перераспределения, является бюрократия.
• В цивилизациях восточного социал-капитализма складываются устойчивые группы, контролирующие и перераспределение в свою пользу, и саму перераспределяющую бюрократию.
Капиталистическое (гражданское) общество объективно является прогрессивным в сравнении с государственно-управляемым обществом, поскольку обеспечивает рост производительности труда и на такой основе — всеобщее удовлетворение потребностей по принципу эквивалентного обмена. Но конкретно-исторически оно более благоприятно для конкурентных социальных акторов. В то же время институты гражданского общества постоянно «выбраковывают» менее конкурентных, которые образуют группы, заинтересованные в публично-властном ограничении свободной конкуренции. Причем каждая такая группа рассчитывает, что ограничение будет осуществляться в ее пользу — начиная с менее конкурентных производителей, которые требуют установления минимального порога цен, и заканчивая люмпенскими группами, которые требуют «социальной справедливости», т. е. всеобщей уравниловки.
Но когда такие требования становятся легитимными, и начинается практика государственного перераспределения, тогда возникает западный социал-капитализм — исторически развитый тип смешанной цивилизации, в котором основные виды социальных взаимодействий «форматируются» как экономически, так и политически, опосредуются правовыми и конкурирующими с ними потестарными институтами.
Внешне процесс перехода к социал-капитализму выглядит следующим образом. По мере прогресса свободы при капитализме достигается всеобщее формальное равенство и, в частности, всеобщее равное избирательное право. В свободной политической конкуренции, как правило, побеждают партии, выражающие примерно те же интересы, которые доминируют в экономике. Интересам конкурентных групп соответствуют сохранение свободного рынка и минимальное государство. Однако по воле большинства избирателей контроль над парламентом и правительственными органами могут получить партии, заявляющие, что они выражают интересы социально слабых и вообще всех менее конкурентных[25]. Эти партии запускают механизм публично-властного вмешательства в социальные процессы, и так происходит «политическая деформация капитализма». То есть некие группы политического класса, используя публично-властные институты, поворачивают вектор исторического развития в сторону потестарного, перераспределительного регулирования.
Следует, однако, подчеркнуть, что «политическая деформация капитализма» — не случайный, а исторически закономерный процесс перехода от цивилизации «чисто» правового типа к смешанной цивилизации. Как бы мы не оценивали этот переход, он выражает ту же самую закономерность, действие которой проявилось в гибели греко-римской цивилизации: это историческая конкуренция правового и уравнительного, потестарного начал мировой социокультуры.
Это не означает, что социал-капитализм являет собой однозначно более прогрессивный цивилизационный тип в смысле роста удовлетворения потребностей. В основе этого роста может быть только повышение производительности труда, а публично-властное перераспределение в лучшем случае никак на нее не влияет. То есть можно утверждать, что рост удовлетворения потребностей при социал-капитализме продолжается за счет его «капиталистической составляющей», несмотря на ее подавление потестарными институтами.
Правительственное вмешательство в дела общества может иметь видимые позитивные результаты, но невидимыми последствиями оно больше вредит, чем приносит пользу (Фредерик Бастиа). И первое из этих невидимых последствий — расходование социальных ресурсов на механизм перераспределения. Понятно, что правительство «дает» обществу меньше, чем забирает в виде налогов; причем стоимость механизма перераспределения растет в геометрической прогрессии в сравнении с ростом результатов перераспределения. Кроме того, редистрибутивное государство — это паллиатив: если людям платить за то, что они безработные, бедные и больные, то доля таковых в населении страны будет расти. Оно не решает социально-экономических проблем, которые возникают при рыночной экономике. Все попытки совершенствования перераспределительного механизма оборачиваются лишь ростом издержек, неэффективной растратой общественных ресурсов, отвлечением массы квалифицированных и энергичных людей от действительно полезной деятельности.
Хотя всеобщее формальное равенство достигается при капитализме, в условиях западного социал-капитализма по инерции продолжалось интенсивное развитие правовых публично-властных институтов. Так, институты административной и конституционной юрисдикции в Западной Европе сложились лишь к середине ХХ века. Но не нужно относить их к заслугам социал-капитализма. Более того, перераспределительные публично-властные институты требуют централизации государственной власти, концентрации важнейших полномочий в институте реального главы государства. Всё это не может продолжаться до бесконечности: западная социокультура правового типа разрушится, и на ее месте возникнут новые[26].
Таким образом, при западном социал-капитализме уже нет гражданского общества и правового государства. Всё общество покрыто «сетью» перераспределительных публично-властных институтов. Поэтому в идеологии западного социализма смысл слов и понятия изменились до неузнаваемости. Государственный интервенционизм, вытеснение публично-правовых институтов публично-властным агрессивным насилием стали называть социальным правовым государством (в социалистической идеологии, шельмующей капитализм, подразумевается, что при капитализме правовое государство было антисоциальным). Правами человека стали называть потребительские привилегии: у каждого человека есть якобы право потреблять, хотя, возможно, он ничего не производит. Не решаясь открыто признать, что гражданского (капиталистического) общества уже нет, социалисты утверждают, что общество стало плюралистическим и демократическим, а гражданское общество — это самодеятельность граждан типа некоммерческих, неправительственных организаций (НКО); отсюда представления, что западное общество складывается, в основном, из трех сфер: государство, бизнес (бизнес — это нажива, он не может быть гражданственным) и НКО (некоммерческие — значит гражданские!)[27]. По поводу гражданственности НКО следует отметить, что если они некоммерческие, значит кто-то их финансирует. Средства же можно получать либо от бизнеса, где создаются все ресурсы жизнедеятельности, либо от правительства, которое эти ресурсы перераспределяет. Как известно, «кто платит, тот и заказывает музыку», и если НКО финансируются правительством, то они, вместе с правительством, паразитируют на бизнесе; если — бизнесом, то прежде всего бизнес, а не НКО, нужно считать остатками гражданского общества (в той мере, в которой бизнес не контролируется правительством).
Любое принудительное перераспределение социальных благ, приобретенных по принципу формального равенства, является нарушением правового принципа, разновидностью агрессивного насилия или «дозволенным законом грабежом» (Фома Аквинский, Фредерик Бастиа). Перераспределение всегда произвольно — независимо от того, осуществляется ли оно авторитарно, вопреки воле большинства или же по решению некоего большинства, в целях ли еще большего обогащения или же в целях «компенсации» исходно ущербного фактического состояния неконкурентных. Можно оценивать отдельные перераспределительные институты как способствующие прогрессу свободы (например, всеобщее бесплатное образование может способствовать повышению уровня правовой культуры), можно оправдывать некоторые разновидности косвенного перераспределения «неделимостью общего блага» (например, институты безопасности), но все равно перераспределение социальных благ, приобретенных по принципу формального равенства, не может быть ничем, иначе как нарушением формального равенства. Никакой правовой основы перераспределения нет и быть не может.
Социалистическая идеология (и соответствующая практика) «социальной справедливости» — это идеология уравнительная: неимущие получают минимум социальных благ за счет имущих, т. е. имеют потребительские привилегии. Но эта идеология возникла в контексте культуры правового типа, и ее риторика маскируется под правовую, а привилегии называются правами: «право на социальное обеспечение (бесплатное или социальное жилье, образование, здравоохранение)», «право на защиту от безработицы» и т. п. Причем поскольку логически и технически невозможно точно определить группу «объективно неспособных полноценно пользоваться свободой», то некоторые из этих социальных благ предоставляются всем без разбору (особенно образование и здравоохранение) и соответствующие «права» провозглашаются принадлежащими «каждому». В итоге перераспределение становится функцией публичной власти (наряду с функцией обеспечения свободы), и с правовыми институтами государства конкурируют институты силовые.
Перераспределительная функция порождает господство перераспределяющей бюрократии и «большое правительство», обладающее такими силовыми ресурсами, что государственный интервенционизм будет подавлять свободу. Нигде и никогда правящие группы реально не заботились о социально слабых вопреки интересам социально сильных.
Еще в первой половине XIX века Ф. Бастиа объяснял, что вне нас, составляющих гражданское сообщество, не существует никакого Государства, тем более — благотворительного и неистощимого в своих благодеяниях существа, которое имело бы наготове хлеб для всех ртов, работу для всех рук, капиталы для всех предприятий и т. д. Перераспределяющее Государство — «это громадная фикция, посредством которой все стараются жить за счет всех», но за которой всегда стоят конкретные группы интересов[28]. Поскольку открытый грабеж существенно затруднен, выдумывают посредника — Государство, и, обращаясь к нему, каждый класс общества говорит: Вы, которые можете брать законно, берите у общества, а мы уж поделим. «Увы! Государство всегда слишком склонно следовать такому адскому совету, так как оно состоит из министров, чиновников и вообще людей, сердцу которых никогда не чуждо желание и которые готовы всегда как можно скорее ухватиться за него, умножить свои богатства и усилить свое влияние. Государство быстро соображает, какую выгоду оно может извлечь из возложенной на него обществом роли. Оно станет господином, распорядителем судеб всех и каждого; оно будет много брать, но зато ему и самому много останется: оно умножит число своих агентов, расширит область своих прав и преимуществ, и дело кончится тем, что оно дорастет до подавляющих размеров»[29]. И далее Ф. Бастиа отмечал «поразительное ослепление общества на сей счет»: что мы должны думать о народе, который и не подозревает, что взаимный грабеж есть все-таки грабеж, что он не стал менее преступен потому, что совершается в установленном законом порядке, «что он ничего не прибавляет к общему благосостоянию, а, напротив, еще умаляет его на всю ту сумму, которой стоит ему разорительный посредник, называемый государством»?[30]
К концу XX века прогноз Ф. Бастиа полностью подтвердился, несмотря на то, что теперь Государство называется демократическим, правовым и социальным.
Как уже говорилось, публично-властные институты не могут действовать в интересах социально-слабых вопреки интересам социально сильных, и если заявленная функция этих институтов — перераспределение в пользу наименее обеспеченных, то это значит, что есть латентная функция. Государственный интервенционизм позволяет концентрировать и выгодно использовать огромные ресурсы — в интересах отдельных групп крупного бизнеса, связанных с теми, кто принимает политические решения (последний пример — предоставление финансовым и другим группам крупного бизнеса в США помощи, измеряемой сотнями миллиардов долларов, за счет всех налогоплательщиков)[31], но главное — в интересах самой перераспределяющей бюрократии и ее отдельных групп, с которыми непосредственно связан крупный бизнес, получающий преференции. Выступая самостоятельной (редистрибутивной) социально-политической силой, эта корпорация легально потребляет значительную долю перераспределяемой части национального дохода. Что же касается оправданности этого фактического присвоения, то контролировать перераспределяющую бюрократию сложно: можно выявлять злоупотребления отдельных функционеров, но юридически невозможно обвинить в злоупотреблениях управляющий класс в целом.
Вопрос 18. Регулирование труда. Антимонопольное регулирование
Публично-властное регулирование труда
Публично-властное вмешательство в сферу найма рабочей силы — исторически первый институт социал-капитализма.
• Заявленная функция публично-властного вмешательства в сферу найма рабочей силы — регулирование в пользу работников, особенно наименее квалифицированных. Его латентная функция — воспроизводство бюрократии, занятой регулированием труда.
• Регулирование труда не является необходимым «оборонительным» государственным вмешательством в сферу наемного труда, т. е. представляет собой разновидность агрессивного насилия. При гипотетически нулевых издержках оно бесполезно, так как увеличение цены труда приводит к росту потребительских цен. Реально оно является антисоциальным, так как с необходимостью порождает и воспроизводит паразитирующую бюрократию, государственную и профсоюзную.
• Перераспределение в пользу наименее квалифицированных работников не только снижает доходы более квалифицированных, но и сужает возможности наименее квалифицированных найти работу.
• Реальный рост доходов зависит не от перераспределения, а от производительности труда и квалификации работников.
Регулирование труда сочетает в себе правовой и потестарный компоненты. Соответственно трудовое законодательство можно квалифицировать как «полуправовое» законодательство: с одной стороны, оно устанавливает привилегии для малоквалифицированных работников, с другой — не исключает свободу договора найма рабочей силы.
На первый взгляд, трудовые отношения, как отношения найма, охватываются институтами частного права. Действительно, правовой компонент трудового законодательства предполагает именно частноправовое регулирование некоторых трудовых отношений.
Но главное в трудовом законодательстве — его неправовой компонент, а именно: привилегии работников в трудовых отношениях. Эти привилегии, прежде всего, обязывают работодателя, независимо от дохода, устанавливать вознаграждение за труд не ниже определенного размера и обеспечивать условия труда и отдыха не ниже стандартов, установленных законом или коллективным соглашением о труде.
Объективные предпосылки для регулирования труда возникают только в развитом индустриальном обществе. В индустриально неразвитом обществе установление привилегий для работников, особенно малоквалифицированных, будет сдерживать экономический рост. Следует подчеркнуть, что это регулирование, в относительно развитой индустриальной ситуации, началось с установления такого минимума заработной платы, который превышал не только некий «прожиточный минимум», но и размер платы, необходимый для воспроизводства рабочей силы. В современной же России установленный законом размер минимальной зарплаты ниже необходимого для воспроизводства рабочей силы, так что российское трудовое законодательство во многом остается фиктивным.
При гражданско-правовом регулировании трудовых отношений плата за труд определялась рыночной ценой труда. Но к ХХ веку в европейских индустриально развитых странах было признано, что в трудовых отношениях не может быть только частноправового регулирования и полной свободы договора. В отличие от европейских стран, в США долго сохранялось правовое регулирование трудовых отношений. Верховный суд США в прецеденте по делу Locher v. New York (1905) постановил, что Конституция не допускает вмешательство штата в право работника свободно заключить контракт с работодателем. Штат не вправе отнимать работу у работника на том основании, что условия контракта слишком плохи для работника. Право работника заключать такой договор, который он согласен заключить, было объявлено фундаментальным и конституционным. И лишь в 1937 г. в решении по делу West Coast Hotel v. Parrich Верховный суд аннулировал решение Locher v. New York и установил, что штат может регулировать договорные отношения между работником и работодателем.
По смыслу трудового законодательства работник выступает привилегированной стороной, которой гарантируются условия (привилегированный минимум), от которых можно отступать лишь в сторону их улучшения для работника. Договоры (коллективные соглашения) о труде подчинены принципу in favorem, который здесь означает, что договор не может ухудшать положение работника по сравнению с законом. Следует подчеркнуть: все, что улучшает его положение, устанавливается благодаря свободе договора. В этом состоит правовой компонент трудового законодательства, однако он действует в отношении квалифицированной рабочей силы, и при условии, что спрос на нее превышает ее предложение.
Трудовые отношения непосредственно регулируются не столько законом, сколько коллективными договорами, имеющими силу закона (применяется та норма, которая ставит работника в лучшее положение). Сторонами договоров являются коллективы работников и объединения работодателей (предпринимателей), трудовой коллектив и предприниматель. Закон предусматривает эти договоры как источники трудового права. При этом коллективное соглашение о труде не может ухудшать положение работника в сравнении с законом, а индивидуальный трудовой договор — положение, гарантированное законом и коллективными договорами.
Трудовое законодательство вводит новый вид субъектов договорных отношений — трудовой коллектив, вступающий через своих представителей в коллективные переговоры и заключающий коллективные договоры. Трудовые коллективы и профсоюзы — это такие субъекты переговорных и договорных отношений, которым работодатели уже не могут диктовать условия, а коллективы и профсоюзы могут. (Профсоюзы в США были легализованы Актом Вагнера лишь в 1935 г., а до этого к ним применялось антитрестовское законодательство). Такое их положение определяется тем, что трудовое законодательство гарантирует «право» на коллективные трудовые споры, включая «право на забастовку» как способ разрешения этих споров. Смысл забастовки в том, что работодатель не вправе уволить бастующих и нанять других работников, если забастовка не признана незаконной. С юридической точки зрения — это силовое, монополистическое ограничение свободы предпринимательства. Правда, «из соображений соразмерности», признается и право предпринимателя на «оборонительный локаут» — приостановление работы предприятия в ответ на забастовку. Здесь так же нужно отметить, что трудовое законодательство не признает свободу предпринимательства в том смысле, что предпринимателю для закрытия предприятия требуется законное основание.
Итак, регулирование труда, как кажется на первый взгляд, осуществляется в пользу работников, во всяком случае, не в пользу предпринимателей. Но более подробный анализ показывает, что оно происходит против интересов значительной части работников. Трудовое законодательство запрещает им предложение труда по цене ниже фиксированной законом. Кроме того, установленная законом минимальная цена рабочей силы интересна только малоквалифицированным работникам, и оплачивается она либо квалифицированными работниками, которые не могут получать больше (если минимальная цена рабочей силы не влияет на стоимость продукции), либо потребителями, если стоимость продукции возрастает. Наконец, прямым следствием установления и повышения минимальной ставки заработной платы (и других расходов предпринимателя) всегда является то, что часть менее квалифицированных работников теряет работу. «Работодатели будут нанимать одного квалифицированного работника вместо двух неквалифицированных, механизировать труд или просто откажутся от определенных работ»[32]. Тот, кто мог бы заниматься малым бизнесом, нанимая работников на условиях худших, чем это допустимо по трудовому законодательству, и те работники, которые согласились бы на такие условия, вместо этого исключаются из процесса производства и «садятся» на социальное обеспечение.
Если регулирование труда и происходит в пользу работников, то только в пользу малоквалифицированных, неконкурентных работников — да и то при условии, что они не теряют работу вследствие повышения минимальной ставки заработной платы. Но в этом случае оно негативно сказывается на положении всех остальных, в частности конкурентных, высококвалифицированных работников.
Если, с одной стороны, рассмотренное регулирование труда, во-первых, лишь с существенными оговорками может быть признано действующим в пользу неконкурентных работников, во-вторых, оно действует против интересов квалифицированных работников и предпринимателей и, в-третьих, оно оплачивается в конечном счете потребителями, но, с другой стороны, этот институт существует уже более ста лет и расширяется, то возникает вопрос — кто же является основным «бенефициаром» такого регулирования? Таковым является «трудовая бюрократия» — наиболее многочисленный отряд перераспределяющей бюрократии, организованный внутри отдельной страны в систему центральных и отраслевых государственных и профсоюзных органов регулирования и контроля, а в международном масштабе действующий через региональные и макрорегиональные организации, над которыми царит Международная организация труда (МОТ), имеющая отделения и представительства почти во всех странах мира. К ним нужно прибавить многочисленных профсоюзных функционеров, действующих на отдельных предприятиях, не говоря уже о тысячах университетских преподавателях «трудового права».
Таким образом, регулирование труда не является необходимым «оборонительным» государственным вмешательством в сферу наемного труда, т. е. представляет собой разновидность агрессивного насилия. При гипотетически нулевых издержках оно бесполезно, так как увеличение цены труда приводит к росту потребительских цен. Реально оно является антисоциальным, так как с необходимостью предполагает паразитирующую бюрократию.
Трудовое законодательство снижает доходы более квалифицированных работников и сужает возможности наименее квалифицированных найти работу. Реальный рост доходов зависит не от трудового законодательства, а от производительности труда и квалификации работников.
«Антимонопольное» регулирование
Право запрещает ограничение свободной конкуренции, препятствование свободному входу на рынок. Это вытекает из принципа формального равенства и реализуется в правовых институтах при капитализме. Свобода предпринимательства означает, что каждый вправе свободно входить на рынок, и для защиты этого права не требуется специальное антимонопольное законодательство. Достаточно норм гражданского права о возмещении вреда и норм уголовного права, наказывающих за насильственные действия (убийство, угроза убийством, вымогательство, уничтожение имущества и т. д.) и так называемое злоупотребление властью[33].
На свободном рынке возможна лишь так называемая монополизация текущих предпочтений потребителей. Но при этом рынок остается открытым, и такая «монополия» сохраняется лишь до тех пор, пока она соответствует выбору потребителей. Реальные монополии возможны только на административно регулируемом рынке, они возникают, когда правительство контролирует вход на рынок и ограничивает конкуренцию.
Но при социал-капитализме создается противоправное «антимонопольное» законодательство — следствие страха перед свободной конкуренцией, продукт экономического невежества и ложной интерпретации истории[34]. Его концепция строится на подмене понятия: победа на открытом рынке, в свободной конкуренции объявляется противоправным вытеснением конкурентов.
По этой концепции, в целях противодействия «монополизму» правительство должно защищать менее конкурентных субъектов от их более удачливых конкурентов, ибо иначе, как гласит эта концепция, «монополии» смогут диктовать цены потребителям. Но, как показывает история, действительная монополия невозможна без государственной поддержки, т. е. без вторжения правительства в рыночную экономику и предоставляемых правительством привилегий.
С юридической точки зрения некий субъект является монополистом, монопольным обладателем какого-то блага, когда он имеет данную ему государством привилегию. Любой так называемый фактический монополизм не является таковым в юридическом значении термина «монополизм». Уже на уровне этих рассуждений ясно, что рассматриваемое «антимонопольное» регулирование по существу не может быть правовым регулированием, так как в соответствующем законодательстве юридическое значение термина «монополизм» замещается произвольным идеологическим значением.
Экономическая монополия в юридическом смысле — это неправовое или антиправовое явление, т. е. публично-властная привилегия некоего субъекта, позволяющая ему контролировать определенный рынок и запрещающая всем остальным находиться и действовать на этом рынке без его согласия (санкции). Монополизм в этом смысле есть нарушение принципа формального равенства или просто такая цивилизационная ситуация, в которой нет свободной конкуренции и формального равенства в сфере экономики.
В неразвитой правовой ситуации экономическим монополистом является, прежде всего, само «государство» (организованная группа, обладающая монополией на насилие). Здесь совпадают монополии политическая и экономическая («власть-собственность»), обладание публичновластными ресурсами позволяет претендовать на монопольно-привилегированное экономическое положение. Правительство выступает здесь как «сверхмонопольный» субъект, который управляет всей экономикой и в различных ее сегментах создает по своему усмотрению монопольно-привилегированных собственников помельче[35]. Последние пользуются привилегиями постольку и до тех пор, поскольку и пока их деятельность соответствует интересам политически господствующей группы. Можно сказать и иначе: эти монополии создаются в интересах «олигархов» — отдельных членов правящей группы или существующих в ней более мелких группировок. Вообще трудно предположить, что политически господствующие субъекты предоставляют кому-то экономические монополии, а сами не имеют в этом экономического интереса.
Свободный рынок, который складывается в развитой правовой ситуации, по определению исключает монопольно-привилегированное положение отдельных экономических акторов. В условиях капитализма экономический монополизм преодолевается в той мере, в которой в конкретной стране достигаются и пользуются публично-властной защитой свобода предпринимательства и свободная конкуренция. И лишь вследствие коррупции отдельные экономические акторы могут добиваться фактически монопольного положения, пользуясь нелегальной поддержкой государственно-властных субъектов.
Монополии как типичное явление легально возрождаются при социал-капитализме, когда свободный рынок трансформируется в административно регулируемый рынок. А именно, менее конкурентные экономические акторы на разных основаниях получают привилегии, которые позволяют им монопольно действовать в определенных частях рынка и без которых они были бы вытеснены более конкурентными субъектами. В частности, защищая неэффективных конкурентов, правительство делает их монополистами на «их территории».
При этом наблюдается следующий парадокс: привилегии предоставляются под предлогом… противодействия «монополизму», в рамках «антимонопольного» регулирования. Понятно, что здесь термины «монополизм» и «антимонопольное» имеют уже неправовой смысл.
Как уже было сказано, концепция «антимонопольного» регулирования эксплуатирует антикапиталистические предрассудки, экономическое невежество и пропагандирует веру во всемогущее справедливое Государство. По этой концепции функция «антимонопольного» регулирования — защитить свободную конкуренцию и права потребителей от «монополистов» (т. е. тех, кто нарушает «антимонопольное» законодательство) и предотвратить такое развитие событий, при котором предполагаемые «монополисты» смогут овладеть механизмом государственной власти, подчинить его своим интересам. Ибо «монополисты» не заинтересованы в сохранении свободного рынка, им мешают либеральная демократия и независимое правосудие, и они будут стараться их уничтожить, как и любые институты, обеспечивающие свободную конкуренцию.
Подчеркнем, что здесь описана чисто гипотетическая ситуация — когда «монополисты», ставшие таковыми в процессе и благодаря свободной конкуренции, станут разрушать правовые институты. Но истории пока неизвестны такие случаи, чтобы реальные, а не мнимые монополии возникали бы исключительно благодаря свободной конкуренции и без помощи политически управляющих групп, заинтересованных в экономическом монополизме.
Поясним это на примере так называемых хищнических цен. Если более успешный актор экономическим путем вытесняет с некоего рынка своих менее успешных конкурентов, то, как правило, это происходит постольку, поскольку он предлагает потребителям наиболее оптимальное соотношение цены и качества. Когда он достигает относительно «крупных размеров», то, по концепции «антимонопольного» регулирования, ничто не мешает ему искусственно снизить цены, разорив тем самым мелких конкурентов, а затем опять же ничто ему не помешает поднять их выше начального уровня, ухудшив тем самым положение потребителей.
Однако для того чтобы провести такую «хищническую операцию», потенциальный «монополист» должен обладать большими ресурсами для покрытия своих убытков, например, в виде льготного правительственного кредита. Но дело не в этой технической стороне вопроса, а в том, что такое «хищничество» является экономически бессмысленным занятием. Если «монополист» повысит цены настолько, что этот рынок станет более привлекательным для инвесторов, чем другие рынки, то он сразу же обнаружит новых конкурентов. Если он не способен реально увеличить свою эффективность и производительность, то он не сможет и обезопасить свой бизнес от соперников.
Иначе говоря, если ненасильственная деятельность на рынке ставит одних производителей в экономически выгодное положение, а других — в невыгодное, то это происходит вследствие предпочтений потребителей. Когда же правительство легально ограничивает такую ненасильственную деятельность, то эти ограничения наносят вред не только более конкурентным производителям, но, прежде всего, всем потребителям. Так что «антимонопольное» регулирование является столь же антисоциальным, как и любое публично-властное агрессивное насилие, оформленное якобы «социальным» законодательством.
Вопрос 19. Сущность коммунизма (тоталитаризма)
Коммунизм — наиболее последовательный, завершенный тоталитаризм. При коммунизме институты публичной власти охватывают все сферы социальных взаимодействий, и любая свободная, не санкционированная социальная активность становится преступлением.
• Тоталитаризм — это не политический режим, который стоит в одном ряду с демократией и авторитаризмом, а цивилизационный тип, противоположный капитализму.
• Понятие тоталитаризма (от лат. totus — весь, целый) предполагает социальность как целостность; тоталитаризм и холизм (от др. — греч. оАос, — целый, цельный) в сущности означают одно и то же; при последовательном тоталитаризме (коммунизме) социальные институты организуют все население в единый хозяйственный механизм, подчиняя всю социальную деятельность общему плану и подавляя любые проявления свободной социальной активности.
Различаются жесткий (полный) и менее жесткий (неполный, недоделанный) варианты тоталитаризма. Жесткий (коммунизм) существовал в СССР, в Китае (китайский постепенно разрушается), экспортировался в страны-сателлиты СССР, а в настоящее время сохраняется в Северной Корее.
Советский строй — это тоталитаризм в его наиболее чистом виде. Он отрицает и традиционность, и модернизацию западного образца (вестернизацию), претендует на особенный путь развития, который в действительности заводит в тупик.
Незавершенный вариант тоталитаризма представлен фашизмом в Италии и национал-социализмом в Германии. В отличие от жесткого здесь не упраздняется собственность, хотя и происходит национализация, не проводится тотальная конфискация, имущества лишаются лишь противники режима, «враги нации». Вместе с тем собственность здесь не гарантируется — даже собственность монополий. И главное — политическая власть полностью контролирует основные отрасли народного хозяйства; например, в нацистской Германии концентрация производства в руках корпораций, подконтрольных правительству, позволяла и без тотальной национализации мобилизовать экономику на решение любых задач.
Фашизм и национал-социализм формировались в культурном пространстве правового типа, они были исторически не запрограммированным «бунтом», эксцессом потестарных субкультур. Несмотря на сходство с коммунизмом, их можно рассматривать не только как незавершенный тоталитаризм, но и как «слишком далеко зашедший» социал-капитализм.
Жесткий тоталитаризм — это характеристика коммунизма («реального социализма»). Коммунистическая система построена на основе обобществления, конфискации и национализации всех жизнеобеспечивающих объектов собственности. Тем самым достигается полная зависимость человека от политической власти.
При коммунизме нет права, соответственно нет и правовых институтов публичной власти. Советское государство — это институты силового типа, которые лишь имитируют государственноправовые формы, прикрываются внешней правовой атрибутикой.
Здесь нельзя различить политическую и неполитическую (общество) сферы социальной жизни. Общество полностью политизировано. Политическая власть присутствует в самом обществе, является условием и средством его функционирования.
Коммунистическое общество — искусственная социальная система, т. е. не сложившаяся спонтанно из свободных взаимодействий, а созданная в соответствии с замыслом, спроектированная. Она не способна к саморазвитию. Она принципиально не преобразуема в постиндустриальный социум, поскольку последний предполагает общество свободных индивидов, свободную развитую личность. Исчерпание ресурсов экстенсивного роста приводит к самораспаду, разложению коммунистической системы.
В итоге коммунистическая индустриализация оборачивается не просто слишком дорогой ценой: оказывается, что цена эта заплачена за тупиковый путь развития. Если посттоталитарное общество и не откатывается на уровень раннего индустриального развития, оно все же остается слаборазвитым по сравнению с передовыми странами, вступившими в постиндустриальную эпоху.
Закрытость тоталитарных систем, блокирование в них императивов мирового развития, неэффективность, а также такие характеристики коммунизма, как силовое принуждение к труду, иерархические структуры, закрепляющие формальное неравенство, привилегии, кастовый характер тоталитарной бюрократии — все это свидетельствует о том, что коммунизм лишь имитирует модернизацию.
Являясь реакцией на отставание общества от наиболее развитых стран, тоталитаризм не ликвидирует отставание. Он осуществляет псевдоразвитие — за счет истощения ресурсов общества.
Вопрос 20. Основные институты коммунизма
1. Первый признак — это крайний авторитаризм, т. е. слияние управляющей системы с управляемой системой, политизация всей общественной жизни. Так, Ленин заявлял, что советская власть ничего частного не признает, и для большевиков все в области хозяйства — это публичное, а не частное[36].
Тотальная власть регламентирует всю жизнедеятельность человека, включая брачно-семейные отношения и “моральный облик строителя коммунизма”, употребление навоза и стихосложение. Власть определяет меру труда и меру потребления — вплоть до того, что устанавливает нормы одежды, питания и даже приготовления пищи. В основу такой регламентации кладется тотальное планирование.
2. Партия нового типа. При тоталитаризме существует монопольное господство монолитной партии, которая построена по строго иерархическому принципу и через которую тоталитарная бюрократия осуществляет свою власть.
Это не политическая партия в обычном смысле. Первоначально — это партия профессиональных революционеров, которая преследует цель насильственного захвата власти и насильственного переустройства общества. Сам Ленин объяснял, что после “пролетарской революции” власть переходит в руки “пролетариата” в лице его авангарда. Авангард — это партия, ядро которой составляет организация профессиональных революционеров.
Партократия — это “господствующий класс” тоталитарно организованного общества. Она не только осуществляет власть, но и имеет фактические возможности присвоения и потребления, существенно большие, чем остальные социальные группы.
Рядовыми членами партии являются те, кто демонстрирует особую лояльность по отношению к власти и готовы стать функционерами режима. Членство в партии обязательно для занятия даже низших управленческих должностей в формально непартийном административном аппарате.
3. Политизированная иерархическая социальная структура. При коммунизме социальная структура является, во-первых, иерархической, что означает неравенство социальных статусов. Во- вторых, она политизирована, что означает сочетание социальных статусов с соответствующими властными полномочиями: принадлежность человека к группе определенного ранга одновременно означает его расположение на определенном уровне власти. И наоборот: место человека в иерархии власти определяет его принадлежность к определенной социальной группе.
В политизированной иерархической структуре все социальные группы ранжированы, и человек не может самостоятельно добиваться повышения своего социального статуса, переходить из одной группы в другую, имеющую более высокий ранг. Жесткость этой структуры превращает социальное неравенство в формальное. Каждому социальному статусу соответствует набор привилегий; причем официально выявленные противники режима (“враги народа”, “враги нации”), действительные или мнимые, исключаются из социальной структуры и изолируются в концентрационных лагерях, а их привилегии равны нулю.
Иерархическая социальная структура, охватывающая все население страны, напоминает “феодальную лестницу”, или “пирамиду”, составленную из нескольких таких “лестниц”, связанных между собой. На вершине иерархической “пирамиды” находится тоталитарная бюрократия. Далее следуют социальные группы управленцев и специалистов высшего и среднего рангов, а простые промышленные и сельскохозяйственные рабочие образуют группы низших рангов. Несвободная рабочая сила, как правило, прикреплена к месту проживания, и неконтролируемая миграция рабочей силы не допускается.
Все, кто находится на более высоких ступенях этой “пирамиды”, обладают хотя бы минимальными административными полномочиями в отношении нижестоящих, и все они в этом смысле являются функционерами власти, даже те, кто стоит на второй ступени снизу.
Располагающаяся на верхних “этажах” тоталитарная бюрократия — это партократия и назначаемые ею административные, хозяйственные, военные, идеологические и т. д. руководители (“номенклатура”). По существу партократия и “номенклатура” идентичны, так как назначение в директивный орган — это то же номенклатурное назначение.
В “номенклатуру” попадают люди, демонстрирующие не только особую лояльность, но и способность осуществлять власть от имени партии. Причем компетентность не является необходимым качеством тоталитарной бюрократии. Номенклатурный руководитель должен уметь любой ценой обеспечивать выполнение полученного “сверху” распоряжения, а компетентными, т. е. знающими, должны быть подчиненные ему специалисты.
4. Харизматическая фигура вождя. Символом тоталитарно организованного общества служит обязательная фигура вождя, венчающая пирамиду тоталитарной бюрократии. Вождь сосредоточивает в своих руках верховную власть — политическую, экономическую, военную и идеологическую.
После того как значительная часть населения уничтожена или репрессирована, в массовом сознании возникает интересный психологический феномен — так называемый культ личности вождя. В результате тотальной пропаганды происходит сакрализация вождя, в глазах миллионов он становится “богочеловеком”, величайшим и гениальнейшим руководителем. Он возвышается над остальными подобно деспоту (перед деспотом все равны, а именно — равны нулю). Ему поклоняются из смешанного чувства любви и страха. В массовом сознании вся история человечества делится на два периода — до рождения вождя и после. Все реальные или мифические успехи системы причисляются к заслугам вождя, а все провалы его политики списываются на происки “врагов”. Тоталитарное массовое сознание и патерналистская идеология приписывают вождю сверхъестественные способности: он знает все о каждом, он заботится обо всех и о каждом, защищает и от “врагов”, и от природных катаклизмов.
5. Имитация демократических институтов. Свою ущербность тоталитаризм компенсирует имитацией республиканских форм и демократических государственных учреждений. Для тоталитаризма характерен псевдодемократизм, создание в пропагандистских целях видимости демократических институтов.
Единственное, что не могла имитировать советская власть — это демократические выборы. Регулярные “выборы” советов представляли собой ритуал, организованный для того, чтобы продемонстрировать всенародную поддержку режима. Коммунистическая идеология подчеркивала монолитное единство народа или нации, а поэтому выдвижение на выборах нескольких кандидатов считалась недопустимым.
6. Тотальный контроль и карательные органы. Тоталитаризм — это строй без свободы. Человек здесь существует в строго регламентированном жизненном пространстве. Поэтому основным средством управления обществом и поддержания дисциплины являются тотальный контроль и репрессии. При коммунизме важнейшие функции власти — это “подавление сопротивления свергнутых эксплуататорских классов” (массовые репрессии) и, далее, “контроль за мерой труда и мерой потребления”. Карательная система по своей мощи сопоставима только с армией. При этом суд, деятельность которого не имеет ничего общего с правосудием, является придатком карательных органов. При тоталитаризме, как и в любой неправовой ситуации, нет презумпции невиновности, и суд в уголовном процессе выполняет обвинительную функцию. При массовых репрессиях карательная система обходится без формальностей, действует во внесудебном порядке.
7. Принудительная идеология. При тоталитаризме господствующая идеология носит и псевдоантиэксплуататорский характер, изобилует антикапиталистическими лозунгами, проповедует дух “народности”, “социальной справедливости” и патернализма. Путем навязывания этой идеологии, прививания этой идеологии человеку с раннего детства достигается легитимация социального строя.
Принудительная коммунистическая идеология это — марксизм-ленинизм (аналогичные варианты — маоизм в Китае, идеология “чучхе” в Северной Корее и т. п.). Она являет собой разновидность религии. Ибо даже тотальная власть не может контролировать мысли людей, и поэтому она старается воздействовать на массы на уровне религиозного сознания. На этом уровне она конкурирует с церковью и устраняет своего конкурента. Для массы полуграмотного народа запрещенная и преследуемая религия требует замены. Ею и становится адаптированный к этой массе марксизм- ленинизм. Роль новой церкви исполняет партия.
Так, при господстве марксистско-ленинской идеологии обязательна вера в коммунизм (“светлое будущее” после страданий в сегодняшнем несовершенном мире, эквивалент “царствия Божия”). В коммунистической идеологии есть фигуры Бога-отца (Маркс или Маркс — Энгельс) и Бога-сына (Ленин), мумия которого становится главным объектом поклонения. Причем харизматические вождь, доводящий тоталитарный режим до завершения (Сталин), является наследником, прямым продолжателем дела Бога-сына (“Сталин — это Ленин сегодня”), и он тоже подлежит обожествлению.
Коммунистическая мифология порождает гуманитарное невежество, особенно в области истории вообще и в том, что касается истории своей страны в частности. В посттоталитарной ситуации, когда из жизни уходят поколения людей, переживших времена террора, в общественном сознании воспитываются представления о том, что террора не было.
8. Насаждение в общественном сознании образа врага. Мобилизовать общество на решение задач модернизации, убедить большую часть членов общества в необходимости жестокой абсолютной власти, жесткой экономии, тотального контроля, уничтожения инакомыслящих и т. д. легче всего в таких условиях, когда есть некая враждебная сила, грозящая уничтожить все общество. Для того чтобы тоталитаризм мог утвердиться в обществе, оно должно находиться в состоянии стресса, должно быть напугано крайней нестабильностью, резким ухудшением благосостояния. Такому обществу нужно указать на его врага и направить на этого врага всю агрессивную энергию стрессированной толпы. Тогда общество будет агрессивно-послушным — послушным той власти, которая направляет его на борьбу с врагом, внешним или внутренним.
Если реального врага нет, нужно искусственно создать его образ. Образ врага, насаждаемый в сознании людей, нагнетает атмосферу страха и оправдывает необходимость массовых репрессий, которые, в свою очередь, усиливают эту атмосферу страха. Он объясняет человеку источник всех его бед.
Если агрессивную энергию нужно направить внутрь общества, насаждается образ внутреннего врага. В качестве такового в советской и постсоветской России последовательно выступали “эксплуататоры и их пособники”, “кулаки”, “враги народа”, “вредители”, “шпионы”, “безродные космополиты”, “врачи-убийцы”, “сионисты” (или просто евреи), “диссиденты-изменники Родины”, “кооператоры”, “лица кавказской национальности” (или просто чеченцы), “демократы”, “олигархи”. Если агрессию нужно направить вовне, то создается образ внешнего врага — мировой или американский “империализм”, НАТО и т. д.
9. Террор. Коммунизм строится на прямом насилии или реальной угрозе насилия. Периодические репрессии создают атмосферу постоянного страха, что позволяет добиться безусловно повиновения и заставляет людей жить по коммунистическим законам даже тогда, когда нет насилия.
Кроме того, уничтожение части населения (тех, кто не вписывается в новую социальную систему) происходит ради создания новой социальной структуры и, в конечном счете, нового человека.
10. Формирование нового человека. Тоталитарный проект может быть реализован лишь при условии, что в обществе будет доминировать неправовой тип личности — человек потестарной культуры. Коммунизм формирует и воспроизводит адекватный человеческий тип, определяющими чертами которого являются преданность идеологии и вождю, исполнительность, скромность в потреблении, готовность на любые жертвы ради “общего дела” и т. п. Это и называется формированием нового человека.
Массовое выдавливание в эмиграцию и уничтожение наиболее культурной части населения, репрессивная идеологическая “переработка” оставшейся части и воспитание новых поколений людей с заданными социальными качествами приводят к тому, что называется организованным понижением культуры. С одной стороны, при коммунизме достигаются всеобщая грамотность, технологическая грамотность отдельных групп, с другой — подавляется свободное развитие личности, устанавливается жесткий идеологический предел развитию науки и культуры. Гуманитарная наука просто подменяется официальной идеологией.
Вопрос 21. Законодательство при тоталитаризме
Для коммунизма характерна фиктивность законодательства, что выражается в следующей закономерности: чем выше формальный уровень официального акта, тем меньше его фактическая сила, меньше вероятность его прямого действия.
Конституция, т. е. акт, который должен обладать высшей нормативной силой — это фиктивный акт, официальный фасад тоталитарной системы. Ее положения либо вообще не имеют отношения к реальной жизни, либо трансформируются в более реальные нормы путем их конкретизации в законах, но при этом смысл норм меняется. Например, конституция может гарантировать право выбора профессии, рода занятий и места работы «с учетом общественных потребностей»; но никакой свободной миграции рабочей силы при коммунизме быть не может; поэтому в законах или подзаконных актах конституционное положение будет конкретизировано как централизованное распределение рабочей силы, в частности, как обязательное распределение выпускников высших учебных заведений.
Законы здесь тоже принимаются в расчете на то, что они не будут иметь прямого действия. Они будут конкретизироваться в постановлениях правительства, а последние — в нормативных актах министерств и ведомств и далее — в приказах нижестоящих должностных лиц. При этом смысл закона может измениться на противоположный. В конечном счете, фактически высшей силой обладает приказ начальника — независимо от того, в какой мере он основан на законе. Главное, что этот приказ соответствует воле вышестоящего номенклатурного начальника — партийного руководителя, министра и, наконец, вождя. Законодательные нормы конкретизируются в других актах так, как того требует конкретная политика, проводимая вождем или его окружением.
Законы, которые не конкретизируются в подзаконных актах, либо не действуют вообще, либо их применение определяется неофициальными приказами. Так, уголовное законодательство официально нельзя конкретизировать в подзаконных нормативных актах (правда в этих актах можно устанавливать обязанности или запреты, нарушение которых будет подпадать под существующие статьи уголовного кодекса). Но при коммунизме власть не связана официальными текстами. Поэтому в более или менее важных уголовных делах суд выполняет указания «властей предержащих» невзирая на закон.
Функция уголовного закона при коммунизме — наказание за посягательство на монополию власти осуществлять агрессивное насилие. При коммунизме безопасность и имущество не гарантированы человеку от посягательств самих акторов публичной власти. Здесь человек не является субъектом права на жизнь, здоровье и т. д. Он низводится до уровня объекта (люди — это «человеческие ресурсы» или «трудовые ресурсы»). «В интересах народного хозяйства», часть этих объектов превращается в рабскую рабочую силу и «расходуется» в процессе производства, так что этот процесс требует постоянного воспроизводства рабской рабочей силы. Несанкционированное властью причинение телесных повреждений рассматривается как причинение вреда трудоспособности человека, а это уже причинение вреда всей системе, ибо человек является, хоть и “винтиком”, но полезным “винтиком” в этой системе. Но главное — это всё же нарушение монополии на агрессивное насилие.
При коммунизме наиболее ярко проявляется противоправная сущность трудового законодательства, ибо здесь законодатель и работодатель совпадают в одном лице. Коммунистическое законодательство защищает интересы работодателя, в роли которого выступает сама власть.
Вопрос 22. Посттоталитарное развитие. Природоресурсное государство
• Переход из «чисто» потестарной цивилизационной ситуации в смешанную происходит в пределах социокультуры потестарного типа. Поэтому развитие правовых институтов блокируется.
• И в период разложения коммунизма, и в посткоммунистической ситуации общественное развитие определяется одним и тем же процессом. Это соединение политической власти и собственности. Возникает феномен «власть-собственность», которым определяется любой переход от «чисто» потестарной цивилизационной ситуации к смешанной потестарного типа.
• Власть-собственность невозможна в индустриальном обществе, поскольку здесь государственный бизнес явно проигрывает в конкуренции с частным, не может обеспечивать индустриальное развитие. Так что власть-собственность является еще одним подтверждением псевдоиндустриального, природоресурсного характера посткоммунистического общества.
Западный социал-капитализм складывается по мере нарастания государственного интервенционизма в условиях уже существующих сильных правовых институтов, которые позволяют более или менее эффективно контролировать этот интервенционизм на предмет его соответствия официально заявленным целям. Прежде всего это относится к перераспределению в пользу социальнослабых: управляющий класс не столько присваивает средства, изымаемые в виде налогов, сколько реально делит их между законными получателями.
Наоборот, восточный социал-капитализм и, в частности, посткоммунизм складывается по мере расширения «поля» свободных социальных взаимодействий, но при сохранении авторитарного управления («управляемая демократия», запрет несанкционированной свободной социальной активности). Поскольку здесь правовые институты остаются неразвитыми, то не может быть и эффективного контроля за соответствием государственного распределения и перераспределения официально заявленным целям: правящие группы, прежде всего, присваивают доступные им ресурсы общества и уже «по остаточному принципу» делят их между законными получателями.
Р. Неф, один из лидеров Швейцарской либертарианской школы, несколько иначе трактует это различие: «Механизм перераспределения включает в себя не только тех, у кого отнимают и для кого отнимают. Между ними стоит огромный перераспределяющий аппарат — политический класс, бюрократия. И этот перераспределяющий аппарат работает отнюдь не бесплатно. Напротив, этот аппарат является столь дорогостоящим, что весь процесс перераспределения оказывается неэффективным. Есть примеры — здесь можно упомянуть Индию — того, как перераспределение фактически происходит от богатых к перераспределяющим, а действительно бедные вообще ничего не получают. В Швейцарии мы еще не зашли так далеко. Но эта форма дегенерации имманентна любому механизму перераспределения. Все время говорят, что нужно сделать перераспределение более точным, адресным и т. п. — и закачивают в перераспределяющий аппарат все большие средства с целью его реформирования или совершенствования. В конечном счете с этого кормится только сам перераспределяющий аппарат. Когда этот процесс уже пошел, то не помогут никакие реформы. Теперь требуются уже системные изменения»[37].
Однако пока в Швейцарии, равно как и в США или Швеции, «еще не зашли так далеко», мы можем утверждать, что Швейцария и Индия представляют два разных типа социокультуры, и, следовательно, характерные для этих типов институты выполняют разные функции.
При доминировании и просто при достаточной развитости публично-правовых институтов механизм обеспечения собственности включает в себя, прежде всего, публично-властную защиту и в равной мере распространяется на всех. Но этого нет в посткоммунистической ситуации, когда публично-правовые институты неразвиты, и акторы публичной власти в той или иной мере действуют в своих частных интересах.
Власть-собственность означает, что собственность реально можно защитить в той мере, в которой собственник имеет реальный доступ к публичной власти. Чем выше цена объекта собственности или доходность бизнеса, тем больше вероятность, что правомочия собственника или бизнес контролируются публично-властными акторами. Соответственно, чем выше положение человека в иерархии власти, тем больше вероятность, что его легальные доходы от объектов собственности существенно превышают его вознаграждение за государственную службу.
Посткоммунистическое государство — это все еще “государь-ство” (а не res publica), в котором властные акторы осуществляют полномочия верховного собственника. Создается такая собственность, которая еще не свободна от государственной власти, и такая государственная власть, которая еще не свободна от собственности. Это ситуация, характерная для феодализма.
В такой ситуации гражданское общество в принципе формироваться не может. Государство, выступающее одновременно в роли верховного собственника, может быть только авторитарным. Поэтому либерально-демократические преобразования первых лет после слома социализма закономерно сменяются выстраиванием авторитарного порядка.
Соединение власти и собственности и авторитаризм следует расценивать не как “злой умысел” правящей бюрократии, а как реальность, которая не может быть иной — в силу неразвитости правовой культуры. Эта реальность может быть менее криминальной и репрессивной, но не может быть либерально-демократической.
Посттоталитарная модернизация в неразвитой правовой культуре порождает неофеодализм — общественный строй, при котором признается собственность, но основным субъектом собственности является государство. Такой строй неэффективен даже в сравнении с государственно регулируемым рынком. Когда государство действует как субъект, устанавливающий правила экономической конкуренции, и одновременно как хозяйствующий субъект, оно объективно не может обеспечивать приемлемую конкуренцию.
Переход от коммунизма к социал-капитализму восточного типа может быть успешным, лишь при условии перехода от природоресурсной к производящей экономике. Примером последнего является Япония, которая еще в XIX веке исчерпала свои природные ресурсы и в XX веке оказалась способной адаптировать к своей культуре некоторые западные институты (в Японии конкурируют правовые и традиционные неправовые институты). Наоборот, сохранение природоресурсной экономики делает этот переход невозможным, воспроизводя неофеодализм, который блокирует любую модернизацию до тех пор, пока запасы природных ресурсов позволяют удовлетворять потребности основной массы населения и, особенно, правящих групп.
Сложившиеся в посткоммунистической России публично-властные институты называют природоресурсным государством, поскольку они обеспечивают удовлетворение потребностей за счет эксплуатации природных ресурсов. Это государство характеризуется следующими признаками:
1. Неразделенность государственной власти и собственности. “Власть-собственность” ставит правящие группы вне конкуренции в отношениях с группами, не имеющими доступа к власти, позволяет применять силу за пределами права, нарушать право собственности тех, кто не допущен к власти. Соединение власти и собственности позволяет произвольно распоряжаться в принципе любыми ресурсами общества, мера этого распоряжения определяется наличными административными возможностями централизации ресурсов. Доступ к ресурсам общества получают те, кто служит «государству» (правителю, правящей группе), и сохраняют его лишь до тех пор, пока они ей служат — независимо от размера богатства. «В России знатен тот, с кем я говорю, и пока я с ним говорю» (Павел I). Фактические возможности владения, пользования и распоряжения ресурсами общества базируются здесь не на институте частной собственности, а на должности или на, по существу, вассальной зависимости от правящей группы.
2. Одинаковые для всех правовые нормы подменяются привилегиями, множеством разных статусов и режимов регулирования. Равные права и свободы человека и гражданина во многом остаются декларированными, и большинство населения не осознает их смысл.
3. «Суперпрезидентская» форма правления напоминает дуалистическую монархию, которая характерна для неразвитой правовой культуры и предшествует либерально-демократическим республикам. Интересно, что Россия в процессе модернизации в начале ХХ в. не смогла подняться до дуалистической монархии, и первый парламент (Государственная Дума) был не законодательным, а законосовещательным органом. Как доказывает российская история, в стране с неразвитой правовой культурой, пережившей социалистический срыв модернизации, невозможен переход от царского абсолютизма — через абсолютизм тоталитарный — непосредственно к развитым формам государства.
4. Судебная система имеет черты феодальной. Суды специализируются не по содержанию дел, а по субъектному (квазисословному) принципу. Несмотря на конституционное провозглашение презумпции невиновности, она не действует. Суд выполняет обвинительную функцию. При недоказанности преступления суд, как правило, не выносит оправдательный приговор, а направляет дело на дополнительное расследование; причем обвиняемые остаются под стражей.
Вопрос 23. Элементы государства
В XIX веке в потестарной парадигме сложилась так называемая теория трех элементов государства (здесь и далее в этой главе имеется в виду государство «в широком смысле»). Согласно этой теории государство в целом представляет собой единство трех элементов: 1) население государства (нация, государственно-организованный народ); 2) государственная территория и 3) государственная власть. Это чисто аналитическая доктрина. Она рассматривала элементы государства как явления, производные от целого, от уже существующего государства.
В потестарной парадигме определяющим выступает элемент власти: государство — это организация власти, наиболее сильная (эффективная) у данного народа на данной территории. В легистском варианте (например, в теории Г. Кельзена) государство изображается как принудительный нормативный порядок (законопорядок), обладающий наибольшей силой у данного народа на данной территории. Во всех вариантах властно-принудительный элемент как бы формирует два других элемента: государственная власть превращает сообщество людей на соответствующей территории в население государства (нацию) и создает государственную территорию. То обстоятельство, что именно сообщество людей на определенной территории создает организацию государственной власти, а не наоборот, остается за рамками объяснения элементов государства в этой парадигме.
По существу «теория трех элементов» отражает еще феодальные и абсолютистские представления о государстве как о «государевом имении» («хозяйстве»), объекте частной собственности: государство — это государева земля, население которой — его подданные, по отношению к которым он выступает как суверен.
Такая интерпретация не удовлетворяет запросам современной западной культуры, с ее идеологией универсальных естественных прав человека, что выразилось в попытке юридической интерпретации элементов государства — посредством категории «права человека третьего поколения».
Субстанциональный элемент государства
Каждое общество (культура, цивилизация) и его институты создается конкретным народом — этносом или суперэтносом (группой этносов, возникших в одном регионе и противопоставляющих себя другим суперэтносам). Этнос — это естественный субстрат, в котором формируются общество. Конкретное государство возникает, как правило, в процессе исторического развития этноса и является политико-правовой формой обособления и существования этноса (суперэтноса). При этом происходит внешнее (по отношению к другим этнополитическим образованиям) политическое самоопределение этноса. Политически самоопределяющиеся этносы (суперэтносы) — это нации. Именно нация представляет собой субстанциональный элемент государства.
Однако возникновение и формирование государства — не естественноисторический, а общественно-исторический процесс. Причиной возникновения государственности у определенного этноса является не непосредственно этногенез, а социальный контекст, в котором он происходит.
Кроме того, этническое объяснение возникновения конкретных государств не вполне сочетается с понятием социокультуры правового типа и юридическим понятием государства. Действительно, в исторически неразвитой правовой ситуации полноправными субъектами государства могли быть только принадлежащие к «государствообразующему этносу»; отсюда — понятие этнического типа права и государства[38]. Но в развитой государственно-правовой форме снимаются этнические различия внутри «государствообразующего народа». Правовое государство гарантирует права и свободы индивидов независимо от этнических и других фактических различий.
Поскольку далеко не все существующие этносы создавали и создают свою национальную государственность, возникает вопрос — имеет ли право каждый этнос на создание своего государства или же речь может идти только о притязаниях этнических элит, которые, однако, не имеют правового характера?
Современное международное право, с одной стороны, признает как право народов на внешнее политическое самоопределение, включая создание своего национального государства. Но, с другой стороны, оно защищает целостность существующих государств, так что никакая этнически определяемая часть населения существующего государства не может в нормальном правовом режиме выйти из состава этого государства.
Субъектом права на внешнее политическое самоопределение является любой народ (этнос, суперэтнос), компактно проживающий на определенной территории, не рассеянный по миру. С точки зрения равноправия, не может быть никаких юридических аргументов против внешнего политического самоопределения любого, даже малочисленного этноса. Но осуществление прав не должно нарушать права других субъектов. Сецессия же по этническому принципу всегда нарушает права других, прежде всего, иноэтничных групп и вообще всех, кто живет на территории, отделяемой от государства, но не имеет желания оказаться гражданином другого государства.
О «праве на сецессию» применительно к этническим меньшинствам можно рассуждать (например, с точки зрения международно-правового сообщества) лишь в такой ситуации, когда права человека принципиально нарушаются именно по этническому признаку. Но с точки зрения правительства в конкретном государстве, такое «право» не может быть признано: в правовом государстве — именно потому что оно правовое, и в нем обеспечиваются равным образом права всех, включая этнические меньшинства, а в правонарушающем — именно потому что оно правонарушающее.
Вместе с тем существующие государства не вправе вообще отрицать право этнических меньшинств на политическое самоопределение. Практика же такого отрицания порождает терроризм на этнической почве и даже войны за национальную независимость. Так что если происходит силовое решение данной коллизии, то оно возможно и в пользу сецессии — если у самого этнического меньшинства достаточно для этого силы, или же оно опирается на силовую поддержку мирового сообщества государств. Такая поддержка допускается международным правом — в тех случаях, когда борьба этнического меньшинства за политическое самоопределение вызвана массовыми грубыми нарушениями прав человека в отношении представителей этого меньшинства.
Поэтому оптимальным представляется такое решение рассматриваемой коллизии, которое приводит к внутреннему самоопределению этнических меньшинств при сохранении целостности существующих государств.
Смысл такого самоопределения — обретение этническим меньшинством регионального самоуправления в рамках существующего государства. Для того чтобы этнические меньшинства могли претендовать на внутреннее политическое самоопределение, не требуется никаких причин вроде нарушения прав человека по этническому принципу. Достаточно ясного волеизъявления этого меньшинства по правилам, установленным в государстве (например, референдум). Отказ в предоставлении самоуправления можно уже расценивать как грубое нарушение прав человека.
При этом должны соблюдаться два условия. Во-первых, внутреннее политическое самоопределение не должно преследовать такие цели, которые несут в себе нарушение прав человека, прежде всего равноправия. Во-вторых, не должны нарушаться права иноэтничного населения.
Если этническое меньшинство «рассеяно» по территории государства, то его внутреннее политическое самоопределение возможно в форме экстерриториальный автономии. В этом случае ему обеспечивается представительство в центральных или региональных органах государственной власти.
Однако все эти рассуждения о «правах» этносов и меньшинств имеют весьма существенный недостаток: имеются в виду так называемые коллективные права («права человека третьего поколения»), в то время как субъектом того, что называется правами человека, выступает не коллектив, а свободный индивид. Очевидно, что эти «права» актуальны в социокультурной ситуации, неразвитой в правовом отношении, в которой права человека не являются ценностью, когда отдельный человек как таковой еще не признается полноценным социальным субъектом и когда целые этнические сообщества подвергаются агрессивному насилию именно по этническому признаку.
Не меняет сути дела объяснение «коллективных прав» как таких прав человека, которые реализуются не индивидуально, а совместно с другими людьми. Такое объяснение предполагает коллективизм — явление, характерное как раз для социокультуры потестарного типа. В связи с этим важно подчеркнуть, что вовлечение этнических сообществ в войны за создание национального государства всегда выгодно этническим элитам, которые небезосновательно рассчитывают радикально улучшить свое социально-политическое положение, а поэтому фактически навязывают целым народам свое представление об их будущем.
Территориальный элемент государства
Государственная власть территориально «распространяется», т. е. воздействует, не на саму территорию, не на пространство, а на людей, находящихся в пределах определенной территории, в определенном пространстве, включая водное и воздушное. Таким образом, территориальный элемент государства — это пространство, в пределах которого действует институты определенного государства.
Собственно «коллективно-правовая» интерпретация государственной территории неразрывно связана с «правами» этносов и не имеет самостоятельного значения. С точки зрения современной идеологии «коллективных прав», территориальный элемент государства является естественным продолжением его субстанционального элемента. Территории, на которых возникают государства, суть территории, освоенные этносами, формирующими государство.
Этнос возникает в определенном ландшафте, что порождает связь этноса с определенной территорией. Эта географическая территория является для этноса родиной, и связь с этой территорией становится определяющим фактором формирования этноса. Следовательно, этнос имеет «право» на самоопределение на той географической территории, на которой он сформировался, с которой он связан естественно-исторически («право на родину»). Однако возможна и такая конфликтная ситуация, когда два этноса претендуют на одну и ту же географическую область как на свою родину. Примером служит Палестина, являющаяся родиной и для евреев, и для палестинских арабов. Разрешение такого конфликта происходит в пользу той нации (этноса), у которой достаточно силы для реализации территориальных притязаний и за которой стоит силовая поддержка мирового сообщества (великих держав).
В потестарной парадигме ранее (до возникновения современного международного права) различались следующие «правовые» (т. е. официально-властно оформленные) способы изменения государственной территории: «оккупация», аннексия, цессия и адъюдикация.
«Оккупация» (лат. occupatio — занятие, завладение) могла быть достаточным для международного признания «правовым» способом присоединения новой территории только в случае занятия «ничьей территории» — «безгосударственной», т. е. не принадлежащей другому государству, или даже территории, населенной неевропейскими аборигенами, институты которых не признавались государственными. Так, колониальные державы придерживались доктрины, согласно которой территория, не населенная европейскими народами, может «юридически» отойти к европейскому государству «за давностью владения», т. е. в результате длительного фактического господства. Это понимание «оккупации» нужно отличать от запрещенных современным международным правом occupatio bellica и occupatio pacifica. Последние означают захват и удержание территории другого государства без ее формального включения в состав оккупирующего государства.
В случае захвата территории другого государства требовалось ее «правовое» (в смысле легизма) оформление — аннексия (лат. annexio — присоединение). Это не основанное на договоре, одностороннее включение в состав государства территории, находившейся до этого под властью другого государства. От оккупации в современном смысле аннексия отличается тем, что в первом случае новая власть распространяется на занятую территорию только de facto. Понятно, что ничего правового в аннексии или в законе об аннексии территории другого государства нет и быть не может. Но до 1945 года «международное право» позволяло по итогам военного конфликта оккупировать или аннексировать территорию другого государства полностью или частично.
С юридической точки зрения, очевидно, что в обоих случаях речь идет лишь о расширении государственной территории de facto. Но ни факт аннексии, ни факт «оккупации» сами по себе не дают правовых оснований для включения территорий в состав других государств — даже если речь не идет о присоединении территории в результате агрессии. Ибо если эти территории населены, то вопрос об их вхождении в то или иное государство может решаться только политическим самоопределением населения.
Цессия (лат. cessio — официальная уступка, передача своих прав другому лицу) означает переход территории от одного государства к другому по договору. Нередко цессия происходит по окончании войны в результате заключения мирного договора. Как правило, при этом меняется государственная принадлежность населения передаваемой территории. Но жителям передаваемой территории может предоставляться возможность оптации — право выбора гражданства.
Адъюдикация (лат. adjudicatio — присуждение) — это переход спорной территории по решению компетентного международного суда. Здесь, как и в случае «оккупации безгосударственной территории», территория, присоединяемая к государству, рассматривается как «объект», на который субъект приобретает право собственности, понимаемое как власть над вещами — приобретает за давностью владения, в результате присуждения и т. д.
В этих рассуждениях территория выступает как объект, вещь, на каком-то основании принадлежащая или не принадлежащая определенному владельцу, хозяину (в данном случае — «Государству-юридическому лицу»). Здесь мы имеем дело с сохранившимися до сих пор в потестарной парадигме представлениями о государстве как о принадлежащей государю земле с «людишками», «городишками», «сельцами» и т. д.
Таким образом, межгосударственные отношения рассматривались в категориях цивилистики, и при этом не только территории, но и люди, целые народы выступали в качестве вещей, объектов частного права.
Подчеркнем, что в потестарной или в неразвитой в правовом отношении социокультурной ситуации территориальный компонент государства, как и его население, представляет собой ресурсы существования и благоденствия правящих групп. В таком контексте уместно использовать понятие ресурсного государства, каковым остается Россия[39].
Институциональный элемент государства
Институциональный элемент государства составляют институты публичной власти. Они включают в себя властные и управленческие социальные роли — государственные должности (в юридическом смысле — это правовые роли, или компетенции). В механистическом образе государства совокупность этих должностей рисуется как государственный механизм, или аппарат, в органическом образе получается система государственных органов, или государство в узком смысле (правительство).
«Право на неповиновение». Потестарная интерпретация положения индивида в государстве объясняет обязанность подчинения фактом силы и признает только октроированные права. С юридической же точки зрения обязанность повиновения объясняется тем, что государственные институты обеспечивают правовую свободу. Отсюда следует, что не может быть юридической обязанности повиноваться правонарушающей власти.
Со времен античности известно понятие «право на неповиновение»; в частности, даже различаются «консервативное» право на сопротивление попыткам узурпировать власть в конституционном государстве (право на защиту существующего правового порядка) и «революционное» право на неповиновение тиранической, правонарушающей власти — вплоть до восстания. Однако вряд ли можно говорить о праве на восстание в юридическом смысле. Прежде всего здесь возникает вопрос о «степени противоправности» власти: до какого предела нужно ее терпеть?
«Право на неповиновение» — категория, скорее, идеологическая. Институциональная интерпретация государственности позволяет понять, что публично-властные институты функционируют и сохраняются постольку, поскольку они позволяют удовлетворять потребности большинства населения, и разрушаются, когда это становится невозможным. Сохранение, деформация или разрушение институтов не зависят от признания или непризнания «права на неповиновение». Пока механизмы принуждения в рамках существующих институтов сильнее недовольства дисфункцией институтов, последние сохраняются.
Исторический опыт показывает, что на практике о праве на неповиновение, на восстание говорят тогда, когда восстание победило. В противном случае говорят, что был бунт против законной власти или попытка государственного переворота, но власть восстановила законный порядок. Отсюда можно заключить, что «право» на неповиновение — объяснительная категория: с помощью этой категории нельзя установить, до каких пор следует терпеть произвол власти и когда его следует считать нестерпимым; зато эта категория позволяет post factum давать «квазиюридическое» объяснение революций, меняющих организацию власти.
То же самое относится к «правам» на политическое самоопределение, на родину: если у определенной этнической группы достаточно силы или за ней стоит внешняя силовая поддержка, то, в случае сецессии, признается, что «народ реализовал право на создание своего государства на территории, которая является его родиной». Но если такой силы нет, то эту этническую группу просто не признают субъектом «права» на внешнее политическое самоопределение, а попытки сецессии расцениваются как преступная деятельность, угрожающая целостности государства. Возникает впечатление, что «права» на неповиновение и внешнее политическое самоопределение существуют лишь как «право сильного» или «право силы», достаточной для революции или сецессии.
Но не всякая сила, способная осуществить государственный переворот или сецессию, признается международно-правовым сообществом силой, имеющей правовые основания. Это признание зависит от того, какого типа институты будут сформированы в новом государстве.
Юридическое понятие государственного суверенитета. Может возникнуть впечатление, что в институционально-правовой интерпретации государственности утрачивается понятие государственного суверенитета. Однако это понятие, впервые сформулированное в потестарной парадигме, при смене парадигмы не теряется, но лишь наполняется юридическим содержанием. А именно, государственный суверенитет в цивилизации правового типа можно интерпретировать как господство права или суверенитет национальной правовой системы.
Это означает верховенство конституции государства (и принятых в соответствии с ней законов) в любой системе источников права. Внутренний суверенитет — это подчинение всех фактически властных социальных институтов требованиям конституции, или верховенство конституционных институтов публичной власти, а внешний — неподчиненность конституционных институтов государства конституциям других государств и недействительность для этого государства положений международного права, если они противоречат его конституции. В последнем случае, либо конституция государства должна быть приведена в соответствие с положениями международного права, либо они не будут иметь силу для этого государства.
Официально-властное принуждение за пределами дозволенного правом — это такое же правонарушение, преступное насилие, как и противоправное принуждение со стороны частных лиц.
Внешний суверенитет предполагает равноправие всех членов правового сообщества государств, их взаимодействие по принципу: «свобода каждого государства в международных отношениях ограничена такой же свободой каждого другого государства». Подчинение же международному праву — не ограничение суверенитета, а необходимое условие суверенитета всех государств. Ибо все могут быть суверенными только в рамках общего и одинакового для всех международного правопорядка. В противном случае «суверенными» (в смысле потестарной интерпретации суверенитета) будут лишь немногие — и то лишь до тех пор, пока не столкнутся с более сильными державами.
Вопрос 24. Рассредоточение государственной власти
В цивилизациях потестарного типа и вообще в неразвитой правовой ситуации государственность существует как единый, централизованный институт. Этот моноцентризм выражается, прежде всего, в субинституте реального главы государства, которому подотчетны и подконтрольны все остальные государственные органы и который, таким образом, может вмешиваться в их компетенцию, даже если конституция (официальный текст) декларирует разделение властей.
Соответственно в потестарной парадигме отрицается сама возможность полицентризма, рассредоточения государственной власти. При этом политическая идеология, призванная легитимировать моноцентризм, во всех ее модификациях утверждает, что верховная власть, от которой производны все реальные публично-властные институты, принадлежит некоему абстрактному надличностному субъекту — Богу, суверену, нации, народу, экономически господствующему классу, «трудящимся» и т. п., и этот субъект ее ни с кем не делит.
На языке современной псевдодемократической идеологии источником государственной власти провозглашается народ — абстрактная коллективная целостность, которой приписываются некая особая воля и способность выражать эту волю посредством референдума или выборов должностных лиц государства. Считается азбучной истиной, что от имени народа государственная власть осуществляется иерархической системой органов, в рамках которой может быть только разделение труда, но не разделение властей. В потестарной парадигме государственная власть признается не только единой в ее социальной сущности, но и неделимой в ее организационной форме. Последнее означает, в частности, что, по моноцентристской идеологии, то или иное разделение компетенций не дает возможности разным государственным органам действовать независимо друг от друга; в противном случае невозможно выполнение самой генеральной функции государственности — управления всей социальной жизнью. Особенно под влиянием практики западного социал-капитализма, когда происходит усиление потестарных институтов и нарастают моноцентристские тенденции, соответствующая идеология объясняет, что не следует понимать разделение властей буквально и что некоторое рассредоточение государственной власти, наличие сдержек и противовесов в отношениях между государственными органами, тем не менее, не снимает необходимость их согласованного взаимодействия и, следовательно, координации их сотрудничества, для чего, естественно, необходим институт реального главы государства.
В либертарной парадигме никоим образом не опровергается тот факт, что потестарная цивилизационная реальность функционирует по принципу централизованного публично-властного управления всей социальной жизнью и что разрушение этого моноцентризма просто опасно для наличного общества. Полицентризм является атрибутом не потестарной, а правовой, причем развитой правовой культуры.
В либертарианских рассуждениях о социокультурной реальности правового типа, прежде всего, государственность не признается «животворящим началом» общества, и правовая государственность рассматривается лишь как институциональный фактор свободных социальных взаимодействий, как институт гражданского общества. Отсюда вытекает, что рассредоточение государственной власти, во-первых, ни коим образом не вредит обществу (свободным, ненасильственным социальным обменам), во-вторых, снижает вероятность подмены правоохранительной деятельности публично-властным агрессивным насилием.
Рассредоточение государственной власти происходит по мере исторического прогресса свободы и достигается в капиталистической правовой ситуации. Для правовой культуры капитализма характерен «оборонительный менталитет» по отношению к государственной власти, желание оградить личность от авторитарного вмешательства, от возможности злоупотреблений властью, даже если это власть большинства. Поэтому при капитализме прослеживается тенденция к распределению компетенций с таким расчетом, чтобы никакой государственный орган и никакое лицо в государстве не обладали бы властью, позволяющей бесконтрольно применять насилие и ограничивать свободу.
Наиболее известное проявление полицентризма, разделение властей «по горизонтали», обычно понимается в соответствии с учением Ш.Л. Монтескье — как такое рассредоточение публичновластных компетенций, при котором обособляются законодательная, исполнительная и судебная власти. Обособление именно этих ветвей власти и соответствующих им форм, по Монтескьё, есть не просто проявление некой целесообразности, а обеспечение свободы.
Проблема, однако, заключается в том, что такого разделения властей нигде, кроме США (да и то с оговорками), не было, нет и не будет. Монтескьё строил свою модель разделения властей на основе осмысления практики современной ему Англии, и, по ряду причин, умудрился увидеть в этой практике то, чего там никогда не было, и не увидеть то, что лежит на поверхности. А именно, британский парламентаризм как раз опровергает разделение властей на законодательную и исполнительную. Именно в Англии зародился феномен «партийной власти», выступающей в роли правительства, опирающегося на поддержку парламентского большинства. Монтескьё же, под влиянием идеи народного суверенитета, придавал первостепенное значение разделению властей именно на законодательную и исполнительную, а значение судебной власти недооценивал (судьи — всего лишь «уста закона»). Между тем, именно в Англии, стране общего права, уже во времена Монтескьё существовала судебная власть, независимая и от короны, и от парламентско-правительственной власти, способная эффективно защищать свободу от законодательного произвола.
Иначе говоря, в условиях реального полицентризма из классической триады только судебная власть существует как самостоятельный институт, а институты, складывающиеся в сфере деятельности парламента и правительства, фактически нигде не соответствуют модели разделения властей на законодательную и исполнительную.
Вопрос 25. Компоненты разделения властей: институционально-функциональный и субъектный
Разделение властей включает в себя институционально-функциональный и субъектный компоненты (аспекты), и при отсутствии хотя бы одного из них разделения властей не существует.
Институциональное разделение властей соблюдается тогда, когда в государственном аппарате создаются самостоятельный законодательный институт и, отдельно от него, система исполнительных органов и, отдельно от них, независимая судебная система.
Такое простое разделение законодательных, исполнительных и судебных институтов достигнуто во всех современных развитых в правовом отношении государствах. Но это еще не значит, что во всех этих государствах есть разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви.
Функциональное разделение властей означает, что властные институты самостоятельны в пределах своей правовой компетенции и, следовательно, (1) органы одной ветви власти не должны вмешиваться в компетенцию другой и (2) компетенции не должны пересекаться, не должно быть конкурирующих компетенций.
В общем и целом, компетенции должны быть таковы, чтобы законодатели не могли вмешиваться в исполнительную власть и правосудие. Исполнительные органы не должны заниматься первичным нормотворчеством, издавать правоустановительные акты, не должны возлагать на себя функции правосудия. (Однако нереально обременять законодателя обязанностью устанавливать все правовые нормы, и поэтому законодатель вправе поручать высшим исполнительным органам издавать первичные нормативные акты, но лишь по определенному законом вопросу и в течение определенного законом срока). Суды не должны законодательствовать и осуществлять функции исполнительной власти даже тогда, когда законодательный или компетентный исполнительный орган не выполняет свои обязанности.
Считаются допустимыми следующие нарушения функционального разделения властей: амнистия (акт законодателя); издание исполнительными органами нормативных актов на основании и во исполнение законов (включая делегированное законодательство), законодательная инициатива исполнительных органов и высших судов, отлагательное вето и право помилования как прерогативы главы исполнительной власти; создание высшими судами общеобязательных прецедентов и издание актов (актов нормативного толкования права), имеющих силу вторичных источников права; конституционная и административная юрисдикции.
В России нормоустановительную “власть-функцию” осуществляют парламент и президент, хотя Конституция РФ провозглашает разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. Ст.90 Конституции позволяет Президенту РФ, возглавляющему систему исполнительно-распорядительных органов, издавать указы не на основании и во исполнение законов, а всего лишь не противоречащие Конституции и федеральным законам. Это означает конкурирующую нормотворческую компетенцию (нормотворческие полномочия по одним и тем же предметам ведения) номинального законодателя (Федерального Собрания) и Президента.
Недопустимость соединения судебной власти с законодательной очевидна. Причем это требование не отрицает возможность прецедентного права. При установлении прецедента суд создает норму, но в дальнейшем суды связаны этой нормой. При более подробном рассмотрении этого вопроса можно прийти к выводу, что, с одной стороны, в странах прецедентного права нормоустановительная “власть-функция” распределена между парламентом и высокими судами, но с другой стороны, по мере исторического развития прецедентных правовых систем, она неуклонно сдвигается в сторону парламентского законодательства. Креативные прецеденты вытесняются статутным правом. Но при этом прецеденты толкования остаются важным инструментом в руках судебной власти, позволяющим приводить законодательство в соответствие с конституционными принципами.
Функциональное разделение, с одной стороны, судебной власти, с другой — законодательной и исполнительной властей означает, прежде всего, запрет кому бы то ни было осуществлять юрисдикционную “власть-функцию”, принадлежащую судам. В то же время суды осуществляют правовой контроль за актами законодательных и исполнительных органов. Для того чтобы этот контроль оставался в пределах юрисдикционной “власти-функции”, он должен осуществляться исключительно в рамках разрешения споров о нарушенном праве. Суд не должен быть профессиональным контролером или надзирателем.
Субъектный компонент разделения властей означает, что одно и то же “лицо” или организованный политический субъект (политический лидер или же партия, группа) не должен осуществлять одновременно разные “власти-функции”, а разные ветви власти, которые организационно обособляются при той или иной модели разделения властей, будут реально независимыми лишь тогда, когда они контролируются разными субъектами, во всяком случае — не контролируются одним и тем же субъектом.
Иначе говоря, разделение властей осуществляется лишь в той мере, в которой разные государственно-властные институты, с разграниченной компетенцией, контролируются разными субъектами — разными политическими силами. Без этого условия невозможно и функциональное разделение властей. Без него институциональное и функциональное разделение властей, юридически обеспеченные любыми сдержками и противовесами, превращаются в юридическую фикцию.
Эти рассуждения можно пояснить на следующих примерах.
Если избираемый народом президент (глава исполнительной власти) не имеет права законодательной инициативы, а его вето преодолевается квалифицированным большинством, то, казалось бы, есть разделение властей на законодательную и исполнительную. Но если лицо, занимающее пост президента, и парламентское большинство принадлежат к одной партии, то они могут выступать как одна политическая сила (возможно, это единство не будет ярко выраженным, если нет необходимой для него партийной дисциплины). В этом случае важные законопроекты будут готовиться администрацией президента, вноситься в парламент через депутатов соответствующей партии, а затем парламентское большинство будет превращать их в законы. Таким образом, институциональное и функциональное структурирование аппарата государственной власти нельзя расценивать как разделение властей, если нет субъектного компонента разделения властей.
Другой пример: функциональное разделение властей на законодательную и исполнительную может быть нарушено (несущественно) предоставлением президенту законодательной инициативы, но при этом независимый от легислатуры президент и парламентское большинство будут принадлежать к разным политическим партиям (партиям-оппонентам). В этом случае, наоборот, есть разделение властей на законодательную и исполнительную. Законодатель в лице парламентского большинства будет выступать в отношениях с исполнительной властью как самостоятельный политический субъект, а президентская законодательная инициатива утратит смысл.
Если одна и та же партия контролирует одновременно парламентское большинство и систему административных органов, если к той же партии принадлежат правительство или президент, то институциональная обособленность этих органов утрачивает значимость — в меру партийной дисциплины. Поэтому во всех органах, подсистемах власти, в которых это возможно, должен действовать запрет на принадлежность к партиям.
Внепартийным, неполитизированным должен быть не только суд, но и администрация (система исполнительно-распорядительных органов, профессиональная бюрократия, государственная служба). В этом случае административная власть может быть противопоставлена институтам, которые контролируются партиями, — как власть непартийная, неполитизированная, так называемая меритократическая власть.
Вопрос 26. Форма государства. Реальные и номинальные монархии и республики
В потестарной парадигме это понятие, во-первых, предполагает государственность как социальное управление, точнее — опирающееся на монополию насилия управление неким объектом, который, рассматриваемый в разных ракурсах, представляется как «общество», «народ», «классы», «территория» или же «деятельность», «удовлетворение потребностей», «интересы» и т. д. Во-вторых, это понятие, в том виде, как оно сложилось в советской доктрине, позволяет систематизировать совокупность знаний о том, как организовано такое социальное управление: кто правит и как замещаются высшие управленческие должности (форма правления), как происходит «управление территориями» — непосредственно из центра или через региональные органы, которым предоставлена автономия (государственное устройство), и, наконец, каким способом осуществляется управление — преимущественно силовым, «диктаторским» или же «демократическим», при участии населения (государственный режим).
Собственно к форме государства относятся только два первых компонента этого сложносоставного понятия, а «способы осуществления государственной власти» — содержательная характеристика государственности. Включение же государственного режима в форму государства было вызвано тем, что традиционного различения по форме правления монархий и республик (в качестве базовых категорий формы правления) явно недостаточно с позиции марксистского понимания взаимосвязанности формы и содержания. В частности, формалистическое различение монархий и республик оказывается непригодным для анализа современных парламентарных стран, в которых монарх является номинальным главой государства. Не меньше возражений вызывало бы отнесение к одной и той же, республиканской форме государственности всех стран с «немонархическими» формами правления, в числе которых были бы и реальные демократии, и диктаторские режимы, при которых выборность правителей даже не имитируется. Категория же государственного режима, поскольку она включается в сложносоставное понятие формы государства, отчасти снимает эти противоречия. Теперь уже можно различать, например, монархии и республики реальные и номинальные.
Однако такой категориальный аппарат по-прежнему остается неудовлетворительным, так как, во-первых, под названием «форма государства» предлагается содержательная характеристика государственности. Во-вторых, и это главное, исходное деление государственных форм на монархическую и республиканскую в качестве базовых категорий формы правления является изначально ошибочным. По своему происхождению оно относится к исторически неразвитой государственноправовой ситуации и в этом смысле является исторической случайностью. По существу оно подобно «китайской классификации» Х.Л. Борхеса, т. е. деление на монархии и республики — это не классификация формы государства по единому основанию. В частности, «не-выборность» правителя в конкретном государстве отнюдь не означает такую форму правления, которую принято называть монархией, а отсутствие фигуры наследственного монарха отнюдь не означает, что в этом государстве формирование высших органов власти происходит по принципу выборности.
Явно архаический характер деления государственных форм на монархические и республиканские, непригодность такого деления в научном анализе не опровергают научную и практическую ценность самих категорий «монархия» и «республика». Однако современные представления о форме государства (основные характеристики структуры государственности — системы публично-властных институтов) предполагают иные базовые категории.
Смысл и функции этих категорий в общем и целом верно выражены в российской науке в работах В.Е. Чиркина. Рассматривая форму государства как комплексную категорию, а не как механическое соединение трех известных компонентов, исследователь различает две базовые формы, которые он называет монократической («единовластной») и поликратической («многовластной»), и промежуточную — сегментарную форму[40].
Этот вывод российского ученого интересен с точки зрения развиваемого нами либертарноюридического учения, поскольку В.Е. Чиркин является противником либертарианства вообще и принципа разделения властей в частности[41]. Вывод этот построен не на идеологическом основании, а на сравнительном анализе конституционных текстов и политической практики (как полагает В.Е. Чиркин) множества реальных государств. Причем из рассуждений самого В.Е. Чиркина можно вывести, хотя и с оговорками, что для монократической формы характерно то, что известно на языке современной науки как политический моноцентризм, а именно: наличие института реального главы государства, отсутствие разделения властей как «по горизонтали», так и «по вертикали», и доминирование публично-властных институтов силового типа. Наоборот, для поликратической формы характерен полицентризм, т. е. рассредоточение государственной власти и наличие публично-властных институтов правового типа. «Поликратическая форма, — по признанию В.Е. Чиркина, — существует во многих развитых странах с богатыми демократическими и правовыми традициями»[42].
Такое понимание формы государства представляется плодотворным в научном отношении, поскольку оно учитывает систему знаний о структуре государственности, отраженную в традиционных категориях (форма правления и т. д.), и позволяет связать воедино частные характеристики государственности, относящиеся к одной и той же базовой разновидности формы государства. Следуя более привычной терминологии, мы будем называть их моноцентристской и полицентристской формами государственности. Что касается некой промежуточной, «сегментарной» формы, то выделение таковой в одном ряду с базовыми мы не считаем методологически верным, так как базовые формы представляют собой скорее идеальные типы. Последнее означает, что реальные структуры государственности всегда в той или иной мере «сегментарны», особенно в условиях современного социал-капитализма, с его конкуренцией силовых и правовых институтов.
Таким образом, мы рассматриваем форму государства (государственности) как структуру системы публично-властных институтов, или типичные взаимосвязи между основными институтами государственности — законодательными, исполнительными и судебными, центральными (общегосударственными) и региональными. При этом различение публично-властных институтов правового и силового типов уже включает в себя вопрос о порядке или способах формирования высших органов государственной власти.
Вопрос 27. Президентская республика
• Моделью президентской республики является разделение властей на законодательную и исполнительную, при независимой судебной власти. Однако реальные институты здесь таковы, что президент-глава исполнительной власти может в некоторых пределах контролировать и власть законодательную. Трансформации института главы исполнительной власти в институт главы государства препятствует сильная судебная власть, опирающаяся на принципы права
Название «президентская республика» закрепилось за институтами, определившими специфику формы правления в США. Прежде всего эта специфика выражается в попытке разделения властей на законодательную и исполнительную, возглавляемую президентом, который, таким образом, не является главой государства. Такого института в президентской республике нет.
США — единственная страна, в которой существует президентская республика. Как будет показано ниже, попытки копировать институты президентской республики в других культурах производят и другое их соотношение: вместо президента-главы исполнительной власти получается президент-глава государства. Поэтому США — не просто образец президентской республики, а единственная известная на сегодняшний день эмпирическая реальность, позволяющая рассуждать о специфическом для нее разделении властей «по горизонтали».
Это страна общего права, т. е. здесь правомерность публично-властной деятельности определяется не парламентом (и не президентом), а судом. Как будет показано ниже, именно независимость судебной власти, достигнутая в странах общего права, делает форму правления в США устойчивой, препятствует формированию потестарных институтов. Иначе говоря, президентская республика возможна только в стране общего права. Но отсюда не вытекает, что президентская республика является атрибутом общего права.
С формальной точки зрения, законодательная власть в президентской республике принадлежит только парламенту (конгрессу), а президент и формируемое им правительство осуществляют исполнительную власть. При формальном описании принято считать, что у президента нет права законодательной инициативы. И парламент, и президент избираются народом и несут политическую ответственность только перед избирателями. Соответственно здесь нет и парламентской ответственности правительства, невозможен роспуск парламента. Предусмотренное конституцией отрешение президента от должности парламентом в порядке импичмента предполагает уголовное обвинение и, следовательно, не относится к политической ответственности.
Формально президент не вмешивается в законодательный процесс до тех пор, пока закон не принят парламентом. Его отлагательное вето преодолевается квалифицированным большинством голосов в каждой из палат парламента.
Собственно к разделению законодательной и исполнительной властей отлагательное вето не относится. Наоборот, это вмешательство власти исполнительной в компетенцию номинального законодателя, функциональное нарушение разделения властей, сдерживающее законодательный произвол парламента. (Произвол президента сдерживается угрозой импичмента и уголовного преследования).
Реальные же институты в США таковы, что президент является не пассивным исполнителем законов, а основным актором законодательного процесса. Описанная выше модель разделения властей не учитывает принятую в США практику делегирования законодательных полномочий президенту и ее масштабы, прямое внесение в парламент законопроектов в виде президентских посланий[43] и практику «карманного вето». Уже эти — фактически законодательные — возможности президента не позволяют говорить о строгом разделении властей на законодательную и исполнительную.
Наиболее эффективным средством президентского воздействия на парламент является так называемое карманное вето — возможность в некоторых ситуациях блокировать законодательный процесс, как если бы у президента было право абсолютного вето[44].
Казалось бы реальные институты в США должны способствовать моноцентристской тенденции, становлению института главы государства. Однако это не происходит по той причине, что регулирующему воздействию президента и парламента и даже интервенционистской политике до сих пор эффективно противодействует судебная власть. В частности, посредством толкования законов и через институт конституционной юрисдикции верховный суд блокирует политику государственного интервенционизма — по меньшей мере, более успешно, чем способна это делать судебная власть в Европе.
Характерный для американской модели конституционной юрисдикции инцидентный конституционный надзор означает проверку судом конституционности закона, примененного или подлежащего применению в том деле, которое рассматривает этот суд. Верховный Суд США как высшая апелляционная и надзорная инстанция может создать прецедент неприменения закона, обязательный для всех остальных судов.
Верховный Суд США не занимается абстрактным конституционным контролем. Нижестоящие суды не обращаются в Верховный Суд США с запросами по конкретному поводу, они должны сами решать вопрос о конституционности закона, применяемого или подлежащего применению в конкретном деле[45]. Здесь нет специального института индивидуальной конституционной жалобы, которую можно было бы подавать непосредственно в Верховный Суд, и граждане вправе обращаться за защитой любых своих прав в нижестоящие суды (по подсудности).
Верховный Суд США, осуществляя конституционный надзор, проверяет конституционность закона или иного нормативного акта, примененного или подлежащего применению в деле, которое он сам рассматривает. Нетрудно заметить, что при этом Суд выступает как судья в своем деле — выбирает законы, которые, по его мнению, неконституционны (правда, он редко пользуется этим правом). Вместе с тем Суд связан инцидентом — делом, спором о праве, в связи с рассмотрением которого возникает повод проверить конституционность (правовой характер) применяемого закона. Тем самым Верховный Суд устанавливает обязательный для всех судов прецедент применения или, наоборот, неприменения закона по причине его соответствия или несоответствия Конституции США. По существу, то же самое может делать и любой другой суд. Но только Верховный Суд создает общеобязательный прецедент недействительности закона в случае, если он установит его несоответствие Конституции США. Это право Верховного Суда не предусмотрено в Конституции США. Верховный Суд приобрел его своими действиями в результате установления прецедента по делу Мэрбери против Мэдисона (1803 г.)[46].
Вопрос 28. Страны с парламентарной формой правления
• В странах с парламентарной формой правления нет разделения властей на законодательную и исполнительную, парламентское большинство и образованное им правительство составляют одну «партийную власть». Противовесом ей выступают суды общего права или конституционный суд.
В парламентарных странах парламент не только осуществляет законодательную деятельность, но и формирует правительство. Точнее, правительство формируется партией или коалицией партий, располагающей большинством мест в нижней палате парламента. Поэтому здесь нет разделения властей на законодательную и исполнительную.
Здесь есть парламент — орган законодательной власти, и есть правительство — орган исполнительной власти. Но здесь нет функционального и персонального разделения властей на законодательную и исполнительную ветви. Премьер-министр и, как правило, все остальные члены правительства одновременно являются депутатами нижней палаты парламента. Поэтому на парламентских выборах избиратели фактически голосуют и за будущее правительство: избирательные списки партий возглавляют кандидаты на должности премьер-министра и членов правительства. Законодательную и правительственную политику здесь определяет партия, побеждающая на парламентских выборах, точнее — партийная политическая элита, контролирующая нижнюю палату парламента и формирующая правительство. Столь важная роль политических партий в сферах деятельности законодательной и исполнительной властей позволяет характеризовать парламентарные страны как “государство партий"[47].
В «государстве партий» правительство правит, опираясь на законодательную поддержку парламентского большинства. Одни и те же лица, составляющие правительство и представляющие большинство в нижней палате парламента, проводят законы через парламент и организуют исполнение этих законов. Законопроекты готовятся правительством, и обычно парламент не вносит изменения в законопроекты. Если премьер-министр и другие министры не вправе вносить законопроекты как члены правительства, то фактически они делают это как депутаты парламента. Следовательно, правом законодательной инициативы не обладают только такие члены правительства, которые не являются депутатами парламента. Однако для министра утрата депутатского мандата обычно влечет за собой уход из правительства. Кроме того, в парламентарных странах распространена практика делегированного законодательства, когда парламент поручает правительству издавать нормативные акты, фактически имеющие силу закона.
Тем не менее в «государстве партий» функционально различаются так называемая партийная и административная ветви власти. Термин «партийная» не означает, что аппарат какой-то политической партии подменяет собою государственную власть. «Партийную» ветвь власти составляют парламентское большинство (возможно, коалиционное) и образованное им правительство.
Административную власть осуществляет внепартийная профессиональная бюрократия, организованная в систему органов (институтов) исполнительной власти. Состав функционеров административной власти не меняется в зависимости от того, какая партия приходит к власти и формирует правительство. Административная власть действует на основании и во исполнение законов (или актов, имеющих силу закона), но не партийных решений. Она не подчиняется политическим решениям, не получившим законодательного оформления.
Таким образом, в парламентарных странах высшие государственные решения, прежде всего законодательные, принимаются номинальным законодателем, но фактически предопределяются правительством. Исполняются эти решения бюрократическим государственным аппаратом, составляющим административную власть, аппаратом, которым правительство не может распоряжаться по своему усмотрению. Получается, что в парламентарных странах функцию законодательной власти выполняет не только парламент, но и правительство, формально отделенное от парламента, но функционально выступающее «продолжением» нижней палаты парламента, парламентского большинства. Вместе с тем правительство выполняет и функцию исполнительной власти. Однако исполнительную власть осуществляет не только правительство, но и система органов административной власти, и в правовом государстве правительство не может вмешиваться в компетенцию этих органов.
Конечно, то, что называется системой органов административной власти, существует и в президентской республике. Но в последней президент и парламентское большинство могут принадлежать к разным партиям. Так что в президентской республике партии играют важную, но не главную роль в системе разделения властей.
В парламентарных странах правительство ответственно перед парламентом, т. е. нижняя палата вправе выразить правительству недоверие или отказать в доверии. Парламентская ответственность правительства означает, что недоверие (отказ в доверии) неизбежно влечет за собой прекращение полномочий правительства; прежде всего, возможна его незамедлительная отставка. Но возможно и другое развитие событий: в ответ на недоверие премьер-министр вправе рекомендовать номинальному главе государства досрочно распустить нижнюю палату парламента и назначить новые парламентские выборы. В этом случае правительство слагает свои полномочия после избрания нового парламента. Хотя фактически оно может сохраниться, если в новом составе нижней палаты парламента прежний премьер-министр получит поддержку абсолютного большинства. Формально решение о роспуске, как и решение о назначении премьер-министра, принимает номинальный глава государства, но при этом он связан мнением премьер-министра или решением лидеров парламентских фракций, если правительство не сформировано.
Досрочный роспуск нижней палаты парламента как противовес требованию отставки правительства имеет свою логику. Досрочный роспуск происходит обычно в случаях правительственного кризиса. (1) Когда ни одна из партий или образующихся коалиций в нижней палате парламента не располагает абсолютным большинством, необходимым для формирования правительства, тогда такой неработоспособный состав палаты следует распустить и назначить новые выборы. (2) Если коалиционное правительство утратит поддержку нижней палаты в результате распада правящей коалиции и при этом не возникнет новая коалиция, располагающая абсолютным большинством, то правительство может сохраниться как “правительство меньшинства”. Если такому правительству выражено недоверие или его решения не получают необходимой законодательной поддержки, то на этот случай у премьер-министра должно быть право рекомендовать главе государства распустить нижнюю палату и назначить новые выборы. (3) Когда однопартийное правительство утрачивает поддержку абсолютного большинства в результате внутрипартийных разногласий, то премьер-министр, как фактический лидер правящей партии, должен решать вопрос о дальнейшей судьбе правительства.
Особенности сдержек и противовесов в отдельных парламентарных странах облегчают или, наоборот, затрудняют досрочный роспуск нижней палаты. В Великобритании досрочный роспуск палаты общин происходит тогда, когда правящая партия (премьер-министр, кабинет) считает целесообразным проведение досрочных выборов — независимо от правительственного кризиса. Такая возможность вытекает из самой сущности парламентарной формы правления. Ибо, по существу, здесь для роспуска нижней палаты достаточно одного желания правящего партийного большинства: это большинство, руководимое правительством, по конъюнктурным соображениям может формально выразить своему правительству недоверие, и в ответ последует роспуск нижней палаты. Все это подчеркивает, что досрочный роспуск парламента в “государстве партий” не следует расценивать как роспуск законодательного органа по решению органа исполнительной власти. Роспуск и досрочные выборы или отставка правительства — это внутреннее дело “партийной” власти.
В ФРГ во избежание частых роспусков нижней палаты допускается только конструктивный вотум недоверия. Последний означает, что отставка правительства по воле парламентского большинства происходит лишь тогда, когда абсолютным большинством избран новый премьер-министр. Такое положение исключает досрочный роспуск нижней палаты парламента в ответ на недоверие (отказ в доверии) правительству.
Необходимо подчеркнуть, что и в парламентарных странах основным противовесом «партийной» власти является власть судебная — в той мере, в которой она является неподзаконной, независимой от партийной политики. В этом качестве судебная власть представлена судами общего права и институтом конституционной юрисдикции.
Так, в Великобритании еще в XVII в. суды создавали прецеденты общеправового судебного контроля за законодательством. Начало было положено установлением прецедента в судебном решении по делу Томаса Бонхэма (1610 г.)[48]. В основе этого прецедента лежит принцип права «никто не может быть судьей в своем деле». Применение этого принципа как общепризнанного правового критерия при оценке законов позволяет признавать соответствующие законы противоправными, а значит — недействительными.
В Англии существовала так называемая Врачебная палата (в рамках Royal College of Physicians of London), которая рассматривала споры между врачами и жалобы на врачей. По закону Врачебная палата могла наложить на врача штраф, причем половина суммы штрафа поступала председателю Палаты. Врач Томас Бонхэм, приговоренный Палатой к уплате штрафа, счел решение необоснованным и обжаловал его в Суд королевской скамьи. Знаменитый судья Эдуард Коук, рассмотрев дело, установил, что Врачебная палата не вышла за пределы своей законной компетенции. Однако, заявил судья, есть общеизвестный правовой принцип “никто не может быть судьей в своем деле”, и никакой парламент, никакой закон не могут отменить этот принцип. Если же закон нарушает этот принцип, то такой закон противоречит праву, а значит — является недействительным и не применяется судом. Закон (парламентский акт), дозволяющий председателю Врачебной палаты получать в свое распоряжение половину суммы назначенного штрафа, ставит председателя и подчиненных ему судей Палаты в положение судей в своем деле. Ибо председатель и судьи Палаты прямо заинтересованы во взыскании штрафа, и в каждом подобном деле они фактически выступают не только как судьи, но и как сторона. Закон был признан недействительным, и тем самым был установлен судебный прецедент, в соответствии с которым, любой закон, противоречащий требованию “никто не может быть судьей в своем деле”, не применяется судом. Впоследствии суды в странах общего права неоднократно признавали законы недействительными со ссылкой на прецедент 1610 г.
Вопрос 29. Республика со смешанной формой правления
• Смешанная республика построена не на разделении законодательной и исполнительной властей, а на «сдержках и противовесах» в отношениях между президентом и парламентом. Президент и парламентское большинство могут конкурировать за право формировать правительство. Президентское правительство сможет действовать лишь тогда, когда оно получит одобрение парламента, а правительство, сформированное парламентом, будет ограничено нормотворческими («законодательными») полномочиями президента.
Смешанная республика (Пятая республика во Франции, Португалия, некоторые страны Центральной Европы) соединяет в себе институты президентской и парламентарной республик. От президентской республики заимствуется институт избираемого народом президента, обладающего полномочиями исполнительной власти. От парламентарной формы берется парламентская ответственность правительства, возглавляемого премьер-министром. Такая система исполнительной власти называется бицефальной («двуглавой»). Если президент и парламентское большинство принадлежат к одной партии (коалиции), то президент сам формирует правительство и фактически является его главой. Если же они принадлежат к разным партиям, то президент вынужден назначить премьер-министром лидера парламентского большинства, и возникает ситуация так называемого сожительства президента и правительства. В этой ситуации президент политически относительно «слаб», но правительство тем не менее вынуждено учитывать позицию президента.
Так, во Франции президент и в ситуации «сожительства» остается важной политической фигурой, сохраняющей самостоятельные полномочия. Он является верховным главнокомандующим, принимает решение о проведении референдума, а главное — издает регламентарные акты по вопросам, которые не могут быть предметом законодательства. Правда, регламентарные акты контрасигнуются премьер-министром и в случае необходимости — ответственными министрами. Так что, с другой стороны, можно говорить, что регламентарные акты издаются правительством с учетом позиции президента. Как бы то ни было, в период “сожительства” президент и правительство вынуждены учитывать интересы друг друга[49].
Для смешанной республики характерно то, что президент и парламентское большинство (если они — политические оппоненты) могут конкурировать при формировании правительства. Премьер-министра назначает президент, но реально премьером может стать лишь тот, кто получит поддержку нижней палаты. Президент не обязан назначать премьером представителя парламентского большинства, но нижняя палата вправе не одобрить программу правительства или выразить ему недоверие. В обоих случаях премьер-министр обязан подать президенту заявление об отставке правительства. Но в ответ президент вправе, не приняв отставку, один раз распустить нижнюю палату парламента и назначить новые выборы.
Так, во Франции президент вправе досрочно распустить нижнюю палату, если она отвергнет кандидатуру премьер-министра, назначенного президентом, или примет резолюцию порицания правительству. Тем самым президент вынесет свой спор с парламентом на суд народа. Но вновь избранную нижнюю палату в течение одного года нельзя распустить ни по каким основаниям. И если народ изберет новый состав нижней палаты с прежним партийным большинством, и это большинство примет резолюцию порицания, то президент будет вынужден принять отставку правительства и назначить премьером представителя парламентского большинства. Ибо нижняя палата одобрит только то правительство, которое представляет парламентское большинство, а распустить палату президент уже не имеет права. Реально президент может распустить нижнюю палату в связи со спором по вопросу о правительстве лишь тогда, когда он избран на свой пост после парламентских выборов. В этом случае есть вероятность того, что в новом составе нижней палаты оппозиция президенту не получит абсолютного большинства.
Если в смешанной республике президент и парламентское большинство не находятся в оппозиции друг другу, то складывается “партийная” власть, в рамках которой главную роль играет президент. Если же они стоят в оппозиции друг другу, то возникает специфический вариант разделения властей на законодательную и исполнительную. При этом исполнительную власть осуществляют президент и правительство, которое ответственно перед парламентом, но в то же время оно вынуждено учитывать позицию президента. В таком варианте разделения властей правительство находится в существенно меньшей зависимости от парламента, чем правительство в парламентарных странах
Вопрос 30. Конституционная модель и практика взаимодействия высших органов государственной власти в Российской Федерации
Россия по Конституции 1993 г. похожа на смешанную республику, но в действительности — это специфическая разновидность президентской республики. Президент Российской Федерации — это прежде всего институт исполнительной власти. Он обладает решающими полномочиями в сфере исполнительной власти, в сравнении с которыми фигура премьер-министра оказывается слабой и зависимой. Он формирует правительство и самостоятельно принимает решение об отставке правительства, непосредственно руководит деятельностью важнейших федеральных министерств и ведомств, является верховным главнокомандующим.
Но у Президента РФ есть конституционные полномочия, выводящие его власть за границы исполнительной власти, нарушающие баланс законодательной и исполнительной ветвей власти. Полномочия Президента в области законодательной власти включают в себя: право законодательной инициативы; право издавать нормативные указы по любым вопросам, не урегулированным законом, т. е. неподзаконные указы, фактически имеющие силу федерального закона; право отлагательного вето в отношении федеральных законов. В совокупности эти полномочия создают конкурирующую нормотворческую компетенцию парламента и Президента.
Президент РФ может издавать свои указы на основании и во исполнение законов, но может и заполнять ими пробелы в федеральном законодательстве. К указам Президента Конституция РФ предъявляет требование, которое ставит их регулирующее воздействие на один уровень с федеральными законами: указы не должны противоречить Конституции и федеральным законам. Следовательно, указ, изданный по вопросу, не урегулированному федеральным законом, выступает как первичный источник права, фактически равный федеральному закону и действующий до тех пор, пока не будет принят соответствующий закон. Более того, Президент вправе отклонить федеральный закон, принятый Федеральным Собранием, и вместо этого закона дать иное регулирование в своих указах. Наконец, Президент может издавать указы вопреки позиции Государственной Думы — основного законотворческого органа: если Дума отвергнет внесенный Президентом законопроект, то он может реализовать этот законопроект в форме своего указа.
Главное, чем отличается российская республика от смешанной, состоит в том, что Правительство РФ несет ответственность только перед Президентом и, следовательно не несет ответственности перед нижней палатой российского парламента — Государственной Думой.
Правда, российская Конституция 1993 г. имитирует парламентскую ответственность Правительства. Во-первых, нижняя палата парламента — Государственная Дума — формально вправе дважды отклонить представленную ей Президентом кандидатуру Председателя Правительства; но если Дума отклонит кандидатуру в третий раз, то она будет распущена, и Президент назначит премьер-министра без согласия Думы. Следовательно, Председатель Правительства назначается Президентом независимо от согласия Думы, причем трижды выраженное несогласие влечет за собой ее роспуск.
Однако Президент не вправе распускать Думу в экстраординарных ситуациях, а также в течение последних шести месяцев срока президентских полномочий; но в таких случаях Президент может, не распуская Думу, тем не менее назначать премьера вопреки позиции нижней палаты парламента. Причем Президент не обязан назначать премьер-министром того, чью кандидатуру Дума трижды отклонила; он может предлагать заведомо неприемлемые кандидатуры только для того, чтобы распустить Думу. Получается, что процедура одобрения кандидатуры премьера Думой направлена против самой нижней палаты парламента.
Во-вторых, Дума вправе выразить недоверие (или отказать в доверии) Правительству. Причем однократное выражение недоверия Правительству формально не может повлечь за собой никаких негативных последствий для Думы. В случае однократного выражения недоверия Президент вправе объявить об отставке Правительства, но вправе и “не согласиться с решением Государственной Думы” (ч.3 ст.117 Конституции РФ). Взятая сама по себе, эта норма бессмысленна, так как Президент вправе принимать решение об отставке Правительства, когда ему будет угодно, и не связан в этом вопросе никакими конституционными требованиями. Но с учетом других положений Конституции даже эта норма может быть опасной для Думы.
Допустим, Государственная Дума дважды в течение трех месяцев выразит недоверие Правительству. В этом случае Президент обязан либо принять решение об отставке Правительства, либо распустить Думу. Резонно предположить, что Президент не будет отправлять в отставку сформированное им Правительство (он может сделать это и без подсказки Думы) и распустит Думу. Правда, вновь избранную Думу нельзя распускать за выражение недоверия (отказ в доверии) в течении года после ее избрания. В такой ситуации Президент будет вынужден формально принять решение об отставке Правительства. Но он может сразу же его восстановить, предложив Думе кандидатуру прежнего Председателя Правительства; если Дума, добившаяся формальной отставки Правительства, трижды отклонит эту кандидатуру, она будет распущена, а Президент формально восстановит Правительство в его прежнем составе. По меньшей мере Президент восстановит Правительство, не распуская Думу. Так или иначе, в случае конфронтации Президента и нижней палаты парламента позиция последней не может реально влиять на судьбу Правительства.
Необходимо подчеркнуть, что Президент РФ вправе неоднократно распускать Думу, и при этом он не связан волей избирателей, участвующих в выборах Думы. Поэтому нельзя говорить, что Президент, распуская Думу, выносит свой спор с Думой на суд народа. Исход выборов в Думу не предрешает судьбу Правительства, сформированного Президентом. Такое полномочие российского Президента распускать нижнюю палату независимо от воли избирателей означает, что Президент выступает в споре с Думой как судья в своем деле; следовательно, это полномочие противоправно по существу. Такого полномочия нет ни в парламентарных странах, ни в смешанной республике. В этих странах после досрочного роспуска парламента правительство формируется в соответствии с волей избирателей.
Кроме того, роспуск нижней палаты без парламентской ответственности правительства является абсурдным. Угроза роспуска вынуждает нижнюю палату парламента формально брать на себя часть ответственности за деятельность правительства, которое, в свою очередь, ответственно только перед президентом.
Таким образом, в России нет парламентской ответственности правительства; следовательно, Россию нельзя считать смешанной республикой.
Оценивая конституционную модель российской республики в оптимистической версии, можно сказать, что в ней есть разделение властей, но оно грубо нарушено в пользу власти исполнительной. Эта модель соответствует разделению властей в дуалистической монархии — с той лишь разницей, что высшее должностное лицо государства должно пройти процедуру всенародного избрания. В пессимистической же версии можно сказать, что Конституция РФ 1993 г. установила не разделение властей, а организационное единство государственной власти, система которой замыкается на фигуру Президента РФ.
Вопрос 31. Государственный режим
• Государственный режим — это понятие характеризующее соотношение правовых и потестарных институтов государственности.
Есть три основных режима — либерально-демократический, демократический интервенционистский и авторитарный интервенционистский. Они соответствуют государственности при капитализме («правовое государство»), при западном социал-капитализме («социальное правовое государство», т. е. перераспределительное государство в социокультуре правового типа) и при восточном социал-капитализме («управляемая демократия», оно же — полицейское государство, т. е. перераспределительное государство в социокультуре потестарного типа).
В юридической версии государственный режим — это порядок (соотношение институтов) формирования и осуществления государственной власти. Государственный режим характеризует, с одной стороны, меру государственного вмешательства в сферу общества и, следовательно, меру свободы от этого вмешательства (либерализм или этатизм), с другой — меру участия граждан в политике и возможности гражданского контроля (демократия или авторитаризм). Либерально-демократический режим означает правовое равенство в политике: формально равный для всех (всех полноправных граждан, их объединений, партий и т. д.) доступ к государственной власти. При авторитарно-олигархическом режиме правящая группа, контролирующая государственный аппарат, силовым путем (законно или незаконно) ограничивает, затрудняет или даже исключает доступ к власти для оппозиции. Авторитарный государственный режим характерен для неразвитой правовой ситуации и означает, что государственная власть хотя бы минимально обеспечивает правовую свободу в обществе, личные права и свободы, но при этом подавляет права и свободы политические.
Понятие государственного режима имеет отношение не только к политическим правам и свободам. Ибо все иные права надлежащим образом обеспечиваются государством только в том сообществе, в котором достигнуты политические права и свободы: там, где нет свободы политической, там ущербны любые свободы. Аппарат власти, не подконтрольный сообществу субъектов права, не может быть надежным гарантом правовой свободы. Такой аппарат служит правящей группе, а авторитарные правители склонны подменять общий интерес своим частным интересом. Аппарат власти в авторитарном государстве тяготеет к тому, чтобы из силы, обеспечивающей право, стать силой правонарушающей: сторожевые псы вырождаются в волков и шакалов (Платон).
Таким образом, либеральная демократия — это не власть народа (над «врагами народа»?) и даже не власть большинства (над меньшинством?), а свободная политическая конкуренция, формально равный доступ всех граждан к институтам государственной власти. При формальном равенстве общие решения принимаются по принципу большинства, но этот принцип не предполагает некое устойчивое большинство граждан, объединенных классовыми интересами, как группу, которой принадлежит власть. Большинство складывается в зависимости от вопроса, который решается здесь и сегодня, и большинство, определившее решение одного вопроса, может складываться из групп, демонстрирующих противоположные подходы к другим вопросам. Например, группы, составившие большинство по вопросу о распределении налогового бремени, могут занимать принципиально разные позиции по вопросам распределения средств государственного бюджета.
Формальное равенство в политике означает принятие решений по принципу большинства. Но этому принципу соответствует как либеральная демократия (“собственно демократия”), так и охлократия, если большинство составляет охлос, экономическое и духовное люмпенство. Во всех ее исторических проявлениях охлократия представляет собой форму легитимации патерналистской перераспределяющей власти, опирающейся на поддержку тупого, невежественного большинства, которое неспособно само себя прокормить, не ценит свободу, не умеет пользоваться своей свободой. (Охлократия существует в неразвитой правовой ситуации, когда высшие органы власти формально избираются “народом”, а фактически — правящая группа, манипулируя охлосом, использует процедуры выборов, чтобы легитимировать свое монопольное господство; отсюда — “управляемая демократия”). Поэтому — даже если власть действительно выражает волю большинства — вне развитой правовой культуры, без ограничения воли большинства правами человека государственный режим является авторитарно-олигархическим.
Демократия как устойчивая форма существует лишь постольку, поскольку в национальной правовой культуре достигнут консенсус по поводу прав человека и соблюдается конституционный запрет отменять или умалять признанные в этой культуре права и свободы человека и гражданина — запрет, действующий для любого большинства. Таким образом, реально демократия возможна лишь как правовая демократия, в которой “воля народа” или “власть народа” ограничены требованием признавать, соблюдать и защищать права человека. Декретирование политических свобод там, где эти условия не соблюдаются, оборачивается “одноразовой” демократией — закономерно приводит к тому, что, пользуясь политической свободой, к власти приходят такие группы, которые первым делом ликвидируют эту свободу и устанавливают авторитарный режим.
Вопрос 32. Централизованное и нецентрализованное государственное устройство
• Так называемое территориальное устройство государства — это понятие, которое объясняет соотношение центральных (общегосударственных) и региональных (местных) институтов государственной власти.
В развитой правовой ситуации происходит территориально-поселенческое рассредоточение государственной власти, ее распределение между центральными и региональными (местными) органами. При этом государство может сохранять унитарную форму (относительно децентрализованное государство), и в этом случае компетенция региональных (местных) органов власти определяется центральным правительством. Так, в результате последнего пересмотра Конституции Франции (28 марта 2003 г.) ее первая статья была дополнена новым определением государственного устройства: “децентрализованная” республика. Федеративная же форма означает принципиальную конституционную децентрализацию государственной власти.
Децентрализация государственной власти служит одним из институциональных компонентов правовой государственности, в то время как централизм является атрибутом авторитарного правления. Институты федеративного, нонцентралистского государства не позволяют выстраивать в нем «властную вертикаль», означающую подчинение нижестоящих (региональных) государственных органов вышестоящим (центральным) органам.
Федерация образуется, как правило, в результате децентрализации власти в одном государстве, а не путем объединения нескольких государств в одно новое, децентрализованное государство. Ибо для того, чтобы уже существующие государства объединились, добровольно отказавшись от своего суверенитета, необходимы, как минимум, две причины, сочетание которых — явление уникальное. Во-первых, объединяющиеся в федеративный союз нации должны приобретать нечто большее взамен утраченного государственного суверенитета. Во-вторых, эти нации должны этно- политически тяготеть друг к другу, т. е. этнические общности, лежащие в основе наций, должны стремиться не к политическому обособлению, а к интеграции, политическому самоопределению в рамках федеративного союза; в противном случае о добровольном объединении наций не может быть и речи.
Поэтому в тех случаях, когда образуется союзное государство, по существу происходит объединение не самостоятельных наций, а близких друг другу этнополитических сообществ, которые еще не обособились в качестве наций и стремятся к совместному внешнеполитическому самоопределению в рамках одной нации. Если такой объединительной тенденции нет, то речь должна идти не о правовом, а о силовом объединении наций, в результате которого федерализм может лишь имитироваться (СССР, СФРЮ и т. п.).
В этом контексте понятно, что федеративное государство — если это не фикция — возникает, как правило, на мононациональной основе.
Полиэтнические государства в основном складываются как государства унитарные, в которых есть “титульная нация” и этнические меньшинства. В ходе исторического развития полиэтническое государство под влиянием этнополитического фактора может трансформироваться из унитарного в федеративное, в рамках которого происходит политическое самоопределение этнических меньшинств.
Децентрализация власти в унитарном государстве (унитарном политическом образовании) в зависимости от этнической структуры населения может происходить по территориальному принципу (при этнически однородном населении) и по этническому принципу (при полиэтническом населении). Поэтому можно различать федерации, построенные по территориальному принципу, и федерации, образованные по этническому, или “национальному”, принципу.
Трансформация полиэтнического унитаризма в федерализм, построенный по этническому принципу, означает, что этносы стремятся к самоопределению в качестве наций, хотя и не создают свои национальные государства, довольствуясь созданием государствоподобных образований и сохраняя общую государственность. Примером может служить Бельгия, где этносоциальные противоречия в конце ХХ в. привели к децентрализации власти по этническому принципу. Некоторые черты федерализма проявляются даже в современной Великобритании. Но такие федерации нетипичны.
В отличие от остальных реальных федераций, США и Швейцария образовались в процессе интеграции, но не в результате интеграции государств. И в Северной Америке (“стейты”), и в Западных Альпах (кантоны) происходил такой национальный политогенез, в результате которого формировались не множество, а одно государство. Это утверждение бесспорно, по меньшей мере, в отношении США, где “стейты” создавались этнополитическим и этнокультурным сообществом, осознававшим себя единой нацией, хотя и разделенной в территориальном аспекте, нацией, части которой имели культурные особенности. Иначе говоря, в Северной Америке не было государств до того, как возникло государство США. “Стейты”, из которых образовались США (интегративный процесс), были государствоподобными образованиями, но не государствами, ибо они не создавались разными нациями. “Стейты” оформились в процессе становления одной североамериканской нации (а не нескольких наций) как некий “промежуточный результат” политогенеза, и как независимые государствоподобные образования они существовали очень недолго. Они закономерно не стали самостоятельными национальными государствами, так как их население ощущало себя частями одной нации. “Стейты” непременно должны были слиться в одно государство североамериканской нации, альтернативность в этом вопросе относится лишь к мере централизации или децентрализации формировавшегося государства.
Смысл объединения кантонов и “стейтов” идентичен: не суверенные субъекты добровольно отказываются от своего суверенитета в пользу нового суверенного образования, а государствоподобные ассоциации в процессе интеграции создают полноценное государство. Но государство децентрализованное, гарантирующее относительную самостоятельность составивших его частей и местное самоуправление.
Возможно, политогенез в Западных Альпах мог привести к созданию не одного, а нескольких государств, так как этот процесс происходил в гетерогенном этнокультурном субстрате. Но действовавшая в этом процессе центростремительная, или интегративная, тенденция оказалась сильнее и привела к тому, что результатом политогенеза стало образование одной нации — швейцарцев и одного, хотя и сложносоставного, государства швейцарской нации.
Таким образом, и в случае США, и в случае Швейцарии не было объединения наций, т. е. не было объединения государств в полном смысле.
Типичным является построение федерации не по этническому, а по территориальному принципу. Оно означает, что нация, образованная преимущественно одним этносом или этнически однородным сообществом, состоит из территориально обособленных частей. Например, отдельные части нации могут политически самоопределяться на исторически или географически обособленных частях территории государства. Такие территориально самоопределяющиеся сообщества образуют субъекты федерации.
От реального образования федераций путем децентрализации власти следует отличать конституционные модели построения федеративных государств, которые могут использоваться как юридические фикции. Есть две основные модели, объясняющие первичное соотношение компетенций федерации и субъектов федерации.
Если считать, что федеративное государственное устройство складывается в процессе децентрализации государственной власти, тогда действует презумпция компетентности федерации. Эта презумпция означает, что федеральные органы вправе решать вопросы, поскольку они не отнесены к компетенции субъектов федерации. В этом случае в федеральной конституции должны быть перечислены все вопросы, которые находятся в ведении субъектов федерации.
Если считать, что федеративное государство возникло в результате объединения нескольких государств, передавших часть своей компетенции в пользу федерации, то действует презумпция компетентности субъектов федерации. Она означает, что в ведении субъектов федерации находятся все вопросы, которые не отнесены к федеральной компетенции. В этом случае конституция федеративного государства должна давать исчерпывающее описание федеральной компетенции.
Презумпция компетентности субъектов Российской Федерации закреплена в ст.73 Конституции РФ 1993 г. Но это не значит, что до 1993 г. не было Российского государства и что Россия возникла в результате объединения суверенных республик, краев, областей и т. д. Очевидно, что это конституционная фикция, ибо Российское федеративное государство формировалось после августа 1991 г. путем децентрализации власти в разрушавшемся сверхцентрализованном политическом образовании (СССР, РСФСР), а вовсе не путем объединения ранее суверенных государств.
Суверенитет в федеративном государстве не делится между федерацией и ее субъектами. Федерация — это одно государство, а не союз суверенных государств, отдающих “часть суверенитета” в пользу федеральной власти. Суверенитет — это не количественная, а качественная характеристика публичной политической власти, государства. Это качество верховенства и независимости государственной власти, и это качество нельзя разделить между государством как целым и его частями. Суверенитет федеративного государства, на основе разграничения компетенции, осуществляют все его органы, т. е. федеральные государственные органы и государственные органы субъектов федерации. Все они входят в одну систему государственной власти. В федеративном государстве делится не суверенитет, а компетенция; причем делится таким образом, что суверенитетом обладает федерация (федеративное государство), а не субъекты федерации.
Вопрос 33. Разделение властей «по вертикали»: разграничение компетенции
Федеративное — это одно государство, но с двухуровневой организацией власти и распределением компетенции между властными уровнями. Принцип надлежащего распределения компетенции в федеративном государстве гласит: к компетенции федеральных органов относятся только те государственно-властные функции и задачи (и соответствующие предметы ведения и полномочия), которые должны и могут осуществляться только на общегосударственном уровне, а все остальные относятся к компетенции органов субъектов федерации.
Этот принцип считается частным выражением так называемого принципа субсидиарности: социальная ассоциация должна брать на себя достижение только тех целей, которые не могут быть достигнуты усилиями отдельных индивидов, а союз ассоциаций (федерация) — только тех, которые не могут быть достигнуты усилиями отдельных ассоциаций. Однако, хотя буквальное значение федерации — «союз», применительно к федеративному устройству правильнее говорить не об ассоциациях и союзах, а об уровнях, или подсистемах, государственной власти: не следует передавать на «верхний» уровень государственной власти такие задачи, которые могут эффективно решаться на «нижнем» уровне.
Принципиальная децентрализация государства происходит посредством конституционного распределения компетенции между федеральной и региональными подсистемами (уровнями) государственной власти. Субъекты федерации — составные части государства — создают свои законодательные и исполнительные органы (реже — суды), действующие в соответствии с конституционным и, возможно, договорным (вторичным) разграничением предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами.
Конституционное распределение компетенции в федеративном государстве называется разделением властей “по вертикали”. При этом разграничиваются, прежде всего, (1) предметы ведения федерации и (2) предметы совместного ведения федерации и субъектов федерации, а далее разграничиваются полномочия федерации и субъектов федерации по предметам совместного ведения.
Кроме того, федеральные органы и органы отдельных субъектов федерации вправе заключать уточняющие, конкретизирующие конституцию договоры о разграничении предметов ведения и полномочий в сфере совместного ведения. В исключительных случаях органы отдельных субъектов федерации могут на договорной основе делегировать федеральным органам свои конституционные полномочия по предметам совместного ведения, однако такая практика свидетельствует о неготовности страны к федеративному государственному устройству.
Компетенция разграничивается так, что законотворчество осуществляется, главным образом, федеральным законодателем. Ибо почти все предметы государственного законодательства подлежат единообразному регулированию на всей территории одного и того же государства, будь то государство унитарное или федеративное.
Полномочия же исполнительной власти в большей мере осуществляются органами субъектов федерации. Именно в этом и заключается основной момент децентрализации государственной власти: исполнение федеральных законов возлагается не только на федеральные исполнительные органы, но и на органы исполнительной власти субъектов федерации. Например, в Германии земли самостоятельно исполняют федеральные законы, поскольку иное не устанавливается или не допускается Основным законом ФРГ.
Система правосудия в федеративном государстве должна быть единой. Единство судебной системы обеспечивает равный доступ к правосудию и равную судебную защиту на всей территории государства. Поэтому обычно судебная власть осуществляется федеральными судами. Если создаются суды субъектов федерации, то, вместе с федеральными, они образуют единую судебную систему. Для разграничения юрисдикции это означает, что суды субъектов федерации не должны обладать исключительной юрисдикцией по каким бы то ни было категориям дел. Подсудность дел судам субъектов федерации не должна исключать апелляционное или надзорное производство по этим делам в соответствующих федеральных судах. Иначе говоря, должен быть механизм обжалования решений высших судов субъектов федерации в верховный или иной компетентный федеральный суд.
С точки зрения предметов ведения разграничение компетенции выглядит следующим образом.
Предметы, считающиеся наиболее важными, относятся к ведению федерации. Это значит, что государственно-властные решения в этой сфере регулирования принимаются только федеральными органами. Причем федеральные органы не могут делегировать органам субъектов федерации полномочия по предметам ведения федерации, ибо предполагается, что последние нуждаются в единообразном регулировании.
Все остальные предметы государственно-властного регулирования относятся к совместному ведению федерации и субъектов федерации (не может быть предметов исключительного ведения субъектов федерации, ибо последние — это не суверенные субъекты, а лишь части одного государства). По предметам совместного ведения государственно-властные полномочия осуществляют и федеральные органы, и органы субъектов федерации, но при этом приоритет отдается решениям федеральных органов.
В зависимости от соотношения законодательных полномочий федерации и субъектов федерации различаются четыре вида компетенции.
По предметам ведения федерации осуществляется исключительная федеральная компетенция. Это означает, что по этим предметам принимаются только федеральные законы и основанные на них другие федеральные нормативные акты.
В сфере совместного ведения возможны три варианта распределения полномочий между федеральным законодателем и законодателями субъектов федерации. Для простоты их можно назвать совместной, конкурирующей и договорной компетенциями.
Совместная компетенция означает, что по предметам совместного ведения федерации и субъектов федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы субъектов федерации. При совместной компетенции субъекты федерации не вправе издавать законы, не основанные на федеральных законах. При этом предполагается, что федеральный законодатель издает “рамочные” законы, оставляя все частные вопросы на усмотрение законодателей в субъектах федерации.
Конкурирующая компетенция федерации и субъектов федерации означает, что субъекты федерации вправе принимать законы по предметам совместного ведения постольку, поскольку нет соответствующих федеральных законов. При конкурирующей компетенции субъекты федерации, с одной стороны, обладают большей свободой в выборе законодательных решений, чем при совместной компетенции. Но, с другой стороны, федеральный законодатель может урегулировать практически все вопросы в сфере конкурирующей компетенции, если он считает, что это нужно для обеспечения единого экономического и правового пространства или что эти вопросы не могут эффективно регулироваться законодательством отдельных субъектов федерации.
Что касается предметов ведения субъектов федерации, то последние вправе делегировать федеральному законодателю полномочия по регулированию отдельных вопросов, которые не относятся к их исключительной компетенции. В таких случаях возникает договорная компетенция федерации и субъектов федерации. При этом федеральные законы, издаваемые в рамках делегированных полномочий, не должны противоречить законам и иным нормативным актам, которые субъекты федерации самостоятельно издают по предметам их ведения. Спорные вопросы договорной компетенции подлежат согласованию путем перераспределения делегированных полномочий.
Наконец, исключительная компетенция субъектов федерации предполагает круг вопросов, в решение которых федерация вмешиваться не вправе. Договорное делегирование полномочий по этим вопросам федеральному законодателю недопустимо, так как оно означало бы умаление конституционной самостоятельности субъектов федерации и нарушение федерализма. Если в конкретном федеративном государстве существует такая компетенция, то применительно к такому государству нельзя говорить о безусловном приоритете федерального законодательства..
Вопрос 34. Способы бытия правовых норм
Норма права, как и всякая социальная норма, не обладает самостоятельным (идеальным) бытием. Способы бытия социальной нормы — это объективирование (проявление) нормы в общественном сознании, общественных отношениях и авторитетных текстах, в частности, в официальных пре- скриптивных текстах.
Социальные нормы возникают постольку, поскольку определенное содержание общественных отношений (сущее) признается должным быть, оценивается в общественном сознании как нечто нормальное. Нормы вырабатываются и фиксируются общественным или хотя бы групповым сознанием. Получаются мыслительные конструкции нормального поведения, модели нормальных отношений. В процессе обмена информацией они приобретают словесно-знаковую форму выражения. Получается текст нормы — устный или письменный. Текст социальной нормы формулируется авторитетными, в частности официальными, властными выразителями общественного (или хотя бы группового) сознания, например законодателями. Авторитетно (официально) сформулированная норма не просто фиксирует некое сущее как нормальное, но и требует, чтобы поведение людей соответствовало сформулированному правилу.
Любые социальные нормы, в том числе и правовые, нельзя рассматривать в отрыве от отношений, регулируемых этими нормами. Когда норма складывается, то определенное содержание отношений, фиксируемое сознанием как должное быть, выступает как предпосылка этой нормы. Норма — это правило должного, которое отражает определенное сущее; в своей основе правила должного исходят из сущего — полезного, ценного, привычного, традиционного или устоявшегося. Само понятие социальной нормы предполагает нормальное социальное сущее. Нормы не порождают, а фиксируют определенное сущее с модальностью долженствования. Если же законодатель предписывает новое правило должного, которое еще не действует в общественной жизни, то это еще не социальная норма, а просто воля законодателя. Когда пожелание законодателя воплотится в общественных отношениях, тогда и можно будет говорить о норме, а до тех пор это будет нечто предполагаемое, желаемое, требуемое, но еще не нормальное. Если законодатель повелел считать нечто нормальным, то это еще не значит, что он действительно создал или сформулировал норму. Ибо возможно, что в ситуациях, предусмотренных законом, в действительности будет происходить — как правило — не то, что предписано законодателем, а нечто иное.
Социальные нормы существуют в трех “ипостасях”: как определенное содержание общественных отношений, признаваемое нормальным; как содержание общественного сознания, вырабатывающего и хранящего норму; как содержание устного или письменного авторитетного текста, в котором сформулированы нормы (в частности, содержание официального текста, закона).
Не может быть таких социальных норм, которые объективируются посредством лишь одного или двух способов бытия.
Во-первых, социальная норма не может объективироваться только в общественном сознании.
В противном случае это будет не норма, а идея, установка, пожелание, ожидание, мечта и т. п.
Во-вторых, абсурдно говорить о норме (правиле должного), проявляющейся только в фактических общественных отношениях. Если в них и проявляются некие объективные закономерности (т. е. такие, которые не зависят от воли и сознания участников отношений), то это — не социальные нормы, а некие “правила сущего”, аналогичные законам природы. Так, социальное поведение людей подчиняется не только социальным нормам, но и естественным, т. е. инстинктивным, генетически запрограммированным диспозициям поведения. Причем эти диспозиции могут противоречить правовым нормам цивилизованного общества, и тогда они выступают как одна из причин правонарушений, преступности.
В-третьих, любая социальная норма предполагает ее формулирование в авторитетном устном или письменном тексте (авторитетном для адресатов нормы). Иначе нормативные представления в общественном сознании не будут иметь достаточной определенности — а норма не может быть неопределенной по содержанию. Следовательно, должны быть авторитетные субъекты, определенно формулирующие норму и поддерживающие ее своим авторитетом. Степень авторитета и авторитетности текста нормы может быть разной, но без них нет нормы. Авторитетными выразителями нормы могут быть просто люди, уважаемые в круге лиц, в котором действует норма. Что касается общесоциальных норм, то с возникновением публичной политической власти почти все общесоциальные нормы, обязательные для всех членов властно объединенного сообщества, формулируются в официальных текстах, издаваемых публично-властными субъектами.
Однако если некое правило предписано официальным текстом, например законом, но при этом оно отвергается общественным сознанием или не отвергается, но и не реализуется, или, наконец, никак не проявляется ни в общественном сознании, ни в общественных отношениях, то это — не норма, а авторитетное требование нормы, которое не стало нормой и, возможно, никогда не станет нормой. Если приказ законодателя о новом правиле так и остается на бумаге, то нет никаких оснований утверждать, что законодатель создал социальную норму. В этом случае была неудавшаяся попытка законодателя создать социальную норму, или можно говорить о псевдонорме и даже о “притворной норме” — законодательном установлении без намерения создать норму, о котором заранее известно, что выполнить его нельзя. Тем не менее у всех народов встречаются официальные предписания, которые они обходят или открыто нарушают, но отказываются отвергнуть. В таком случае нормой является не официальное предписание, а его нарушение.
В то же время возможны законоположения, которые сначала отвергались общественным сознанием, противоречили ценностным установкам большинства, поддерживались только принуждением, но стали нормами. Законоположения могут быть реализованы в общественной практике чисто силовым путем, насилием или угрозой его применения. Ибо власть может быть столь сильной (например, в тоталитарном обществе), что она способна заставить выполнять любой приказ.
И все же социальные нормы не могут держаться только на силе. Либо норма, вводимая силовым путем, так и не станет социальной нормой в собственном смысле и прекратит свое существование, как только ослабеет поддерживающая ее сила. Либо она постепенно изменится, адаптируется к установкам общественного сознания. Либо изменится само общественное сознание.
Правовые нормы объективированы в правосознании, правоотношениях и авторитетных юридических текстах.
Правовые нормы, не сформулированные в официальном тексте (хотя и зафиксированные в иных авторитетных текстах, устных) — это нормы в форме обычая; они не имеют официальной формы. В развитых правовых системах почти все правовые нормы формулируются в официальной форме законов, прецедентов и т. д. Но социальное бытие официально установленных норм права не сводится к правовым законам. Не может быть правовой нормы, которая установлена в законе, но не объективирована в правосознании и правоотношениях.
Здесь нужно сделать следующую оговорку. Законодатель может не только регулировать (пытаться регулировать) повседневные отношения, но и предусматривать регулирование гипотетических социальных ситуаций — таких, которые могут возникнуть (но могут и не возникнуть) в будущем. Если законодатель связывает установленное им правило с возникновением обстоятельств, которые встречаются в повседневной жизни, то законоположение, чтобы быть нормой, должно быть реализовано в повседневной жизни. Но если законодатель имеет в виду обстоятельства, которых еще не существует, или случаи, которые возникают редко (например, отрешение президента от должности или принятие новой конституции), то он предписывает правило, которое может быть реализовано постольку, поскольку соответствующие обстоятельства могут возникнуть в будущем. Вместе с тем такое правило должно быть реализовано при наступлении соответствующих обстоятельств. В отношении таких законов действует презумпция нормотворчества законодателя.
Правовые законы, правовые отношения и правосознание — это правовые явления, которые следует рассматривать как равнозначные способы бытия правовых норм. Ошибочность распространенной в постсоветской легистской литературе конструкции “правовая система” заключается, прежде всего, в том, что правовые нормы рассматриваются как специфические правовые явления и ставятся в один ряд с другими правовыми явлениями. Между тем нормы — не самостоятельные правовые явления, а лишь содержание правовых явлений. Получается, что в теоретической конструкции “правовая система” нормы права (как элементы этой системы) фигурируют дважды: нормы как таковые и те же самые нормы, но уже в виде правовых явлений — правоотношений, правосознания и т. д.
Вопрос 35. Принцип соционормативной регуляции и структура отдельной правовой нормы
Структура формальной нормы
• Текст любой социальной нормы имеет логическую структуру: «если…, то…», в которой первый элемент называется гипотезой, второй — диспозицией.
• Норма, предусматривающая негативные последствия, которые должны наступать за определенное в ее гипотезе нарушение другой нормы, называется санкцией.
В советской доктрине принято, что «правовая норма» имеет логическую структуру «если., то., иначе», т. е. состоит из трех элементов — гипотезы, диспозиции и санкции. А поскольку нормативные законоположения, как правило, не формулируются по принципу «если., то., иначе.», т. е. не содержат всех трех элементов, предлагалось логически домыслить недостающий элемент правовой нормы или искать его в других законоположениях или законах (например, гипотеза и диспозиция — в конституции, а санкция той же нормы — в уголовном кодексе!?).
Представляется, что «трехчленка» до сих пор имеет немало сторонников не только по причинам когнитивного свойства; возможно, она притягательна тем, что, хоть и в искаженном виде, она выражает структуру регулирования: «позитивные нормы» должны обеспечиваться механизмом принуждения, санкционированным и нормированным насилием.
В последние десятилетия советской власти сложилась несколько иная теоретическая позиция по этому вопросу — как реакция на явную несостоятельность «трехчленки». А именно: с точки зрения структуры различаются два вида норм — регулятивные и охранительные. Первые состоят из гипотезы и диспозиции, вторые — из диспозиции и санкции. Есть несколько модификаций такой теоретической позиции.
Это негодная интерпретация, так как любые нормы права, рассмотренные как логические модели поведения, должны иметь одинаковую структуру.
В основе «трехчленки» и попыток разделить ее на две разные «двучленки» лежит одно и то же недоразумение: логическую структуру отдельной нормы права (правила о правах и обязанностях) перепутали с логической структурой социальной регуляции или структурой социального института. «Если…, то…, иначе.» — это не структура отдельной правовой нормы. Это принцип регуляции вообще или принцип, выражающий системную связь внутри целого комплекса норм — института.
Как объясняет нормативная логика, структура регуляции заключается в следующем: 1) предполагается ситуация, в которой некое поведение признается значимым для данной системы регулирования; 2) формулируется правило поведения для этой ситуации — права и обязанности каждого, кто оказывается в этой ситуации в определенной социальной роли; 3) предусматриваются негативные последствия для тех, кто нарушает установленное правило, но последствия разные для разных вариантов нарушения. Получается «если., то., иначе.», причем, что именно будет «иначе», зависит от того, что именно будет сделано «не то».
Это построение социальной регуляции интерпретировали как логику, логическую структуру отдельной правовой нормы.
В действительности такой принцип («если., то., иначе.») реализуется не установлением одной нормы для каждой отдельной ситуации, а формированием института, т. е. посредством множества норм, подчиненных единому началу, каждая из которых нуждается в дополнении другими. Именно в этом заключается системная связь норм права.
В частности, отсюда вытекает, что «позитивные» нормы гражданского права обеспечиваются угрозой принуждения, санкционированного нормами наказательного права, и механизмом разрешения споров, которое (разрешение споров) также регламентируется — процессуальными нормами.
Системность права, во-первых, выражается в том, что диспозиции одних правовых норм обеспечиваются диспозициями других — так называемыми санкциями. Во-вторых, и это вытекает из первого, для правового регулирования требуется системное взаимодействие норм разных рядов, выполняющих разные функции в системе правового регулирования. А именно: для регулирования некой юридически значимой ситуации недостаточно одной или нескольких норм, предписывающих «позитивное» поведение в этой ситуации, и нужны нормы, обеспечивающие регулирующее воздействие первых норм — так называемые охранительные нормы, позволяющие подавлять правонарушения в регулируемой ситуации, а также нормы разрешения споров, возникающих в регулируемой ситуации.
Из нормативной логики давно известно, что норма права состоит из двух элементов — гипотезы и диспозиции. Никакого третьего элемента (санкции или чего-то иного) в одном ряду с гипотезой и диспозицией логически быть не может.
Гипотеза правовой нормы — это описание регулируемой ситуации, точнее — описание ситуации в которой возникают права и обязанности у тех, кто оказывается в этой ситуации, или описание определенного вида субъекта права, у которого всегда, в любой ситуации есть определенные права и обязанности.
Диспозиция правовой нормы — «само правило поведения», абстрактное предписание права и обязанностей.
Полный текст формальной нормы построен в виде суждения «если (гипотеза)., то (диспозиция)». (Такой текст может быть уже дан в законе или получен реконструкцией одного или нескольких законоположений).
Системность права
Согласно описанному выше принципу, системная связь между нормами права состоит в том, что в случае нарушения одной нормы должны наступать негативные последствия для правонарушителя, предусмотренные другими нормами (санкции).
В юридически значимой ситуации позитивная норма Н устанавливает: если Г, то Д. Диспозиция Д может быть нарушена в вариантах Г 1, Г 2… Г n, поэтому есть Н 1 (если Г 1, то Д 1), Н 2 (если Г 2, то Д 2)… Н n (если Г n, то Д n).
Нормы, начиная с Н 1, вплоть до Н n, (нормы второго ряда) представляют собой негативную реакцию правовой системы на разные варианты нарушения позитивной нормы Н (нормы первого ряда). Диспозиции норм второго ряда устанавливают негативные последствия для тех, кто нарушает норму (нормы) первого ряда. Совокупность норм второго ряда, по существу, означает то, что в «трехчленке» называется санкцией.
Причем, как правило, есть множество вариантов нарушения нормы первого ряда, поэтому очень редко санкцию можно исчерпывающе выразить одним правоположением «иначе…».
Например, Н: каждый вправе свободно владеть, пользоваться, распоряжаться своим имуществом (Г: если субъект правомерно владеет имуществом, Д: никто не вправе [запрещено] отнимать это имущество). Санкция для этой нормы состоит из множества норм, прежде всего, уголовного права. Г 1: если кража, т. е. тайное похищение имущества, то Д 1; Г 1а: если квалифицированная кража в варианте (а), то Д 1а; Г 1n: если квалифицированная кража в варианте (n), то Д 1n; Г 2: если грабеж…, то Д 2; и т. д. Кроме того, есть множество норм гражданского права, устанавливающих последствия нарушения Н без признаков состава преступления. Таким образом, содержание всех этих норм, гарантирующих собственность, с точки зрения юридической техники невозможно (и не нужно) описывать в виде одного законоположения, сформулированного по принципу «если…, то…, иначе…».
Но есть нормы, которые логически допускают единственный вариант их нарушения. Это нормы, которые запрещают делать «не так», независимо от того, как именно будет сделано не так. Поэтому текст закона формулируется как бы по типу «если…, то…, иначе…» (leges perfectae). Например, есть законоположение: «Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки» (Г: внешнеэкономическая сделка, Д: требует письменной формы, С: иначе она недействительна.). Но на самом деле в этом законоположении не одна, а две нормы: Г: внешнеэкономическая сделка, Д: требует письменной формы; Г 1: если требование Д не соблюдено, Д 1: сделка недействительна.
Таким образом, санкциями в юриспруденции называют такие нормы, которые предусматривают негативные последствия для тех кто нарушает другие нормы. В этом контексте можно называть нормы регулятивными и охранительными. Но следует иметь в виду, что поскольку все нормы права находятся в системной связи, то можно выстраивать не два, а множество системно связанных логических рядов правовых норм; при этом норма определенного ряда будет «охранительной» по отношению к норме предыдущего ряда, и она же будет «регулятивной» для нормы следующего ряда. Например, в первый ряд входит запрет убивать (Н), во второй — соответствующие нормы уголовного права (Н 1, Н 2…Н n): «если судья (суд) установил, что Н нарушена способом Г n, то он обязан назначить наказание, предусмотренное в Д п». В третий ряд входят нормы (Н 01, Н 02… Н 0n), устанавливающие негативные последствия для судьи, нарушающего обязанности Д n: «если судья нарушил обязанность Д n в варианте Г 01, то Д 01» (например, приостановление или прекращение полномочий, наказание за вынесение заведомо неправосудного приговора), и т. д. Следовательно, Н n является «охранительной» нормой для Н, но «регулятивной» нормой для Н 0n. Кроме того, все нормы что-то регулируют, поэтому их деление на регулятивные и охранительные представляется терминологически неточным.
Вопрос 36. Классификации норм права и законоположений
В доктрине есть множество классификаций правовых норм. При этом нередко различаются разновидности не собственно норм, а текстов, законоположений.
По сфере действия различаются нормы общие и специальные, устанавливающие исключение, изъятие, частный случай первых. А именно, гипотеза специальной нормы составляет частный случай того, что описано в гипотезе общей нормы.
Можно различать нормы в зависимости от их юридической силы, связывая ее с видом источника права и компетенцией государственного органа, создающего или санкционирующего юридический текст. В этом контексте Р. Давид писал о первичных и вторичных нормах, имея в виду что вторичные по отношению к закону юридические тексты, которые создаются судами, судебной практикой, de facto могут содержать нормы права, отличные от нормативных законоположений.
Все иные классификации относятся к нормативным законоположениям. Например, запрещающие, обязывающие и управомочивающие — это не нормы права, а способы изложения диспозиций и соответствующие законоположения. Все нормы права являются обязывающими. Если из законоположения не вытекает чья-либо обязанность, то в этом законоположении нет диспозиции. Соответственно, не бывает правовых норм “поощрительных” и, тем более, “рекомендательных”. “Поощрительная” норма права предполагает юридическую обязанность “поощрить”, т. е. выполнить определенные действия в пользу субъекта, отвечающего требованиям, сформулированным в гипотезе. В противном случае речь должна идти не о норме права, а о произволе: могут поощрить, а могут и не поощрить (как известно, “Государь жалует нас не по заслугам”).
В доктрине есть устоявшиеся, хотя и неудачные, термины “императивные нормы” и ”диспозитивные нормы”. Во-первых, любая норма права императивна, ибо она не “рекомендует”, а предписывает, императивно устанавливает определенные права и обязанности для определенной ситуации. Во-вторых, любая норма диспозитивна в том смысле, что в ней есть диспозиция определенного поведения, выраженная в предписании обязанностей, корреспондирующих правам. Но дело не только в терминологии.
По существу речь идет о двух способах (методах) государственно-властного, законодательного воздействия в сфере правового регулирования. Первый способ (“императивные нормы”) исключает усмотрение, свободное волеизъявление субъектов права и подчиняет их поведение обязательному правилу. Второй способ (“диспозитивные нормы”) допускает такое усмотрение и свободное волеизъявление по принципу “не запрещенное разрешено”.
При втором способе соответствующее законоположение содержит по существу не одну, а две нормы. Первая норма имеет неопределенную диспозицию, т. е. предлагает сторонам некоего отношения, описанного в гипотезе, самостоятельно определить права и обязанности по принципу “не запрещенное разрешено”. Вторая норма имеет определенную диспозицию (предписывает определенные права и обязанности) и кумулятивную гипотезу (во-первых, описание некоего отношения и, во-вторых, предположение, что стороны не установили иные права и обязанности). Первая норма логически поглощается второй нормой: вторая норма предполагает наличие первой. Поэтому в диспозитивном законоположении, по правилам законодательной техники, достаточно сформулировать лишь вторую норму.
Признаком диспозитивного законоположения служит формулировка “если иное не установлено (не предусмотрено) договором…”. Но возможна и более сложная формулировка: “если иное не предусмотрено законом или договором.”. Последняя означает, что законодатель устанавливает общее правило, но предполагает иное регулирование специальным императивным законом. Общее правило действует лишь тогда, когда, во-первых, нет специального императивного закона и, во- вторых, иное не установлено договором.
Вопрос 37. Принципы права
Общие принципы
Незапрещенное разрешено
Свободный индивид, исходный субъект права, принадлежащий самому себе, не нуждается в дозволениях социальной деятельности.
Пределы власти: неразрешенное запрещено
Публично-властным акторам запрещено все, что прямо не разрешено правом. Разумеется, им запрещено все то же, что запрещено всем субъектам права (например, в ноябре 2003 г. в Норвегии компетентный административный орган запретил использование специального автомобиля, предназначенного для премьер-министра страны, так как вес автомобиля незначительно превышал допустимый по закону). Как и частным лицам, государственно-властным субъектам — запрещено не дозволенное правом применение силы. Произвольное использование власти, злоупотребление властью, применение силы за пределами дозволенного правом — это, хотя и организованное, но, по существу, такое же преступное насилие, как и неправомерное применение силы частными лицами.
Pacta sunt servanda
Договоры должны соблюдаться. Международное право строится на этом принципе.
Субъективному праву соответствует юридическая обязанность
Субъективному праву всегда соответствует юридическая обязанность. Абсолютному праву — обязанность “всех остальных” не препятствовать осуществлению субъективного права. Нормы об относительных правах нужно формулировать так, чтобы четко определять меру должного поведения обязанного субъекта. Если закон провозглашает нечто как субъективное право, но последнему не соответствует чья-либо обязанность, то это — бессмысленное установление. Например, не может быть “права на труд”, ибо не может быть обязанности работодателя давать любому желающему оплачиваемую работу.
Правонарушение предполагает юридическую ответственность
Принципы правового закона
Последующее отменяет предыдущее
Это правило относится и к собственно законам, и к судебным прецедентам. В частности, если по одному и тому же вопросу есть два решения одного и того же авторитетного суда, то нормативное значение имеет прецедент, установленный позднее. Другое дело, что ни новый закон, ни новый прецедент, сами по себе формально не отменяют прежние законы и прецеденты. Точнее, новый закон может специально определить, какие из прежних законоположений утрачивают силу. Остальные законоположения формально сохраняются, но не применяются судом.
Что касается судебного прецедента, то само по себе судебное решение, содержащее нормативный компонент, во-первых, имеет силу inter partes и, лишь во-вторых, носит нормативный характер. Понятно, что решение с последствиями inter partes формально не может отменять другое подобное решение. И когда высокий суд отказывается от нормативно-правовой позиции, выраженной в старом прецеденте, и встает на другую позицию, он может не заявлять об этом, но истолковать рассматриваемое дело так, как будто обстоятельства этого дела существенно отличаются от ранее решавшихся дел, а поэтому к нему неприменимы имеющиеся прецеденты, и следует создать новую норму (установить новую нормативно-правовую позицию). Фактически же такая ситуация будет означать, что прежний прецедент утратил нормативный характер, хотя его никто не отменял. Разумеется, нижестоящие суды будут ссылаться на поздний прецедент.
Lex speciali derogat legi generali
Приоритет специального закона по отношению к общему закону. Предполагается, что общий и специальный законы (законоположения) установлены одним и тем же законодательным органом. Например, специальный закон, принятый до вступления в силу новой конституции, не применяется после того, как вступит в силу новый общий закон. Если в общем законе ничего не говорится о специальных законах, принятых прежним законодателем, то действует принцип “последующее отменяет предыдущее”.
Если нормативные акты, содержащие общую норму и специальную норму находятся в иерархической соподчиненности, то акт низшей силы может устанавливать специальные нормы лишь в том случае, если это предусмотрено актом высшей силы.
Незнание закона не освобождает от ответственности
Это само собой разумеющееся утверждение, ибо противное невозможно. Правовое регулирование требует применения ко всем одинакового масштаба. Следовательно, все, кто ссылается на незнание закона, без исключения, либо не должны освобождаться, либо должны освобождаться от ответственности за нарушение закона. Но последнее, по существу, означает невозможность привлечения к ответственности за нарушение закона, ибо каждый будет ссылаться на незнание закона.
Древнеримская сентенция по этому вопросу гласит: ignorantia juris nocet — незнание права только вредит. В частности отсюда вытекает, что именно незнание закона может привести к правонарушению; но незнание не может быть причиной освобождения от юридической ответственности.
Неопубликованные законы не применяются
Этот само собой разумеющийся правовой принцип включен в основы конституционного строя Российской Федерации: “Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения” (ч. 3 ст. 15 Конституции РФ). В этом контексте следует обратить внимание на то, что не бывает нормативных правовых актов, не опубликованных для всеобщего сведения. Если нормативный акт, тем более — затрагивающий права, свободы и обязанности, не опубликован, то он не является правовым, не имеет юридической силы. Публичность нормативных актов — это одно из требований господства права в формальном смысле.
Отягчающий закон обратной силы не имеет
Если закон устраняет ответственность, т. е. устанавливает, что соответствующее деяние не является правонарушением, то он должен применяться ex tunc — ко всем деяниям, которые были совершены с момента принятия прежнего закона. Все наказанные по прежнему закону должны быть реабилитированы. Если же закон только смягчает юридическую ответственность, т. е. не отрицает, что деяние является правонарушением, то он должен применяться, по меньшей мере, к тем уже совершенным деяниям, ответственность за которые еще не наступила.
Приданием обратной силы отягчающему закону является и такой случай, когда (1) закон увеличивает срок, в течение которого повторное совершение преступления признается опасным рецидивом, и (2) такой отягчающий закон применяется в делах о преступлениях, которые были совершены, хотя и после его вступления в силу, но по прошествии столь большого срока, что по ранее действовавшему закону они не считались бы опасным рецидивом.
Если закон не допускал поворот к худшему по вновь открывшимся обстоятельствам для осужденного, в отношении которого приговор вступил в силу, а новый закон это допускает, то последний нельзя рассматривать как отягчающий, поскольку речь идет об ответственности за разные деяния.
Принципы надлежащей правовой процедуры
Право на суд
Никто не может быть лишен жизни, свободы или имущества иначе как по решению суда. Злоупотребления властью можно реально ограничить лишь в том случае, если властное принуждение осуществляется не просто по закону, а в рамках четко регламентированной законом беспристрастной процедуры. Отсюда вытекает требование надлежащей правовой процедуры, которая должна соблюдаться, как минимум, во всех случаях, когда человеку по закону грозит лишение жизни, личной свободы или имущества. Надлежащая правовая процедура — это судебная процедура, которая является беспристрастной постольку, поскольку суд независим не только от сторон, участвующих в деле, но и от любых институтов власти, и любые стороны перед лицом суда формально равны.
В западноевропейской правовой традиции первое официальное формулирование надлежащей правовой процедуры обычно связывают с Великой хартией вольностей (1215 г.). Глава 39 Хартии предписывала королю дать обещание, что “[ни один] свободный человек не будет взят, помещен в тюрьму или лишен права владеть недвижимым имуществом… или объявлен вне закона, или сослан, или иным образом уничтожен, и мы не накажем его и не пошлем наказать его, кроме как по законному решению его пэров или по праву земли”, а также, что “[н]икому мы не продадим, никому не откажем в праве или правосудии и не для кого не отсрочим их”[50].
Общее требование надлежащей правовой процедуры сформулировано во многих конституциях. Так, в Пятой поправке к Конституции США говорится, что никто не должен лишаться жизни, свободы или имущества без законного судебного разбирательства. В более полном виде требование надлежащей правовой процедуры, действующее в общем праве, гласит: “никто на законном основании не может быть подвергнут наказанию или же претерпеть ущерб в отношении своей физической свободы и собственности иначе как в случае совершения правонарушения, факт которого установлен по общим правилам обычным судом страны”.
В частности, из этого требования вытекает правило, согласно которому любое административное (полицейское) ограничение прав и свобод допустимо лишь при условии предварительного или последующего судебного контроля за законностью и обоснованностью полицейских действий. Это так называемое правило habeas corpus, действовавшее в Англии с XV века и официально сформулированное в знаменитом Habeas corpus act (1679 г.).
Общее требование надлежащей правовой процедуры и правило habeas corpus установлены в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) как обязательные стандарты соблюдения прав человека в европейском правовом сообществе государств.
Конституция РФ допускает смертную казнь (по европейским стандартам в области прав человека смертная казнь должна быть отменена) только по решению суда присяжных. Но Конституционный суд РФ признал невозможность назначения смертной казни даже после повсеместного введения суда присяжных, мотивировав это тем, что в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни.
В статье 22 Конституции РФ установлено, что арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению, и что до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. УПК РФ продлил этот срок до 120 часов.
Часть 3 статьи 35 Конституции РФ гарантирует, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Кроме того, Конституция гарантирует, что ограничения неприкосновенности жилища и права на тайну коммуникаций допускаются только на основании судебного решения.
Nemo judex in propria causa
Никто не может быть судьей в своем деле.
Надлежащая правовая процедура предполагает беспристрастный суд. Отсюда вытекает принцип, сформулированный еще в римском праве: nemo judex in propria causa. Это требование можно рассматривать как одну из частных формулировок справедливости, или формального равенства (всеобщего принципа права), применительно к спорам о праве. А именно: для того, чтобы спор решался в рамках права, стороны спора (частные лица, должностные лица государства, государственные органы) должны быть формально равны в процедуре рассмотрения спора. В частности, если спор возникает между частным лицом и должностным лицом (государственным органом), то последнее не вправе разрешать этот спор. В противном случае оно будет и судьей, стороной в споре. Судья должен быть беспристрастным, не заинтересованным в исходе спора. Но суд не может считаться таковым, если, например, судья ранее принимал участие в деле или функции стороны обвинения и суда фактически не разграничены. Последнее обстоятельство весьма важно: полномочие судьи возбуждать уголовное дело и формулировать по нему обвинение противоречит требованию справедливого разбирательства беспристрастным судом. Если суд полномочен возбуждать дело по своей инициативе, то он выступает как судья в своем деле.
Суд не вправе возбуждать дело. Если суд возбуждает дело по своей инициативе, то он выступает как судья в своем деле.
Между тем в России такое положение сохранялось даже после принятия Конституции 1993 г. Лишь в конце 1996 г. Конституционный Суд РФ признал не соответствующими Конституции положения УПК РСФСР, наделявшие судью полномочиями возбуждать уголовное дело по подготовленным в протокольной форме материалам о преступлении или отказывать в его возбуждении, а также устанавливающие обязанность судьи изложить формулировку обвинения. При этом Конституционный Суд установил, что судья, возбудив уголовное дело и сформулировав обвинение, оказывается связанным такими своими решениями. Это затрудняет для судьи объективное исследование и правовую оценку обстоятельств дела, тем более что вынесение оправдательного приговора или иного решения в пользу подсудимого может восприниматься как свидетельство ошибочности прежних выводов судьи по данному делу. Возложение на суд полномочия возбуждать уголовное дело противоречит принципу состязательности. Этот принцип предполагает такое построение судопроизводства, при котором функция правосудия отделена от функций спорящих перед судом сторон. Суд обязан обеспечивать справедливое и беспристрастное разрешение спора, предоставляя сторонам равные возможности для отстаивания своих позиций, и не может принимать на себя выполнение их процессуальных функций. В уголовном судопроизводстве состязательность означает отграничение функции суда по разрешению дела от функций обвинения и защиты. Возбуждая дело и, особенно, формулируя обвинение против конкретного лица, суд неизбежно оказывается на стороне обвинения и начинает выполнять одновременно две функции — обвинения и разрешения дела, что порождает неравенство сторон в судопроизводстве и нарушает принцип состязательности[51].
Dr. Bonham's Case
Если закон ставит кого-либо в положение судьи в своем деле, то это правонарушающий закон. Сталкиваясь с такими законами, суды в странах общего права применяют принцип nemo judex in propria causa как правовой критерий, позволяющий признавать законы недействительными. Прецедент такого рода был создан в решении по делу врача Томаса Бонхэма (1610 г.)[52].
Содержание этого знаменитого дела сводится к следующему. В Англии существовала Врачебная палата — орган сословно-цехового самоуправления врачей Royal College of Physicians of London. Палата рассматривала споры между врачами и жалобы на врачей. По закону Врачебная палата могла наложить на врача штраф, причем половина суммы штрафа поступала председателю Палаты. Врач Томас Бонхэм, приговоренный Палатой к уплате штрафа, счел решение необоснованным и обжаловал его в Суд королевской скамьи. Знаменитый английский судья сэр Эдуард Коук, рассмотрев дело, установил, что Врачебная палата не вышла за пределы своей законной компетенции. Однако, заявил судья, есть общеизвестный правовой принцип “никто не может быть судьей в своем деле”, и никакой парламент, никакой закон не могут отменить этот принцип. Если же закон нарушает этот принцип, то такой закон противоречит праву, а значит — является недействительным и не применяется судом. Закон (парламентский акт), дозволяющий председателю Врачебной палаты получать в свое распоряжение половину суммы назначенного штрафа, ставит председателя и подчиненных ему судей Палаты в положение судей в своем деле. Ибо председатель и судьи Палаты прямо заинтересованы во взыскании штрафа, и в каждом подобном деле они фактически выступают не только как судьи, но и как сторона. Закон был признан недействительным, и тем самым был установлен судебный прецедент, в соответствии с которым, любой закон, противоречащий требованию “никто не может быть судьей в своем деле”, не применяется судом. Впоследствии суды в странах общего права неоднократно признавали законы, противоречащие этому требованию, недействительными со ссылкой на прецедент 1610 г.
Роспуск парламента президентом
В современной России требование nemo judex in propria causa нарушено в таком официальном акте, который должен быть чистым воплощением права. По Конституции правительство России несет ответственность только перед федеральным президентом, т. е. правительство — это орган исполнительной власти, подчиненный президенту. Но в соответствии с положениями статьи 111 Конституции нижняя палата парламента (Государственная Дума) должна одобрить предлагаемую ей кандидатуру председателя правительства, т. е. одобрить президентский выбор. Если же Дума трижды отклонит предложенную президентом кандидатуру, то она будет распущена, и председатель правительства будет назначен уже без ее согласия. Причем президент фактически не ограничен в роспуске нижней палаты по основанию статьи 111 Конституции. Это называется «президент назначает председателя правительства с согласия Думы».
Роспуск президентом нижней палаты, отвергающей президентское правительство, имеет смысл тогда, когда вновь избранная палата уже не может быть распущена в течение некоторого срока — как это предусмотрено в Пятой республике («смешанная республика» во Франции). Это означает, что президент и большинство в нижней палате конкурируют за право формировать правительство, и президент, распуская нижнюю палату, «выносит свой спор с парламентом на суд народа». Французский президент не выступает здесь как судья в своем деле.
Российский же президент, по Конституции, в споре по кандидатуре председателя правительства оказывается судьей в своем деле. Можно предположить, что если бы такое же положение было включено в конституционный акт, изданный в Англии или другой стране общего права, то высший суд страны признал бы это положение (аналогичное части 4 статьи 111 Конституции РФ) недействительным.
Audiatur et altera pars
Пусть будет выслушана и другая сторона.
Audiatur et altera pars — без соблюдения этого требования невозможно объективное решение по любому спору. До тех пор, пока одна из сторон по уважительной причине не может участвовать в процессе разбирательства — будь то гражданское, уголовное или иное дело — разрешение спора о праве невозможно.
Надлежащая правовая процедура предполагает, что суд или квазисудебный орган власти может принять решение, лишь уведомив заинтересованные стороны и дав им возможность высказаться; это императивный принцип общего права[53]. Европейское право (п.3 ст.6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод) гарантирует, что обвиняемый в совершении преступления в процессе разбирательства его дела компетентным судом выступает как активная сторона, формально равная обвиняющей стороне. В частности, он имеет право быть уведомленным на понятном ему языке и пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в суде, а также имеет право допрашивать показывающих против него свидетелей и право на вызов и допрос его свидетелей (право обвиняемого на “равенство оружия”, или равенство средств защиты).
Надлежащая правовая процедура допускает рассмотрение судом гражданских дел в отсутствие ответчика, если исчерпаны все правовые средства, обеспечивающие явку ответчика в суд; в противном случае нарушалось бы право истца на разбирательство его дела. Но заочное разбирательство в суде уголовного дела противоречит требованию audiatur et altera pars — даже тогда, когда обвиняемый скрывается от правосудия. Ибо уголовное дело — это дело обвиняемого, а не обвиняющей стороны (органа уголовного преследования). И если обвиняемый скрывается от правосудия, то это значит, что суд не может осуществлять правосудие в этом деле (до тех пор, пока обвиняемый не предстанет перед судом). Следовательно, при заочном разбирательстве уголовного дела в любом случае не может быть вынесен правосудный приговор. Аналогично в суде второй инстанции разбирательство дела в отсутствие подсудимого противоречит требованию надлежащей правовой процедуры. Поэтому нельзя признать надлежащей формулировку ч. 2 ст. 123 Конституции РФ: “Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме случаев, предусмотренных федеральным законом”. Никаких правовых оснований для заочного разбирательства судом уголовных дел не существует.
Non bis in idem
Этот принцип известен со времен римского права: non bis in idem; или более точно: bis de eadem re non sit actio. Он подразумевает, что правовое наказание должно быть соразмерно правонарушению (преступлению), и если человек наказан по праву, т. е. правосудно (справедливо), то повторно по праву он наказываться уже не может. Следовательно, если правосудный приговор вступил в законную силу, то повторное судебное разбирательство исключается.
Например, Пятая поправка к Конституции США устанавливает, что «никто не должен дважды отвечать жизнью или телесной неприкосновенностью за одно и то же преступление». Более общее положение установлено в статье 50 Конституции РФ: «Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление».
Наконец, наиболее полно этот вопрос излагается в Протоколе № 7 к европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Статья 4 («Право не привлекаться к суду или повторному наказанию») этого Протокола гласит:
1. Никакое лицо не должно быть повторно судимо или наказано в уголовном порядке в рамках юрисдикции одного и того же государства за преступление, за которое оно уже было окончательно оправдано или осуждено в соответствии с законом и уголовно-процессуальным законодательством этого государства.
2. Положения предыдущего пункта не препятствуют пересмотру дела в соответствии с законом и уголовно-процессуальным законодательством соответствующего государства, если имеются сведения о новых или вновь открывшихся обстоятельствах или в предыдущем разбирательстве были допущены существенные ошибки, которые могли повлиять на исход дела[54].
Таким образом, принцип non bis in idem предполагает вступивший в силу правосудный приговор. Но неправосудный приговор, если он вступил в законную силу, должен быть отменен в порядке судебного надзора.
Отмена неправосудного приговора означает для осужденного (или оправданного) либо изменение к лучшему (если дело пересматривается по основаниям, улучшающим положение осужденного), либо изменение к худшему (если дело пересматривается по основаниям, ухудшающим положение осужденного или оправданного). Понятно, что изменение к лучшему не противоречит принципу non bis in idem.
Презумпция невиновности
Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не доказана. Это лишь один из группы принципов-презумпций, действующих при надлежащей правовой процедуре. Так, есть презумпция правомерности: обвинитель должен доказать, что обвиняемый совершил преступление, истец — что ответчик не выполнил обязательства или причинил вред. В административном процессе — презумпция законности административных актов, изданных на основании и во исполнение закона: истец (заявитель) должен доказать, что административный акт не соответствует закону. В конституционном процессе — презумпция конституционности закона, принятого после вступления в силу конституции: заявитель должен доказать, что закон не соответствует конституции.
Понятие невиновности не сводится к отсутствию вины человека, обвиняемого в совершении преступления. Вина (сознательно-волевой компонент содеянного) — это лишь один из элементов состава преступления или состава правонарушения. В данном контексте невиновность означает не просто отсутствие вины, но признание человека не совершавшим преступление. Обвиняемый в совершении преступления считается не совершившим преступление, пока противное не установлено компетентным судом и обвинительный приговор не вступил в силу (презумпция невиновности).
Презумпция невиновности обвиняемого в уголовном деле (подсудимого) вытекает из самого принципа формального равенства. Ибо уголовное дело — это спор о праве, формально равными сторонами которого выступают обвиняемый (подсудимый) и обвиняющая сторона в лице компетентного государственного органа. С точки зрения права заявление одной из сторон спора о совершении другой стороной преступления, даже если это официальное заявление компетентного государственного органа, имеет ту же юридическую силу, что и заявление другой стороны о том, что она не совершала преступления. Противоположная точка зрения по этому вопросу означала бы, что обвиняющая сторона оказывается судьей в своем деле.
Аналогично в гражданском процессе лицо, против которого подан иск, не обязано доказывать, что оно не является надлежащим ответчиком. Оно признается таковым лишь в том случае, если истец предъявит доказательства того, что лицо, привлеченное по данному делу в качестве ответчика, не выполнило обязательство или причинило вред.
В посттоталитарной России суды в случае возникновения сомнений вместо вынесения оправдательного приговора нередко направляют дело для проведения дополнительного расследования. Тем самым грубо нарушается презумпция невиновности.
Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Это частная формулировка презумпции невиновности. Аналогично в гражданском процессе лицо, привлекаемое в качестве ответчика, не обязано доказывать, что оно не является должником, не выполнившим обязательство, или причинителем вреда.
Другое дело — доказательство вины ответчика. В гражданском деле лицо, уже признанное должником, не выполнившим обязательство, или причинителем вреда, обязано выполнить требования истца, либо доказать, что оно не обязано выполнять эти требования. Поэтому отсутствие вины, в частности, наличие непреодолимой силы или умысла потерпевшего, доказывается самим лицом, нарушившим обязательство или причинившим вред.
Никто не обязан свидетельствовать против себя
Уже в римском праве было признано, что человек не может быть надлежащим свидетелем в своем деле (nullus idoneus testis in re sua). В частности, отсюда вытекает, что признание обвиняемого не может считаться достаточным свидетельством его виновности в совершении преступления. Следовательно, не может быть никаких юридических оснований для того, чтобы требовать от человека свидетельств против самого себя.
В российской практике нередко встречаются случаи, когда лицо, на которое падает подозрение, и причастность которого к преступления проверяется, процессуально не ставится в положение подозреваемого и допрашивается в качестве свидетеля, с предупреждением об обязанности давать правдивые показания. Между тем, даже привлеченный к участию в деле в качестве свидетеля вправе отказаться от дачи показаний, мотивируя это тем, что показания могут быть использованы против него.
Вопрос 38. Принцип «последующее отменяет предыдущее» в прецедентном праве. Dr. Bonham's Case (1610)
См. предыдущий вопрос
Вопрос 39. Понятие источников права. Классификации источников права
• Термином источник права обозначаются разные объекты и понятия — в зависимости от типа правопонимания. Чаще всего этот термин употребляется в смысле легистского неопозитивизма: официальный прескриптивный текст о нормах. А смысловые фрагменты такого текста — предписания, определения и т. д. — в легистике называются «нормами права». Официальные прескриптивные тексты могут быть первичными и вторичными, они создаются при осуществлении законодательной, исполнительной и судебной власти, но, прежде всего, источники права принято классифицировать по форме текстов: нормативный (правоустановительный) акт, нормативный прецедент (правоприменительный акт), санкционированная доктрина (неофициальный авторитетный текст о нормах права), санкционированный обычай (официально признаваемый устный текст). Их соотношение и официальная сила различаются в разных правовых культурах (правовых семьях) и в разные исторические периоды.
Нормативный акт — это письменный текст, правоустановительный акт, издаваемый компетентным государственным органом специально для того, чтобы официально сформулировать общеобязательные нормы. Очень редко нормативные акты принимаются путем референдума.
Судебный прецедент — прецедент формулирования и применения нормы в решении суда. Нормативным текстом считается решение, ранее вынесенное авторитетным судом по аналогичному делу, точнее — содержащееся в его мотивировочной части правоположение, называемое ratio decidendi. Строго говоря, Любое судебное решение может быть впоследствии расценено и использовано судами как прецедент чего-либо. Но, по существу, прецедентом называется такое решение, обоснование которого становится правилом, обязательным для других судов при решении аналогичных дел. Прецедент как источник права выражает нормативно-правовую позицию высокого суда, обязательную для нижестоящих судов и, с некоторыми оговорками, для самого суда, создавшего прецедент.
Не следует полагать, что судебный прецедент является источником права только в странах общего права, а в странах романо-германской правовой семьи он таковым не признается. Судебный прецедент является источником права везде, где (1) судьи признают очевидное требование последовательности и единообразия судебной практики и (2) есть реальное разделение властей, реальная независимость судебной власти, и никакие “административные ресурсы” не могут заставить суд толковать и применять законы так, как угодно властям предержащим.
Правовая доктрина — это учение (суждения, мнения) авторитетных юристов о нормах действующего права, их применении и толковании. Доктрина может быть источником права в той мере, в которой она формулирует нормы права и иные правоположения, официально признаваемые в юридической практике.
Обычай можно рассматривать как устный текст сложившихся в социальной практике «неформальных норм», который транслируется и интерпретируется наиболее авторитетными акторами обычных отношений. “Санкционированный обычай” означает, что обычай официально признается, но государство не придает ему силу закона. В исключительных случаях, предусмотренных законом, правила местного обычая или морского обычая действуют как специальные нормы по отношению к закону.
Не существует других форм нормативно-правовых текстов. Так, в одном ряду нельзя ставить нормативный акт и нормативный договор. Последний есть лишь разновидность нормативного акта, не самостоятельный вид, а “подвид” юридических текстов.
Принципы права или естественные права человека никак не могут быть источниками права в формальном смысле, поскольку принцип — это не форма, а содержание права. И принципы права, и права человека содержатся в официальных юридических текстах, в частности, в официально признаваемой доктрине.
Источник, обозначаемый как “религиозные памятники” (“священные книги”), очевидно, следует считать источником религиозных норм. Другое дело, что в “религиозном памятнике” могут быть фрагменты с юридическим содержанием. Именно последние, т. е. юридические тексты, можно считать специфическим источником права (юридические тексты священных книг). Такие тексты религиозным сознанием воспринимаются как закон (установленный “Высшим Законодателем”), но для светского сознания они — лишь специфическая разновидность доктрины. Специфическая в том смысле, что ее авторство приписывается Богу, пророкам и т. п., в то время как толкованием этой фундаментальной доктрины занимается доктрина человеческая (богословская).
Помимо классификации по форме текстов, источники права следует классифицировать по их содержанию. В этом смысле различаются первичные и вторичные источники права.
Первичные источники права — это оригинальные правовые тексты, т. е. такие, в которых впервые формулируются нормы права. Вторичными источниками права являются производные от первичных официальные тексты, в которых интерпретируется содержание первичных источников права, уточняется смысл первичных правоположений и, таким образом, формулируются вторичные правоположения (“вторичные нормы”). Вторичные источники права — это правовые тексты, которые de jure лишь интерпретируют уже имеющиеся правоположения и не могут ничего изменить в содержании и смысле первичного (интерпретируемого) текста, но в которых, тем не менее, de facto могут формулироваться и реально формулируются новые правоположения (в более “мягкой редакции” — правоположения, однозначно не вытекающие из содержания первичных источников права).
Прежде всего, вторичными источниками права являются юридические тексты, созданные посредством нормативного толкования первичных юридических текстов. Так, деклараторный судебный прецедент (вторичный источник права) — это прецедент конкретного нормативного толкования закона или иного первичного юридического текста. Постановление конституционного суда о толковании конституционных правоположений — это акт абстрактного нормативного толкования, вторичный источник права по отношению к конституции. Кроме того, вторичные источники права получаются посредством конкретизирующего нормотворчества. Например, постановление правительства, издаваемое на основании и во исполнение закона, — в той части, в которой оно конкретизирует закон, но не является актом первичного нормотворчества, — представляет собой вторичный источник права. Такое правительственное нормотворчество тоже можно считать своего рода авторитетным толкованием закона, но не единственно возможным: заинтересованные лица могут оспорить это “конкретизирующее толкование” в суде на предмет его соответствия закону, т. е. на предмет нормативного толкования закона. И если компетентный суд даст иное толкование, правительственное постановление утратит силу в части, определенной судебным решением.
В рассуждениях о первичных и вторичных источниках права следует различать форму и содержание правовых текстов. Закон (нормативный акт), прецедентное судебное решение, обычай и доктрина являются формой правовых текстов. Поэтому, например, называя закон источником права, нужно помнить, что источником права является правовой текст в форме закона, а не законная форма правового текста. Рассмотрение источников права как первичных и вторичных относится не к форме, а к содержанию правовых текстов.
Последнее означает, что не существует строгого соответствия между подразделением источников на виды в зависимости от их формы (закон и т. д.) и различением первичных и вторичных источников права. Прежде всего нельзя утверждать, что нормативный акт всегда является первичным источником права. Даже закон (как правило, это первичный правовой текст) может воспроизводить и интерпретировать содержание других источников права, например, нормы конституции или международного договора. Так, ФКЗ о Конституционном Суде РФ, в частности, воспроизводит и интерпретирует текст ст.125 Конституции РФ, и в этой части он выступает как вторичный источник права.
Далее, судебный прецедент (правовой текст в форме судебного решения по конкретному делу) может быть источником права как первичным (креативный прецедент), так и вторичным (деклараторный, интерпретативный прецедент, или прецедент толкования).
То же самое относится к обычаю. Например, обычай, сложившийся в отношениях между органами государственной власти на основе конституционного соглашения, является первичным источником права. Но обыкновение правоприменительной практики (обычай толкования и применения закона) является вторичным источником права.
Другое дело, что первичные правовые тексты, чтобы быть источником права, требуют надлежащей формы. Понятно, например, что первичные правовые тексты не должны издаваться в форме нормативных актов исполнительной власти. Из соображений разделения властей и правовой законности вытекает, что для первичных правовых текстов предназначен закон, хотя законодатель может делегировать президенту или правительству полномочия по изданию первичных правовых текстов по определенным вопросам.
Само понятие вторичных источников права имеет смысл постольку, поскольку, во-первых, некие вторичные правовые тексты не просто воспроизводят первичные тексты, а интерпретируют первичные тексты и, во-вторых, эта интерпретация конкурирует или может конкурировать с положениями первичного текста (de jure интерпретация не меняет смысл первичного текста, но de facto может его изменить, de jure такой вторичный текст имеет силу первичного текста, но de facto — большую силу).
Если закон просто воспроизводит фрагмент текста конституции или подзаконный акт воспроизводит фрагмент закона, то в этой части они являются вторичными текстами, но не являются вторичными источниками права. Ибо простое воспроизведение не может ничего добавить к первичному правовому тексту ни de jure, ни de facto.
Вторичный источник права — интерпретация первичного правового текста erga omnes — реально действует, порождает правовые последствия, и для того чтобы признать такую интерпретацию недействительной (не имеющей юридической силы), нужно официально объявить ее противоречащей первичному источнику права, например, пересмотреть нормативно-правовую позицию конституционного суда, признать незаконным или просто отменить положение правительственного постановления или акта местного самоуправления и т. д.
Наконец, следует классифицировать источники права как нормативно-правовые тексты, разные в разных формах государственно-властной деятельности. В этом контексте различаются: законы — акты, предназначенные для первичного нормотворчества; нормативно-правовые тексты исполнительной власти, которые, в силу ее специфики, должны быть либо вторичными, правообеспечительными (обеспечивающими действие актов первичного нормотворчества), действующими внутри правительственной системы, либо актами делегированного законодательства; нормативно-правовые тексты судебной власти, связанные с судебной практикой, причем эта практика порождает не только нормативные прецеденты, но и нормативные (“квазинормативные”) акты и даже специфические обычаи.
Вопрос 40. Виды нормативно-правовых текстов
См. предыдущий вопрос.
Вопрос 41. Источники права и гражданско-правовой договор
Если гражданско-правовой договор (договор с последствиями inter partes) не основан на нормативном юридическом тексте, законе или обычае, то этот “ненормальный” договор тоже можно рассматривать как источник права. Но это будет источник права в ином смысле — “индивидуальный источник права”, источник прав и обязанностей сторон договора.
Между тем существует недоразумение относительно возможности гражданско-правового (и трудового) договора быть источником права в собственном смысле. Имеется в виду, что актом заключения договора стороны могут распространять на их отношения действие неких правил, о содержании которых стороны договариваются. Это правила, которые однозначно не вытекают из существующих источников права и являются результатом развития, интерпретации, конкретизации имеющихся нормативно-правовых текстов (вторичные правила) или даже устанавливают нечто новое в сравнении с имеющимися нормами права (первичные правила). Необходимо подчеркнуть, что эти правила действуют лишь inter partes и не имеют правовых последствий для третьих лиц. Причем эти правила могут формулироваться лишь одной из сторон договора, в одностороннем порядке (правила предоставления услуг, “корпоративные нормы”, правила внутреннего трудового распорядка и т. п.), но юридически эта сторона не навязывает их другой стороне (хотя если эта сторона является монополистом в силу закона, то фактически условия договора навязываются другой стороне). Так вот: эти тексты, в которых формулируются названные правила, сами по себе не имеют нормативной силы, их обязательность inter partes имеет силу договорных обязательств, и они могут рассматриваться как вторичные источники права только в том случае, если они официально санкционированы (например, в силу закона, а не просто по предложению работодателя, работник, заключая индивидуальный трудовой договор, принимает на себя обязанность соблюдать правила внутреннего трудового распорядка). Более того, эти корпоративные или локальные тексты различаются в разных корпорациях, предприятиях и т. д., а поэтому — даже если они санкционированы — их скорее следует рассматривать не как источники права в собственном смысле, а как источники договорно определяемых субъективных прав и обязанностей сторон, как “приложение к договору”.
В ст. 426 ГК РФ использован термин “публичный договор” применительно к договору частных лиц. Законодатель объяснил, что это “договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т. п.)” (ч. 1. ст. 426 ГК РФ). Такой договор назван “публичным” в том смысле, что условия этого “договора”, определяемые в одностороннем порядке коммерческой организацией, рассчитаны на неопределенное множество возможных потребителей, выступающих в качестве абстрактной “публики”.
Но по существу речь идет о типовых договорах, содержание которых произвольно определяют (и, по мере надобности, изменяют) сами коммерческие организации. Разумеется, такие договоры не являются источником права (нужно различать понятия “фиксированные цены” и “цены, фиксированные продавцом”). Просто законодатель противоправно ограничил свободу договора тем, что обязал соответствующие коммерческие организации применять определяемые ими условия договора в равной мере ко всем потребителям, за исключением тех случаев, когда законом допускаются льготы для отдельных категорий потребителей (ч. 2 ст. 426 ГК РФ).
Иная точка зрения по этому вопросу означала бы, что одно частное лицо (коммерческая организация) вправе навязывать другим частным лицам (потребителям) условия договора. В действительности же наличие публичного договора означает лишь следующее: если в конкретном договоре не установлено иное, то применяются условия публичного договора, причем конкретный договор не может ухудшать положение потребителя в сравнении с условиями публичного договора. Это принцип in favorem, хорошо известный в трудовом праве: например, если в индивидуальном трудовом договоре не установлено иное, то применяются условия коллективного договора, причем индивидуальный не может ухудшать положение работника в сравнении с условиями коллективного договора.
Другое дело, что в случаях, предусмотренных законом, Правительство РФ может издавать правила (типовые договоры), обязательные для публичных договоров (ч. 4 ст. 426 ГК РФ). В этих случаях, во-первых, источником права является общеобязательный типовой договор (нормативный акт), имеющий силу постановления Правительства РФ, и, во-вторых, коммерческие организации уже не могут произвольно устанавливать и менять условия публичного договора, а именно, ухудшать положение потребителей в сравнении с правилами, установленными Правительством.
Аналогично корпоративные нормы (нормативные тексты любых негосударственных организаций, частных юридических лиц, включая предприятия) следует рассматривать как внутренние правила корпорации, соблюдение которых иными лицами становится обязательным в силу их договора с корпорацией. Источником права для корпоративных норм являются официальные юридические тексты, которым корпоративные тексты противоречить не могут. Сами же корпоративные тексты — источники права sui generes: корпорация лишь предлагает, но она не вправе обязывать кого-либо вступать с ней в договорные отношения на условиях, определенных корпоративными нормами; и только если договор заключен, т. е. обе стороны обязались соблюдать корпоративные нормы, эти нормы становятся обязательными для сторон. Корпоративные тексты могут определять права и обязанности как в отношениях между корпорацией и лицом, заключившим с ней договор, так и в отношениях между лицами, заключившими договор о регулировании их отношений нормами корпорации. В частности, таким корпоративным текстом могут быть спортивные правила, установленные для соревнующихся лиц организацией, проводящей спортивные соревнования; и если спортивный судья, действующий от имени этой организации, нарушает такие правила, то лицо, права которого нарушены, вправе обратиться за защитой в официальный суд, который будет рассматривать дело о нарушении договора, условия которого определены спортивными правилами.
Коллективные соглашения о труде — это договоры частных лиц с последствиями erga omnes. Они санкционированы законом, и стороны коллективных соглашений о труде обязаны заключать эти соглашения по вопросам, предусмотренным трудовым законодательством.
Это нормативные договоры. Но они могут лишь изменять содержание норм трудового законодательства по принципу in favorem (норма соглашения о труде имеет силу закона и применяется лишь тогда, когда ставит работника в лучшее положение, нежели норма трудового законодательства). Таким образом, это вторичные источники права.
Коллективные соглашения о труде, особенно крупномасштабные, более напоминают нормативные акты, нежели договоры частных лиц. Стороны этих соглашений заключают их в силу того, что законодатель наделяет их таким правом. Эти соглашения не имеют самостоятельной юридической силы и порождают правовые последствия лишь постольку, поскольку они предусмотрены трудовым законодательством. Иначе говоря, законодатель делегирует компетенцию по нормативному регулированию трудовых отношений коллективным субъектам этих отношений и придает установленным ими нормам силу закона (с оговоркой in favorem).
Вопрос 42. Первичные и вторичные источники права
• Акт нормативного толкования нормативного акта — это нормативный акт, который de jure имеет силу толкуемого акта, а de facto — большую силу.
См. вопрос 39.
В качестве примера вторичного нормативного акта следует рассматривать постановление Конституционного Суда РФ о толковании статьи 107 Конституции РФ (второго предложения части третьей ст. 107) — о преодолении президентского отлагательного вето.
Вопрос 43. Классификация нормативных актов
Классификация нормативных актов возможна по разным основаниям. Во-первых, нормативные акты могут быть как первичными, так и вторичными источниками права. Акт нормативного толкования нормативного акта — это нормативный акт (вторичный), который de jure имеет силу толкуемого акта, но de facto — большую силу.
Во-вторых, по субъектам, издающим нормативные акты, и функциям этих субъектов в механизме государственной власти, следует различать нормативные акты законодательные, исполнительные и судебные. Причем, с точки зрения функционального разделения властей, судебные нормативные акты могут быть только вторичными источниками права — актами, обобщающими конкретное нормативное толкование первичных источников права.
В-третьих, по числу субъектов, участвующих в издании акта, следует различать нормативные акты, издаваемые компетентными государственно-властными субъектами и создаваемые путем договора.
Нормативные акты — это не обязательно акты, которые издаются в одностороннем порядке. В юриспруденции различаются акты, во-первых, односторонние и, во-вторых, двух- или многосторонние, т. е. договоры. Договоры частных лиц сами по себе могут порождать только последствия inter partes, они не устанавливают нормы. Но договоры официальных субъектов (государств, государственных органов и других субъектов публичного права) порождают последствия erga omnes.
Обычно нормативными актами называют только односторонние нормативные акты, а нормативные договоры считают самостоятельным видом источников права. В действительности нормативные договоры в рамках национальной правовой системы не имеют самостоятельной официальной силы (юридической силы), отличной от силы односторонних нормативных актов, и не могут быть самостоятельным видом источников права. Нормативные акты в традиционном понимании и нормативные договоры — это не два самостоятельных вида, а два подвида, составляющие один вид источников права.
Среди всех источников права, не только среди нормативных актов, высшую силу имеет конституция. Следует различать конституцию в материальном и в формальном смысле (консолидированный или кодифицированный нормативный акт).
Конституция в материальном смысле (конституционное право) — это совокупность норм, устанавливающих правовые пределы государственной власти (по определению: государственная власть — власть, ограниченная конституцией, писаной или неписаной). А именно, конституция определяет правовой статус человека и гражданина (в исторически неразвитой правовой ситуации — правовые статусы разных категорий субъектов права) и устанавливает порядок формирования и компетенцию высших государственных органов.
Следовательно, конституция в материальном смысле может быть объективирована в правовых текстах разной формы — в обычаях, доктрине, прецедентах и нормативных актах.
Отсюда ясно, что и тогда, когда есть консолидированный конституционный нормативный акт (конституция в формальном смысле) и есть суд конституционной юрисдикции, который применяет и толкует этот текст, материальная конституция не исчерпывается этим текстом и развивается в форме судебных решений (судебных прецедентов и даже судебных нормативных актов). Конституция государства может меняться по мере исторического прогресса правовой свободы, в то время как соответствующие положения (текст) конституции в формальном смысле остаются неизменными. Пример — расовая сегрегация в США, которая до 1954 г. считалась не противоречащей конституции, а после решения по делу Браун против Комитета по образованию была объявлена не соответствующей конституции.
Различение конституции в материальном и формальном смысле позволяет, в частности, внести ясность в вопрос о конституции Соединенного Королевства. В этой стране есть конституция в материальном смысле, но нет конституции в форме консолидированного текста.
Конституция в формальном смысле — это не «основной закон», а фундаментальный акт, учреждающий государство и обладающий высшей юридической силой. Конституция предшествует закону и законодателю, связывает законодателя. Поэтому законодатель и субъект, принимающий конституцию, должны быть “разведены”.
В развитых национальных правовых системах конституции обычно принимаются специально созываемым конституционным собранием (учредительным собранием) или путем референдума. Такие способы принятия конституции, “разводящие” законодателя и субъекта, принимающего конституцию, подчеркивают учредительную природу конституции. Кроме того, изменения (поправки) вносятся в конституцию в особом порядке. С этой точки зрения различаются конституции “жесткие” и “гибкие”. “Жесткие” не могут быть изменены законодателем. “Гибкими” называют конституции, поправки к которым принимаются законодателем в рамках процедуры, усложненной в сравнении с законодательным процессом.
В постсоветской традиции конституцию называют основным законом. Называть конституцию законом можно, лишь употребляя термин «закон» в широком смысле (все официальные правила). Но это неуместно при классификации нормативных актов. Таким образом, для конституции в формальном смысле название «основной закон» подходит не более, чем «основной указ». И объяснять конституцию как основной закон — это значит принижать ее юридическую силу и правовое предназначение.
Подзаконные нормативные акты исполнительной власти — это акты конкретизации закона. В правовом государстве, при надлежащем разделении властей, они могут издаваться лишь постольку, поскольку они предусмотрены конкретизируемым законом, а не просто в силу компетенции того или иного органа исполнительной власти, позволяющей вообще издавать такие акты. В противном случае законы будут фиктивными, и фактически большую силу будут иметь нормативные акты формально низшего уровня.
Нормативные акты судов — это акты нормативного толкования права (конституции или закона), которые издаются высшими судами именно с целью толкования. Они порождают последствия erga omnes в силу компетенции соответствующего высокого суда.
Судебный нормативный акт, как и любой акт нормативного толкования, — это вторичный источник права. De jure он имеет силу толкуемого нормативного акта, а de facto — большую силу, ибо при наличии акта нормативного толкования правоприменители руководствуются уже не самим текстом, получившим авторитетное толкование, а положениями акта толкования.
Различаются судебные нормативные акты, издаваемые на основе абстрактного и на основе конкретного нормативного толкования. Первые (например, постановления Конституционного Суда РФ о толковании Конституции) не связаны с разрешением споров о праве, вторые обобщают толкование законов, данное при разрешении конкретных споров о праве — таковыми должны быть, например, постановления Пленума Верховного Суда РФ, разъясняющие вопросы судебной практики.
Абстрактное нормативное толкование противоречит природе правосудия. Судебное толкование права с последствиями erga omnes допустимо лишь в контексте разрешаемого спора о праве (конкретное, или инцидентное нормативное толкование).
Судебный нормативный акт следует отличать от судебного прецедента — решения по конкретному спору о праве, в котором формулируется норма или дается толкование конституции или закона, имеющее нормативное значение. Прецедентом толкования называют индивидуальный акт, правоприменительное решение, обязательное inter partes, в котором одновременно дано толкование примененного правоположения (конституции или закона) с “побочным эффектом” erga omnes. Специальный же акт нормативного толкования издается именно с последствиями erga omnes.
И в прецедентах толкования, и нормативных актах-разъяснениях по вопросам судебной практики дается конкретное нормативное толкование, но в разных формах и в разной мере авторитетное. В случае прецедента это — толкование, данное малой судебной коллегией, предназначенной для разрешения конкретных дел, т. е. такое, которое могут и не разделять другие судьи высшего суда; а поэтому оно не становится автоматически нормативным толкованием. В случае же разъяснения по имеющейся судебной практике мы имеем дело с ранее уже данным конкретным толкованием, которое теперь санкционирует пленум высшего суда, а поэтому все судьи обязаны придерживаться этого толкования.
Нормативные акты органов местного самоуправления — это локальные акты. Они являются обязательными постольку, поскольку закон (законодательство о местном самоуправлении) наделяет муниципальные органы государственными нормотворческими полномочиями по вопросам местного значения. Если считать, что в этих пределах акты местного самоуправления служат источниками права, то это будет некое “местное (локальное) право”, различное в разных местностях государства.
Локальные нормативные акты не могут автономно устанавливать новые нормы права, т. е. не могут устанавливать обязательные правила contra legem или praeter legem. Они могут лишь вводить в действие на территории муниципалитета нормы, содержание которых прямо предусмотрено законом, но вступление в силу, по закону, зависит от усмотрения муниципалитета.
Например, муниципалитет не вправе обязать всех лиц на его территории пользоваться услугами только муниципального предприятия по уборке мусора (а также иными подобными муниципальными услугами) и тем самым фактически запретить деятельность соответствующих частных предприятий. Это было бы монополистическим ограничением свободы предпринимательства и свободы договора. Но местные налоги, предусмотренные законом, могут вводиться муниципальным актом.
Таким образом, нормативные акты местного самоуправления (локальные нормативные акты) могут быть лишь вторичными источниками права.
Регламент (палаты) парламента — нормативный акт, которым парламент устанавливает внутренний распорядок своей деятельности. Это корпоративный акт, которым депутаты определяют свои внутрикорпоративные права и обязанности (и обязанности аппарата парламента). Но собственно регламентные правила (в регламенте могут воспроизводиться уже существующие тексты нормативных актов — о статусе депутата, законодательный процесс, трудовое законодательство) не порождают права и обязанности иных субъектов и не устанавливают права и обязанности депутатов за пределами отношений в парламенте. Эти правила обязательны для депутатов в той мере, в которой они с ними согласны, ибо в любой момент большинство может изменить регламент. Причем нормы, реально определяющие работу парламента, могут сложиться в форме парламентского обычая вопреки положениям регламента.
Регламент не может быть источником права. Правовые нормы устанавливаются парламентом в форме закона, а не в форме корпоративного акта. Следует различать правила законодательного процесса, имеющие юридическое значение и поэтому устанавливаемые конституцией или специальным законом, и технику законодательного процесса, которую сами депутаты вырабатывают в практике и фиксируют в регламенте. Иначе говоря, это нормативный акт, но такой, который не предназначен для использования в качестве источника права.
Вопрос 44. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц
«Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц» — это обозначение неких явлений на языке командной теории. Если заменить «право» на приказы или официальные акты, всё становится ясно.
Действие официальных актов «во времени»
См. вопрос 37: Последующий закон имеет приоритет: отменяет предшествующий или ограничивает действие предшествующего закона (lexposterior derogatpriori).
Следует различать момент вступления закона в силу и действие во времени норм этого закона. Закон вступает в силу:
— с момента его опубликования (ex nunc), если иное не установлено в самом законе;
— с момента времени в будущем (pro futuro), если это установлено в самом законе.
Нормы этого закона действуют с момента вступления закона в силу, но при этом применяются:
ex nunc — к отношениям, возникающим с момента вступления закона в силу; ex tunc — к отношениям, возникшим до вступления закона в силу (смягчающий закон имеет обратную силу, отягчающий — не имеет).
Закон утрачивает силу в четырех случаях:
— отмена его законодателем;
— издание нового закона по тому же предмету регулирования;
— истечение срока действия закона;
— признание его недействительным, утратившим силу (по решению компетентного суда).
Как правило, законоположения утрачивают силу по решению суда конституционной юрисдикции. Обратная сила решений конституционного суда означает, что нормативный акт утрачивает силу ex tunc. Получается, что нормативный акт действовал некоторое время, а затем был объявлен ничтожным с момента его принятия или с иного времени до принятия решения конституционного суда. Поэтому все законоотношения, возникшие в результате применения этого акта с объявленного момента утраты им силы, также считаются ничтожными.
Последствия для действия нормативного акта во времени, возникающие вследствие признания этого акта противоречащим конституции или закону и утрачивающим силу ex tunc.
Переживанием закона называется применение утратившего силу закона к фактам, которые возникли еще во время его действия. Такая ситуация возникает после принятия отягчающего или не смягчающего ответственность закона. Например, если новый уголовный кодекс не смягчает ответственность за некие преступления, то соответствующие деяния, совершенные до вступления его в силу, наказываются по нормам прежнего уголовного кодекса (закон времени совершения преступления).
Действие официальных актов «в пространстве»
Национальные нормативные акты действуют в пределах юрисдикции государства, издающего нормативные акты. Вместе с тем государство в определенных случаях должно применять нормативные акты другого государства, если это предусмотрено ратифицированным международным договором или вытекает из положений международного частного права.
Экстерриториальное действие нормативных актов регулируется международным правом. Территория дипломатического представительства государства за рубежом, принадлежащие представительству транспортные средства рассматриваются как часть территории этого государства.
Иногда в соответствии с международными договорами на территории государства действует правоприменительный орган другого государства и применяет нормативные акты этого другого государства. Точнее, место и здание, в котором заседает этот правоприменительный орган, рассматривается как территория, на которую временно распространяется юрисдикция иностранного государства. Например, некое государство отказывается выдать своих граждан другому государству, в котором они обвиняются в совершении преступлений. Правда, оно согласно выдать их для уголовного преследования по законам этого другого государства при условии, что суд состоится на “нейтральной территории” т. е. на территории некой третьей страны. Таким образом, возможна ситуация, когда граждане одного государства предстанут перед судом другого государства, действующим в соответствии с конституцией и процессуальными нормами своей страны и применяющим уголовное право своей страны на территории третьей страны.
Уголовный закон другой страны принимается во внимание, когда суд решает вопрос о выдаче лица, обвиняемого этой стране в совершении преступления; например, если обвиняемому по закону другой страны грозит смертная казнь, а в стране суда смертная казнь не допускается, в выдаче будет отказано.
Договоры о взаимной правовой помощи могут предусматривать исполнение судебного решения по уголовному делу на территории другого государства, но только при условии признания этого решения соответствующим органом и, в конечном счете, судом этого государства.
В сфере частного права, к «отношениям с иностранным элементом» суд может применить закон другой страны. Но иностранный закон не имеет прямого действия, суд применяет его в силу закона своей страны.
Институт международного частного права (существующий в отдельной стране механизм принуждения к соблюдению договоров «с иностранным элементом») ограничивает применение актов другого государства так называемой оговоркой о публичном порядке. Для государств, принадлежащих к разным культурам, использование чужих стандартов не всегда желательно или возможно. Поэтому закон предусматривает возможность использования судом оговорки о публичном порядке в случае нарушения «основ правопорядка», «фундаментальных принципов морали и справедливости» и т. п. Это ограничивает применение актов другого государства, чаще всего блокирует признание и принудительное исполнение решений иностранного суда.
Действие официальных актов «по кругу лиц»
Со времен советской доктрины искажается вопрос о действии права «по кругу лиц». По существу такого вопроса нет, поскольку право — общеобязательно. Другое дело, что могут быть исключения — специальные нормы для определенного круга лиц (например, уголовная ответственность несовершеннолетних, т. е. «пока еще» неполноправных), но и эти нормы обязательны для любого правоприменителя.
Однако из учебника в учебник переписывается текст якобы о действии нормативных актов «по кругу лиц», который когда-то адекватно отражал советскую действительность, но не имеет отношения к общей теории права.
Якобы это действие определяется кругом адресатов соответствующих законов — есть нормативные акты, под действие которых подпадают все, но есть и такие, которые распространяются только на граждан данного государства или только на некоторые категории лиц, к которым обычно относят «работников некоторых отраслей промышленности», «жителей Крайнего Севера» (интересно, есть ли таковые, например, в Италии?), военнослужащих, ветеранов войны (например в Швейцарии?), депутатов, судей, многодетных матерей и т. п. У неискушенного читателя может возникнуть впечатление, что на судей, депутатов или иностранных дипломатов не распространяются общие правовые запреты, так как их нельзя привлечь к уголовной ответственности, или что жизнь обитателей Крайнего Севера регулируется каким-то особым северным правом, или что есть целое военное сословие, внутри которого действует свое, военное право, и т. д.
Здесь следует различать два вопроса — о действии нормативных актов “по кругу лиц” и об адресатах правовых норм. Что касается первого, то в действительности такого вопроса просто нет. Ибо нормативные акты государства действуют не по “кругу лиц”, а по территориальному принципу. Они обязательны для всех лиц, находящихся на территории данного государства, за исключением тех, на кого распространяется принцип экстерриториальности. Что касается второго вопроса, то на него отвечает гипотеза правовой нормы.
Вопрос 45. Систематизация нормативных актов
• Систематизация права — официальная деятельность по упорядочению правоустановительных актов и текстов правовых норм.
Инкорпорация
Инкорпорация (простейшая систематизация, не является правоустановительной деятельностью) — это собрание («сведение», расположение в одной базе данных) правоустановительных актов по определенному основанию (по хронологическому или тематическому принципу); новый правоустановительный акт не издается. Например, в США в конце каждого года все акты конгресса сводятся воедино и публикуются в хронологическом порядке их принятия в «Полном собрании статутов Соединенных Штатов».
В другом собрании текстов — «Своде законов Соединенных Штатов» законоположения (а не сами законы) собираются по предметам их регулирования. Инкорпорация законоположений осуществляется по 50 титулам (разделам) Свода, которые, в свою очередь, делятся на главы и параграфы.
Структурно Свод представлен следующим образом: 1. Общие положения. 2. Конгресс. 3. Президент. 4. Флаг и печать, место нахождения правительства и штаты. 5. Правительственные органы и государственные служащие. 6. Официально признанные и не признанные (незаконные) ценные бумаги. 7. Сельское хозяйство. 8. Иностранцы и гражданство. 9. Арбитраж. 10. Вооруженные силы. 11. Банкротство. 12. Банки и банковское дело. 13. Перепись. 14. Береговая охрана. 15. Коммерческие отношения и торговля. 16. Консервация объектов природы. 17. Авторское право. 18. Преступления и уголовный процесс. 19. Таможенные пошлины. 20. Образование. 21. Продукты питания и медикаменты. 22. Международные отношения и связи. 23. Шоссейные дороги. 24. Больницы, приюты и места погребения. 25. Индейцы. 26. Налоговый кодекс. 27. Спиртные напитки. 28. Судебная власть и гражданский процесс. 29. Труд. 30. Земли, полезные ископаемые и добыча полезных ископаемых. 31. Денежное обращение и финансы. 32. Национальная гвардия. 33. Навигация и судоходные воды. 34. Флот. 35. Патенты. 36. Патриотические общества и правила, применяемые в них. 37. Жалованье и денежные выплаты в вооруженных силах и ряде иных служб. 38. Пенсии и льготы ветеранам. 39. Почтовая служба. 40. Государственные здания, имущество и общественные работы. 41. Государственные контракты. 42. Здравоохранение и благосостояние. 43. Государственные земли. 44. Государственное печатание и документы. 45. Железные дороги. 46. Судоходство. 47. Телеграф, телефон и радиотелеграф. 48. Территории и основные владения. 49. Транспорт. 50. Война и национальная оборона.
Из инкорпорируемых текстов исключаются ранее отмененные законоположения, но положения, признанные неконституционными или незаконными, сохраняются, с указанием решения компетентного суда об их неконституционности (незаконности). Поскольку инкорпорация проводится официально, на собрание инкорпорированных текстов можно ссылаться как на аутентичный текст.
Консолидация
Консолидация — официальное издание вместо нескольких правоустановительных актов одного нового — консолидированного. При этом все консолидируемые акты утрачивают силу. В ходе консолидации возможны отмена устаревших законоположений и установление новых.
Кодификация
Кодификация — переработка и обновление нормативно-правового материала, в результате которых издается собрание всех норм одной отрасли или подотрасли права (например, уголовный кодекс или гражданский процессуальный кодекс) или собрание всех основных (но не всех остальных) норм одной отрасли права (например, гражданский кодекс устанавливает, что другие нормы гражданского права не могут противоречить нормам гражданского кодекса).
Вопрос 46. Судебная практика и источники права
В правоустановительной деятельности так или иначе участвуют и законодатели, и суды, и ученые, создающие правовую доктрину. В исторически неразвитой правовой ситуации законодатель санкционировал первичные тексты, сформулированные доктриной, придавая им силу источников права. В современных развитых правовых системах доктрина уже не считается надлежащей формой для первичных правовых текстов. Первичный текст, сформулированный доктриной (de lege ferenda), может быть воспроизведен законодателем без существенных изменений, и, тем не менее, первичным юридическим текстом de lege lata является текст закона, а не доктрины. Далее, доктрина комментирует, интерпретирует, уточняет и конкретизирует законоположения с учетом практики применения закона. Но создаваемый таким образом вторичный правовой текст не считается источником права, поскольку сегодня уже не принято официально ссылаться на доктрину (неофициальное толкование права), хотя фактически судьи обращаются к помощи доктрины, особенно в сложных делах.
Судебная практика выступает не только как юрисдикционная деятельность, но и включает в себя правоустановительный элемент. В частности, и в странах общего права, и в романогерманском праве вторичными источниками права являются акты судебного толкования законов — первичных юридических текстов. Законодатель стремится сформулировать норму наиболее обобщенно, следовательно, делает ее менее точной и предоставляет судьям дискреционные полномочия в применении этой нормы. В целях большей определенности судебная практика уточняет нормы, сформулированные наиболее общим образом, причем верховные суды осуществляют контроль за тем, как нижестоящие суды толкуют закон. “В этих условиях норма, созданная законодателем, — это не более чем ядро, вокруг которого вращаются вторичные правовые нормы” (Р. Давид).
Правоустановительная деятельность судебной власти включает в себя создание источников права первичных (креативные прецеденты) и вторичных (прецеденты толкования, судебный обычай и нормативные акты судебной власти — акты нормативного толкования). С точки зрения разделения властей, правоустановительная деятельность судебной власти может осуществляться лишь в рамках ее специфической функции (юрисдикционной функции государства) — функции разрешения споров о нарушенном праве. Судебная власть в лице высших судов может принимать правоустановительные решения, не подменяя при этом законодателя и оставаясь в пределах судебных задач. Если нормотворческая деятельность высших судов осуществляется посредством абстрактного нормативного толкования конституции или закона, то они выступают уже не как суды, а как законодатели. Высшие суды могут наделяться правомочием нормативного толкования, но оно должно быть связано с разрешением конкретного спора о нарушенном праве, с судебной практикой. Иначе говоря, с точки зрения разделения властей, допустимо лишь конкретное (в частности инцидентное) нормативное толкование конституции или закона, в результате которого создается прецедент толкования или издается нормативный акт (например, постановление Пленума Верховного Суда РФ, в котором даются разъяснения по вопросам судебной практики). Вторичное конкретизирующее правоустановление, судебное “развитие права” (Rechtsfortbildung) является необходимым продолжением абстрактного законодательного нормотворчества.
Вопрос 47. Типология национальных правовых систем
• Современные национальные правовые системы генетически связаны либо с английским, либо с романо-германским правом, что и позволяет различать две основные правовые семьи. В отличие от позитивистского сравнительного текстоведения теория права должна объяснить различие правовых семей.
Существуют две правовые семьи — европейская континентальная правовая семья (ЕКПС), или страны романо-германского права, и семья общего (прецедентного) права, которую иногда называют семьей англосаксонского права. Последнее название неуместно, так как англосаксонским называется период в правовом развитии Англии (период «варварского законодательства»), предшествовавший нормандскому завоеванию и последующему формированию общего права.
Страны общего права — это Соединенное Королевство (шотландская правовая система автономна), Ирландия, а также и государства с развитой правовой культурой (страны с правовой традицией), созданные английскими колонистами: Канада (исключая Квебек в отношении частного права), США (несущественную специфику сохраняет правовая система Луизианы), Австралия и Новая Зеландия. В странах без настоящей правовой традиции или подчиняющих правовое регулирование религии или идеологии, в общественных и политических институтах таких стран влияние общего права сказывается в Индии, некоторых африканских странах — бывших британских колониальных владениях.
К странам романо-германского права относятся европейские континентальные страны (включая Турцию, постсоветские страны Восточной Европы, Россию), латиноамериканские страны — бывшие колонии Испании и Португалии, а также иные страны мира (например, Япония), которые в своем правовом развитии ориентируются на романо-германское право.
В странах ЕКПС основным видом источников права являются законы (нормативные акты), в странах общего права — судебные прецеденты. Это внешнее, наиболее очевидное принципиальное различие основных правовых семей. За ним скрываются различные способы формирования правовых норм и, в конечном счете, различия в юридическом мышлении. Различия эти связаны с историческим становлением соответствующих правовых систем.
Креативный судебный прецедент более характерен для исторически неразвитых правовых систем. Это суждение отнюдь не опровергается тем, что английское право и право США относятся к числу наиболее развитых правовых систем. Использование и сохранение судебного прецедента как основного источника права — это своего рода плата за исторически “слишком ранее” правовое развитие в Англии.
Английская правовая система самостоятельно проходит весь путь правового развития, который в свое время уже проделало римское право. Это путь от преимущественно индуктивного к преимущественно дедуктивному способу правоустановления или формирования правовых норм. В результате английская правовая система приходит к тому, что статутное право уже конкурирует с прецедентным.
Это не означает, что закон как источник права предпочтительнее судебного прецедента. Всегда существовали и будут существовать два взаимодополняющих способа формирования правоположений — дедуктивный и индуктивный (когда судья не находит подходящего прецедента, он должен извлекать из аналогичных прецедентов общее правило, которым следует руководствоваться для разрешения данного дела). В исторически развитых правовых системах преобладает дедуктивный способ, но индуктивный сохраняется, поскольку судебная практика всегда и везде выполняла и будет выполнять правоустановительную функцию. Поэтому доктрина в странах ЕКПС ныне признает правоустановительную роль судебной практики, и прецедент de jure признается источником права там, где он и был таковым de facto. Но это не значит, что в странах ЕКПС закон можно заменить прецедентами. То же самое следует сказать и о странах общего права: хотя в этих странах исторически возрастает роль закона, это не значит, что статутное право в итоге вытеснит прецедентное.
В классической английской правовой доктрине закон считался второстепенным источником права и не использовался как акт прямого действия. Согласно этой доктрине, законы лишь вносят дополнения и некоторые изменения в общее право или устанавливают исключения. Они не устанавливают новые принципы права, а лишь уточняют принципы, выработанные судебной практикой. «Общее право состоит не из отдельных прецедентов, а из общих принципов, которые разъясняются и иллюстрируются этими прецедентами» (лорд Мэнсфилд, XVIII век).
Законы создаются парламентом, представляющим нацию, и поэтому должны применяться судьями. Но при этом закон в Англии никогда не считался нормальной формой выражения права, был «инородным телом в системе английского права».
Судьи, конечно, применяют закон, но норма, которую он содержит, принимается окончательно, инкорпорируется полностью в английское право лишь после того, как она будет неоднократно применена и истолкована судами, и в той форме, а также в той степени, какую установят суды. В Англии всегда предпочтут цитировать вместо текста закона судебные решения, применяющие этот закон. Только при наличии таких решений английский юрист будет действительно знать, что же хотел сказать закон, так как именно в этом случае норма права предстанет в обычной для него форме судебного решения[55].
Что касается прецедентного права в странах ЕКПС, то примером здесь может служить правовое регулирование брачно-семейных отношений в Германии в 50-е годы.
Основной Закон ФРГ 1949 г. провозгласил принцип равноправия мужчины и женщины (абз. 2 ст. 3). Это потребовало внесения существенных изменений в законодательство, поскольку ГГУ не гарантировало этого равноправия. Поэтому вступление в силу названного принципа было отсрочено. В Переходных и заключительных положениях Основного Закона было установлено, что законодательство, противоречащее второму абзацу статьи 3, остается в силе впредь до приведения его в соответствие с Основным Законом, но не позднее 31 марта 1953 г. (абз. 1 ст. 117).
Но законодатель не уложился в срок, установленный Основным Законом. В этой ситуации Верховный суд ФРГ постановил, что отныне положение абз. 2 ст. 3 имеет прямое действие. Все законоположения, противоречащие принципу равноправия мужчины и женщины, утрачивают силу, и суд, сталкиваясь с такими положениями, должен непосредственно применять абз. 2 ст. 3 Основного Закона.
Наконец, в 1957 г. вступил в силу закон об уравнении в правах мужчин и женщин. К этому времени в судебной практике ФРГ, в процессе самостоятельного судейского толкования принципа равноправия мужчины и женщины, в основном уже сформировалось новое семейное право. При подготовке закона об уравнении в правах законодатель опирался на ряд основополагающих норм, сформулированных Верховным Судом ФРГ в период 1953–1956 гг. в решениях по брачносемейным делам. По существу, это были креативные судебные прецеденты, сила которых поддерживалась авторитетом Верховного Суда.
Следует подчеркнуть, что это пример фактического прецедентного права: ни конституционное законодательство ФРГ, ни процессуальный обычай не обязывают немецкие суды ссылаться на прецедент. Эти прецеденты восполняли пробел в законодательстве, возникший в условиях радикальной правовой реформы. Разумеется, после принятия соответствующего закона немецкие суды ссылались уже не на прецеденты Верховного Суда, а на нормы закона.
То же самое происходило и в других странах ЕКПС в аналогичных ситуациях. Суды ссылаются на прецеденты постольку, поскольку нет соответствующих законов. Но после принятия закона суды ссылаются уже на закон. В этом особенность стран ЕКПС, отличающая их от стран общего права.
Отсюда ясно, что такого рода креативные прецеденты не заменяют закон. Речь идет о взаимодополняемости индуктивного и дедуктивного способов формирования нормы права: новые нормы, выработанные судебной практикой, на основе частных случаев, в странах ЕКПС обобщаются законодателем.
Но вот пример другого рода. В России прецеденты толкования, установленные пленумом или палатами Конституционного Суда РФ, формально обязательны для палат этого суда. Пленум вправе установить новый прецедент вместо установленного ранее.
Правовые и неправовые культуры. Наука сравнительного правоведения (“юридическая компаративистика”) со своей позиции различает, прежде всего, страны романо-германского права и общего права как основные правовые семьи, а также еще несколько правовых семей, или правовых кругов, за пределами двух основных правовых семей. Но с точки зрения теории права романогерманская и “примыкающие” к ней семьи, различаемые в компаративистике (например, латиноамериканское право), не имеют существенных правовых различий, и поэтому они являются составными частями ЕКПС. Теория права не занимается страноведением; поэтому те правовые различия, которые компаративистам представляются существенными, не являются таковыми с точки зрения теории, оперирующей более общими категориями, нежели компаративистика. Другие семьи, выделяемые компаративистикой, действительно имеют существенные отличия от романогерманского и англо-американского права, но это — не правовые отличия.
Традиционное господство в компаративистике позитивистских подходов к праву, пагубное стремление компаративистов везде найти право, а если его нет, то выдать за “право” или хотя бы назвать “правом” что-то совсем другое, нечто неправовое, подменяющее право (В.С. Нерсесянц).
В рассматриваемой науке, сложившейся под влиянием позитивизма с его вульгарным эмпиризмом и феноменализмом, правом считаются любые нормы, действующие в обществе, если они установлены или санкционированы властью. В том виде, в котором компаративистика существует сегодня, она безосновательно именуется юридической. В действительности это легистско- социологическая компаративистика. Она чрезмерно расширяет объект типологии, рассматривает как особые правовые системы такие системы социального регулирования, которые имеют неправовые и даже антиправовые особенности. Она называет “особым правом” то, что в действительности правом не является, например, “религиозное право” или “социалистическое право”.
“Социалистическое право” (тоталитарное законодательство) противостоит праву вообще, и его нельзя ставить в том же ряду, в котором различаются общее право и романо-германское право. К тому же в конце ХХ века “социалистическое право” кончилось.
Право и религия конкурируют, право не может быть религиозным, а религия не может быть правовой. Чем более религиозной является культура, тем менее она развита в правовом отношении, и, наоборот, наиболее развитая правовая культура должна быть преимущественно атеистической.
Именно Западная Европа стала наиболее развитой правовой культурой, поскольку в Новое время здесь восторжествовал атеизм. По существу Запад уже давно является “постхристианским”.
Все началось с протестантизма, отрицавшего посредническую роль священнослужителей в отношениях человека с Богом. С юридической точки зрения, это был протест правовой свободы, стесненной рамками религии, против власти священнослужителей: прогрессирующее правовое сознание отвергло социально-регулирующую роль церкви. Последовавшие затем религиозные войны можно расценивать как крайнюю форму борьбы сознания религиозного и правового. Последнее победило. Дальнейший прогресс правовой свободы выразился в официальном признании веротерпимости.
Но веротерпимость есть не что иное как первое проявление атеизма. Веротерпимость возможна лишь в сознании атеистическом, равноудаленном от любой религии: если вы веруете в “истинного Бога” и одновременно допускаете, что ближние вправе “заблуждаться в вере”, то вы впадаете в логическое противоречие, низводите своего “истинного Бога” до уровня “нечистых идолов”, а себя, правоверного, ставите в один ряд с еретиками. Такое возможно только в том случае, если в действительности вы не знаете никакой “истинной веры”. Тогда, рано или поздно, вы перестанете относиться к религии серьезно. Следующие же поколения, самое большее, будут лишь отдавать дань уважения культурной традиции, формально относя себя к той или иной конфессиональной группе.
Религиозное сознание не признает свободу вероисповедания; правовое же сознание, по мере его развития, закономерно приходит к веротерпимости, следовательно, становится атеистическим. Религиозное сознание отрицает правовую свободу, неважно — христианское оно, мусульманское, иудейское и т. д.
В ситуации конкурирующего регулирования (столкновение религиозного и правового способов соционормативной регуляции) человек, формально свободный — как субъект права, одновременно подчиняется авторитету священнослужителей, определяющих, как именно надлежит использовать возможности правовой свободы.
С юридической точки зрения, специфика стран “религиозного права” состоит не в том, что право у них — какое-то “неевропейское” и поэтому несовместимое с правами человека в западном понимании или просто “неправильное”. Специфика в том, что правовая культура в этих странах неразвитая, т. е. ценности индивидуальной свободы и равенства в свободе не являются основополагающими для этой культуры в ее современном состоянии. Например, если в странах “мусульманского права” существует неравноправие мужчин и женщин, мусульман и немусульман, если регламентируется даже сексуальная жизнь человека (и “прелюбодеяние” наказывается “побиванием камнями”), то это не потому, что такова специфика религии ислама, а потому, что право здесь неразвито — подобное было и в “христианском праве” (и в римском праве), когда западная правовая культура была неразвитой.
Вопрос 48. Виды толкования права
• Толкование — это уяснение и разъяснение смысла текста. Толкование юридических текстов иначе называется толкованием права и включает в себя уяснение и разъяснение не только текстов о нормах, то также и договоров и индивидуальных актов.
• Основную роль в толковании играет субъект толкования (интерпретатор). Последнего нужно отличать от автора толкуемого текста. Автор нормативного юридического текста, например законодатель, не может быть его интерпретатором.
В зависимости от субъектов толкования различают официальное и неофициальное толкование права. Официальное толкование порождает обязательные правовые последствия — либо последствия erga omnes (нормативное толкование), либо только последствия inter partes (казуальное толкование). Нормативное толкование может быть конкретным и абстрактным, причем последнее — это по существу замена одного нормативного текста другим.
Официальное толкование юридических текстов либо происходит в процессе правоприменения, либо, как абстрактное нормативное толкование, в рамках специальной процедуры (нормативное толкование должно осуществляться по конкретному поводу, а не вообще “в связи с обнаружившейся неопределенностью” в понимании юридического текста).
“Аутентичным” (“аутентическим”) в советской и постсоветской литературе называют толкование, которое якобы дает сам автор юридического текста. Например, официальное толкование закона, которое дает сам законодатель — это аутентичное толкование. Предполагается, что законодателю не требуется специальное законное дозволение, чтобы толковать свой же закон. Соответственно “легальным” называется такое официальное толкование, которое дает другой субъект, не тот, который установил закон или иной толкуемый акт. Также предполагается, что такой субъект должен обладать особым “легальным основанием” для того, чтобы заниматься официальным толкованием права. “Легальное” толкование именуется также “делегированным”. Это означает, что автор текста, который якобы обладает прерогативой официального толкования своего текста, делегирует это полномочие другому субъекту.
В действительности “аутентичного” толкования не бывает. Сама конструкция “аутентичного толкования” свидетельствует о непонимании вопроса. Автор не может быть интерпретатором собственного произведения. Если автор некоего текста создал новый текст, в котором предписал “правильное” понимание первого текста, то это значит, что он попросту создал новый объект для толкования интерпретаторами. Если правоустановительный орган считает, что смысл изданного им нормативного акта недостаточно ясен или искажается правоприменителями, он может внести изменения в этот акт, дополнить его дефинициями и даже издать новый нормативный акт, разъясняющий положения первого. Но он не может обязать правоприменителей (интерпретаторов) толковать свои акты только так, как ему угодно. Например, не исключено, что законодатель будет требовать такого толкования и применения закона, которое суды сочтут противоречащим конституции.
Отсюда ясно, что и понятие “легальное толкование” не имеет смысла. Уже сам термин “легальное толкование” следует признать негодным. Ибо официальное толкование не может быть нелегальным. Во-вторых, это понятие используется в паре с понятием “аутентичного” толкования; предполагается, что государственный орган дает толкование нормативных актов в силу того, что он вправе их издавать, либо в силу закона, наделяющего его таким полномочием. Но поскольку “аутентичного” толкования не существует, получается, что для любого официального толкования необходимо законное основание.
Однако последнее не означает, что толковать право можно лишь в силу специального законного дозволения. В этом контексте следует различать казуальное и нормативное толкование. Казуальное толкование осуществляется государственными органами в силу их правоприменительной компетенции, а также в силу общей обязанности исполнительных и судебных органов применять право, например, действовать на основании и во исполнение конституции и законов.
Казуальное толкование бессмысленно называть легальным или делегированным, ибо это имманентное толкование. Оно внутренне присуще процессу правоприменения, и правоприменитель не нуждается ни в каком специальном законном дозволении для казуального толкования.
Нормативное же формально возможно только в силу конституции или закона, и в этом смысле его можно называть легальным. Но фактически оно происходит и в силу иерархии судов, т. е. в силу того, что разъяснения высшей апелляционной или надзорной судебной инстанции de facto обязательны для остальных судов. В правовом государстве они обязательны для всех субъектов права, поскольку последнее слово в вопросах права остается за судом. “Легальное толкование” — это неудачный термин. Получается, что фактическое нормативное толкование, вроде разъяснений по вопросам судебной практики, которое дает, например, Верховный Суд РФ, — это “нелегальное” толкование.
Термин “делегированное толкование” понятен лишь, если признавать “аутентичное” толкование: первично “аутентичное” толкование закона, оно не нуждается в специальном дозволении (а fortiori); когда же толкует не законодатель (автор), а иной субъект, то последнему для нормативного толкования требуется дозволение от автора, т. е. законодатель должен делегировать свои полномочия по толкованию.
По объему толкования в доктрине различаются буквальное, расширительное (распространительное) и ограничительное толкование. Их принято рассматривать в качестве видов толкования права. Но в данном контексте речь должна идти скорее о способах толкования.
Имеются в виду следующие соображения. Как правило, текст закона нужно понимать буквально. Отсюда и возникает выражение “буквальное толкование”[56]. Хотя здесь можно говорить и о грамматическом способе толкования (чтобы правильно понять текст, достаточно грамотно его прочитать). Но иногда из самого текста закона с очевидностью вытекает, что некоторые законоположения нельзя понимать буквально. Это бывает в тех случаях, когда законоположение сформулировано так, что буквальное его понимание приведет к ошибочному толкованию (это должно с очевидностью вытекать уже из логического толкования). В этих случаях говорят о необходимости расширительного (распространительного) или ограничительного толкования соответствующих законоположений.
Это не значит, что интерпретатор расширяет или ограничивает права и обязанности, предусмотренные диспозицией, что он распространяет норму на отношения, не предусмотренные ее гипотезой, или, наоборот, ограничивает ее действие. Просто интерпретатор приходит к обоснованному выводу, что действительный смысл законоположения иной нежели тот, который можно было бы придать тексту при буквальном его толковании. Интерпретатор не вправе расширять или ограничивать смысл законоположений, он должен правильно уяснить и точно разъяснить их действительный смысл.
Ограничительным толкованием называется такое понимание законоположения, при котором его действительное содержание оказывается уже того, которое, казалось бы, вытекает из этого законоположения. Так, конституционное положение “Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации” (ч.2 ст.4 Конституции РФ) при буквальном толковании означает безусловное верховенство федеральных законов по отношению к законам субъектов РФ. В то же время Конституция устанавливает разграничение федеральной компетенции и компетенции субъектов Федерации (ч. 3 ст. 5) и определяет, что федеральные законы, изданные за пределами федеральной компетенции, уступают по силе законам субъектов РФ (ч. 6 ст. 76). Поэтому положение ч. 2 ст. 4 Конституции подлежит ограничительному толкованию (точнее — прочтению): имеют верховенство федеральные законы, изданные с соблюдением федеральной компетенции.
Иногда законоположения, содержащие общие нормы, формулируются так, как будто бы не предполагают наличие специальных норм (не содержат оговорку “если иное не установлено законом”). Такие законоположения подлежат ограничительному толкованию, если есть законоположения, содержащие специальные нормы.
Расширительным (распространительным) толкованием называется такое, при котором законоположению придается более широкое содержание в сравнении с тем, которое, на первый взгляд, вытекает из этого законоположения. Например, нередко термин “гражданин” (“граждане”) используется в тексте закона тогда, когда явно имеются в виду не только граждане, но и любые физические лица (в гражданском законодательстве термин “гражданин” используется как синоним термина “физическое лицо”). Так, согласно ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, Конституционный Суд РФ проверяет конституционность закона “по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан”. Буквальное понимание этого конституционного положения лишило бы неграждан России доступа к конституционному правосудию, а это противоречит равному праву каждого на судебную защиту. Более того, есть доктринальное правило толкования, которое гласит, что из двух допустимых вариантов толкования следует выбирать тот, который дает большую защиту прав человека. Поэтому названное конституционное положение очевидно распространяется на всех физических лиц.
Более сложный пример расширительного толкования связан с тем же конституционным положением: Конституционный Суд “проверяет конституционность закона”. На первый взгляд, использование термина “закон” исключает конституционные жалобы граждан на указы Президента РФ. Предполагается, что подзаконные указы Президента можно обжаловать в другом компетентном суде. Но указы Президента могут быть и неподзаконными, восполняющими пробелы в законодательстве, имеющими силу федерального закона (см. 13.3.4.). Учитывая, что сам Конституционный Суд признал возможность издания таких указов, следует дать расширительное толкование термина “закон” в контексте ч.4 ст.125 Конституции, распространяющееся и на неподзаконные указы Президента.
Во всех перечисленных случаях речь шла об адекватном толковании права, т. е. о таком толковании, которое наиболее соответствует юридическому смыслу закона. Как правило адекватное толкование достигается при буквальном понимании законоположений, но иногда для адекватного толкования требуется их расширительное или ограничительное понимание. Таким образом, нельзя отождествлять буквальное и адекватное толкование, нельзя противопоставлять адекватному толкованию расширительное и ограничительное. Толкование всегда должно быть адекватным — адекватным тому контексту, в котором применяются законоположения.
В неофициальной оценке официального толкования следует руководствовать презумпцией адекватного официального толкования — до тех пор, пока официально не дано иное толкование. Во всяком случае, такая презумпция существует в правовом государстве.
А вот судья-американин, уясняющий волю законодателя, скованный одной цепью с Дядей Сэмом, банковским капиталом, китайским импортом и нефтяными гигантами… Отцы-основатели в отстое.
Вы спросите, а чево хочут сторонники свободного толкования? А я вам покажу.
Вот как нужно толковать закон:
Или вот так
Вопрос 49. Способы толкования права
• Со времен К.-Ф. Савиньи различаются четыре основных способа толкования права: грамматический, логический, исторический и телеологический.
Грамматический (языковой, лингвистический) — это самый простой и вместе с тем основополагающий способ толкования. Толкование права всегда начинается с грамматического. Принцип грамматического толкования гласит: чтобы правильно понять смысл текста, нужно грамотно его прочитать. Для этого нужно знать язык, на котором сформулирован текст, смысл слов и выражений, использование правил языка. Классический пример грамматического толкования дает грамотное прочтение фразы “казнить — нельзя — помиловать”. В зависимости от места запятой смысл фразы меняется на противоположный.
Смысл законоположений может быть разным в зависимости от использования той или иной морфологической формы, от употребления слова в единственном или множественном числе и т. д. Например, в ч. 1 ст. 5 Конституции РФ перечислены виды субъектов Российской Федерации. Причем положения этой статьи, как и все положения главы первой Конституции, не могут быть изменены поправками в Конституции. Текст этот гласит: “Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов…”. Как видно, названия пяти видов субъектов РФ употреблены во множественном числе, а название “автономная область” — в единственном. Таким образом, грамматическое толкование этого конституционного положения приводит к выводу, что в России есть только одна автономная область.
Однако в действительности для такого вывода было использовано не только грамматическое, но и логическое толкование (как правило, ни один из способов толкования не применяется изолированно от других, а логический способ так или иначе используется при любом толковании). Данный вывод был сделан на основе грамматического толкования с использованием логических приемов — сопоставления и вывода от противного: если бы в России было множество автономных областей, то название “автономная область” было бы употреблено во множественном числе, как и названия других видов субъектов РФ.
Дополнение данного толкования системно-логическим, требующим избегать противоречий в толкуемом тексте и учитывать системную связь, в данном случае, норм Конституции, позволяет существенно расширить вывод, сделанный на основе грамматического толкования. Поскольку это конституционное положение не может быть изменено, то, покуда действует Конституция РФ 1993 г., в России может быть и должна быть одна и только одна автономная область. В ст. 65 Конституции названа Еврейская автономная область. В силу Российской Конституции она не может изменить свой статус, например стать республикой, если только одновременно какая-то республика в составе России не станет автономной областью. Такие интересные выводы можно сделать на основе грамматического толкования.
Неясное законоположение подвергается разным логическим операциям (выводы по аналогии, выводы от противного, доведение до абсурда и т. д.), включая системно-логический анализ (в учебной литературе системное, или системно-логическое, толкование обычно отграничивают от “собственно логического”, хотя для этого нет оснований).
Доведение до абсурда (reductio ad absurdum) — один из наиболее распространенных приемов логического толкования неверно сформулированных законоположений. Например, положение ст. 25 Конституции РФ гласит: “Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения”. Грамматическое толкование этого текста позволяет сделать вывод, что неприкосновенность жилища может быть ограничена либо федеральным законом, либо судебным решением. Но такой вывод будет неверным. Если ограничиться грамматическим толкованием данного текста, то легко прийти к абсурду: проникновение в жилище против воли проживающих в нем лиц может быть либо законным (в этих случаях не нужна судебная санкция), либо незаконным, если оно санкционировано судом (?!). Абсурдно полагать, что Конституция дозволяет суду ограничивать права человека в случаях, не установленных федеральным законом. Следовательно, логическое толкование опровергает вывод грамматического толкования. Дальнейшее толкование данного текста, с учетом других конституционных положений, приводит к выводу, что, по Конституции, федеральным законом могут быть предусмотрены случаи, в которых судебной санкции не требуется, а в остальных случаях, установленных федеральным законом, неприкосновенность жилища может быть ограничена только на основании судебного решения.
Еще один распространенный прием логического толкования — умозаключение степени (a fortiori, “тем более”). При толковании юридических текстов умозаключение степени выражается в виде правила: кто управомочен или обязан к большему, тот управомочен или обязан к меньшему. Разумеется, оно не означает, что компетенция вышестоящего государственного органа (“большая компетенция”) поглощает собой компетенцию нижестоящего органа (“меньшую компетенцию”), установленную конституцией или законом. В правовом государстве никакой орган государственной власти не вправе вторгаться в компетенцию других органов, даже нижестоящих. Это правило используется тогда, когда при толковании обнаруживается пробел в описании компетенции или коллизия компетенции.
Например, Конституция РФ устанавливает, что генеральный прокурор РФ назначается на должность и освобождается от должности Советом Федерации по представлению Президента РФ (ч. 2 ст. 129). Но ни Конституция, ни федеральный закон не определяют, какой орган управомочен и обязан принимать решение о временном отстранении Генерального прокурора от должности в случае возбуждения в отношении него уголовного дела. Руководствуясь принципом a fortiori, следует полагать, что принимать (или не принимать) такое решение компетентен Совет Федерации по представлению Президента. Правда, Конституционный Суд РФ дал совершенно иное толкование.
Когда грамматически верное прочтение текста (законоположения) приводит к выводу, который не согласуется с другими законоположениями или противоречит принципу права, можно предположить, что автор текста не нашел надлежащей формулировки, для того чтобы грамматически верно выразить свой замысел. Допустимость такого предположения проверяется логическим путем — от противного. Для этого нужно найти в том же тексте аналогичное законоположение. Если в нем использована грамматически надлежащая формулировка, то предположение опровергнуто: грамматическое толкование было верным, и автор выразил в законоположении именно то, что он хотел выразить. Но если аналогичного законоположения нет или в нем использована подобная, предположительно ненадлежащая формулировка, то предположение остается в силе. Далее его следует подтвердить или опровергнуть другими логическими приемами или другими способами толкования. Примером такого использования вывода от противного может служить толкование ч. 3 ст. 107 Конституции РФ.
Системно-логическое толкование позволяет уяснить смысл отдельного законоположения в контексте закона как смыслового целого или в более широком юридическом контексте. Системность права предполагает непротиворечивость результатов толкования юридических текстов. Во-первых, смысл одних положений толкуемого текста не должен противоречить смыслу других положений этого же текста. Во-вторых, любой юридический текст следует толковать так, чтобы результат не противоречил релевантному юридическому тексту, имеющему более высокую или высшую официальную силу. Например, закон или международный договор нужно толковать так, чтобы он не противоречил конституции. Следует толковать подзаконный нормативный акт так, чтобы это не противоречило закону, и при этом понимать закон в соответствии с релевантными положениями конституции.
На примере Конституции РФ можно продемонстрировать требование непротиворечивости и в первом, и во втором значениях.
Конституция в целом имеет высшую юридическую силу по отношению ко всем остальным нормам российского права. Но положения, содержащиеся в разных главах Конституции, имеют разную юридическую силу внутри самой Конституции (в смысле их соподчиненности). Главы 1, 2 и 9 Конституции составляют ее неизменяемое “ядро” (“жесткая” часть Конституции), их положения не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием (российским парламентом). К главам 3–8 (“гибкая” часть Конституции) принимаются поправки. Следовательно, положения глав 3–8 можно толковать только в соответствии с положениями глав 1, 2 и 9 Конституции. Причем положения глав 2 и 9 можно толковать только в соответствии с принципами, составляющими основы конституционного строя (глава 1), ибо ч.2 ст.16 Конституции однозначно устанавливает: “Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации”.
В данном контексте иерархическую структуру Конституции можно представить как положения трех уровней, обладающие разной официальной силой. Во-первых, это глава 1, положения которой обладают высшей силой по отношению ко всем остальным положениям Конституции. В частности, основы конституционного строя устанавливают приоритет прав человека по отношению ко всем остальным конституционно значимым ценностям (ст.2 Конституции). Во-вторых, это положения глав 2 и 9, которые вместе с главой 1 относятся к неизменяемой части Конституции. В- третьих, это положения глав 3–8, к которым можно принимать поправки.
Любое положение глав 2 и 9 следует толковать с учетом соответствующего принципа главы 1. Например, в контексте ст.2 Конституции, закрепляющей приоритет прав человека, рассмотренную выше ст.25 Конституции (глава 2) следует понимать так, что законодательные ограничения неприкосновенности жилища должны устанавливаться ради обеспечения прав и свобод других лиц.
Положения глав 3–8 Конституции также следует толковать в контексте принципов главы 1, а также положений глав 2 и 9. Например, в главе 4 Президент РФ провозглашается главой государства. Это положение нельзя толковать так, как будто Президент — реальный глава государства. Такое толкование противоречит принципу разделения властей, составляющему одну из основ конституционного строя (ст. 10 Конституции). Ибо фигура реального главы государства исключает разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную.
Положения, содержащиеся в одной и той же главе Конституции или в главах равной силы нужно толковать так, чтобы они не противоречили друг другу. Например, в рамках главы второй, с одной стороны, гарантируется равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от имущественного положения (ч. 2 ст. 19 Конституции). С другой стороны, говорится, что малоимущим гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных и других жилищных фондов (ч. 3 ст. 40). С системно-логической точки зрения возможно только следующее непротиворечивое толкование: поскольку граждане равноправны независимо от имущественного положения, законодатель не обязан (в юридическом смысле) устанавливать для малоимущих привилегии.
Историческим называют толкование текста в историческом контексте его создания, формулирования. Этот контекст юридического текста можно уяснить, (1) обратившись к историографическим источникам (документам), которые объясняют условия и причины, поводы создания толкуемого текста, (2) либо из документов, которые относятся к процессу создания юридического текста — из протоколов законотворческого процесса, пояснительных записок к законопроектам и т. д.
Историческое толкование используется в двух случаях. Во-первых, оно сочетается с грамматическим толкованием. Грамматическое толкование старого юридического текста должно происходить по правилам, принятым во времена создания этого текста, так как со временем изменяются грамматические формы, смысл слов и выражений. Когда интерпретатор сталкивается со текстом старого закона, он должен, для грамотного прочтения текста, обратиться к протоколам заседаний того законодательного собрания, которым был принят этот закон. Из них будет ясен смысл слов и выражений, использованных в тексте закона. Кроме того, эти источники помогут уяснить смысл закона, сложного даже с точки зрения интерпретатора, знающего старый язык.
В современных развитых правовых системах такие случаи, когда в юридической практике приходится применять и толковать столь старые тексты, встречаются крайне редко. Такого рода историческое толкование используют, главным образом, историки. Но смысл специальных юридических терминов может измениться и в течение непродолжительного времени, особенно, в результате правовой реформы.
Например, в ч. 1 ст. 93 Конституции РФ установлено, что Президент РФ может быть отрешен от должности на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Для правильного толкования термина “тяжкое преступление” необходимо обратиться к Уголовному Кодексу РСФСР 1961 г., действовавшему на момент принятия Конституции 1993 г. В УК 1961 г. в качестве “тяжких преступлений” выделялась категория преступлений наибольшей степени тяжести. Однако по действующему ныне УК РФ 1996 г. преступления подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. Понятно, что сегодня “тяжкими преступлениями” в смысле ч. 1 ст. 93 Конституции нельзя считать “тяжкие преступления” в смысле УК РФ 1996 г. Историческое толкование приводит к выводу, что авторы текста Конституции имели в виду категорию преступлений наибольшей степени тяжести, а таковыми в смысле действующего ныне УК РФ являются особо тяжкие преступления. Следовательно, “тяжкими преступлениями” в смысле ч. 1 ст. 93 Конституции нужно считать “особо тяжкие преступления” в смысле УК РФ 1996 г.
Во-вторых, историческое толкование используется тогда, когда нужно подтвердить или опровергнуть тезисы логического толкования или объяснить смысл текста, который логически плохо укладывается в более широкий юридический контекст.
Допустим, интерпретатор предполагает, что законодатель не смог подобрать надлежащую формулировку для выражения своей мысли, и не находит в тексте закона опровержений своего предположения. В таком случае он должен обратиться к материалам законотворческого процесса, которые могут подтвердить или опровергнуть это предположение.
Когда интерпретатор считает, что некое законоположение не укладывается в логический контекст закона, то историческое толкование может объяснить происхождение этого законоположения и его смысл. Например, в главу 7 Конституции РФ (“Судебная власть”) помещена статья 129 — о прокуратуре. Возникает впечатление, что Конституция относит прокуратуру к судебной власти. В то же время из главы 7 явствует, что правосудие осуществляется только судом, а судебная власть осуществляется исключительно посредством судопроизводства. Следовательно, прокуратура не относится к судебной власти. Этот вывод подтверждается историческим толкованием. Первоначально в проекте Конституции статьи о прокуратуре были выделены в отдельную главу. Но непосредственно перед опубликованием проекта было принято решение, что компетенция прокуратуры будет регламентирована не Конституцией, а федеральным законом; вместе с тем в Конституции должна оставаться общая статья о прокуратуре. Эту статью поместили в главу “Судебная власть”. Ибо, во-первых, институт прокуратуры имеет столь же малое отношение к другим главам Конституции, а, во-вторых, в постсоветском сознании суд и прокуратура тесно связаны, так как при советской власти оба института были элементами единой карательной системы, и советский суд лишь завершал то, что начинала прокуратура. Таким образом, наличие в главе о судебной власти статьи о прокуратуре никак не влияет на конституционное положения об осуществлении судебной власти только судом. Прокуратура же относится к исполнительной власти.
Иногда историческое толкование может показать, что наличие некоего законоположения равносильно его отсутствию. Так, в ст.8 Конституции РФ содержится тривиальное положение о том, что “в Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств…”. Возникает вопрос: разве в рамках государства, каковым провозглашается Россия, возможно иное? Может быть это конституционное положение имеет некий скрытый смысл? Но историческое толкование объясняет, что это положение ничего не добавляет к суверенитету Российской Федерации. Оно появилось в тексте Конституции как проявление болезненной реакции на центробежные тенденции, которые в 1993 г. разрушали экономическое и финансовое единство России и угрожали самому существованию Российского государства.
Телеологическое (принципное) — это толкование на основе интенции текста — замысла, целей, намерений автора текста или принципов, ценностей, которыми руководствовался автор толкуемого текста. Телеологический способ используется при толковании неоднозначных текстов, когда другие способы толкования не позволяют уяснить смысл законоположения.
Автору закона (юридического текста) не всегда удается подобрать формулировки, точно выражающие замысел, интенцию закона. Если законоположение сформулировано так, что оно допускает разные версии толкования, а грамматический, логический и исторический способы толкования не позволяют выбрать одну из версий в качестве адекватного толкования, то интерпретатор должен придерживаться той версии, которая соответствует интенции закона.
Самое сложное при телеологическом толковании — уяснить интенцию закона или законоположения. Разные интерпретаторы могут определять ее по-разному, тем более что позитивисты допускают произвольную интенцию юридических текстов.
Но, с точки зрения либертарно-юридической доктрины, интенция юридического текста не может быть произвольной, ибо юридический текст формулируется, составляется в целях надлежащего обеспечения правовой свободы (in dubio pro libertate — сомнение толкуется в пользу свободы).
Проще, когда принципы, на которых строится толкуемый текст сформулированы в самом этом тексте. Например, ч. 3 ст. 81 Конституции РФ устанавливает, что одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ более двух сроков подряд. Что означало это ограничение для первого Президента России Б.Н. Ельцина? Мог ли Ельцин, избиравшийся Президентом в 1991 г. (по Основному Закону РФ 1978 г.) и в 1996 г. (по Конституции РФ 1993 г.) баллотироваться на должность Президента в 2000 г.? С точки зрения конституционных принципов республиканизма — нет.
Логически возможны два варианта толкования Конституции. Первый: Ельцин уже два раза подряд занимал должность Президента, предусмотренную Конституцией 1993 г. — до 1996 г. и с 1996 г., когда он впервые был избран в соответствии с Конституцией 1993 г. Второй: Ельцин только один раз был избран Президентом по Конституции 1993 г.; следовательно, в 2000 г. Ельцин мог бы быть избран Президентом на второй срок подряд.
Логически оба варианта допустимы в равной мере. Против первого варианта можно возразить, что первый срок президентства Ельцина по Конституции 1993 г. составил лишь 2,5 года, а не 4 года, предусмотренные Конституцией. Против второго — что Конституция запрещает не избираться, а занимать должность Президента более двух сроков подряд.
Один из принципов республиканизма — срочность (краткосрочность) магистратур — означает, что один и тот же человек не должен долго занимать одну и ту же выборную должность. Поэтому из двух логически равнозначных вариантов принципам республиканизма более соответствует тот, который больше ограничивает возможность одного и того же лица занимать должность Президента, в данном случае — первый. Следовательно, принципное толкование ч. 3 ст. 81 Конституции приводит к выводу, что Ельцин в 2000 г. не мог бы баллотироваться на должность Президента.
Вопрос 50. Юридическая и политическая ответственность. «Конституционная ответственность»
• Принцип политической ответственности — произвольная оценка деятельности сменяемых публично-властных акторов.
• Эта оценка может иметь для них негативные последствия в тех случаях, когда они не совершали правонарушения и нет никаких оснований для их юридического преследования, но может быть позитивной, несмотря на выдвигаемые против них уголовные обвинения, которые могут казаться очевидными.
Попытки обоснования конституционно-правовой ответственности как самостоятельного вида юридической ответственности, наряду с уголовной, административной и гражданско-правовой, вызваны целым комплексом причин, к которым относятся:
а) потестарное правопонимание, отождествление права и закона; например, сторонники категории конституционно — правовой ответственности, ничтоже сумняшеся, называют «конституционно-правовой санкцией» лишение гражданства, хорошо им известное из советского прошлого;
б) убежденность в трехзвенной структуре правовой нормы и, как следствие, стремление найти правовые санкции там, где их заведомо не существует:
Конституционное право не устанавливает юридическую ответственность. Оно лишь регулирует отношения политической ответственности. Последняя означает подотчетность и подконтрольность лиц, замещающих должности в высших государственных органах, политическим субъектам, формирующим эти органы. Политическая ответственность — это, прежде всего, оценка фактической государственной деятельности отдельных граждан (политиков) или политически организованных групп (например, парламентское большинство). В отличие от юридической ответственности, необходимым условием политической ответственности не является правонарушение, а для субъекта политической ответственности не наступают негативные правовые последствия. В частности, при либерально-демократическом режиме отставка политиков — это нормальное явление.
Политическая ответственность включает в себя, во-первых, ответственность политиков, избираемых в парламент или на должность президента, перед избирателями. Такая ответственность означает, что избиратели на очередных выборах оценивают деятельность лиц, занимавших выборные государственные должности, и партий, участвовавших в осуществлении государственной власти. По итогам очередных выборов эти лица и партии либо сохраняют, либо утрачивают, либо усиливают свои позиции в выборных государственных органах, либо избираются, либо не избираются на новый срок. Во-вторых, это политическая зависимость состава назначаемого государственного органа от назначающего политического субъекта. Последний решает вопрос об отставке (освобождении от должности) соответствующих должностных лиц. Так, в парламентарных странах нижняя палата парламента (парламентское большинство) решает судьбу ответственного перед ней правительства. В России по Конституции 1993 г. правительство несет политическую ответственность только перед президентом, а генеральный прокурор несет политическую ответственность перед верхней палатой парламента, если президент инициирует освобождении от должности Генерального прокурора.
Импичмент и лишение неприкосновенности
От конституционной политической ответственности следует отличать лишение неприкосновенности и отстранение от должности в порядке импичмента. Эти конституционные процедуры связаны с юридической ответственностью, но они лишь предшествуют возможному привлечению лица к юридической ответственности.
Так, гражданин, являющийся депутатом парламента, может быть обвинен в совершении преступления, и по результатам голосования в парламенте он может быть лишен депутатской неприкосновенности с целью привлечения его к уголовной ответственности. Но он не несет политической ответственности перед парламентом, и другие депутаты не вправе лишить его неприкосновенности на основании лишь своей политической оценки его деятельности.
Так же отрешение от должности президента в порядке импичмента (в президентской республике) не является политической ответственностью президента перед парламентом. Подчеркнем, что и политическую, и юридическую ответственность может нести не президент (юридическое лицо), а гражданин, избранный на должность президента. Поэтому некорректны используемые для краткости формулировки официальных текстов типа «президент может быть отрешен от должности…» (от какой должности?).
Гражданин, избираемый народом на должность президента, несет политическую ответственность только перед избирателями. Он обладает неприкосновенностью, пока является президентом. Но если есть достаточные основания обвинить его в преступлении, то он может и должен быть подвергнут уголовному преследованию, как и депутат парламента; противное означало бы нарушение равноправия. Однако недостаточно лишить его неприкосновенности подобно лишению депутатского иммунитета, ибо, как глава исполнительной власти, он может и без иммунитета эффективно противодействовать уголовному преследованию. Поэтому необходимо отстранение от президентской должности.
Парламент вправе отстранить гражданина от должности президента только в целях привлечения к юридической ответственности. Не исключено, что обвинение будет иметь чисто политическую подоплеку. Поэтому в российской конституции предусмотрено участие в процедуре импичмента верховного суда, наделяемого на этот случай компетенцией давать заключение о наличии признаков преступления, т. е. подтверждать уголовно-правовой аспект обвинения; при отрицательном заключении обвинение будет считаться отклоненным.
Но само по себе отрешение от должности, и вообще лишение неприкосновенности, еще не есть привлечение лица к юридической ответственности. Как показывает практика, лицо может быть отрешено от должности, дающей неприкосновенность, по обвинению в преступлении, а затем суд его оправдает.
Примером может быть дело Роландаса Паксаса, отрешенного от должности президента Литовской Республики (по форме правления — смешанная республика) в 2004 году по обвинению в разглашении государственной тайны. В 2005 году суд вынес окончательное решение по делу Р. Паксаса, признав его полностью невиновным. Однако он не был восстановлен в должности президента, и, более того, еще раньше конституционный суд Литвы разъяснил, что гражданин, отрешенный от должности президента в порядке импичмента, впредь не может баллотироваться на президентских выборах.
Таким образом, по своей логике конституционно установленное отрешение от должности в порядке импичмента, равно как и лишение депутатской неприкосновенности, формально не будучи процедурой политической ответственности, не является и юридической ответственностью. Это процедура, которая с необходимостью предшествует привлечению к юридической ответственности. Противное означало бы, что мы признаем специфическую юридическую ответственность, когда для объявления гражданина правонарушителем и наказания в виде его отрешения от должности президента достаточно мнения некоего политического большинства. Признание такой «юридической ответственности» возможно лишь в той парадигме, в которой юридичность и мнение политического большинства — одно и то же.
Однако в странах с неразвитой правовой культурой импичмент вполне может быть политической ответственностью de facto. (Разумеется, это будет антиконституционная политическая ответственность, поскольку известные нам конституции в соответствующих случаях требуют юридического обвинения, а не политической оценки). А именно: если противники президента располагают квалифицированным большинством голосов в парламенте, они могут объявить неугодные им действия президента преступлением и отрешить своего оппонента от президентской должности.
Иначе говоря, политическая ответственность может быть латентной функцией импичмента и лишения депутатской неприкосновенности.
Роспуск парламента
Роспуск парламента избираемым народом президентом имеет свою логику в смешанной республике и невозможен по логике президентской республики.
Роспуск регионального законодательного собрания федеральным президентом — это неправовое принуждение, ибо пока избранный народом государственный орган может выполнять свои функции, он, с юридической точки зрения, не может быть распущен.
Решение регионального законодательного собрания, принятое в рамках его компетенции, которое федеральный президент считает противоправным, может быть оспорено в компетентном федеральном суде и утратить силу, но юридически оно не может быть отменено федеральным президентом. Аналогично, если федеральное правительство — это государственный орган, то у президента не может быть права отменять его решения. В противном случае и региональные легислатуры, и федеральное правительство — это не самостоятельные органы, а подразделения в президентской системе государственной власти, построенной по принципу организационного единства, что противоречит правовому принципу институционального рассредоточения государственной власти.
Избирательное право — это в основном нормы административного права, которые, в частности, позволяют исключать гражданина из списка зарегистрированных кандидатов на конкретных выборах. За “избирательные правонарушения”, совершаемые гражданами, которые пытаются реализовать свои избирательные права в нарушение установленных законом процедур, наступает не “конституционная”, а обычная административная ответственность, в частности, в виде отстранения от участия в выборах в качестве кандидата на выборную должность, т. е. в виде утраты гражданином приобретенного права быть внесенным в списки для голосования. Но это не ограничение пассивного избирательного права, ибо последнее отнюдь не предполагает привилегию непременно быть зарегистрированным кандидатом на конкретных выборах. Пассивное избирательное право как одно из первичных прав гражданина означает лишь абстрактную возможность приобретать своими действиями право быть зарегистрированным кандидатом на конкретных выборах (вторичное право). Аналогично право быть собственником есть лишь возможность приобретать право собственности на конкретное имущество; если человек в рамках юридической ответственности утрачивает некие приобретенные имущественные права, то это никак не затрагивает его право быть собственником вообще. Соответственно, если гражданин в рамках юридической ответственности утрачивает приобретенное право быть зарегистрированным кандидатом на конкретных выборах, то это никак не отражается на его праве быть избранным на выборные должности вообще.
Примечания
1
Боуз Д. Либертарианство: История, принципы, политика. Челябинск, 2004. С. 31.
(обратно)2
См.: Проблема абортивной модернизации и мораль: Лекция Льва Гудкова // Полит. ру. Публичные лекции ().
(обратно)3
«Каковы пределы свободы? Вывод из либертарианского принципа, гласящего, что каждый человек имеет право жить так, как он считает нужным, если он не нарушает равные права других, таков: ни у кого нет права совершать агрессию в отношении человека или чьей-либо собственности (Боуз Д Либертарианство: История, принципы, политика. Челябинск, 2004. С. 84).
(обратно)4
Современная наука однозначно различает два проявившихся в истории типа социокультуры (и два типа цивилизации), конкретные различия которых в разных областях науки интерпретируются по-разному, но сущностное различие улавливается всегда одинаково: свобода и несвобода как культурные типы. Например, Ю.М. Лотман различал магию и религию как договор и вручение себя высшей силе и таким образом объяснял, что свобода и несвобода как культурные архетипы проявились уже на заре цивилизации (см.: Лотман Ю.М. «Договор» и «вручение себя» как архетипические модели культуры // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 3. Таллинн, 1993. С. 345–346).
(обратно)5
Более подробное определение формулируется, например, так: «Государство — независимая централизованная социально-политическая организация для регулирования социальных отношений. Оно существует в сложном, стратифицированном обществе, расположенном на определенной территории и состоящем из двух основных страт — правителей и управляемых. Отношения между этими слоями характеризуются политическим господством первых и налоговыми обязательствами вторых. Эти отношения узаконены разделяемой, по крайней мере, частью общества идеологией, в основе которой лежит принцип реципрокности» (Claessen H J M. State // Encyclopedia of Cultural Anthropology. Vol. IV. N.Y., 1996. P. 1255).
(обратно)6
Например, формалистическое понятие президентской республики позволяет делать вывод о строгом разделении властей на законодательную и исполнительную, но изучение реальных институтов публичной власти показывает, что такого разделения властей нет даже в США, которые признаются образцом этой формы правления.
(обратно)7
Этот minimum minimorum включает в себя (1) личную свободу (самопринадлежность) человека и его неприкосновенность, (2) институт собственности и (3) механизм защиты первых двух (правовую безопасность) — посредством ли соединения социальных ролей крестьянина и воина, как это было в грекоримской культуре, или посредством современных публично-правовых институтов.
(обратно)8
См.: Кревельд М. ван. Расцвет и упадок государства / Пер. с англ. М., 2006. С. 326–327.
(обратно)9
Siedentop L. Democracy in Europe. London; New York; Ringwood (Victoria), 2000. P. 81.
(обратно)10
См.: Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 2002. С. 233–234.
(обратно)11
Архетипическая укорененность каждой реальной культуры (доминирующей в ней субкультуры) объясняет устойчивость социальных институтов, их способность к самовосстановлению после разрушения, а также невозможность качественного сдвига в соотношении ее субкультур.
В российской науке сформулирована несколько иная гипотеза — о том, что при разрушении традиционного общества, если новые структуры не сумеют быстро сконсолидироваться, то обломки традиционного общества отструктурируются раньше; но вновь возникшая социальная система окажется на порядок ниже разрушенной, т. е. более архаичной (см.: Стариков Е.Н. Общество-казарма от фараонов до наших дней. Новосибирск, 1996; Красильников С.А. На изломах социальной структуры: Маргиналы в послереволюционном российском обществе (1917 — конец 1930-х гг.). Новосибирск, 1998 []).
(обратно)12
См.: Кордонский С.Г. Ресурсное государство. М., 2007; Он же. Сословная структура постсоветской России. М., 2008.
(обратно)13
Греческое δεζπόηης в его первоначальном значении — «хозяин дома», «глава семьи» — предполагает, с одной стороны, заботу домовладыки о своих домочадцах, как и о всем остальном хозяйстве — постройках, скоте и т. д., с другой стороны, отсутствие какой бы то ни было автономии членов семьи по отношению к домовладыке («перед деспотом все равны, а именно: равны нулю»). Для того чтобы «глава семьи» существовал в таком, деспотическом качестве, «необходимо одно условие — существование тесного круга лиц, подчиненных главному лицу, которое полностью берет на себя роль выразителя индивидуальности, самобытности группы; это лицо концентрирует в себе все признаки группы и является ее воплощением… Роль обозначаемого таким образом лица заключается не в отдаче приказаний, а в том, что оно в силу главенствующего положения в семье становится ее представителем, воплощает ее в целом» (Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов / Пер. с фр. М., 1995. С. 76). Следует иметь в виду, что в индоевропейских языках понятия и термины «власть» и «сила» («потестарная власть») этимологически производны от термина, обозначающего хозяина дома (см.: Там же. С. 77). Деспот и деспотия в социальном значении этих терминов обозначают тип социально-политического устройства, воспроизводящий принцип отношений домовладыки и домочадцев: деспотическая потестарная власть — это владычество, владение населением, политическое господство типа dominium, но не царская власть типа imperium.
(обратно)14
Для прогресса человека как социобиологического вида, способного оптимально удовлетворять свои потребности, годится только принцип эквивалентного обмена. История показала, что прогресс обеспечивает только такая социокультура, в которой этот принцип преобладает. Он действует так же, как и естественный отбор, но только в социальной среде: правовая социокультура, ее институты стимулируют рост оптимальной эффективной деятельности и отвергают неоптимальную деятельность, выбраковывает неконкурентоспособных. И пока в обществе идет этот жестокий отбор, человечество как вид развивается.
Но возможности эквивалентного обмена, принципа формального равенства объективно ограничены. Право вступает в противоречие с интересами массы конкретных людей, почему-либо оказавшихся в фактически невыгодном положении в отношениях формального равенства. И каждый раз, во всякой культуре, где проявились свобода и равенство в свободе, дальнейшая эволюция этой культуры демонстрирует сначала переход к конкурирующему регулированию (уравнительные институты конкурируют с правовыми), а потом и вытеснение принципа эквивалентности уравнительно-перераспределительным принципом. Можно интерпретировать всю историю как диалектику взаимодействия этих принципов. Оба они с необходимостью существуют в любом обществе. Когда преобладает принцип эквивалентности, происходит прогресс человека как вида, но при этом страдают массы неконкурентных социальных субъектов. Когда происходит переход к уравнительному принципу, то у неконкурентных имеется больше возможностей для удовлетворения потребностей, но в этой социокультурной форме человечество не развивается.
(обратно)15
См.: Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006. С. 146, 158.
Можно согласиться с Р. Мертоном в том, что «открытие латентных функций не только уточняет понятие функций, выполняемых определенными социальными моделями (что происходит и при изучении явных функций), но и знаменует качественно иной этап познания. Оно препятствует подмене социологического анализа наивными моральными суждениями» (Там же. С. 170).
(обратно)16
«Фермер кормит свою корову не для того, чтобы сделать ее счастливее, а ради определенной цели, которой может служить хорошо откормленная корова. Существуют различные системы кормления коров. Которую из них он выберет, будет зависеть от того, хочет ли он получить как можно больше молока, или мяса, или чего-то еще. Каждый диктатор намеревается разводить, выращивать, кормить и приучать своих сограждан так же, как животновод обращается со своими коровами. Его цель не сделать людей счастливее, а привести их в такое состояние, которое сделает его, диктатора, счастливым. Он хочет превратить их в домашних животных, перевести на положение скота. Животновод тоже является доброжелательным диктатором» (Мизес Л. фон. Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая ментальность. М., 1993 [#05]).
(обратно)17
По существу термин «гражданское общество» означает буржуазное, или капиталистическое общество (нем. burgerliche Gesellschaft). На рубеже XVIII–XIX веков, когда этот термин вошел в употребление в рассматриваемом значении, гражданское общество понималось не как общество граждан (в современном, политическом значении термина «гражданин»), а как «общество городского типа» (гражданин=горожанин), т. е. капиталистическое общество, складывавшееся в Западной Европе.
(обратно)18
Ср.: Либеральная Хартия (первая редакция) // Институт свободы Московский либертариум (-1).
(обратно)19
Российское «гражданское общество» — это «такие массовые модели поведения, как «откос» от призыва в армию, «крышевание», уход от налогов, разного масштаба воровство («нецелевое использование») бюджетных денег и госимущества, готовность брать и давать взятки» (Кордонский С. Ресурсное государство. М., 2007. С. 53).
«Наша коррупция — это система действий членов гражданского общества, позволяющая им добиваться своих целей вопреки государственным нормам, правилам и законам и использующая чиновников — работников государственного аппарата для удовлетворения своих потребностей. И симметрично: использование государственными людьми служебных возможностей для удовлетворения потребностей своих, своих родственников, своих знакомых, знакомых знакомых, рекомендованных знакомыми, и пр. Ведь государственные люди — такие же члены гражданского общества, как и простые граждане, и в полной мере используют его возможности для достижения своих целей» (Там же. С. 56).
(обратно)20
Особенности российской социокультуры заключаются в том, что в ней всегда доминировала субкультура потестарного типа и что она продолжает эволюционировать по природоресурсному пути. Посткоммунистическое общество в России не трансформируется ни в капитализм, ни в западный социал- капитализм. И в период разложения коммунизма, и в посткоммунистической ситуации общественное развитие определяется одним и тем же процессом. Это соединение публичной власти и собственности. Вообще феноменом власти-собственности определяется любой переход от «чисто» потестарной цивилизационной ситуации к смешанной потестарного типа. Власть-собственность невозможна в индустриальном обществе, поскольку здесь государственный бизнес явно проигрывает в конкуренции с частным, не может обеспечивать индустриальное развитие. Так что власть-собственность является еще одним подтверждением псевдоиндустриального, природоресурсного характера посткоммунистического общества.
(обратно)21
Поскольку при социал-капитализме тоже существуют собственность и рынок, можно характеризовать капиталистический рынок как свободный имея в виду, что в результате социал-капиталистических деформаций собственности и ограничений свободы предпринимательства получается рынок государственно-регулируемый.
(обратно)22
По существу здесь имеется в виду, что одни люди, организованные так, что они подчиняют себе всех остальных и контролируют ресурсы жизнедеятельности, могут дать подвластным в рамках принудительного порядка большую или меньшую свободу, могут произвольно наделять слабейших и наименее обеспеченных необходимыми социальными благами.
(обратно)23
В потестарной (силовой) парадигме «юридическое» означает нечто властно-принудительное.
(обратно)24
Термин «право на жизнь» обсуждается и в ином контексте. «К сожалению, в наше время термину “право на жизнь” присвоено два сбивающих с толку значения. Было бы лучше, если б мы придерживались формулировки “право самопринадлежности”. Одни, главным образом политики правого крыла, использую принцип “право на жизнь” для защиты прав эмбрионов (еще не рожденных детей), выступая против абортов… Другие, главным образом левые политики, утверждают: “право на жизнь” означает, что каждый имеет фундаментальное право на предметы жизненной необходимости — пищу, одежду, кров, медицинское обслуживание, возможно даже, на восьмичасовой рабочий день и двухнедельный отпуск… Нет, право на жизнь означает [лишь], что каждый человек имеет право предпринимать действия, поддерживающие его жизнь и процветание, а не на то, чтобы заставлять других удовлетворять его потребности» (Боуз Д. Указ. соч. С. 71–72).
(обратно)25
«Когда правом голосовать были наделены только собственники, они, естественно, требовали от государства выполнения только одной функции — защиты собственности. Когда право голоса получили неграмотные, они потребовали от государства создать свободные школы. Когда право голоса было предоставлено тем, у кого ничего не было, кроме физических сил, они потребовали от государства защитить их от безработицы и предоставить им социальную безопасность в случае болезни, пенсии, гарантировать защиту материнства, а также обеспечить возможность приобретать доступное жилье и т. д.» (Bobbio N Il futuro della democrazia. Torino, 1984. P. 24. Перевод цит. по: Сравнительное конституционное обозрение. 2007. № 4 (61). С. 67).
(обратно)26
«Нежизнеспособность сложившегося способа взаимодействия государства, населения и бизнеса доказывается печальными итогами XX века. Никогда еще государство не имело в своем распоряжении таких гигантских ресурсов. За прошедшие сто лет мир, однако, не стал ни безопасней, ни справедливей. Вымирание целых стран от голода, уничтожение миллионов в войнах и репрессиях, глобальные экологические катастрофы были следствиями шапкозакидательных инициатив безответственных государственных деятелей, поддержанных налогоплательщиками, каждый раз ожидавшими от государства чудес. Но сегодня люди все в большей степени убеждаются в простой истине — система не работает» (Сапов Г.Г. От Моисея до наших дней // Отечественные записки. 2002. № 4–5 (-oz.ru/?numid=5&article=244).
(обратно)27
Бытует следующее определение «современного» гражданского общества: «пространство вне семьи, государства и рынка, созданное индивидуальными и коллективными действиями, организациями и институтами для продвижения общих интересов». То есть если из всей системы социальных институтов вычесть институты семьи, государства и рынка, то останется гражданское общество. Очень похоже на анекдотическую трансформацию ленинского определения «коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны»: если это определение верно, то советская власть — это коммунизм без электричества.
(обратно)28
См.: Бастиа Ф. Государство // Бастиа Ф. Что видно и чего не видно. Челябинск, 2006. С. 87, 90.
(обратно)29
Там же. С. 90–91.
(обратно)30
Там же. С. 91.
(обратно)31
Разумеется, крупный бизнес в целом платит в виде налогов больше, чем получает в виде кредитов, субсидий и т. п. Но, во-первых, взамен он получает некоторые гарантии стабильности. Во-вторых, выгода для перераспределяющей бюрократии заключается не в том, чтобы служить крупному бизнесу в целом, а в том, чтобы предоставлять привилегии отдельным представителям крупного бизнеса, причем сегодняшние преференции завтра нивелируются преференциями, предоставленными конкурентам, и это делает положение перераспределяющей бюрократии бесконечно выгодным.
(обратно)32
Боуз Д. Либертарианство: История, принципы, политика. Челябинск, 2004. С. 191.
(обратно)33
Page W.H. The ideological origins and evolution of antitrust law // Issues in competition law and policy (Social Science Research Network, 2005: ).
(обратно)34
См.: Арментано Д.Т. Антитраст против конкуренции / Пер. с англ. М., 2006.
(обратно)35
См.: Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997. С. 395.
(обратно)36
Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 398.
(обратно)37
Nef R. Der Wohlfahrtsstaat zerstort die Wohlfahrt und den Staat // Liberales Institut. Zurich, 2003. S. 12 (-Paper-Nef-Wohlfahrtsstaat-d.pdf).
(обратно)38
См.: Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 2002. С. 243.
(обратно)39
См.: Кордонский С.Г. Ресурсное государство. М., 2007.
(обратно)40
См.: Сравнительное конституционное право / Ред. колл.: А.И. Ковлер, В.Е. Чиркин (отв. ред.), Ю.А. Юдин. М., 1996. С. 441–454.
(обратно)41
См.: Чиркин В.Е. Общечеловеческие ценности и российское право // Общественные науки и современность. 2001. № 2. С. 64–75.
(обратно)42
Сравнительное конституционное право. С. 451.
(обратно)43
«В нашей литературе распространена точка зрения, что президент США не наделен правом законодательной инициативы. Подобные взгляды неосновательны. Никто не отрицает права законодательной инициативы у отдельного конгрессмена. Существующая процедура палат определяет, что законопроект предложенный конгрессменом, должен быть отправлен в соответствующий комитет. То же самое произойдет с президентским посланием, имеющим форму конкретного законопроекта. Если комитеты… не доложат законопроект в палате, он может навсегда остаться в забвении. Наоборот, президентский законопроект имеет намного больше шансов быть извлеченным с помощью редко применяемых процедурных правил из обструкционистского комитета и поставленным на обсуждение в палате конгресса. Право законодательной инициативы президента полностью признано в конгрессе» (Баренбойм П. Три тысячи лет разделения властей. Суд Сьютера. М., 1996. С. 85–86).
(обратно)44
Это вытекает из следующего конституционного положения. Билль, вотированный парламентом, представляется президенту, который его подписывает или возвращает его со своими возражениями в парламент, если он не возвращен президентом в течение десяти дней (не считая воскресных), билль становится законом, как если бы он был подписан президентом, если только парламент перерывом в своей работе не воспрепятствовал возвращению билля, в коем случае он не становится законом. Смысл этого конституционного очевиден: президент не должен блокировать законодательный процесс, поэтому если в течение десяти дней он не возвратил билль, считается, что он одобрил его «по умолчанию»; но и парламент не должен блокировать возможность применения вето, и если возвращение билля было фактически невозможно, так как парламент прервал свою работу, то невозвращенный билль не станет законом. Однако следствием такого положения является и то, что президент может фактически игнорировать неугодный ему билль, если парламент по какой-либо причине прервет свою работу в течение десяти дней после представления билля президенту.
(обратно)45
Верховные суды штатов осуществляют инцидентный конституционный надзор в отношении нормативных актов исполнительной власти и законов штатов. Некоторые суды штатов имеют даже большую власть в судебном конституционном надзоре, чем федеральные суды. «Практика свидетельствует о том, что конституционный надзор в штатах применяется чаще, чем на федеральном уровне. Это объясняется прежде всего низкой юридической техникой нормоустанавливающей деятельности в штатах» (Мишин А.А. Государственное право США. М., 1976. С. 204).
(обратно)46
Marbury v. Madison. 1 Cranch 137. 177-2 Law Ed. U.S. 60, 73 (1803).
(обратно)47
Pemthaler P. Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre. Wien; New York, 1986. S. 323.
(обратно)48
Dr. Bonham’s Case (1610) 8 Co. Rep. 114a, 117b—118b.
(обратно)49
См.: Энтин Л.М. Разделение властей: опыт современных государств. С. 124–128.
(обратно)50
Цит. по: Дженис М., Кэй Р., Брэдли Э. Европейское право в области прав человека. М., 1997. С. 436.
Ср. осовремененный перевод: “Ни один свободный человек не может быть схвачен, заключен в тюрьму, или лишен своего имущества, или отвержен законом, или подвергнут изгнанию, или в любом виде уничтожен, также мы не можем преследовать его или пытаться арестовать его, за исключением случаев, когда вынесено правовое решение его согражданами или законодательством государства.
Никому не будет продано, никому не может быть отказано или отсрочено его право на правосудие [Magna Charta, nos. 39 & 40 (1215) (numbers omitted)]” (цит. по: Верховенство права: Сборник. М., 1992. С. 21, 49).
(обратно)51
См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1996 г. № 19-П «По делу о проверке конституционности статьи 418 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с запросом Каратузского районного суда Красноярского края».
(обратно)52
Dr. Bonham’s Case (1610) 8 Co. Rep. 114a, 117b—118b.
(обратно)53
См.: Дженис М., Кэй Р., Брэдли Э. Указ. соч. С. 436.
(обратно)54
Цит. по: Дженис М., Кэй Р., Брэдли Э. Указ. соч. С. 574.
(обратно)55
Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1997. С. 260.
(обратно)56
“При буквальном толковании действительное содержание нормы права, установленное в ходе использования всех необходимых для данного случая приемов толкования, совпадает с результатом, полученным на основе простого прочтения ее текста (смысл и буква закона совпадают)” (Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. М., 1999. С. 281).
(обратно)

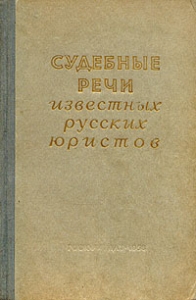

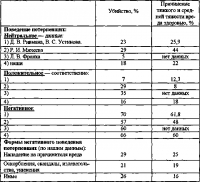
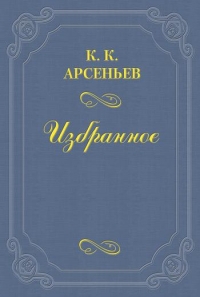

Комментарии к книге «Проблемы теории права для особо одаренных студентов», Владимир Александрович Четвернин
Всего 0 комментариев