Роман Анатольевич Ромашов, Юрий Юрьевич Ветютнев, Евгений Никандрович Тонков Право – язык и масштаб свободы: монография
Roman Romashov, Yury Vetyutnev, Evgeny Tonkov
IS THE LANGUAGE AND SCALE OF FREEDOM
Saint-Petersburg
ALETHEIA 2 0 1 5
Рецензенты:
доктор юридических наук, профессор В. Г. Графский (Институт государства и права Российской академии наук);
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки России Д. И. Луковская (Санкт-Петербургский государственный университет)
Предисловие
В 1996 г. вышла книга выдающегося российского ученого-юриста, академика В.С. Нерсесянца «Право – математика свободы. Опыт прошлого и перспективы». В своей работе Владик Сумбатович Нерсесянц показал суть правовой материи как пространства свободы равных, осуществил экскурс в историю правопонимания с акцентированием внимания на проблемных аспектах трансформации социалистического правопонимания в постсоциалистическое, предложил и обосновал концепцию цивилизма и цивилитарного права. Высказанные идеи, безусловно столь же интересны и содержательны, сколь интересен и содержателен был их автор. Однако интерес – это не только способ восприятия и восхищения, но и катализатор рассуждений и дискуссий. Книги В.С. Нерсесянца заставляют думать, спорить, предлагать собственные подходы и позиции. Наверное, именно в этом заключается основная ценность научного наследия настоящего Ученого и Гражданина.
Слова признательности Мэтру сказаны. Что дальше? А дальше вопросы, на которые предстоит постараться ответить:
Может ли право быть математикой?
Всегда ли право основано на свободе и может ли представлять угрозу для нее?
Что такое равенство и справедливость и всегда ли равенство справедливо?
Можно ли говорить о свободе в состоянии неравенства?
Количество вопросов можно множить, но уже поставленных достаточно для того, чтобы сесть за рабочий стол и…
Прежде всего, любое начинаемое мероприятие нуждается в соответствующем наименовании. Пожалуй, все знают о том, что «как корабль назовешь, так он и поплывет». «Право – математика свободы» – название звучное и претенциозное. Однако может ли право в реальности ассоциироваться с математикой? Думаем, что нет.
Математикой называется наука, изучающая пространственные и количественные соотношения реального мира путем идеализации свойств объектов. Эта идеализация обычно воспроизводится в виде аксиом, из которых затем выводятся более сложные утверждения – теоремы, образующие в дальнейшем математическую модель изучаемого объекта.
Математика как область человеческого знания внеисторична и интернациональна. Законы математики носят объективный характер и не зависят от отношения к ним со стороны государства и общества. Первичные элементы математики – цифры, числа, формулы – таковы, что могут однозначно восприниматься как учеными-математиками, так и теми, кто к математике непосредственного отношения не имеет. Язык математики не связан с национальной культурой и ментальностью.
Назвав книгу «Право – язык и масштаб свободы» авторы, один из которых в недавнем прошлом являлся генералом отечественной тюремной системы, другой выступает в качестве адепта и проводника «сократического диалога», а третий всю сознательную жизнь занимается адвокатской деятельностью, руководствовались общей позицией, суть которой сводится к следующему.
Право, являясь продуктом социальной культуры, возникает и развивается вместе с обществом. При этом исторические особенности, национальные традиции и язык становятся для права системообразующими конструкциями, вне которых правовая жизнь невозможна. Разграничение различных типов правопонимания и правовых семей современного мира позволяет говорить о том, что право по-разному понимается и интерпретируется представителями различных национальных культур. Если для европейца право – это прежде всего узаконенная возможность и гарант обеспечения личного интереса, то для русского человека – право в большей степени средство контроля и инструмент наказания, в первую очередь предназначенный для достижения общегосударственных целей и решения общезначимых задач.
Мы считаем нормальным то, что представители различных национальностей имеют свои, зачастую непонятные другим языки и традиции. Не имеет смысла говорить о том, что непонятное всегда враждебно, хотя и полностью исключать такую возможность нельзя. Задача исследователя как раз и состоит в том, чтобы познать новое и оценить его с точки зрения возможных последствий и перспектив. Заимствование правовых категорий и технологий, устоявшихся и доказавших свою эффективность и полезность в рамках зарубежных национальных правовых систем – столь же обычный процесс, как и включение в собственный язык иностранных слов и так называемого «новояза». Вместе с тем заимствование отдельных слов не влечет за собой замену одного языка другим. Русские говорят на русском языке, а англичане на английском – и на одном общем языке мы не будем говорить никогда (либо, по крайней мере, в обозримой перспективе уж точно). Так же и национальное право. Насколько либеральные ценности, которыми пронизано английское, европейское и американское право приемлемы для стран и народов, руководствующихся в своем развитии иными традициями и историческим опытом. Можно только предположить, что так называемые общечеловеческие ценности признаются всеми людьми и в равной степени обязательны для всех. Сегодняшний мир не стал более толерантным и миролюбивым по сравнению с предшествующими историческими периодами. Напротив, минувший XX век наглядно показал, что величайшие достижения в области науки и техники могут абсолютно спокойно сочетаться с разрушительными войнами и человеконенавистнеческими режимами.
Можно сколь угодно долго рассуждать об общегуманистической сути права, но при этом констатировать бессильность и бесполезность существующих правовых инструментов и механизмов для предотвращения и разрешения вновь и вновь возникающих конфликтов. Примеров тому не счесть. При помощи языка мы можем общаться с подобными себе, способными и желающими нас слушать и слышать. Закрепляя общезначимые правила поведения в праве, следует быть уверенным в том, что большинство из тех, кому право адресовано, могут и стремятся понять соответствующие предписания и воплотить их в своих делах и поступках. Непонимаемое и невоспринимаемое право, также как и «мертвые» языки, лишено реальной социальной значимости и представляет интерес только в качестве предмета для абстрактно-философского диспута. Для авторов такое право не интересно.
Говоря на русском языке и прожив в «новой» России весь период ее не столь долгого существования, мы стремимся понять сами и по возможности донести до своих друзей и знакомых, а также до всех считающих возможным нас слушать и понимать достаточно простую идею (сознательно не говорим – истину): российское право является самостоятельным нормативным образованием, подчиняющимся в своем формировании и функционировании национальной правовой традиции и действующее с учетом и под воздействием национальной правовой традиции. Перефразируя Р. Киплинга, можно сказать: «Запад есть Запад, а Россия есть Россия и вместе им не быть никогда». И ничего страшного, ведь не хотим же мы быть частью великой (без всяких кавычек) арабской, китайской, либо скажем африканской культуры. То, что Россия территориально расположена, в том числе, и в Европе как части света, не превращает автоматически ее культуру и право в западно-европейские. Способность гордиться своей историей и достижениями, понимать собственную национальную идентичность нормально сочетается с уважением к другим культурам. Что же из этого следует? А то, что национальные правовые системы, также как и языки по отношению друг к другу, говоря математическим языком – параллельны, а в психологическом аспекте паранормальны. Паранормальность права, свойство задаваемое не только особенностями языковых способов выражения правовых средств и технологий, но и хроносферой – социальным временем, задающим темпоральные границы деятельности механизмов правотворчества и правореализации. Не имеет смысла с сегодняшних правовых позиций оценивать юридически значимые поступки, совершаемые в предшествующие исторические периоды. Люди со временем не становятся более жестокими или, напротив, – милосердными. Изменяются внешние обстоятельства, что, в свою очередь, влечет политико-правовые трансформации.
Как связаны право и свобода? Непосредственно. Возникновение права приводит к появлению свободы в собственно юридическом ее понимании. Именно право является масштабом индивидуальной и коллективной свободы, ее гарантом и вместе с тем средством легального ограничения. Вне права свобода, с одной стороны, безгранична, с другой – беззащитна. Обстановка бесправия – это хаос, в котором действует лишь «право сильного» и идет «война всех против всех». «Бесправная свобода – это произвол, тирания, насилие»[1].
Получается, что отсутствие права означает фактическое отсутствие свободы.
В правовом контексте свобода – это формализованное соглашение двух и более субъектов, определивших и утвердивших варианты возможного, должного или недопустимого поведения, в рамках которого ими реализуются корреспондирующие права и обязанности. Иными словами, свобода это определенная (т. е. закрепленная при помощи установленных параметров возможного, должного и недопустимого поведения) самостоятельность субъекта в выборе и осуществлении вариантов совершаемых деяний (как действий, так и бездействий).
Понимая и принимая позицию, в рамках которой утверждается, что «право – это нормативная форма выражения свободы посредством принципа формального равенства людей в общественных отношениях»[2], считаем, что предложенная конструкция – это идеал, стремление к достижению которого определяет общее направление правового развития. Однако на практике конкретные правовые системы, существующие в рамках определенных социально-культурных континуумов, в ряде случаев организуются и функционируют, основываясь на иных принципах, что не исключает наличия у участвующих в общественных отношениях людей свободы в процессе осуществления выбора и достижения собственных интересов. Еще Платон отмечал, что даже в условиях, когда государство (полис) подчиняет себе практически все проявления личной и общественной жизни, у людей остаются сферы, неподконтрольные государству, а следовательно, человека нельзя лишить свободы, за исключением случаев, когда сам человек себя свободным не ощущает и к обретению свободы не стремится.
В государственно организованном обществе право и правовой порядок в большинстве случаев представляют собой иерархию норм, органов, должностных лиц, социальных групп. В условиях иерархии нельзя говорить о формальном равенстве. В тоталитарных, авторитарных, деспотических режимах нет свободы (в либертарном ее понимании), но есть общезначимые и общеобязательные правила, обеспеченные государственным принуждением. Если эти правила не считать правом, то следует вводить в оборот понятие «бесправного / противоправного государства» и «противоправного закона», а это, в свою очередь, означает отказ от ключевой юридической догмы: неразрывной связи права и государства. Понимая, что в гуманитарной науке вообще и теории права, в частности, нет ничего невозможного, все-таки считаем разумным сохранить хотя бы в относительной целостности фундаментальные положения современного правоведения.
Право было, остается и будет продуктом человеческой деятельности, посредством которого упорядочиваются, обеспечиваются и охраняются общественные отношения. Изначальное несовершенство человека и общественной организации предопределяет несовершенство правовых инструментов и механизмов. Сегодня мы столь же далеки от правового идеала, как и наши предки. Ничего страшного в этом нет. Путь к линии горизонта бесконечен. Но это не означает бесполезности стремления и движения вперед. Каждый из нас, родившись в определенной социально-культурной и политико-правовой среде, находится под ее влиянием и вместе с тем решает для себя извечный вопрос: какую дорогу и к какому праву избрать. Каждый учит тот правовой язык и выбирает тот масштаб правового мышления и поведения, который считает приемлемым и предпочтительным для себя. Для нас, авторов этой книги, право является языком и масштабом свободы. Вполне вероятно, что существуют и противоположные взгляды на право как на препятствие и угрозу свободе. Надеемся, что читатели услышат и поддержат нашу позицию.
Глава 1 Право. закон. юриспруденция
1.1. Проблема формирования правовой парадигмы в современном мире
Современный мир представляет собой сложное социально-культурное и политико-правовое образование, эволюционирующее под воздействием разнонаправленных тенденций: глобализации и локализации; самосохранения и саморазрушения (энтропии).
Рассмотрение мира как системы взаимодействующих и взаимопроникающих культур актуализирует проблему их типологии и сосуществования цивилизаций с различными культурными идентификационными кодами. Представляется целесообразным выделять три типа существования (сосуществования) культур: культурную автаркию (культура полиса); культурную экспансию (культура империи); межкультурный диалог (культура цивилизма, культура толерантности).
В основу первого типа положена идея противопоставления локальной культуры и всеобщего варварства. При этом в качестве основного мифа мироустройства выступает религия, в рамках которой утверждается божественная природа миросозидания и мироустройства, а также богоизбранность отдельных этносов. Такое восприятие мира является оправдывающим фактором при уничтожении (порабощении) представителями культур «богом избранных народов» варварских «антикультур».
В сфере юриспруденции значимость религиозного мифа прежде всего заключается в том, что объективное право есть форма реальности, созданная по воле Бога и в силу божественной природы приобретающая характер аксиоматичных установок и не подлежащих сомнениям догм. В качестве системы социального управления право делится на небесное, идущее от Бога, и земное, представляющее собой продукт субъективного (человеческого) нормотворчества[3]. Естественно, изменениям подвержено лишь право, устанавливаемое людьми и действующее в отношении людей. В подобном понимании земное («юридическое») право не может ограничивать правителя – суверена, волевые акты которого легитимированы вследствие освящения фигуры самого монарха, а также не обеспечивает прав варварских народов, которые в юридическом смысле людьми не являются, а значит, не могут претендовать на правовое обращение.
Второй тип социально-культурного взаимодействия основывается на мифе индустрии, в рамках которого обосновывается идея промышленного освоения мира и, как следствие, деление культур на развитые (создатели и владельцы средств и технологий производства жизненно важных благ) и неразвитые/развивающиеся (владельцы и поставщики сырья и дешевой рабочей силы). Представители развитых культур проводят в отношении неразвитых политику колонизации, направленную на внеэкономическую эксплуатацию сырьевых и социальных ресурсов. При этом колонизация, в широком смысле этого понятия, представляет собой экспансию культуры метрополии (в том числе при поддержке силовых структур государственного механизма) по отношению к культуре как уже имеющихся, так и потенциальных колоний. Особенно важно то, что наряду с внешней колонизацией, исходящей из первичности (приоритетности) культуры метрополии по отношению к культуре колонии, находящейся за пределами географических границ метрополии, существует внутренняя колонизация, предполагающая рассмотрение аппарата государственной власти в качестве метрополии, а собственного народа – в качестве колонии. В таком понимании в государстве (независимо от того, является оно метрополией или колонией) формируются две противопоставляемые культуры: власти и подданных, взаимодействие которых в ряде ситуаций приобретает конфликтный характер.
Понимание права в индустриальном мире строится на противопоставлении естественного права, существующего независимо от того, признается оно государством или нет, и позитивного права являющего собой формализованную (возведенную в закон), гарантированную и санкционированную волю государства. Являясь ядром политико-правовой системы, государство монополизирует право на правотворчество, правоприменение, правосудие, использование легального принуждения. Право развитых стран (метрополий) рассматривается как более совершенное в сравнении с правом стран, находящихся на более низкой ступени технико-экономического развития. Соответственно, процесс колонизации предполагает в том числе правовую экспансию, выражающуюся в попытке перенесения и внедрения институтов и принципов, сложившихся в правовых системах метрополий, в национальные механизмы правового регулирования колоний.
Противопоставление естественного и позитивного права в рамках мифа индустрии обусловливает двойственность ситуации в области обеспечения законности и правопорядка. С одной стороны, законы – продукт государственной деятельности, в свою очередь, правопорядок – результат практического воплощения в жизнь требований и принципов законности. Получается, что преступлением является неисполнение законных обязанностей и нарушение законных запретов. С другой стороны, сами законы могут основываться на постулатах, попирающих естественные права человека и гражданина. В этом случае законосообразное поведение субъекта юридической деятельности приобретает противоправный характер и при определенных обстоятельствах (поражении государства в войне, победе революционного, либо национально-освободительного движения) может быть в дальнейшем квалифицировано в качестве преступления[4]. Получается, что поведение лица, признаваемое в качестве правового и законного в одних обстоятельствах, может быть квалифицировано как неправовое и противозаконное при изменении социально-политической ситуации. Такая ситуация обусловливает так называемые «двойные стандарты» понимания права и осуществления правового регулирования. В условиях действующего мифа индустриального мира, утверждающего объективность деления культур на развитые и развивающиеся, сам факт существования двойных стандартов приобретает характер объективной реальности, критическое отношение к которой сводится к декларативным высказываниям политиков, не столько не желающих, сколько фактически не способных решать проблему по существу.
Третий тип взаимодействия культур в качестве основополагающей мифологемы принимает миф ненасилия (цивилизма, толерантности и т. п.). В качестве базовой гипотезы принимается утверждение о том, что человеческий мир – это мир человеческих личностей, различия которых не являются основанием для градации на людей, «заслуживающих человеческого обращения», и «не людей» – врагов рода человеческого в человеческом обличии, в отношении которых могут использоваться средства и методы, недопустимые по отношению к «нормальным людям». Такой подход не исключает саму возможность конфликта как между отдельными людьми, так и между социальными организациями представляющими различные типы национально-культурных идентичностей. Однако даже в условиях конфликта люди должны помнить и понимать, что они взаимодействуют с такими же людьми и что достижения одной культуры не менее значимы для ее представителей, чем аналогичные достижения другой культуры, которая, являясь чужой, вместе с тем не должна априори восприниматься в качестве враждебной и, в силу подобной оценки, заслуживающей уничтожения. Диалог культур возможен только при условии восприятия интересов противоположной стороны взаимодействия в качестве равных по значимости собственным интересам.
Право в условиях диалога культур выходит за рамки национальных правовых систем и выступает в качестве элемента общецивилизационной культуры. Основное предназначение права – обеспечение сохранения человеческой цивилизации. При этом существование права зависит в большей степени не от субъектов, своими осознанными волевыми действиями реализующих правовые предписания, а от признания государствами и индивидами «права на право» в отношении не только физических и юридических лиц, но и в отношении объектов живой и неживой природы, а также в отношении самой человеческой культуры. Таким образом, правом обладают не только люди, но и природа, и культура. Признание права природы и права человеческой культуры является необходимым условием для разработки комплексных мероприятий, направленных на правовое обеспечение природной среды, необходимой для существования человеческой цивилизации, а также на сохранение общемировой и национальной культуры-наследия.
Современный мир находится в состоянии перехода от экспансивной культуры империи к диалогичной культуре цивилизма. Переходный период обусловливает следующие вызовы в сфере политико-правовых отношений:
1. Соотношение национальных культур подвергается осмыслению в рамках стереотипа межличностных отношений «друг – враг». Культуры ассоциируемые в качестве «чужих», подразделяются на «примитивные/варварские» и «враждебные». В отношении враждебных культур считаются оправданными и правомерными действия не допустимые по отношению к дружественным культурам.
Культура цивилизма предполагает выработку стереотипа межкультурного диалога, в рамках которого взаимодействие строится по типу «человек – человек». Данное взаимодействие не исключает противоречий и конфликтов между людьми, но предполагает решение этих конфликтов сугубо человеческими, т. е. правовыми средствами и методами.
2. Право как нормативная система включает два взаимосвязанных и, вместе с тем, относительно самостоятельных сегмента: публичное и частное право. Публичное право неразрывным образом связано с центром публичности, в качестве которого чаще всего рассматривается государство, представленное аппаратом государственной власти (государственной бюрократией). Отношения государства как субъекта публичного правотворчества и общества как объекта применения «узаконенного права» строятся по принципу иерархической субординации, в рамках которых государство как носитель суверенитета повелевает, а общество должно исполнять и соблюдать властные веления. Определенные частным правом субъективные возможности являются производными от публичного права и в таком понимании не могут претендовать на равенство с исходящими от государства и обеспечиваемыми государственным принуждением публичными долженствованиями.
Культура цивилизма базируется на трех составляющих системы права: праве прав человека, праве общечеловеческой культуры, праве природы.
Право прав человека закрепляет основные права человеческой личности, безусловно признаваемые всеми представителями человеческих цивилизаций. При этом на уровне Общецивилизационной декларации права прав человека должны быть перечислены права, изъятие и ограничение которых не допускается у людей независимо от социальной и юридической оценки их собственного поведения (в отношении террориста и маньяка правовой закон должен обеспечивать те же права и процедуры правовой охраны, что и в отношении законопослушного гражданина).
Право культуры и право природы приходят на смену публичному праву индустриальной эпохи. В основу права культуры и права природы положен принцип координации усилий культур и цивилизаций объединяемых единой двоякой целевой установкой: выживанием и дальнейшим развитием общечеловеческой цивилизации объединяющей различные по уровню научно-технического и политико-правового развития, однако в одинаковой степени значимые (в силу первичности субъективных интересов по отношению к публичным, объективным) национальные культуры.
3. В настоящее время в рамках сравнительного правоведения различаются правовые семьи романо-германского, англо-саксонского, религиозного (мусульманского) и традиционного права. Данная классификация, предложенная Р.Давидом, в современный период устарела и не отвечает вызовам современности. Распад социалистической системы, обусловил ликвидацию семьи социалистического права, к которой Р.Давид относил страны социалистического лагеря. Крах системы мирового колониализма привел к появлению на мировой арене большого числа формально независимых государств, правовые системы которых строятся и функционируют под воздействием двух культурных векторов: национальной культуры (как правило, опирающейся на традиционные отношения) и культуры бывшей метрополии (выражающейся в языке, технологиях, формально-правовых институтах). Думается, что механическое «присоединение» вновь образованных правовых систем к так называемым «основным правовым семьям» не решает проблемы.
Культура цивилизма позволяет говорить об общемировой правовой цивилизации, опирающейся на базовые принципы права и инструментарий правового регулирования, устраивающие представителей большинства национальных культур. В качестве таких принципов могут быть провозглашены: гуманизм, ненасилие, формально-юридическое равенство культур. В рамках общемировой правовой цивилизации отношения между национальными правовыми системами строятся посредством осуществления диалога равных субъектов. Применение диалога систем в качестве основополагающего средства правового регулирования предполагает постепенное снижение юридической силы нормативно-правовых актов и замещения их нормативными договорами и обычаями.
1.2. Чем вызваны дискуссии о правопонимании?
В связи с познанием права, в первую очередь на теоретическом уровне, возникает довольно парадоксальная ситуация: для того, чтобы сформулировать какие-либо суждения о предмете своего интереса, необходимо иметь достаточно четкое представление о том, каковы отличительные черты этого предмета. Однако это первоначальное и элементарное требование оказывается самым проблематичным с точки зрения его практического исполнения, поскольку никакого консенсуса в отношении того, что означает слово «право», фактически не существует. Если рассматривать юридическую науку как своеобразного коллективного мыслящего субъекта, то приходится констатировать, что ее познавательная деятельность в значительной степени расфокусирована, поскольку под именем права выступают самые различные объекты.
Причины такого положения дел достаточно многообразны. Высокая степень конфликтности идей и интересов вообще свойственна для многих сфер юридического знания и построенной на нем практики. Эта особенность применительно к науке хорошо подмечена Б.А. Кистяковским, который писал: «Ни в какой другой науке нет столько противоречащих друг другу теорий, как в науке о праве. При первом знакомстве с нею получается даже такое впечатление, как будто она только и состоит из теорий, взаимно исключающих друг друга»[5]. Аналогичное, по существу, наблюдение высказывал Г. Гурвич в отношении всей сферы юридического опыта, считая одной из его характерных черт «крайне драматичный характер такого опыта, преобладание в его структуре элементов антиномичности. Ни один вид непосредственного опыта не разрывается болезненными конфликтами в такой степени, как юридический опыт»[6].
Вероятно, особенности идейного плюрализма в юридической науке действительно могут быть объяснены спецификой самой правовой реальности как культурного явления. В частности, для этой области социального взаимодействия характерна высокая степень «агональности», то есть состязательности, поединка, борьбы. Так как право призвано иметь дело главным образом с конфликтогенными проявлениями общественной жизни, то и сами механизмы, при помощи которых функционирует правовая система, во многом строятся по схеме конфликта («лечить подобное подобным»). Иначе говоря, атмосфера противоборства переносится в зал суда, а оттуда проникает и в научные споры о праве.
Другое, ничуть не менее значимое обстоятельство связано с тем, что существующие варианты понимания права отражают и в какой-то мере легитимируют различные конфигурации социальных потребностей и ожиданий. Дело в том, что каждая более или менее сплоченная группа, построенная по признаку общности интересов, неизбежно стремится к построению собственной картины мира, в том числе (и прежде всего) мира социального. Естественно, это выражается, помимо всего прочего, в конструировании собственного языка, описывающего реальность наиболее продуктивным для данной группы способом. Неоднородность самого общества, таким образом, выливается в появление нескольких или многих языков, которые сталкиваются не только на политической арене, но и в научной коммуникации.
Поскольку право, вне зависимости от оттенков смысла этого понятия, чаще всего воспринимается как явление повышенной социальной значимости, то вполне естественно, что конфликт интересов, возникающий между социальными группами, непосредственным образом проявляет себя в сфере юридического познания[7].
Чаще всего встречается характеристика правопонимания как «научного познания и объяснения права как своеобразного и относительно самостоятельного, целостного, системного явления духовной жизни общества»[8]; о нем говорится как о «системе идей, объясняющих сущность и бытие права в обществе»[9]. Но вполне очевидно, что в такой трактовке правопонимание – это сложное и неоднородное познавательное явление, в котором сочетаются представления и идеи самого разного уровня. Чтобы анализировать значение правопонимания и процесс его складывания, следует произвести его внутреннюю дифференциацию, выделить первичные и вторичные элементы.
Вся система представлений о природе и сущности права может называться правопониманием в широком смысле слова. Однако в этом случае внутри него необходимо различать логическое ядро, в качестве которого выступает определение права. Все остальные положения производны от него. Поэтому вопрос об определении самого понятия «право» носит наиболее принципиальный характер, и в дальнейшем изложении речь будет идти о правопонимании именно в этом, более узком смысле слова.
В настоящее время существует такое многообразие определений права, что даже их классификация представляет собой немалую проблему. Систематизация имеющихся подходов и тем более их всесторонняя оценка в данном случае не входит в наши задачи. Нас интересуют те критерии, которые используются учеными-теоретиками при выборе и обосновании конкретного понимания права. Иначе говоря, речь идет о том, какие аргументы приводятся сторонниками различных подходов в пользу своей правоты.
Правовая аргументация – феномен, порождаемый диалогом. Необходимость в подкреплении своих слов доводами возникает лишь в условиях реальных или потенциальных разногласий, что предполагает, в свою очередь, наличие двух или более сторон с относительно сформированными позициями, противостоящими друг другу. Поэтому судебный процесс становится питательной средой для развития аргументации при наличии принципа состязательности, а правотворческая процедура – в ситуации политической конкуренции.
При этом не любое воздействие на собеседника (контрагента) может быть отнесено к аргументам, поскольку аргументация принадлежит к сфере убеждения и, следовательно, не включает в себя прямое насилие, пропаганду или манипуляцию. Аргументом является утверждение, которое призвано либо подтвердить, либо опровергнуть другое утверждение (тезис) рациональным путем.
Далее, можно условно подразделить аргументацию на два вида – риторическую и философскую. В первом случае задача аргументов сводится исключительно к тому, чтобы повлиять на чужую позицию, переубедить ее носителя; во втором случае аргументация направлена прежде всего на то, чтобы обнаружить основания собственного мышления. Если риторическая аргументация отвечает на возражение, то в основе философской аргументации лежит сомнение.
Кроме того, как отмечает немецкий исследователь Р. Алекси, следует различать аргументы, приводимые с позиции наблюдателя (т. е. лица, дающего нейтральное описание правопорядка) и с позиции участника (лица, вовлеченного в принятие юридически значимых решений)[10].
Общим для всех типов аргументации является то, что они указывают на ценностные ориентации автора. Придавая ценностную окраску тем или иным явлениям социального мира, индивиды и общности тем самым идентифицируют их в качестве желательных или нежелательных, связывают с ними свои интересы и намерения. Поскольку любое сознательное решение в области права представляет собой акт выбора, то предпочтение, отдаваемое тому или иному варианту, указывает на определенную систему ценностей. Более того, использование ценностных и оценочных аргументов свидетельствует о том, что субъект аргументации не только сам привержен этим ценностям, но и рассчитывает на их поддержку другим участником (участниками) коммуникации и, следовательно, рассматривает их в качестве общих ценностей.
Как известно, Г. Кельзен выступил с программой построения теории, свободной от ценностей (wertfreie Theorie)[11]. Однако это намерение, судя по всему, не так уж просто осуществить. Так, другой сторонник юридического позитивизма, Г.Ф. Шершеневич, вполне определенно считал, что ни один юрист не способен обойтись без того, чтобы находить оправдание для собственной деятельности: «Человек только тогда получает удовлетворение от своей деятельности, когда твердо уверен в ее целесообразности. Человек только тогда может служить праву, когда у него есть убеждение в том, что само право служит правде»[12]. Если полностью устранить все ценности, то само теоретическое мышление остается без движущей силы.
В самом начале своего основного труда Г. Кельзен объявляет его задачей освобождение теории права от политических и естественнонаучных элементов. Однако в качестве обоснования этой задачи он использует понятие «идеал»: «Речь шла о том, чтобы раскрыть те тенденции юриспруденции, что направлены не на описание права, а исключительно на его познание, чтобы поставить результаты такого познания как можно ближе к идеалу любой науки – объективности и точности»[13]. Таким образом, оказывается, что чистое учение о праве свободно не от всех ценностей, напротив, оно подчиняется ценностным установкам, характерным для научного познания и соответствующим, по выражению Р. Алекси, «позиции наблюдателя» – лица, не участвующего в принятии юридических решений, а лишь изучающего правовую реальность[14].
Сама «чистота», многократно провозглашенная Кельзеном в качестве основной цели своего научного проекта, также представляет собой специфическую ценность, смысл которой состоит в том, чтобы то или иное явление существовало отдельно от других, не смешиваясь ни с чем.
Исходя из этой ценности, необходимо очистить теорию права от политической идеологии. Основная причина неприемлемости политических элементов в составе науки, по Кельзену, состоит в их субъективном характере, противоречащем идеалу объективности, стремление к которому, в свою очередь, позволит преодолеть «провинциальный» характер юридического знания: «наука о праве – эта провинция, отдаленная от центров духовного развития, – слишком долго не решалась последовать за прогрессом науки и вступить в непосредственный контакт с общим развитием научного знания»[15].
Стоит заметить, что стремление Кельзена к устранению из своего учения всех субъективных элементов само опирается на представление о «прогрессе науки», которое носит ярко выраженный ценностный характер и имеет явно субъективное содержание, поскольку объективно зафиксировать критерии этого прогресса едва ли возможно.
Характерно при этом, что автор «теории, свободной от ценностей», не только сам признается в определенных ценностных установках, но ожидает их от своих читателей, которым адресована его работа, – «тех, кто дух ценит выше, чем власть…»[16].
Если обращаться к спорам о правопонимании, то можно обнаружить, что в этой сфере риторическая аргументация заметно преобладает над философской. Разворачивающаяся идейная борьба характеризуется высокой степенью непримиримости сторон.
При этом такой тип аргументов, как эмпирические (т. е. отсылающие к практическому опыту), в этих дискуссиях почти не применяются, поскольку наблюдения за повседневной социальной жизнью не дают никаких непосредственных доказательств ни одной из теоретических позиций. Ни в природе, ни в обществе нельзя обнаружить того, что объективно является правом. Имена не присущи своим носителям изначально, они являются частью языковой картины мира, т. е. не отыскиваются в окружающем мире, не принадлежат предметам в качестве их собственных атрибутов, а лишь присваиваются им. Поэтому понятие права не столько открывается, сколько конструируется. По существу, вопрос о правопонимании приобретает характер своеобразного этического выбора, в силу чего типичным обоснованием того или иного подхода к праву становится апелляция к ценностям. Речь, конечно, идет не о различии индивидуальных пристрастий, а о концептуальном выражении предпочтений, свойственных различным социальным группам.
Анализ соответствующих научных работ позволяет условно выделить несколько типов аргументации, которые встречаются наиболее часто.
1) Аргумент «к мнимой очевидности». Дело в том, что при отстаивании своей позиции авторы и последователи различных концепций часто исходят из явных или неявных допущений, которые для них являются бесспорными, но в действительности носят проблематичный характер и сами по себе нуждаются в доказательстве. Таким образом, обоснование главного тезиса приобретает характер отсылки к другим, не менее спорным суждениям, и от этого заметно теряет в своей убедительности.
Например, многие варианты правопонимания основаны на молчаливом предположении, что право представляет собой явление, обладающее исключительно позитивной ценностью. Этот тезис рассматривается как само собой разумеющийся, хотя вовсе таковым не является. Как правило, любой социальный институт, наряду с конструктивным значением, обладает и некоторыми отрицательными свойствами; практически не существует таких явлений, которые не имели бы никаких негативных сторон. Поэтому нет реальных причин считать, что право лишено таких характеристик, и тем более выдавать это за аксиому.
Это наблюдается, в частности, когда речь идет о возможности существования так называемых «неправовых» законов[17]. Действует следующая логика: если закон является неразумным, жестоким, антигуманным, не соответствует по своему содержанию каким-то фундаментальным ценностям, то он не может быть правовым. Но почему же не допускается, что само право может быть несправедливым и бесчеловечным? Такой вопрос, как правило, просто не ставится и не обсуждается, поэтому исходное предположение выглядит чисто произвольным.
Это далеко не единственный пример. Так, С.А. Денисов при обосновании своего подхода к понятию права в качестве исходного тезиса выдвигает следующее положение: «В современном правоведении надежно закрепилась идея разделения права на позитивное (положительное, объективное) и естественное. Нет необходимости оспаривать эту точку зрения»[18]. Однако хорошо известно, что само существование естественного права далеко не является очевидным и общепризнанным фактом, существуют целые направления в науке и философии, которые критически относятся к естественно-правовой идеологии и отрицают ее реальную ценность. Поэтому утверждать, что эта идея «надежно закрепилась», довольно трудно.
Для Ф.М. Раянова, по всей видимости, подобной аксиомой выступает то, что правом можно называть любое правило поведения. Он априори рассматривает право как синоним социальной нормы: «По нашему мнению, и сегодня многие юристы, философы, экономисты не различают юридическое право от социальных норм вообще… юристам (да и представителям остальных наук) необходимо четко различать юридическое право от права вообще»[19].
А.В. Поляков при построении коммуникативной теории права аналогичным образом постулирует, что «нормальное правовидение позволяет усмотреть право не только в государстве, но и за его пределами; связать правогенез не только с нормативно-государственным волеизъявлением, но и с необходимостью социального признания принятых государством актов, а также с возможностью непосредственно социального возникновения права»[20]. Очевидно при этом, что идея «нормального правовидения» содержит субъективный элемент, и с равным успехом можно утверждать, что оно предполагает вовсе не эти, а противоположные им представления. В дальнейшем, говоря о правомочии как единственном выражении «правового эйдоса», автор прямо отказывается от аргументации этого положения: «Эйдетическое первородство правомочия невозможно рационально доказать, но его можно показать и описать…[21].
Фактически именно так поступают представители многих типов правопонимания – не доказывают свои взгляды, а лишь излагают их, в силу чего порой создается впечатление, что приверженность тому или иному пониманию права становится вопросом не разума, а веры. Но если различные исследователи исходят из несовместимых предпосылок, не подвергая их никакому сомнению, то споры о правопонимании приобретают заведомо тупиковый характер.
2) Аргумент «к практическому значению». Он заключается в том, что конкретному варианту правопонимания приписывается способность вызывать определенные социальные эффекты, имеющие позитивное или негативное значение. Тем самым предполагается, что выбор правопонимания в первую очередь преследует какие-то практические цели. Однако недостаток данного аргумента состоит в том, что сам причинно-следственный механизм, при помощи которого правопонимание столь серьезно воздействует на социальную реальность, обычно не раскрывается. Это, в свою очередь, порождает некоторые сомнения в том, что подобная связь вообще существует.
Например, сторонники нормативного правопонимания часто упрекают «либертарно-юридическую» теорию в том, что она якобы разрушительна для юридической практики. Так, М.И. Байтин пишет по поводу идеи «различения права и закона»: «Разумеется, право и закон не одно и то же, но тенденция к некой несовместимости, разрыву между ними не может не оказывать негативного воздействия на отношение к закону, на состояние законности и правопорядка, не подпитывать правовой нигилизм»[22]. При этом совсем не разъясняется, каким же образом наступают столь пагубные последствия, как «различение права и закона» может стать источником правового нигилизма и нарушений законности.
3) Аргумент «от противного». Он выражается в попытках показать преимущества одного подхода путем опровержения иных, противостоящих ему. Данный способ обоснования может выглядеть достаточно эффектно; одним из лучших его образцов является, например, психологическая теория права Л.И. Петражицкого, которая в основном строится именно на критике других концепций[23]. Однако его изъян видится в том, что наличие у какой-либо теории серьезных недостатков само по себе еще не является достоинством другой теории, а свидетельствует в пользу последней лишь косвенным образом. Кроме того, далеко не всегда критика в адрес оппонентов оказывается объективной и добросовестной.
Например, в либертарно-юридической теории господствует следующее представление о нормативной концепции права: «Оценивать содержание законов в рамках такой науки невозможно… Для легистов характерна убежденность в том, что власть и закон могут решить любые общественные проблемы. Они отрывают закон от социальной почвы, на которой он вырастает. С позиции легистского понятия государства невозможно объяснить, что такое правовое государство…»[24]. При этом не уточняется, кто именно из представителей критикуемой теории отстаивает такие идеи; и это далеко не случайно, поскольку приведенные взгляды не являются характерными даже для самых радикальных направлений юридического позитивизма (который, кстати, сам по себе не тождествен нормативному правопониманию).
В.М. Шафиров выделяет два укрупненных «идеальных типа» правопонимания: государствоцентристский и человекоцентристский. Первая традиция исходит из классовой природы права, второстепенной роли личности, преобладания запретов и принудительных средств. При втором подходе право рассматривается как комплекс гарантированных возможностей свободного выбора и связывается не столько с принуждением, сколько с поддержкой, поощрением, согласием и т. п.
Но при сопоставлении существующих типов правопонимания автору не удалось избежать предвзятости, в особенности при характеристике «государствоцентристского» подхода к праву: например, создается впечатление, что отождествление права и закона всегда связано с классовым видением права, принижением роли личности, господством запретов и т. д. Возникает вопрос: разве нормативная теория права не может сочетаться с признанием и обеспечением свободы личности? Ведь различение права и закона вовсе не является для этого обязательным условием.
Тот «государствоцентристский» подход, о котором идет речь, с его идеей классовости права и «малозаметной» ролью личности, представляет собой не современное, а чисто историческое явление. В настоящее время едва ли кто-то из ученых-правоведов развивает эти взгляды в том виде, как они представлены В.М. Шафировым. Большинство представителей нормативной концепции права также разделяет убеждения, что «необходим многофакторный подход к характеристике права», «главное в праве – права и свободы личности»[25]. Но у В.М. Шафирова эти общепризнанные положения почему-то жестко связываются с различением права и закона, хотя прямой логической зависимости между этими тезисами нет.
«Позитивизм как методология, – утверждает В.А. Четвернин, – это всегда апология существующего порядка, существующей власти, существующих законов»[26]. Для оценки этого суждения стоит обратиться к взглядам хотя бы одного из классиков политической и правовой мысли – Джереми (Иеремии) Бентама, который известен как «ярый позитивист»[27], один из основателей данного направления. Последнее вполне справедливо; действительно, по Бентаму, «под правом вообще мы понимаем все законы, которые существуют, либо какой-то один закон, либо несколько законов, как кому будет угодно»[28]. Но при этом ни о какой апологии действующего права речи не идет, напротив, Бентам выступает по отношению к нему резко критически: «Право переполнено ложью и бессмысленностью, образуя такой густой туман, что простой человек (и даже человек здравомыслящий и образованный), если он не имеет никакого отношения к юридической профессии, не сможет увидеть ничего ни в самом этом тумане, ни сквозь него»[29]. Одного этого примера вполне достаточно, чтобы показать: отождествление права и закона в действительности вовсе не означают их оправдания и восхваления.
4) Аргумент «к авторитету». Зачастую доводом в защиту того или иного понимания права становится тот факт, что аналогичных взглядов придерживались выдающиеся мыслители и ученые, чей интеллектуальный престиж является общепризнанным. Другой, менее персонализированный вариант того же аргумента – ссылка на то, что данное понимание права находится в русле какого-то серьезного идейного направления, соответствует современным тенденциям развития научного знания и т. п.
Слабость этого приема заключается в том, что он сам по себе не затрагивает существа рассматриваемых теорий, а характеризует их только с внешней стороны. При этом, как правило, авторитетные фигуры обнаруживаются практически во всех конкурирующих научных лагерях, что сводит на нет их реальные преимущества друг перед другом.
5) «Этимологический» аргумент. Иногда, хотя и сравнительно нечасто, предпринимаются попытки выстроить правопонимание на основе происхождения самого слова «право».
Представляется, что этимологический способ аргументации не может иметь самостоятельного значения. Во-первых, эволюция языковых единиц представляет собой сложный нелинейный процесс, из которого едва ли можно сделать столь однозначные выводы, тем более напрямую переносимые в иную научную дисциплину. В-вторых, можно подобрать самые различные ряды слов, являющихся однокоренными по отношению к «праву»: с одной стороны – «правда», «справедливость», «правота», с другой – «управление», «правитель», «правило», «расправа» и др. Очевидно, что они не позволяют определить точный смысл понятия «право», а в лучшем случае обозначают некоторые смысловые связи, приблизительно задают систему координат, в которой располагается право.
Итак, приведенные критерии, которые используются чаще всего (самоочевидность, практическое значение, несовершенство других подходов, авторитетность, этимология слова), ни по отдельности, ни в сумме не могут быть основой для выработки правопонимания. Приходится, видимо, согласиться с той гипотезой, что наиболее типичным способом аргументации в юридической науке выступает ссылка на интуитивное мнение автора[30]. Таким образом, множественность подходов к правопониманию порождается не столько тем, что они отражают реальное многообразие форм проявления сущности права[31], сколько господством интуиции, подсказывающей всем исследователям различные исходные представления, которые и берутся ими за основу в качестве самоочевидных, хотя являются таковыми исключительно для них.
Однако самым распространенным является аргумент «от противного». Иначе говоря, представители тех или иных концепций чаще всего прибегают к аргументам не столько при изложении собственной версии понимания права, сколько в ходе критики альтернативных подходов; таким образом, выявить ценностные установки, характерные для этих теорий, можно при помощи «переворачивания» тех негативных черт (антиценностей), которые усматриваются ими во взглядах оппонентов. Если то или иное понимание права отвергается, становится предметом негативной оценки, то подобные суждения непременно имеют под собой ценностные основания.
В современной России наиболее авторитетными концепциями правопонимания являются либертарно-юридическая и нормативная теории. Они отличаются наибольшей концептуальной завершенностью и определенностью по сравнению с компромиссными и нерешительными попытками построения естественно-правовых, социологических или «интегративных» подходов к пониманию права. Именно конфликт нормативного и либертарно-юридического направлений задал идейную атмосферу, сложившуюся в отечественной юридической науке к началу XXI века вокруг проблемы правопонимания. При этом характерно, что основные положения этих теорий оформились именно в процессе их полемики друг с другом, повторяющей по своему содержанию классический спор юснатурализма и юридического позитивизма.
Для анализа аксиологических особенностей аргументации, свойственных каждому из двух противоборствующих течений, представляются вполне репрезентативными тексты, принадлежащие перу их лидеров – М.И. Байтина и В.С. Нерсесянца.
В работах М.И. Байтина право определяется как система общеобязательных формально-определенных норм, выражающих государственную волю в ее общечеловеческом и классовом содержании. Остальные варианты понимания права он именует «широким» пониманием права, объясняя это тем, что все они включают в состав права, помимо норм, и другие правовые явления (правоотношения, правосознание, правопорядок, акты применения права и т. п.). Именно критика «широкого» понимания права сопровождается аргументами, отражающими ценностные установки автора и его сторонников.
По мнению М.И. Байтина, «широкое правопонимание… так или иначе сопряжено с отходом от отстаиваемых нормативным правопониманием точности, четкости, стабильности сложившихся юридических понятий и категорий, специальной терминологии»[32]. В этой цитате ценностные характеристики, которыми автор наделяет нормативный подход и которые отрицает у «широкого» правопонимания, сформулированы прямо – точность, четкость, стабильность.
В ходе дальнейшей критики эти ценностные установки конкретизируются, прежде всего в части «точности» и «четкости»: широкое правопонимание, согласно М.И. Байтину, «чревато опасностью размывания самой теории права»; «такой подход к пониманию права неизбежно ведет к его растворению в других правовых явлениях», «создает весьма расплывчатое представление о праве»[33]. Эти отрицательные оценки подытоживаются выводом: «Право не может быть чем-то аморфным, “киселеобразным”»[34]. Упоминание об аморфности, т. е. бесформенности, в качестве контраргумента против «широкого» понимания права, свидетельствует о том, что самостоятельной ценностью признается форма.
Такие риторические фигуры, используемые в негативном значении, как «растворение», «размывание», «расплывчатость», имеют общий смысл, обозначая собой опасность утраты границ. «Дальнейшие… попытки принизить значение нормативного понимания права и даже вообще отказаться от него, подменить его широкой трактовкой, смешивающей «Павла с Савлом», не являются конструктивными…»[35], – резюмирует свои аргументы автор. Этой метафорой, очевидно, также подчеркивается ценность различения явлений, которые внешне кажутся сходными. Иначе говоря, в основе этого аргумента лежит признание ценности границ.
Основатель либертарно-юридического направления В.С. Нерсесянц также исходил из дуалистического представления о правопонимании, о существовании двух его основных типов – юридического и легистского, относя к последнему юридический позитивизм и все иные варианты так называемого нормативного понимания права.
Как и М.И. Байтин, В.С. Нерсесянц вырабатывал и формулировал аргументы в пользу либертарно-юридического учения главным образом не при изложении его основных пунктов, а в полемике с «легистскими» концепциями и с некоторыми вариантами «юридического» правопонимания, в частности, с естественно-правовой теорией.
Аргументы против легизма опираются прежде всего на его политическую оценку: «Легистское (позитивистское) правопонимание присуще разного рода этатистским, авторитарным, деспотическим, диктаторским, тоталитарным подходам к праву»[36]. Осуждение легизма (юридического позитивизма) происходит здесь путем связывания его с политическими режимами, скомпрометировавших себя отрицанием такой ценности, как свобода человеческой личности.
Аналогичное ценностное основание прослеживается и в другом критическом аргументе против легизма. Усматривая основной пафос легистского правопонимания в подчинении всех властным приказам и установлениям, что ведет к пренебрежению правами и свободами человека, В.С. Нерсесянц полагает: «Здесь повсюду господствует взгляд на человека как на подчиненный объект власти, а не свободное существо»[37]. Иными словами, вновь идейный порок легизма видится в том, что эта теория не придает должного значения человеческой свободе и тем самым ставит ее под угрозу (ценность свободы в либертарно-юридической концепции презюмируется автоматически и сомнений не вызывает).
Принципиально иная аргументация используется В.С. Нерсесянцем против естественно-правовой теории. Отдавая должное ее достижениям, он ставит в вину этой идеологической доктрине отсутствие необходимой внутренней дифференциации, главным образом при определении сущности права, а также при решении иных вопросов: «в рамках естественно-правового подхода, включая сферы юридической онтологии и аксиологии, смешение права и морали (нравственности, религии и т. Д.) сочетается и усугубляется смешением формального и фактического, должного и сущего, нормы и фактического содержания, идеального и материального, принципа и эмпирического явления»[38]. Таким образом, в данном случае В.С. Нерсесянц пользуется аргументом, который по своему характеру совпадает с доводами М.И. Байтина против «широкого» понимания права. Вслед за представителями нормативного подхода, В.С. Нерсесянц упрекает естественно-правовую теорию в смешивании явлений, различных по своему существу, и тем самым наделяет положительной ценностью такое явление, как граница.
Более того, в противовес естественно-правовой теории с присущей ей склонностью к смешению разнородного, В.С. Нерсесянц обосновывает преимущество своих идей при помощи еще одной ценности, которая роднит их с юридическим позитивизмом: «в отличие от естественно-правового подхода (с его смешением формально-правового и фактического, права и морали, правовых и внеправовых ценностей, относительных и абсолютных ценностей и в целом смешанной формально-фактической и морально-правовой трактовкой равенства, свободы, справедливости и права вообще) развиваемая нами концепция права носит строго формальный (формально-правовой) характер, адекватный праву как форме общественных отношений»[39]. Таким образом, либертарно-юридическая теория исходит из того, что самостоятельной ценностью обладает такое явление, как форма.
Итак, анализ некоторых особенностей дискуссии о правопонимании, состоявшейся между крупнейшими представителями нормативной и либертарно-юридической теорий, позволяет выявить два соответствующих ценностных ряда, определяющих характер приводимых аргументов:
1) Нормативный подход: стабильность, точность, форма, граница;
2) Либертарно-юридическая теория: свобода, личность, форма, граница.
Становится ясно, что противоборствующие концепции имеют общие аксиологические основания, поскольку в полной мере разделяют такие ценности, как форма и граница. По всей видимости, эти ценности являются универсальными для права. Собственно, основное расхождение между двумя подходами сводится к следующему: свобода против стабильности. Эти ценности действительно являются конфликтующими, причем не только в теоретическом мышлении, но и в общественной практике. Свобода как ценность беспрепятственного развития и выбора объективно сопротивляется ограничениям и вызывает эффект непредсказуемости событий. Чем меньше сдерживается свобода, тем выше вероятность того, что будет нарушена социальная стабильность.
Именно эта пара базовых ценностей отражена и в самих названиях конкурирующих теорий. Либертарно-юридическая концепция исходит из высшей ценности свободы, невзирая на связанные с нею риски, включая революции и прочие социальные потрясения. Нормативная концепция ставит выше, чем свободу, ценность порядка и стабильности, которые, в свою очередь, возможны лишь благодаря нормам и в них воплощаются: «Стабильность значимых норм означает и устойчивость принципов воспитания в обществе, разрушение и замещение норм порождает неуверенность и колебания в воспитании вплоть до его полной невозможности»[40].
Таким образом, на материале риторической аргументации можно сделать вывод, что существующая множественность вариантов правопонимания и конфронтация между ними обусловлены не какими-либо случайными обстоятельствами и даже не спецификой применяемых методов познания, а объективно существующими различиями в ценностных ориентациях, которые не могут быть сняты чисто научными средствами.
1.3. Реалистический позитивизм
При всем многообразии подходов к пониманию феномена права, основные позиции могут быть условно сведены к двум направлениям: метафизическому и реалистическому.
Под метафизикой «следует понимать познание мира действительности за пределами явлений, достигаемое посредством возвышающегося над опытом умозрения. Возражение против метафизики не может быть основано на отрицании существования абсолютного, потому что такое утверждение было бы само метафизично. Но, допустив абсолютное, мы можем и должны, на основании условий познания, отвергнуть его познаваемость»[41]. Понимание права как метафизической категории предполагает его рассмотрение «в чистом виде» как некоего феномена, существующего в обществе, однако не зависящего от него. Наиболее образно право как метафизическая категория выражено в концепции естественного права с неизменным содержанием. «Представители этого направления верят в существование абсолютного, вечного и всеобщего правового порядка, который может быть постигнут и раскрыт только a priori»[42]. Как уже было отмечено выше, отвергать подобный подход не имеет смысла, поскольку абсолютная абстракция не может быть ни опровергнута, ни доказана опытным (эмпирическим) путем. Однако признание самого факта существования права как некоего абстрактного явления (наряду с другими абстракциями – закон, государство, преступление и т. п.), не только не упрощает, но, напротив, осложняет решение задачи, связанной с выяснением сущности и содержания механизма правового воздействия на общественные отношения.
Действительно если принять за основу дальнейших рассуждений тезис о том, что право имманентно присуще человеческим отношениям и что основные ценности права носят исторически неизменный характер, то право автоматически теряет непосредственную социальную значимость, приобретая характер «абсолютного идеала», а следовательно, и говорить о регулятивно-охранительной функции права в конкретных исторических условиях переживаемых конкретным социумом попросту не имеет смысла.
Реалистический подход к праву предполагает его анализ в контексте целенаправленной человеческой деятельности. При этом следует различать право как явление объективной реальности и его субъективное восприятие.
Право как объективная реальность характеризуется тремя признаками:
– существование права не зависит от непосредственного участия конкретного субъекта в процессе правотворчества;
– действие права не зависит от субъективной оценки закрепляемых посредством правовых норм предписаний;
– реализация права не зависит от субъективного осуществления либо напротив нарушения правовых предписаний (в первом случае реализация права приводит к позитивному результату для правоисполнителя, во втором, к юридической ответственности правонарушителя).
В субъективном смысле видение права предполагает два направления:
– право, каким его представляет субъект;
– право, каким оно должно быть, по мнению субъекта.
И в первом, и во втором случае мы сталкиваемся с правом в концептуальном (теоретическом) смысле. Однако, любая теория (по крайней мере, теория социальная), должна быть связана с неким практическим приложением. Поэтому ограничиться только концептуальным видением права, означает впасть в схоластику и создать теорию ради теории. Поскольку нас подобный исход не устраивает, попытаемся придать праву в «концептуальном смысле» практический (либо, если угодно, реалистический) характер. Для этого следует расширить область познания и включить в нее, наряду с концепцией права, право в формально-юридическом (нормативном) и функциональном смысле.
Подобная многоаспектность, в свою очередь, предполагает, что «право» представляет собой полисемичную категорию. Назовем лишь некоторые смыслы, обозначаемые данным словом: право – ценность; право – общезначимое правило возможного, должного, недопустимого поведения; право – юридическая возможность того или иного поведения, право – юридически значимые отношения и т. п. Как видим, спектр понимания термина «право» весьма широк. Поэтому для того, чтобы избежать путаницы в дальнейшем, постараемся сразу же определиться, в каком смысле мы будем понимать право.
Право представляет собой комплексную системную категорию, включающую в качестве компонентов следующие составляющие:
– правовые ценности;
– правовой опыт;
– правовую традицию;
– правовую доктрину;
– правовую догму;
– правовую эмпирику.
Правовые ценности представляют собой официально признанные и закрепленные типичные социальные устремления и предпочтения, которые могут различаться по своему масштабу от универсальных (общечеловеческих) до локальных, определяемых сравнительно узким социально-историческим контекстов.
Правовой опыт включает знания, умения, навыки, полученные в результате многократного повторения явлений характерных для правовой жизни того или иного социума. При этом опыт делится на позитивный и негативный. Именно правовой опыт является важнейшей составляющей права сформировавшегося в условиях конкретного социума. Опыт, полученный в процессе социально-правового развития других социумов, можно учитывать либо не учитывать, однако заимствование опыта и уж тем более его перенос с одного социума на другой невозможны в принципе, как невозможно «зеркальное моделирование» обстановки, в которой происходило получение и накопление опыта.
Правовая традиция – сложившееся в ходе длительного (не менее трех поколений) социально-правового развития восприятие права (как на уровне простых граждан, так и на уровне властных структур), получающее свое практическое воплощение в правовом поведении. В отличие от опыта, который может как учитываться, так и не учитываться, однако в любом случае носит осознанный характер, традиция зачастую не осознается (по крайней мере, на уровне индивидуального правосознания), однако является реальной с точки зрения воплощения в правовом поведении. В основу российской правовой традиции положено восприятие права не с юридической, а с нравственной точки зрения. Так, для абсолютного большинства россиян сообщение в органы власти о незначительном правонарушении (нарушении ПДД, налогового законодательства и т. п.) будет ассоциироваться с «синдромом Павлика Морозова», в то время как для западного обывателя подобное поведение свидетельствует о проявлении гражданской активности и об участии рядовых членов общества в правоохранительном процессе.
Правовая доктрина объединяет получившие официальное признание и документальное закрепление положения, определяющие современное состояние и перспективные направления развития правовой системы. Элементами правовой доктрины являются официальные государственные доктрины и концепции (военная и морская доктрины России, концепция национальной безопасности и т. п.). Правовая доктрина не оказывает непосредственного регулятивно-охранительного воздействия на общественные отношения, однако имеет важное значение, прежде всего для сферы правотворческой деятельности.
Правовая догма объединяет однозначно понимаемые в рамках данной правовой системы юридические понятия, принципы, технологии, характеризующие право как инструмент регулятивно-охранительного воздействия.
Правовая эмпирика – это так называемое «живое право», представленное совокупностью формально-юридических источников права (признаваемых в качестве таковых в данном конкретном социуме) и урегулированных посредством этих источников общественных отношений.
Определившись с тем, что право представляет собой сложное с точки зрения понимания явление, попытаемся упростить задачу и рассмотреть право в контексте инструментального подхода. В рамках этого подхода право следует рассматривать в качестве регулятивно-охранительной системы складывающейся из общезначимых (правил) норм, принимаемых в целях обеспечения социальной стабильности, безопасности, развития и оказывающих результативное воздействие на общественные отношения.
Из данного определения можно вывести два основных признака права:
– общезначимость;
– результативность.
При этом общезначимость права представлена как на объективном, так и на субъективном уровне. Объективно право считается общезначимым в силу его официального провозглашения таковым. Вместе с тем в ряде случаев субъекты воспринимают законодательно закрепленные предписания как лишенные реальной значимости (бесполезные и безопасные) декларации. Следовательно, общезначимым, а стало быть, и правовым, издаваемое предписание будет являться только тогда, когда соответствующий субъект осознает обязательность предусмотренного варианта поведения лично для себя, причем число подобных субъектов должно быть достаточным для достижения вышеназванных целей правового воздействия (т. е. для социальной стабильности, безопасности, развития).
Результативность права проявляется в достижении целей правового воздействия. При этом критерием результативности является опыт. В частности, опыт правового развития России в XX веке свидетельствует о неэффективности правовых систем Российской Империи и Советского Союза, результатом чего в первом случае была Октябрьская революция, во втором распад СССР.
Если взять за основу подобное понимание права, то снимаются многие противоречия и, в частности, противоречие «право – государство – закон»; а также «национальное и международное право». Неважно, кто устанавливает правило с точки зрения его провозглашения и официального закрепления, важно, чтобы тот, кто это делает, обеспечивал бы признание правила общезначимым со стороны субъектов, которым правило адресовано, и обеспечивал бы результативность осуществляемого при помощи правила поведения. В подобном понимании говорить о праве как о явлении можно и в условиях архаических структур, и в условиях тоталитарных режимов, и в условиях современных демократий. Меняются формальные и содержательные аспекты, однако суть права и правового регулирования остается неизменной.
Высказанная точка зрения предполагает оценку права как социального явления. При этом в основу права может быть положена протонорма (архаическое право), религиозный догмат (средневековое право), государственно-партийная идеологема (советское право), юридическая норма (современное право).
В рамках концепции реалистического позитивизма в качестве реального права может рассматриваться только действующая система норм. Поскольку только действующие нормы могут оказывать результативное воздействие на общественные отношения. Восприятие права предполагает выделение двух моделей: абстрактного и реального права.
Абстрактное право включает в себя в качестве системных элементов публичное позитивное, публичное негативное и частное право. Соотношение элементов права представлено в таблице.
Система абстрактного права
Публичное право исходит от государства, которое устанавливает правила должного и недопустимого поведения. В свою очередь, частное право может носить как формальный (предусмотренный законом), так и неформальный (не запрещенный законом) характер. В рамках абстрактного права не имеет смысла проводить деление права на материальное и процессуальное, поскольку по сути своей процессуальное право представляет собой нормативный регламент правоприменения, выступающего в качестве одной из форм реализации права. Также не имеет смысла проводить отраслевую градацию, так как любая отрасль включает в себя публично-правовую и частноправовую составляющие. К примеру, в конституционном праве, традиционно относимом к отраслям публичного права, в качестве подотрасли выделяется избирательное право, в рамках которого частноправовая составляющая представлена достаточно отчетливо (юридическая возможность принимать участие в выборах и референдуме, выставлять и снимать свою кандидатуру, поддерживать того или иного кандидата, партию и т. п.).
Реальное право в свою очередь представляет собой право в формально-юридическом (нормативном) и функциональном смыслах.
Право в формально-юридическом смысле представлено совокупностью формально-юридических источников, в которых определяются общезначимые правила поведения, закрепляются механизмы реализации этих правил и меры юридической ответственности за их нарушение. Применительно к праву современной России в качестве источников выступают: акты национального права; акты международного права.
Говоря о системе права в формально-юридическом смысле, следует выделить основные и производные источники, а также источники первичного и вторичного характера.
Основным и вместе с тем первичным источником национального права России является нормативно-правовой акт. В свою очередь, система нормативно-правовых актов образует систему национального законодательства. К числу производных источников следует отнести так называемые прецеденты толкования или нормативные интерпретационные акты (постановления Президиума Верховного Суда, интерпретационные акты Конституционного Суда России). Данные акты обладают признаками нормативных, однако не являются самозначимыми и действуют лишь до тех пор пока действует с интерпретацией которого связаны соответствующие прецеденты.
Вторичными источниками являются международные акты, нормативные договоры, правовые обычаи. В данном случае вторичность источника следует понимать в том смысле, что статус акта в качестве источника национального права России закрепляется на уровне первичного источника – нормативно-правового акта. В частности Конституция России в ст. 15 закрепляет, что «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы»[43]. Обычай делового оборота признается источником гражданского права в ст. 5 действующего ГК и т. д.
Итак, система формального права, по сути, представляет собой совокупность формально-юридических источников. При этом собственно отраслевое деление целесообразно осуществлять на уровне первичных, основных источников, т. е. на уровне системы законодательства. Подобный подход представляется логичным и позволяет решить многие противоречия связанные с имеющейся в современной теории путаницей абстрактного и реального права.
Система законодательства представлена следующими группами:
– материальное (уголовное право), процессуальное (уголовное процессуальное право), комплексное (конституционное право) законодательство;
– отраслевое (административное право), межотраслевое (информационное право, таможенное право, налоговое право и т. п.);
– федеральное, региональное законодательство;
– текущее, чрезвычайное законодательство.
Разобравшись с тем, что из себя представляет право в формально-юридическом смысле следует попытаться ответить на вопрос о том, что такое право в функциональном смысле. Говоря о юридических функциях права, как правило, выделяют два направления правового воздействия: регулятивное и охранительное. В рамках первого направления право представляет собой инструмент при помощи которого обеспечивается стабильность установленных и поддерживаемых при помощи правопорядка отношений в обществе, а также создаются условия для их совершенствования. В рамках второго направления право направляет свое воздействие на предотвращение, выявление, преодоление правонарушений, а также на реализацию мер юридической ответственности в отношении правонарушителей. При этом право в функциональном смысле не может быть сведено только к совокупности источников. Представляется, что функционирующим право может быть признано только в том случае если его воздействие на общественные отношения влечет за собой наступление конкретных результатов. В подобном понимании право представляет собой систему, складывающуюся из общественных отношений достигших в своем развитии уровня соответствующего правилу, закрепляемому в правовой норме; действенных гарантий обеспечивающих реальную возможность субъекта осуществлять предусмотренные соответствующими нормами предписания; саму норму представляющую собой основополагающий элемент права; результативные последствия исполнения (нарушения) закрепленного в норме предписания.
Возникает вопрос, какое право следует считать действующим. В контексте концепции реалистического позитивизма ответить на данный вопрос достаточно просто. Следует различать действие права в формально-юридическом смысле и функциональное действие права.
В формально-юридическом смысле источник действует с момента официального объявления его действующим. К примеру, для федерального закона вступление в юридическую силу связано с официальным опубликованием и определением соответствующей даты. В свою очередь окончание действия акта связывается с его отменой. Однако, наличие формального источника права, являясь необходимым условием для реализации соответствующей функции правового воздействия, вместе с тем не может рассматриваться в качестве единственного и достаточного. Для того, что бы право начало действовать в функциональном смысле, т. е. стало бы оказывать результативное воздействие на общественные отношения, необходимо задействовать систему стимулов побуждающих субъектов, к исполнению предусмотренных правом обязанностей, соблюдению запретов, использованию возможностей.
В качестве таких стимулов следует выделить страх перед ответственностью за правонарушение и выгоду, связанную с правомерным поведением.
В свою очередь страх включает в себя страх перед наказанием и опасение подвергнуться общественному порицанию («потерять доброе имя»).
Выгода складывается из непосредственной (эгоистической), корпоративной и публичной. При этом выгода будет рассматриваться в качестве стимула правомерного поведения тогда когда публичная (корпоративная) польза не будут вступать в антагонистические противоречия с эгоистическими ожиданиями. Так в условиях тоталитарного сталинского режима многие государственные программы строились с учетом исключительно государственной целесообразности (освоение северных регионов, индустриализация страны и т. п.) и не принимали во внимание индивидуальные интересы «людей-винтиков».
Учитывая, что правомерное поведение с точки зрения мотивации может быть представлено как социально-активным и традиционным, так и конформистским и маргинальным, следует сделать вывод о том, что функциональное действие права в любом социуме должно обеспечиваться совокупностью средств и технологий позволяющих с одной стороны добиваться реализации принципа неотвратимости ответственности за правонарушение, а с другой стороны обусловливающих наступление позитивных результатов (как в отношении самого субъекта, так и в отношении корпорации членом которой он является и общества в целом).
В любом случае действие права неразрывно связано с государством, которое от своего имени издает акты, образующие право в формально-юридическом смысле, обеспечивает их реализацию представителями социума (при помощи системы гарантий и стимулов), а также осуществляет меры юридической ответственности в отношении правонарушителей. Именно государство (в силу обладания государственным суверенитетом) придает праву публичный характер, обеспечиваемый в том числе при помощи мер государственного принуждения.
Если согласиться с предлагаемой концепцией права, то возникают вопросы: можно ли подобный подход применить к международному праву и каким образом соотносятся международное и национальное право?
Как уже отмечалось ранее правом, система признается в том случае, если правила в ней закрепленные признаются субъектами, к которым они адресованы и если эти правила оказывают результативное воздействие на соответствующие общественные отношения.
При этом представления о национальном праве базируются на властеотношениях государства и общества, в основу которых положен принцип государственного суверенитета, означающий верховенство государственной власти по отношению ко всем видам социальной власти в пределах государственной юрисдикции. При этом государство обладает монополией на законотворчество, правосудие и применение механизма государственного принуждения.
Современное международное право основано на принципе добровольности участия государств в процессе межгосударственного сотрудничества и равенстве субъектов-участников международных отношений. Применительно к системе международного права представляется целесообразным за основу систематизации принять инструментальный подход, в соответствии с которым международное право представлено тремя составляющими: правом договора, правом обычая, правом войны.
Подобное видение позволяет говорить о международном праве как о формирующейся правовой системе, качественным образом отличающейся от системы национального права. Соотношение систем национального и международного права следует рассматривать с точки зрения первичности национальной системы и вторичности международной. Любое государство, вступая в международные отношения, исходит из первичности национальных интересов по отношению к интересам других государств и международного сообщества (наглядным подтверждением тому является позиция США связанная началом войны в Ираке). При этом признание международного права источником национальной правовой системы, а также определение правил разрешения коллизий между национальными и международным правом закрепляется в национальном законодательстве.
Итак, следует обобщить вышесказанное и сделать некоторые выводы.
1. Концепция реалистического позитивизма предполагает, что правом регулятивно-охранительная система будет являться в том случае, если нормы, из которых данная система состоит, являются общезначимыми и оказывают результативное воздействие на общественные отношения. При этом в качестве целей правового воздействия следует рассматривать обеспечение социальной стабильности, безопасности, развития. Критерием результативности правового регулирования является опыт.
2. Восприятие права предполагает выделение абстрактного и реального права. Абстрактное право представляет собой совокупность норм, в основу систематизации которых положено деление права на публичное позитивное, публичное негативное и частное. Реальное право представлено правом в формально-юридическом и функциональном смысле. Право в формально-юридическом смысле представляет совокупность формальных источников включающих в себя первичные и основные (законодательные акты); производные (нормативные интерпретационные акты); вторичные (международные акты, нормативные договоры, юридические обычаи). Право в функциональном смысле складывается из правовых норм, общественных отношений, на урегулирование которых нормы направлены, гарантий реализации и достигаемых посредством правового воздействия результатов.
3. Действие реального права включает в себя действие права в формальном смысле, определяемое моментами вступления и утраты юридической силы правовыми актами и действие права в функциональном смысле определяемое результативностью правового воздействия. Для обеспечения результативного правового воздействия используются стимулы: страх и выгода.
4. Национальное и международное право соотносятся как самостоятельные правовые системы. При этом национальное право выступает в качестве первичного, по отношению к международному. В основу национального права положены властеотношения государства и общества, предполагающие сосредоточение полноты властных полномочий на государственном уровне и обеспечение результативности правового воздействия за счет механизма государственного принуждения. В качестве элементов национального законодательства следует рассматривать материальное, процессуальное, комплексное законодательство; отраслевое и межотраслевое законодательство; федеральное и региональное законодательство; текущее и чрезвычайное законодательство. Международное право представляет собой формирующуюся систему, основанную на добровольности и равенстве отношений государств-участников. В качестве элементов системы международного права выступают право договора, право обычая, право войны.
1.4. Правовой реализм
1.4.1. Компаративный анализ вариантов правового реализма
Правовой реализм – философско-правовая концепция, основанная на актуализации правоприменительных процедур, психологическом восприятии фактичности права, отрицанию избыточной метафизики, вступающей в противоречие с эмпирическими наблюдениями исследователя.
Обращаясь к историческим предпосылкам возникновения правового реализма в североамериканском, скандинавском и советском обществах, следует отметить, что правовой реализм стал популярным в первой половине XX века. Можно выявить некоторые сходные черты развития правовых культур Северной Америки, скандинавских стран и Советского Союза в период между первой и второй мировыми войнами. Действовали как минимум три общих принципа: доминирующее значение правовой доктрины (в неодинаковых вариантах), сильная зависимость юриспруденции от неюристов, прагматизм юридических методов. Авторы правовых доктрин в названных территориях не совпадали: в США доктрину формировали высшие судебные инстанции и университетские теоретики, в Скандинавии – философские школы, в постреволюционной России – организованные группы лиц, удерживающие публичную власть в своих руках: В.И. Ульянов с сотоварищами, затем – И. Джугашвили и лидеры Коммунистической партии. Правоприменители «на земле» были связаны доктринальными установками сверху в не меньшей степени, чем текстами нормативных актов. Это оказывало особенное воздействие на занятых в судебной индустрии людей, не имеющих фундаментального юридического образования.
В американской юриспруденции зависимость от неюристов проявилась через развитие судов присяжных, где обычные граждане принимали практически значимые решения о виновности или невиновности подсудимых на основании психологической интуиции и обывательского мнения. Скандинавское право оказалось подвержено влиянию неюристов через нижестоящие суды, в которых со средних веков активно действовал институт «nämnd», состоящий из группы местных жителей, имеющих право коллективно голосовать вопреки мнению судьи по всем фактическим и правовым обстоятельствам дела[44].
Дополнительным основания для доминирования неюристов в Швеции стала нищета государства на протяжении многих веков. Швеция являлась страной слабого феодализма, управление было сконцентрированно в одном месте, централизованная судебная структура (сохранившаяся с XVII в.) корреспондировала с такой же простой административной структурой. Местные власти либо отсутствовали, либо были чрезвычайно бесправны; для сравнения: в это же время в некоторых французских регионах насчитывалось восемь судебных инстанций, включая феодальные и королевские суды[45].
Шведские апелляционные инстанции требовали значительного числа юристов, государство с трудом могло справиться с такой потребностью. Правовое обучение появилось в Швеции в XVII в., однако преобладание неюристов среди преподавателей приводило к ограниченному выбору отечественной правовой литературы. Шведское юридическое обучение отражало идею права как прагматичной деятельности, большинство произведений шведской правовой литературы XVII–XVIII вв. составлялось в форме руководства для судей. Право было упаковано в упрощенные формы, поскольку не хватало ресурсов для глубоких исследований, юридическая литература издавалась для читателей с неглубоким или вообще отсутствующим правовым образованием. Авторы юридических пособий не всегда могли в полной мере разобраться со сложными правовыми концепциями и доктринами[46]. В этом заключалось существенное отличие Швеции от южной Европы и сходство как с системой общего права, так и с новым правом Советской России.
Прагматичные, политико-ориентированные решения, которые стимулировал правовой реализм, попали на плодородную почву в Швеции, где право никогда не теряло своей связи с жизнью обычных людей, где юристы-профессионалы не монополизировали сферу своей деятельности, как это было в южных областях Европы.
Американские, скандинавские и советские юристы первой половины XX в. имели разные национальные истории, но они разделяли общее понимание своей роли как посредника между правом и обычным человеком в суде, между книжным правом и практическими проблемами общества. Первая мировая война переросла в длительный экономический кризис, многие политически значимые решения приводились в действие посредством инструментов позитивного права. Американские, скандинавские и советские правоведы намного сильнее, чем их коллеги в других обществах, разделяли общую предпосылку о том, что право существует в виде практического инструмента. В таком смысле в период между двумя мировыми войнами американское, скандинавское и советское право становилось в большей степени опытом, нежели логикой и аргументативной концепцией.
Если американские и скандинавские юристы являлись прагматиками благодаря вековой традиции, то советские юристы были вынуждены восходить от революционной практики к правовой теории. Следует помнить, что победившие в ходе Октябрьской революции 1917 г. (государственного переворота, свержения легитимной власти насильственным путем) политические силы вначале старый юридический мир «разрушили до основанья», и только после этого на поле Tabula rasa начали строить «наш новый» социалистический (коммунистический) мир.
Послевоенные голодные годы, растущий мировой кризис, революция и гражданская война в России требовали от правовой сферы ежедневных практических решений. Начиналась грандиозная эпоха, в которой источником права для судебных инстанций становились в первую очередь социалистическое правосознание и революционная целесообразность. «В условиях, когда делались лишь первые шаги по организации социалистического государственного управления, когда у советского законодателя еще отсутствовали необходимые данные и достаточный опыт для детального декретирования тех или иных преобразований, когда буржуазная правовая система была в основном сметена, а новое законодательство имело еще фрагментарный характер, – в этих условиях революционная целесообразность воплощалась не только в советском праве, но и в самостоятельном, не регламентированном декретами революционном творчестве местных советских органов. В тот период соображения революционной целесообразности выступали зачастую критерием правильности, законности действий органов и должностных лиц Советской власти, ибо далеко не все вопросы были урегулированы в новом законодательстве»[47].
Сформировавшиеся в революционную эпоху реалистические подходы к решению конкретных юридических задач укоренились в социалистическом праве на многие десятилетия и едва ли можно утверждать, что в современном российском праве они перестали использоваться. Отечественные критические правовые исследователи ссылаются на «заказные», политически мотивированные уголовные дела, посредством которых действующая публичная власть расправляется с лидерами оппозиции. Разве в XXI в. не остаются актуальными слова выдающегося реалиста своей эпохи М.И. Калинина: «война и гражданская борьба создали громадный кадр людей, у которых единственным законом является целесообразное распоряжение властью. Управлять для них значит распоряжаться вполне самостоятельно, не подчиняясь регламентирующим статьям закона»[48]. Концепция правового реализма оказалась удобным инструментом для правящих кругов не только в Советской России, но и в Северной Америке, и в Скандинавии. Во всех трех правовых культурах в этот период конкретное судебное разбирательство с определенными результатами стояло впереди научной теории, а не наоборот.
1.4.2. Соотношение права и политики
Подход правовых реалистов к соотношению права и политики может быть рассмотрен как альтернатива традиционному двухвариантному видению «права как политики» в естественно-правовых концепциях versus «либо право, либо политика» в правовом позитивизме. Понимание правовых реалистов может быть обозначено как «перекрестное», т. к. американский и скандинавский правовые реализмы считали право и политику «пересекающимися» феноменами. Правовые реалисты осознавали наличие нормативного ядра с деятелями права и методами обоснования, отличными и независимыми от политических идей, что способствовало устойчивости права. Тем не менее реалисты также признавали, что правовой и политический миры в действительности имеют размытые границы и до определенной степени пересекаются друг с другом, поэтому можно говорить лишь о частичной устойчивости права от политики.
В противоположность естественно-правовым теориям нероссийские реалисты рассматривали право как только частично сталкивающийся с политикой, а не полностью встроенный в неё феномен. Нормативное ядро состоит из видения права как механизма принуждения, передающегося от одного поколения другому вне зависимости от его ценностного содержания и политических доктрин. Со временем право приобрело определенный уровень легитимности, основанной скорее на нормативных элементах, выраженных в методах принятия и вступления в силу конкретной нормы, нежели на политических действиях[49]. Например, даже если решения судей зависят от политики, но в то же время эти решения должны разумно согласовываться с юридическим образованием и ограничениями, возложенными существующими методами правового доказывания[50].
Реалисты открывают дверь эмпирическим аспектам правового феномена как конститутивным элементам природы права, в смысле конкретного поведения людей и их социально-психологических оснований. «Наша (реалистов) цель обозначения концепции права не в развенчивании нормативных идей, а в том, чтобы дать им отличающуюся интерпретацию, понимая их такими, какие они есть: выражением конкретных своеобразных психофизических практик, являющихся фундаментальным элементом правового феномена»[51]. Эта двухэлементная природа права, отстаиваемая реалистами, была поддержана Энрике Паттаро, когда он говорил о двух видах правового реализма, выделяя альтернативный и традиционный правовой реализм. Согласно Паттаро, правовой реализм может быть разделен на нормативный реализм (например, Росс в качестве представителя этого направления) и ненормативный реализм (с Лундштедтом и Франком)[52].
Важное отличие правовых реалистов от позитивистов в том, что последние считают, будто бы политические ценности трансформируются в правовые категории до того, как эти категории входят в правовой мир. Перекрестный же подход реалистов, с другой стороны, заявляет о том, что политические ценности иногда напрямую входят в правовой мир и напрямую влияют на формирование правовых концепций[53]. Правовые реалисты постоянно подчеркивают, что право является чем-то большим, чем просто логическая и закрытая система норм, закрепленных на бумаге (law in books), т. е. реалисты заявляют, что право представляет собой эмпиричный феномен, состоящий из комбинации человеческого поведения и превалирующих идей о сущности права (law in action)[54].
Правовой реализм в Америке и Скандинавии представил свое видение соотношения права и политики: реалисты понимали право как механизм властного воздействия на человеческое поведение, но отличное от политического «убеждения» или пропаганды. Однако данный механизм должен основываться на существующих в обществе ценностях, чтобы его считали обязательным. Правовые реалисты США и Скандинавии в исследовании концепции влияния политики на право подчеркивали частичную устойчивость права к воздействию мира политических ценностей.
Российский правовой реализм первой половины XX в. ставил право в полную зависимость от политических действий лидеров революции и коммунистической партии. Под правом в революционной действительности рассматривались не столько нормативные акты, сколько воля правящего субъекта, которым мог оказаться комиссар, коммунист, избранный народом судья или просто авантюрист, эксплуатирующий революционную риторику. Правом можно обозначить совокупность результатов и способов возникновения и реализации субъективных прав и обязанностей. К источникам права, наряду с нормативными актами, следует относить и юридическую практику. Под юридической практикой принято понимать деятельность уполномоченных органов по созданию и применению нормативных предписаний в совокупности с правоприменительными актами. Правосознание и правоотношение являются также важными элементами права, на которых базируется законопослушное поведение. В определенные периоды эволюции российского правопорядка революционное правосознание становилось единственным источников права и основанием принятия как судебных решений, так и внесудебных актов (например, расстрел, изъятие собственности и т. п.).
Права одного субъекта корреспондируют с обязанностями другого, их взаимодействие может быть основано как на разуме и справедливости, так и на произволе и насилии. Закон есть всего лишь один из источников права, подавляющее большинство населения не изучает нормативные акты, получая информацию о них из средств массовой информации и от других лиц. В обыденной жизни человек руководствуется здравой житейской логикой, традициями, деловыми обыкновениями, религиозными установками. Независимо от наличия тех или иных законодательных установлений, их реализация на практике зависит от свойств личности правоприменителя (например, судьи) и качеств объекта правоприменения. Судья интерпретирует норму и оценивает юридические факты по собственному усмотрению, руководствуясь знаниями, опытом, субъективными симпатиями и антипатиями. Профессиональные деформации юристов (обвинительный уклон судьи, оправдательный уклон защитника) подчас имеют большее значение при принятии решения, нежели текст закона. Сознание правоприменителя опосредует его действия, детерминирует существо и детали принимаемого решения.
На формирование российского правового реализма оказали значительное влияние социо-психологические подходы к праву. Таинственная русская душа всегда требовала справедливости, но в ее особом, индивидуальном понимании. Американский профессор Альберто Хавьер Тревиньо проводит параллель в идеях американского профессора Роско Паунда, австро-немецкого правоведа Ойгена Эрлиха и профессора Санкт-Петербургского университета Льва Петражицкого: «Хотя все три упомянутых юриста были «реалистами» в том смысле, что их представление о праве основывалось на наблюдении и умозаключении, а не на априорных размышлениях, природа правовой реальности для каждого из них определяется тем, что они рассматривали в качестве главного объекта своего анализа. Для Паунда объектом анализа является правовой порядок политически организованного общества, для Эрлиха – юридические факты социальных групп, а для Петражицкого – индивидуальное восприятие индивидом своих прав и обязанностей… Наиболее неортодоксальной является индивидуально-субъективная ориентация Петражицкого, учитывая то, что его взгляды на право не были материалистическими. Или, говоря иными словами, право приобретает внешнюю форму только после того, как оно было спроецировано на людей и предметы из внутреннего опыта индивида. Для Петражицкого правовая реальность существует только в субъективном сознании индивида, который атрибутирует права и обязанности другим, а не в какой-то объективной реальности «где-то там»[55].
1.4.3. Американский правовой реализм
Американский реализм, развиваемый Оливером Венделлом Холмсом, Джеромом Франком, Карлом Ллевеллином, Джоном Грэем и др., основывался на философии прагматизма. Недоверие к схоластическому теоретизированию, оторванному от юридической практики, породило стремление обратить философию права к реальным правоотношениям, выявить действительные закономерности развития социумов. Не только для российской теории права характерен разрыв с эмпирическими реалиями юридической действительности, американские исследователи также утверждали, что для понимания сущности права нужно от абстрактным формулировок перейти к закономерностям реальных судебных процессов.
Авторы концепции манифестировали то, что судьи на самом деле решают дела не так, как это описывается в учебниках. Заявление О. Холмса о праве как предсказании того, что в реальности будут делать судьи, и не более того, – вполне понятны практикующим российским юристам. Действительно, в реальной жизни на решение суда влияют много факторов, в том числе – психология судей, их система ценностей, неосознаваемые предпочтения и предрассудки. Тексты законов занимают здесь далеко не первые места. Как утверждал Холмс, жизнь права не подчиняется логике, а решения судей по существу непредсказуемы. Юридические нормы существуют и влияют на принятие решений, но нормы – всего лишь один из факторов, формирующих поведение судей. Если реальность такова, что внеправовые детерминанты неизбежно влияют на решения суда, мы должны обязательно учитывать это.
Давно пора открыто провозгласить, что при вынесении судебных решений некоторые экстралегальные обстоятельства обязательно должны приниматься во внимание. Эти актуализированные интенции могут свести к нулю действие текстуальной нормы, что усложняет для непосвященных в «судебное колдовство» лиц прогноз предстоящего решения судьи. А предсказуемость судебного решения – важный принцип стабильности правопорядка. Согласно взглядам реалистов действующее право создается не законодателем путем установления абстрактных норм, а судебными и административными органами в ходе разрешения конкретных споров, возникающих между людьми. Основная функция реалистической философии и теории права – предсказание возможных действий органов, осуществляющих применение права, практическая способность «расколдовать» судебное таинство, сделать процедуру судопроизводства более прозрачной, понятной обычному человеку, сформировать критерии предсказуемости будущего решения.
Отвергая представление о праве как идеальной сущности, в которой воплощены правовые ценности и принципы, познаваемые логическими рассуждениями и абстрактными аргументами, О.В. Холмс заявляет, что только фактические действия суда составляют право как оно есть (сущее в праве). По его словам, жизнь права не подчинена логике, а соответствует опыту. Это значит, что первым требованием к юридической теории становится соответствие эмпирическим данным. Право прежде всего должно отвечать реальным потребностям общества (большинства населения). Второе требование к юридической теории – разграничение права и морали. Порядок в обществе основан на том, что человек – смертное существо, поэтому нужно избегать моральных оценок в спорах о праве[56].
Движение правового реализма рассматривалось как альтернатива взглядам позитивистов и теории естественного права. Идея устойчивости (rigidity) права по отношению к политике и гибкая «перекрестная» (intersecting) модель[57], где вокруг нормативного ядра права располагался мир политики, соединяла основные американские и скандинавские идеи взаимодействия правового феномена с политическим. Американские реалисты понимали феномен права как сочетание нормативных элементов (решения судов) и социопсихологических элементов (судейское поведение). Устойчивость права по отношению к политике существует в исходной посылке, поскольку право состоит не только из одних бумажных норм (paper rules)[58], а является результатом работы судов и их решений по конкретным делам.
Устойчивость права также обеспечивается тем, что правовые нормы и концепции являются продуктом поведения особенных деятелей (судей)[59], их «особенность» заключается в процессах отбора, обучения и практики, которые в совокупности позволяют им в большей степени абстрагироваться от политических и моральных оценок.
Именно через субъективное воление судей в общество внедряются противоположные ценности, что и определяет одну из главных черт права: лингвистическую неоднозначность. Причина полисемантической природы правового языка заключается в том, что используемые судьями правовые концепции и категории могут проявляться в неопределенном количестве прецедентов, в неодинаковых методиках оценки фактов и в конфликтующих интерпретациях норм. Лучшая из версий правового реализма предполагает, что точное значение правового высказывания – условие, при котором юрист посчитает высказывание верным – зависит от контекста[60]. Право имеет тенденцию к устойчивой позиции по отношению к миру ценностей в том случае, если оно основывается на возможности судьи выбирать между разными нормативными категориями, а не разными ценностями.
Одной из центральных задач американского правового реализма является улучшение предсказуемости судебных решений. Нормы, методики и должностные лица – те конститутивные элементы реального права, которые принадлежат главным образом правовому, а не политическому миру. Карл Ллевеллин подчеркивал, что задачей правового реализма является «не уничтожение норм, а грамотная расстановка слов и бумаги на перспективу»[61].
Судьи зависят от ценностного окружения, в котором они учились, живут и работают. В этом и заключается идея продуцируемого судьями права (не книжного), которая отражает степень влияния социальной и политической среды на рассмотрение дела. Только через призму среды можно понять, как и почему какая-либо норма, концепция или категория стали правом и были использованы или созданы в судебном решении. Как отмечал Феликс Коген «задача предсказывания включает в себя не суждение об этической оценке… Фактами являются суждения о представлении судей о ценностях жизни и идеалах общества»[62], что дает возможность узнать содержание права, созданного судьями.
В традиции американского правового реализма право рассматривается как довольно устойчивое по отношению к политике явление, потому что право определяют судьи, которые допускают применение в праве ценностей политического мира только в том случае, если эти ценности принимают форму правовых концепций и категорий. Тем не менее, данная устойчивоть является частичной в силу неопределенности правового языка и большого количества противоречивых прецедентов. По этой причине право должно пониматься как совокупность всех его элементов, включая ценностную среду и политику в перечне его конститутивных элементов. Реалист не отрицает нормативный характер правовых норм, но он заявляет, что эти нормы не дают полного объяснения действительного поведения судов, должностных лиц или других лиц, вовлеченных в правовые операции[63].
1.4.4. Скандинавский правовой реализм
Скандинавская школа правового реализма (Аксель Хагерстрем, Карл Оливекрона, Вильгельм Лунштедт, Алф Росс и др.) отрицает принципы метафизического обоснования права и правовой позитивизм. Основная идея А. Хагерстрема состоит в трактовке права как психологической реальности – «волевого импульса». Он рассматривает правовую норму как императив, содержащий требование конкретного действия, приказная форма выражения нормы выполняет функцию подавления противоположных приказу волевых импульсов и побуждает поступать согласно содержанию данной нормы. В отличие от подавляющего большинства теоретиков права А. Хагерстрем считал, что правовые нормы не имеют ничего общего с ценностями и регламентируют поведение людей просто воздействием волевого импульса, самой императивной формой, в которую облечено приказание. Аналогичную позицию занимал и К. Оливекрона. Согласно его представлениям, правовой императив, который моделирует воображаемую ситуацию и воображаемое действие, представляют собой явления одного порядка. Разница между моралью и правом для него состоит в том, что специфика правовых императивов – в их связи с применением силы. И не потому, что выполнение правовых норм гарантируется и защищается при помощи силовых механизмов, а потому, что само их содержание относится преимущественно к проблемам применения силы, регламентирует человеческое поведение в тех аспектах, которые связаны с применением силы.
По мнению В. Лунштедта и А. Росса право выполняет необходимые социальные функции и служит самосохранению общества, социальная организация детерминирует процесс правотворчества. Право порождается в процессе формирования социальной организации: именно благодаря наличию организованных групп в обществе возникает потребность в сотрудничестве и кооперации, направленных на социальные цели, а не просто на биологическое выживание и воспроизводство жизни. То, что полезно с точки зрения укрепления социальной организации и достижения поставленных обществом целей, – и составляет социальное благосостояние для данного общества, определяя содержание права. Социальное благосостояние включает в себя ощущение гражданами безопасности, психологического и материального комфорта, развитие индивидуальных способностей и качеств, свободу предпринимательства и т. п. Согласно концепции действенности права, правовые нормы являются ключом к интерпретации и прогнозированию социальных действий. Эффективность права заключается в том, что оно обеспечивает постоянное следование большинства людей требуемому правовыми нормами образу действий, а также в том, что этот образ действий ощущается большинством людей как нечто общеобязательное[64]. Скандинавская школа правового реализма рассматривает право таким, каково оно есть в правовой реальности, право – это факт и окружающая нас юридическая реальность[65].
Скандинавские правовые реалисты провозглашали идею частичной устойчивости правовой природы и структуры права по отношению к политике, однако для них частичная устойчивость права не производна от исследования центральной роли правовых деятелей (в частности, судей) в феномене права (как для американских реалистов). Скандинавские исследователи избрали другой, более традиционный путь концептуального анализа, – они сконцентрировались на различных концепциях и категориях, конституирующих сущность права, субъективные права, обязанности, собственность, вред и т. д. Причины этого у скандинавских реалистов не совпадают: если для В. Лундштедта и К. Оливекроны причина выведена из следования философской концепции пути, сформулированной Хагерстремом, анализ А. Росса берет начало из следования некоторым примерам позитивизма[66]. Тем не менее, независимо от этих различий, все скандинавские правовые реалисты сходились во взглядах на две конкурирующие идеи о сущности права.
Во-первых, правовые концепции и категории per se отделены от какой-либо системы моральных, религиозных или политических ценностей. Право является комплексом лингвистических или символических сигналов, установленных с целью провоцирования определенного поведения, или «директивами», указывающими обществу и судьям пути следования[67]. Правовые нормы характеризуются не соответствием ценностным задачам, а своей функцией. Направление права (к цели А или противоположной цели Б) не влияет на метод его действия. Скандинавские реалисты рассматривали внутреннюю природу права как относительно независимую от окружающей ценностной среды.
Доказывая идею относительной ценностной нейтральности права, исследователи часто использовали правовую историю. Эта традиция идет напрямую от Хагерстрема и его «раскрытия» современных правовых концепций через исследование древних категорий и концепций Римского права[68]. Они показывали, что еще с древнего Римского права правовой феномен был механизмом, хотя и проходящим через разные экономические, социальные и политические среды, всегда работающим одинаково. Право всегда было комплексом норм, регулирующим использование силы. Скандинавские реалисты отрицают идею подвижности права и того, что необходимо делать отсылку к ценностным элементам моральной природы (таким как справедливость и доброта), политической природы (демократия, воля парламента) или экономической природы (эффективность).
Норма законна и поэтому обязательна для общества, даже если она крайне несправедлива или экономически неэффективна. Важно то, что норма работает в реальности как стимул, заставляющий людей следовать конкретным образцам поведения. Этот момент предваряет вторую идею сущности права по мнению скандинавских правовых реалистов: правовой феномен только частично устойчив к политическому миру (так считали и американские правовые реалисты).
Право имеет свойство обязывать конкретное общество (или конкретных правовых деятелей, например таких как судьи) к определенному поведению до тех пор, пока оно действительно. Правовая норма или концепция считается действующей с момента, когда она практически вступила в силу, т. е. когда большинство населения признали и начали соблюдать данную норму или концепцию и считать её социально обязывающей. Согласно А. Россу, внедрение в понятие действительности права этих двух компонентов (эффективность вступления в силу и обязательный характер как социальное чувство) сводится к одной из классических антиномий философии права: факт того, что право считается «в одно и то же время чем-то фактическим в мире реальности (эффективность) и чем-то действительным в мире идей (обязательная сила)»[69].
Таким образом скандинавские правовые реалисты восприняли интерпретацию права как комплекса норм и категорий с устойчивой природой по отношению к миру ценностей; норм и категорий как обязательного права, вне зависимости от типа имплементированной в общество идеологии. Право всегда действует одинаково автономно от политики. Однако устойчивость права только частична, т. к. существует необходимость открывать право окружающей политической и социальной среде, что происходит через централизацию правовых концепций и категорий на их «действительности». «Действительность» означает, что они «в силе», соблюдаются и, что наиболее важно, воспринимаются как обязательные большинством населения или его компетентной частью (т. е. судьями).
Несмотря на различия вариантов правового реализма и в основных теоретических предпосылках (прагматизм в Соединенных Штатах Америки, мистическая философия в Скандинавии, партийная идеология в Советском Союзе), и в областях исследования (работа судов в Америке, нормативные тексты в Скандинавии, диктатура пролетариата, революционный террор, финансово-политическая олигархия в России), все эти течения были направлены на преодоление препятствующего общественному развитию юридического формализма и утверждению понимания права как социо-психологического феномена.
1.4.5. Российский правовой реализм
Движение правового реализма стремилось, в том числе, уменьшить влияние формализма в судопроизводстве, актуализировать значение судейского субъективизма, сделать процесс принятия решений более предсказуемым. Наиболее радикально формализм в праве был преодолен в ходе октябрьской (1917 г.) революции в России. Декретом о суде № 1[70] была упразднена вся существовавшая ранее система юстиции и предусмотрено создание новых судов и революционных трибуналов. Новое право создавалось в парадигме «жесткого» правового реализма, частными принципами которого в Советской России становились диктатура пролетариата, народность судов, революционная целесообразность, военный коммунизм, произвольное и насильственное перераспределение собственности и др. Юридическое образование для занятия места судьи или следователя перестало быть обязательным. Движение социалистического правового реализма не было оформлено доктринально, но оно имплицитно содержалось и развивалось в рамках культурологической концепции социалистического реализма.
Российский правовой реализм – сложившаяся в постреволюционной России и продолжающая действовать по настоящее время законодательная и правоприменительная доктрины, согласно которым декларативные нормы справедливого порядка не обязательно совпадают с юридической практикой. К наиболее распространенным признакам доктрины российского правового реализма можно
отнести: вождизм при назначении руководителей судебных и правоприменительных подразделений, правовой нигилизм (правоприменителям дозволено почти все), культивирование преданности начальству в ущерб профессиональному долгу, трансформация понимания профессионального долга в направлении цеховой солидарности правоохранительно-судебного блока, избирательность правосудия, существование касты неприкасаемых из числа субъектов публичной власти, зависимость законодательного и судейского корпуса от исполнительной власти (на всех уровнях), отсутствие действительной ответственности следователей, прокуроров, судей за правоприменительные нарушения, торжество обвинительного уклона, укоренившаяся практика технической фальсификации материалов уголовных дел, формирование судейского корпуса преимущественно из бывших следователей, прокуроров, судейских работников, непредсказуемость (непоследовательность) судебных решений, необоснованное затягивание расследования и судебного рассмотрения уголовных дел, доминирование меры пресечения в виде заключения под стражу, порочные юридические технологии, исключающие контроль за формированием доказательств стороной обвинения, волюнтаризм и необоснованность решений следователей, использование арестов по преступлениям экономической направленности для решения коммерческих задач, игнорирование принципа экономии правовых сил и средств.
Среди источников дальнейшего развития российского правового реализма следует отметить:
1) Преемственность абсолютизма в различных исторических формах. Известные формы абсолютизма (неограниченный, просвещенный, партийный, советский, постсоветский и т. д.) обеспечивали несменяемость типа политического режима. Смена формы правления изменила иерархию нормативных систем, но монистический дух империи и поныне можно рассматривать как онтологическую особенность российской правовой доктрины. Реформы Петра I, изменения законодательства во второй половине XIX в., Октябрьская революция 1917 г., корректировки политического курса в связи со сменами вождей и трансформацией правящей партии – суть «настройки» правящего режима государства, обеспечивающие максимальную продолжительность удержания государственной власти в руках одного клана финансово-политических олигархов.
Под именем законного государственного принуждения легализуется насилие субъектов публичной власти по отношению к экономическим и политическим конкурентам. Российские особенности коммерческой деятельности вынуждают многих предпринимателей подчиняться комплексу коррупционных требований субъектов публичной власти. Органы законодательной и исполнительной власти состоят преимущественно из коммерсантов либо лиц, представляющих их интересы. Включенность субъектов в политический процесс позволяет использовать ресурсы власти для личного и корпоративного обогащения.
2) Единство трех ветвей власти, подчиненных руководителю исполнительного органа. Допустимо рассматривать все методы управления, практикуемые публичной властью, как единую административную деятельность. Идеи ее реформирования, активно развиваемые в XIX – начале XX вв., были пресечены Октябрьской революцией 1917 г. Диктатура пролетариата укрепила фундаментальную базу единства исполнительной, законодательной и судебной властей. Длительный период функционирования советских органов власти выработал практику подчинения правоохранительных и судебных органов партийным руководителям. Современная исполнительная власть, объединившись с правящей партией и ее сателлитами, заручившись поддержкой руководителей религиозных конфессий, обеспечивает неукоснительное подчинение своим интересам корпуса законодателей и судей.
3) Управление всеми ветвями власти осуществляется из единого центра ручным методом. Состояние правопорядка находится под прямым воздействием руководителей исполнительной власти соответствующего уровня. Высочайшая техническая оснащенность, мировой уровень профессионального мастерства и неограниченное финансирование спецслужб способствуют своевременному исключению любых возможностей смены устоявшейся практики управления государством.
4) Развитие идеи доброго царя. Право на этой территории есть воление руководителя исполнительной власти этой территории при одобрении верховного правителя. Если американский правовой реализм можно редуцировать к формуле «право есть то, что говорит о нем судья», то в российском правовом реализме толкование закона правоприменителем сводится к подтверждению позиции руководителя исполнительной власти рассматриваемой территории в контексте идей главы государства. В период формирования социалистического реализма функции доброго царя исполнял Иосиф Джугашвили, в дальнейшем ролевая функция «отца народов» трансформировалась, но по настоящее время большинство населения России верит в единственного милостивого, милосердного правителя, альтернативы которому не может быть. Так уж повелось издревле на Руси, что правитель приходит и не уходит, пока его не прогонят, – но чаще всего правит до скончания жизни, независимо от итогов своей (в западноевропейском понимании) менеджерской деятельности. А законодатели и судьи становятся всего лишь проводниками, реализаторами воли верховного правителя и его вассалов. Юридико-техническая возможность оспорить незаконное или необоснованное действие субъекта исполнительной власти создает иллюзию возможности утверждения варианта толкования нормы, отличного от официального. Однако принципы государственного управления не меняются в случае выявления отдельных ошибок его служащих. Российскому правовому реализму при его этатистских корнях свойственна разветвленная морально-этическая риторика об особой российской демократии, о справедливых принципах государственного распределения, о честности избирательной процедуры, об отсутствии альтернатив действующему руководителю и т. д. и т. п.
В досоветский период исполнительная власть промоутировала веру в доброго царя-батюшку, после Октябрьской революции 1917 г. пропагандистские кампании публичной власти развивали веру в конкретных вождей, возглавлявших партийную (политическую) и исполнительную власть в государстве. Поскольку партийная власть совпадала с исполнительной и практически формировала законодательную и судебную ветви, а также воздействовала на религиозные конфессии, именно ее воля доминировала в правовом пространстве. Вера в царя, в лидера нации, отца народов и т. п. поддерживалась пропагандистскими институтами государства, навязывая населению идею безальтернативного вождя. Российская история свидетельствует о больших возможностях массовой пропаганды и легкой внушаемости российского населения в условиях информационной ограниченности.
5) Патернализм и социальное рабство. Работники, получающие деньги из государственного бюджета, составляют большую часть населения государства. Образование, медицина, культура, спорт и другие социально-значимые институты финансируются из бюджета. Пенсионное обеспечение, оплата нетрудоспособности по болезни и инвалидности, поддержка малоимущих лиц, родителей малолетних детей также осуществляются централизованно. В некоторых регионах бюджетные деньги являются единственным способом для получения пищи и крова. Поскольку патерналист в той или иной степени исполняет свои социальные обязательства, он требует от подчиненных отдавать свои голоса за него и представленных им лиц, делегируя часть своих полномочий иерархическим структурам на местах.
Российский патернализм имеет насыщенную историю: заботливые образы царя-батюшки, вождя пролетариата, отца народов, умудренного десятилетиями правления президента – внедряют идею зависимости всех людей от «главного начальника». Обожествление персонифицированного суверена корреспондирует с бесправием и раболепством подданных, отрицанием свободы и несменяемостью, абсолютистской парадигмой власти. У подчинённых вырабатывается комплекс неполноценности, поскольку они не имеют возможности без помощи царя, вождя, отца и т. д. изменить к лучшему свои жизни. Патерналист последовательно препятствует институализации гражданского общества, интенсивно манипулирует избирательными процедурами, замыкая все рычаги управления государством и обществом на себя. Более половины трудоспособного населения не имеет самостоятельного дохода, независимого от государственных дотаций, что упрощает манипулирование волеизъявлением кормильцев и членов их семей.
Патерналист, распоряжающийся бюджетом государства, «исключительно в силу своей доброты и мудрости» одаряет граждан вспомоществлениями. Распоряжаясь общенародными деньгами, как своими, он полагает, что граждане не в состоянии принимать политически значимые решения самостоятельно, поэтому обязаны выполнять его команды, либо указания делегированных им лиц. Отдельные «ошибки и просчеты» в действиях конкретных исполнителей демонстративно исправляются верховным правителем, что должно упрочивать веру народа в незаменимость патерналиста.
6) Доминирование двух государственных индустрий: сырьевой (включающей энергетическую субиндустрию) и тюремной. Сырьевая индустрия включает в себя разведку, добычу полезных ископаемых, их транспортировку, переработку и продажу. В нее также входит создание, транспортировка и продажа всех видов энергии, получаемой как из природных (сырьевых) запасов, так и из использования особенностей территории (гидроэлектростанции, солнечные, ветровые, прибойные электростанции). Имущественные и неимущественные права на объекты сырьевой и энергетической индустрий принадлежат узкому кругу лиц, в том числе государству. Управленческие, логистические и финансовые операции от имени государства в этих индустриях осуществляют лица, прямо либо опосредованно подконтрольные исполнительной власти.
Тюремная индустрия в широком значении включает в себя не только Федеральную службу исполнения наказаний, но и весь правоохранительный, фискальный и карательный комплекс государства: уголовную и административную юстицию, ФССП, МВД, СК, ФСКН, ФСБ, ФТС, ФНС и т. д. В тюремную индустрию частично включены законодательные органы, поскольку в их компетенцию входит криминализация деяний, ужесточение уголовных санкций. К тюремной индустрии можно отнести часть оборонного комплекса, так как в нем существуют институты дознания, ограничения свободы, спецслужбы; военные следственные органы и военные судьи не свободны в принятии решений от своего военного руководства. Военный комплекс в мирное и военное время выполняет не только функцию защиты от внешнего врага, но и обеспечивает стабильность реализации решений исполнительной власти на обширной территории государства.
За несколько последних десятилетий изменились подходы и методы работы спецслужб, диктатура перестала быть пролетарской, но историческая память народа содержит воспитательный опыт Архипелага ГУЛАГа[71]. Удачная стратегия управления сырьевой (включая энергетическую) и тюремной индустриями позволяет публичной власти находить достаточное количество средств для исполнения социальных обязательств перед населением, а также планомерно ликвидировать социально-политическую и экономическую активность лиц, препятствующих реализации воли суверена.
7) Доктрина «минного поля». Законодательный орган, реализуя установку исполнительной власти, наращивает карательные нормы административного и уголовного законодательства. Катализация санкций направлена в отношении неопределенного количества лиц: задачей является сделать виновными и наказанными максимальное количество людей. Стигматизация населения имеет существенные экономические и политические эффекты: граждане платят штрафы и поражаются в правах; государство в лице уполномоченных органов лишает их возможности заниматься определенными видами предпринимательской деятельности, полноценно реализовывать политические права, управлять транспортными средствами, выезжать за границу и т. д. Запуганное политическим, экономическим и юридическим прессингом население России больше не желает критиковать публичную власть, выходить на митинги, – многие от политического и экономического бессилия снова прячутся на кухнях и шепотом рассказывают политические анекдоты. Изощренные методы стигматизации придумывают налоговые службы и государственные фонды, например, меняя формы отчетности за короткий период до окончания сроков сдачи этой отчетности, чтобы спровоцировать массовые нарушения и наложить взыскания. Службы организации дорожного движения совместно с ГИБДД непредсказуемо меняют направления движения транспорта на улицах, регулярно в незаметных местах располагают новые запрещающие знаки, целенаправленно организовывают и эксплуатируют так называемые «ловушки для водителей» и т. д.
Именно зарождение доктрины «минного поля» характеризует Н. С. Таганцев: «Реформаторская деятельность Петра Великого, охватывавшая все стороны государственной жизни, конечно, выразилась и в столь же обширной законодательной деятельности, и, в частности, в законодательстве уголовном: беспрестанно являлись указы, установлявшие наказания случайные, ad hoc, нередко противоречивые и по отношению к Уложению, и между собой; в судебную практику вносились хаос и безурядица. Как говорили сами законодатели, «после старого много раз указы изданы и в разное время выдавались, и затем одни с другими несогласны, через что случается поддержка бессовестным судьям, которые, подбирая указы, на которую сторону хотят, решают»[72].
Ужесточение уголовного законодательства о защите чувств верующих[73], легитимирующего уголовное наказание в виде лишения свободы за «оскорбление религиозных убеждений и чувств граждан» делает уязвимыми любые рассуждения на религиозные темы. После введения этой нормы вся территория Российской Федерации становится большим «минным полем», где каждое неудобное публичной власти высказывание о религиозных убеждениях и чувствах (например, заявление агностического, атеистического либо иного аксиологического характера) может повлечь оскорбление экзальтированных чувств отдельных верующих граждан, за что автор высказывания может быть осужден к лишению свободы на срок до трех лет с дополнительным ограничением свободы до одного года.
Введенная летом 2014 г. статья 212.1. УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» предусматривает уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет за… «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние совершено неоднократно». Законодатель непосредственно в уголовном законе аутентично разъясняет, что «нарушением установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совершенным лицом неоднократно, признается нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это лицо ранее привлекалось к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, более двух раз в течение ста восьмидесяти дней».
Статья 20.2 КоАП РФ, запрещающая нарушать установленный порядок организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, практически запрещает вообще какие-либо собрания, митинги, демонстрации, шествия, не одобренные субъектами публичной власти. Из сопоставления ст. 20.2 КоАП РФ, ст. 212.1. УК РФ и ст. 140 УПК РФ прямо следует, что возбудить уголовное дело за такое преступление и осудить на пять лет лишения свободы в современной России можно любого человека при наличии желания публичной власти и рапортов нескольких полицейских.
Критики действующего политического режима, к коим я не отношусь, приводят большой перечень категорий “минного поля”, в том числе законодательство об «иностранных агентах», приговоры по политически мотивированным уголовным делам и т. п., но методы минирования и типы закладываемых мин для теории права имеют второстепенное значение. В теоретическом плане следует учитывать воздействие доктрины «минного поля» на реальную правоприменительную практику.
8) Формирование судейского корпуса из людей, поддерживающих интересы «вертикали» исполнительной власти, готовых к реализации обвинительного уклона в административном и уголовном судопроизводстве. В целях обеспечения реализации воли исполнительной власти с 1917 г. по настоящее время на судейские должности назначаются лица, подтвердившие свою лояльность к правящей политической партии. В современной России уголовные дела рассматривают судьи, более 90 % которых в прошлом являлись сотрудниками правоохранительных органов или работниками судов. В российских судах первой инстанции подавляющее большинство судей уголовной юрисдикции имеют опыт следственной или прокурорской деятельности. Почти все они рассматривают в качестве своей должностной обязанности всяческое содействие стороне обвинения в исправлении недостатков предварительного расследования. Так называемый «обвинительный уклон» судей уголовной юрисдикции можно рассматривать в качестве сформировавшейся «презумпции вины». Упомянутая в ст. 14 УПК РФ презумпция невиновности почти не применяется на практике.
В законодательно закрепленной Концепции судебной реформы отмечается: «Гласность, приоткрыв завесу «служебных тайн», выставила напоказ язвы судопроизводства: коррупцию, сокрытие преступлений от учета, дутые показатели раскрываемости, почти полное отсутствие оправданий, отработанную технологию добывания лжепризнаний и осуждения невиновных. Пресловутый обвинительный уклон был наглядно зафиксирован в результате изучения 343 уголовных дел, осужденные по которым были в конечном итоге реабилитированы вышестоящими судебными инстанциями: хотя адвокаты в 98 % случаев просили оправдать подзащитных, суды вопреки материалам дел постановляли обвинительные приговоры»[74].
Если в Великобритании на оплачиваемые должности судей могут претендовать только юристы с длительным адвокатским стажем (требования к стажу адвокатской деятельности возрастают в зависимости от статуса суда), то в России опыт адвокатской деятельности имеет менее 1 % судей уголовной юрисдикции. Этот фактор оказывает существенное влияние на характер толкования норм административного, уголовного и уголовно-процессуального права. По причине неразвитости административной ветви судов общей юрисдикции большую часть административных дел рассматривают судьи уголовной юрисдикции, экстраполируя «презумпцию вины» на толкование закона применительно и к административно-правовым отношениям.
9) Избирательность и релятивизм правоприменителей. Избыточная аксиологичность и вариабельность российской нормативной системы позволяет правоприменителям быть избирательными как в выборе субъектов ответственности, так и в виде и размере наказания. Действующее материальное и процессуальное законодательство в сфере уголовных и административных правоотношений содержит большое количество оценочных категорий, позволяющих, в зависимости от их толкования исполнительной и судебной властью, возбуждать или не возбуждать уголовное / административное производство, арестовывать или не арестовывать человека, прекращать или не прекращать производство по делу. Эти свойства используются правоприменителями в корпоративных целях: в правовой действительности возможно возбуждение уголовного и административного преследования в отношении лиц, оспаривающих точку зрения субъектов исполнительной власти (так называемых оппозиционеров), в отношении лиц, не желающих по требованию руководства добровольно освободить должность, в отношении политических и экономических конкурентов.
Избыточная вариативность санкций уголовного законодательства и обширные уголовно-процессуальные возможности правоприменителей сформировали релятивистский подход к принятию решений. Отсутствие стандартных требований к достаточному обоснованию выносимых решений, необходимому описанию аргументативных последовательностей – позволяет правоприменителям сокращать мотивировочную часть актов применения до полного отсутствия обоснований выносимого решения. В схожих обстоятельствах правоприменители могут принять диаметрально противоположные решения: мотивировка, характерная для резолютивной части одного вида решения, необоснованно может закончиться контрастирующим итогом. Непредсказуемость интерпретативной аргументации толкователя, необъясняемая разница в решениях по аналогичным делам демонстрируют обществу экстралегальные, в том числе социально-психологические, политические и экономические зависимости правоприменителя.
Действующая в современном судопроизводстве доктрина толкования закона позволяет наполнять абстрактные аксиологические категории материальных и процессуальных кодексов любым содержанием. Активно пропагандируется судейское мнение о том, что любое решение суда, вступившее в законную силу, является справедливым. Исследования, приводимые в Концепции судебной реформы, выявили, что «более четырех пятых опрошенных судей связывают резкое изменение судебной практики с изменением политической ситуации и установок, исходящих от вышестоящих инстанций. Сохраняется опасность, что вместо «телефонного права» заступит «право мегафонное» или любое другое беззастенчивое «право», что колеблющаяся юстиция, не осознавшая своего истинного предназначения, станет, как то и было, рупором завоевавшей господство политической силы. Ни судьи, ни работники правоохранительных органов не воспринимают себя как часть корпорации, призванной, несмотря ни на что, утверждать право и закон, что делает подобные опасения обоснованными»[75].
Современный правовой релятивизм, по мнению И.Л. Честнова, – это отсутствие универсальных объективных критериев оценки социальных явлений и процессов, включая правовые. Оценка зависит от позиции наблюдателя (принцип дополнительности) и ограниченной возможности предвидеть отдаленные последствия (которые зачастую являются латентными) более или менее сложного социального действия[76].
Двойная мораль российского общества стала общепринятой нормой. Способность читать между строк в начале XXI в. вновь актуализируется как важное качество для россиянина. Запрет на критику религиозных деятелей, использующих государственное финансирование, демонстративные уголовные преследования лиц, критикующих публичную власть, стигматизация правозащитной деятельности, маркирование независимых от патерналиста некоммерческих организаций как «иностранных агентов» – эти и многие другие тенденции способствуют утверждению двойных стандартов интерпретации правовой реальности. Проблематичность законодательного закрепления расслоения общества и неравенства прав компенсируется практически неограниченными возможностями толкования закона. «В российском обществе аксиологический статус права отличается двойственностью. С одной стороны, официальная правовая идеология, выраженная в различных источниках, начиная с Конституции РФ и заканчивая авторитетными доктринальными текстами, исходит из высокой социальной ценности права, которое не сводится к воле государства, а представляет собой самостоятельное, необходимое и незаменимое начало общественной жизни. С другой стороны, сама общественная жизнь полна примеров, свидетельствующих о том, что ценность права для многих оказывается по меньшей мере неочевидной – когда правовые императивы игнорируются, отодвигаются в сторону для решения тех или иных текущих задач различной степени важности. Складывается впечатление, что расхождение между декларируемой ценностью права и фактическим отношением к нему в обществе стало вполне привычным и чуть ли не естественным явлением»[77].
10) Независимость публичной власти от населения, их взаимная неприязнь и недоверие друг к другу. Благополучие и процветание правоприменителей и официальных интерпретаторов не зависит от их позитивного вклада в улучшение жизни населения. В постсоветский период наблюдается устойчивая закономерность, – чем больше средств субъект публичной власти смог извлечь из преимуществ своего положения, тем качественнее можно оценить условия его жизни. Отдельные показательные демонстрации наказаний конкретных должностных лиц могут быть основаны на личных противоречиях с ними и необходимости освобождения искомой должности для нового лица. Высокомерие части правоприменителей корреспондирует с подобострастием граждан, не имеющих возможности повлиять на судьбу оценки и толкования своего правоотношения иным способом. Большая часть гражданского общества рассматривает публичную власть как узкую группу лиц, занятую своим экономическим обогащением через политические институты. В таком дискурсе затрудняется процесс признания населением законов и вариантов официального толкования этих законов, принятых конкретными лицами в своих экономических и политических интересах. В каждом новом официальном толковании гражданин ожидает очередное ограничение его прав, расширение полномочий субъектов публичной власти, усиление «минного поля».
Утраченное доверие большой части населения не беспокоит публичную власть, поскольку прямо не отражается на благосостоянии ее субъектов. Лукавость и двойные стандарты правителей способствуют формированию институтов гражданского одобрения обмана публичной власти и игнорирования ее декретов. Уклонения от уплаты налогов и хищения у государства многими гражданами не осуждаются (поскольку государство – это «они», а «они» и так «берут сколько хотят»), возникает тенденция рассматривать хищение у государства как восстановление социальной справедливости, растет солидарность водителей в выявлении сотрудников ГИБДД с радарами, критикуются действия полиции по разгону митингов и решения судей по массовых арестам и т. п.
Противостояние населения и публичной власти подтверждают и ее руководители, – по мнению Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева «в самой сути государственной службы заведомо заложено неприятие со стороны граждан». «Вариант того, что на госслужбе можно быть аполитичным», премьер-министр даже не рассматривает. “Кто так говорит, лукавит, – отметил он. – Если ты пришел служить определенному государству, которое управляется определенным набором политических сил, ты все равно так или иначе будешь иметь собственную позицию”»[78].
11) Неспособность гражданского общества к реальной политической конкуренции. С 1917 г. правящая в государстве партия объединяет почти всю публичную власть, практическая несменяемость руководителей государства делает невозможным системный контроль гражданского общества за группой лиц, управляющих государством. Правовой нигилизм официальных интерпретаторов закона превратился из отклонения от нормы правосознания в вариант его нормы. В среде субъектов публичной власти сформировалась особая корпоративная солидарность, способствующая сокрытию нарушений от внешней среды (населения). Цеховая взаимовыручка сплачивает исполнительную, законодательную и судебную власти на горизонтальном и вертикальном уровнях, способствуя отстаиванию групповых интересов. Сосредоточение в руках одной группы лиц всех инструментов контроля корректности избирательных процедур делают практически невозможным для обычного гражданина доказательно убедиться в достоверности результатов голосования.
* * *
Обобщая краткое исследование американского, скандинавского и российского дискурсов правового реализма следует отметить потенциальную возможность рассматривать эту концепцию в качестве альтернативы вековым спорам между теорией естественного права и правовым позитивизмом. Правовые реалисты стремились создать обновленную, практически реализуемую правовую теорию для объяснения существующего правопорядка. Именно правовой реализм позволяет трезво оценить не только ваш действительный правовой статус, но и реально предположить пути его изменения. Ни юснатурализм, схоластирующий по поводу ваших естественных прав, ни позитивизм, перечисляющий нормы бумажных законов, не в состоянии объяснить, почему при всех законных и справедливых аргументах решение суда не удовлетворило ваши притязания и как следует действовать, чтобы добиться искомого результата.
1.5. Соотношение права и закона в контексте юридико-лингвистического анализа
Ранее мы уже говорили о том, что проблема понимания права относится к числу вечных тем научно-теоретических дискуссий. Как правило, суть этих дискуссий сводится к различным интерпретациям соотношения феноменов «право» и «закон». В данном разделе мы акцентируем внимание на историко-правовом и юридико-лингвистическом аспектах проблемы.
1.5.1. Понимание закона и правды в Древней и Средневековой Руси
Экскурс в историю образования слов «закон» и «право» позволяет говорить, что изначально для обозначения объективной системы регулятивно-охранительных норм использовалось слово «закон». Слово «право» – появляется в русском юридическом языке лишь в конце XVII – начале XVIII вв. в результате трансформации слова «правда». Следует отметить, что понимание правды в Древнерусском государстве и Средневековой Руси существенным образом отличалось от современного. Если в настоящий момент правда является синонимом истины (антиподом лжи), то в Древней и Средневековой Руси словом «правда» назывался акт княжеского нормотворчества[79]. В функциональном смысле правда представляла инструмент ПРАВления, используемый ПРАВителем для реализации собственных властных полномочий. Получалось, что правда – это формализованная воля государя. Следовательно, не могло существовать правды, отличной от государевой воли[80].
Рассмотрение проблемы соотношения терминов «правда» и «закон» в древнерусском праве, на наш взгляд, целесообразно осуществлять в контексте сравнительного анализа понятий «закон» и «обычай».
По мнению В.И. Сергеевича, в Древней и Средневековой Руси «обычай» и «закон» представлялись как тождественные категории. «Наш начальный летописец, – пишет В. И. Сергеевич, – упоминает не одни только «законы отцов», но и «обычаи отцов». Слова «законы» и «обычаи» заменяют у него одно другое. Предания, идущие от отцов, он без различия называет то обычаями, то законами. Эти законы и обычаи имеют у него один и тот же источник: деятельность отцов»[81]. Таким образом, в отличие от правд, представлявших собой результат княжеского нормотворчества и являвшихся своего рода протозаконодательными (в современном понимании слов «закон» и «законодательство») нормативными правовыми актами, «законы русские» являли образцы юридических обычаев, «применяемых к отдельным случаям в силу согласного убеждения действующих лиц в необходимости подчиняться им»[82].
По мнению В. И. Сергеевича, «обычное право возникает под воздействием двух сил. Во-первых, индивидуального сознания насущных интересов человека, под влиянием которого определяется тот или другой способ его действий. Это начало самоопределения (автономии). В его основе – личный интерес, личное усмотрение о том, что должно быть при данных условиях, а не отвлеченная идея правды или справедливости. Но самоопределение само по себе не творит еще обычного права. Из него возникают только отдельные действия, известная практика. Если действия личной воли разных лиц будут одинаковы в одинаковых случаях и их накопится значительная масса, возникает вторая сила, побуждающая всех знающих о существовании известного образа действий, известной практики – действовать так же. Это инертная сила обыкновения. Образ действия, избранный некоторыми, всегда более энергичными людьми, становится общей нормой, обычаем благодаря тому, что другие привыкают, более или менее пассивно, действовать так же. Некоторая практика переходит в повальный обычай потому, что путем пассивного подражания действиям передовых людей слагается убеждение в необходимости действовать именно так, а не иначе. Обычай идет не от общего, а от индивидуального убеждения, но становится более или менее общим. Говорим «более или менее» потому, что убеждение каждого, исполняющего обычай, в истинности, справедливости и разумности его оснований вовсе не нужно для действия обычая. Нужно только общее убеждение в необходимости действовать согласно с господствующей практикой. При этом условии люди будут подчиняться обычаю, хотя лично тот или другой из них может и не иметь соответствующего убеждения. «Повальный обычай, что царский указ», – говорит русская пословица, то есть обычай так же обязателен, так же связывает волю, как и указ»[83].
Таким образом, и закон русский (обычай), и русская правда (государев указ) в основе своей имеют индивидуальную волю-правомочие. Вместе с тем, важнейшим отличительным признаком закона (обычая) является его объективность. Возникнув в результате сложения индивидуальных воль и последующей передачи от поколения отцов к поколению детей закон (обычай) является обязательным как для правителей, так и для подвластных. В отличие от закона, правда исходит от государя (великого князя), который, являясь творцом правды, тем самым возвышается над ней и, соответственно, изданной им самим правде не подконтролен и не подотчетен. «Король не подвластен никаким людским законам, и никто не может его ни судить, ни наказывать, – пишет в своем трактате «Политика» Крижанич Юрий, – две узды, кои связывают короля и напоминают о его долге, это – правда и уважение или заповедь Божия и стыд перед людьми»[84]. Таким образом, в отличие от закона (обычая), который оказывает свое регулятивно-охранительное воздействие только до тех пор, пока наиболее активные представители социума живут в соответствии с обычными нормами, государева правда изначально предполагает существование двух нормативных стандартов: правды государя и правды для государя. Последняя, как было сказано выше, сводится к божественной воле и собственной совести.
Определившись с тем, каким образом в Древней и Средневековой Руси соотносились понятия «правда» и «закон», следует попытаться разобраться с социально-юридической сущностью самого закона.
В древнерусском языке в качестве тождественных используется два слова «закон» и «покон». Однако, на наш взгляд, будучи однокоренными и взаимосвязанными, эти слова, вместе с тем, несут различную смысловую нагрузку. Попытаемся данный тезис обосновать.
В качестве коренного для «закона» и «покона» выделяется слово «кон».
Кон означает предел, границу, и вместе с тем некое начало, определенное место в известных границах[85].
Предлог за с винительным падежом выражает чувственно ощущаемый предел движения (поведение, выходящее за пределы нормального; корабль, скрывающийся за линией горизонта; солнце, спрятавшееся за тучей).
Предлог по имеет несколько иное значение и обозначает направление движения к намеченной цели (пойти по грибы (по воду), по гроб обязанный и т. П.).
Употребляемое слитно в качестве приставки за придает слову ограничительный смысл и тем самым устанавливает очевидный, либо предполагаемый Запрет на совершение тех или иных действий (забор, запруда, закрытие и т. П.). Наличие запрета автоматически обусловливает либо наличие специального разрешения на его преодоление, либо заранее определенное наказание за несанкционированное преодоление.
Приставка по в отличие от за придает слову Побудительный смысл «Повод поступать тем или иным образом». При этом Побуждение само по себе не является обязательством и обеспечивается не принудительными (карательными), а стимулирующими (поощрительными) мерами[86].
Таким образом, слова «закон» и «покон» в древнерусском языке отражали два функциональных смысла права – ограничительный и, соответственно разрешительно-запретительный и побудительный, управомочивающий. В подобном понимании право-закон означало установление определенных пределов, ограничивающих свободу поведения индивидуальных и коллективных субъектов. В свою очередь, право-покон выступало в качестве масштаба свободы поведения – правомочия. Обычай, являясь формой права в Древней и Средневековой Руси, одновременно выполнял и функции закона (правоограничения), и покона (правомочия).
Постепенное вытеснение обычного права (Закона Русского) из механизма правового регулирования, сложившегося в российском государстве, происходило под влиянием усиления социально-юридической значимости указного права (закона княжеского), в рамках которого трансформация великокняжеских правд в царские (а в последствии в императорские) указы носила не сущностный, а лишь формально-содержательный характер. Именно глава государства – государь (вне зависимости от того, как назывался занимаемый пост) на всем протяжении истории российского государства выступал в качестве верховного законодателя. Сведение закона к формализованной воле государя означало качественное изменение смысла данной категории. Закон утрачивал качества необходимой, всеобщей и существенной связи явлениями объективной реальности (в подобном качестве он выступал применительно к обычному праву) и приобретал значение правила, метода, средства, устанавливаемого субъектом в определенных целях и несущего на себе печать вторичного, содержащего характеристику объекта явлений умом человека[87].
Обобщая вышесказанное можно выделить два этапа восприятия проблемы соотношения права и закона в истории отечественной политико-правовой мысли доимперского периода.
На первом этапе имеет место дифференциация обычного (закона русского) и указного (княжеской правды) права. На данном этапе слово закон (покон) используется для обозначения обычного права, являющегося основным источником древнерусской правовой системы. В основу обычая как источника права положена передающаяся от поколения к поколению правовая традиция (закон отцов). В свою очередь, правда представляет собой систематизированный и кодифицированный нормативный акт, в основу создания которого положены как нормы обычного права, так и прерогативы князя в сфере административного нормотворчества и судопроизводства. Правда в отличие от обычая (народного права) есть право указное (государево). Сам государь (князь), выступая в качестве правдотворца, вместе с тем, в юридическом смысле правде не подчинялся, возвышался над ней и использовал ее в качестве инструмента правления. Таким образом, первоначально в индивидуальном и общественном сознании сосуществуют два образа права: право – закон русский – сформировавшееся в рамках и посредством правовой традиции обычное право, и право – правда – возведенная в закон воля князя. В подобном представлении наиболее близка к современному пониманию закона именно правда, сочетающая в себе основные черты нормативного правового акта (особый порядок разработки и принятия, документальное закрепление, атрибутивность и структурированность, обеспечение системой государственных гарантий и мер юридической ответственности).
На втором этапе правогенеза обычное право вытесняется княжеским (указным). Понимание закона сводится к формализованной и обеспеченной государственным принуждением воле государя[88]. При этом сам государь является юридически безответственным субъектом, ответственным в своей правотворческой и правореализационной деятельности только перед Богом и собственной совестью.
1.5.2. Соотношение понятий «закон» и «узаконение» в Российской Империи
Формирование Российской Империи является одним из важнейших этапов в истории российской государственности. Официальный статус Империи Россия получила в 1721 г., после того как Сенат провозгласил Петра I Императором Всероссийским и Отцом Отечества[89].
Завершение процесса абсолютизации монархической власти означало окончательное утверждение указного права государя, получившего официальное наименование закона. «Главная причина, обусловившая господство закона в качестве источника права… состояла в том, что единственным субъектом законодательной власти стал самодержавный государь, воля которого творила закон»[90].
Однако, обретя статус закона, воля государева должна была иметь определенные юридические формы. В своей книге «Теория закона» Ю. А. Тихомиров говорит о том, что «закон в материальном смысле рассматривается как акт государственной власти, содержащий правовые нормы общего характера, а закон в формальном смысле охватывает любые акты, изданные законодательным органом безотносительно к характеру содержащихся в них норм»[91]. Получается, что любой акт, изданный на высшем государственном уровне следует рассматривать в качестве закона российского государства[92]. С подобным утверждением нельзя согласиться. Возникает вопрос: являются ли тождественными категориями понятия «закон» и «законодательный акт»? Думается, нет. Оставив пока проблему, насколько указное право, в принципе, имеет право называться законом, следует обратить внимание на то, что в процессе функционирования законодательная власть издавала постановления как нормативного, так и ненормативного характера, называемые общим термином «узаконения». Следовательно, в системе имперского права следует дифференцировать законодательные акты (узаконения) и законы.
Говоря о системе законодательных актов (узаконений) обычно различают:
1) указы – акты высшей юридической силы, содержащие нормы общезначимого характера. Можно назвать такие значимые акты как Указ об учреждении губерний и о расписании к ним городов 1711 г., Указ об учреждении Правительствующего Сената и о персональном его составе 1714 г., Указ о фискалах и о их должности и действии 1721 г., Указ о должности генерал-прокурора 1724 г. и др.
2) уставы (артикулы) – акты, содержащие нормы права, регламентирующие организацию и деятельность отдельного ведомства, либо определяющие порядок правового регулирования в определенной сфере социальных отношений. Таковы, например, Артикул (Устав) воинский 1716 г. и Артикул морской 1720 г., Устав вексельный 1729 г., Устав благочиния 1728 г. и др.
3) регламенты, учреждения, образования – документы, нормы которых регулировали порядок организации и деятельности государственных учреждений. В качестве примеров могут быть названы Генеральный регламент 1720 г., регламенты отдельных коллегий 1719–1721 гг., Учреждение о губерниях 1775 г., Образование Государственного Совета 1810 г., Образование министерств 1802 и 1811 гг. и др.[93]
Особое место в системе законодательных актов (узаконений) Российской Империи занимали манифесты и грамоты.
Традиционно в современной юридической литературе манифест характеризуется как декларативный акт, содержащий в себе специализированные нормы (как правило, нормы-цели и нормы-принципы). В основу такого подхода положен дословный перевод позднелатинского термина manifestum – призыв. Однако, подобная смысловая характеристика применительно к манифестам, принимаемым в условиях императорской России, на наш взгляд, не отражает в полной мере функциональную нагрузку данного вида узаконений. Представляется, что целесообразно выделять три вида манифестов: доктринальные манифесты, манифесты-преамбулы и правоприменительные манифесты.
Доктринальный манифест выполнял те же функции, которые в настоящий период выполняет государственная доктрина, то есть определял наиболее значимые направления государственной политики в определенной сфере социальной жизнедеятельности. К доктринальным манифестам следует отнести Манифест о даровании вольности и свободы дворянству 1762 г., Манифест об усовершенствовании государственного порядка 1905 г. и др.
Манифест-преамбула не имел самостоятельного значения и использовался в качестве вводной части к соответствующему документу. Так, Образование Государственного совета 1811 г. по структуре представляет собой двуединый акт, состоящий из Манифеста и собственно Образования. В Манифесте раскрываются причины, вызвавшие создание Государственного совета, закрепляются основные принципы его деятельности и определяются предметы ведения образуемого органа.
Правоприменительные манифесты использовались для объявления монархом о его правах или намерениях, а также информирования о каком-либо чрезвычайном событии. Примерами правоприменительных манифестов являются акты «О коронации императора Петра II», «О вступлении на Всероссийский престол Государыни Императрицы Елизаветы Петровны и об учинении присяги» и др.[94]
Грамоты выполняли функции актов наделительного характера. В частности, Жалованная грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства 1785 г. подтверждала основные положения Манифеста 1762 г. и в значительной степени преумножала привилегии представителей дворянского сословия. Грамота на права и выгоды городам Российской Империи 1785 г. регламентировала организацию и деятельность вводимых органов городского самоуправления[95].
Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что в системе имперского законодательства слова «узаконение» и «закон» рассматривались как тождественные. Понятие закон использовалось как обобщенное наименование всех актов высшей государственной власти. В том же Уставе благочиния отмечается, что «Управа благочиния не взыскивает с людей исполнения по закону, буде закон не обнародован»[96]. Таким образом, закон являлся в большей степени субстанциональной (абстрактно-логической), а не формально-юридической конструкцией. Вместе с тем, в императорском периоде уже сознается различие понятий закона и административного распоряжения. В частности, дифференцируются постоянные и временные указы. Под первыми понимаются такие, «которые в постановлении какого дела изданы по вся годы», под вторыми – временные распоряжения (говоря современным языком – акты правоприменения)[97]. Соответственно, законами следует считать только постоянные (нормативные) указы. Также предпринимались попытки провести разграничение законов и административных распоряжений (подзаконных актов). В Проекте уложения государственных законов М. М. Сперанского отмечается: «Закон положительный не что другое есть как ограничение естественной свободы человека. В отношении к свободе они (законы. – Р. Р.) могут быть разделены на два главные класса. В первом должно положить те постановления, коими вводится какая-либо перемена в отношениях сил государственных или в отношениях частных людей между собой. Во втором те, кои, не вводя никакой существенной перемены, учреждают токмо образ исполнения первых. Первым принадлежат в точном смысле толкование закона, вторым – уставов и учреждений. Первые должны составлять предмет законодательного сословия, вторые же относятся к действию власти исполнительной»[98]. Однако терминологическое разграничение законов и административных распоряжений носило сугубо умозрительный характер. На практике никакой разницы между различными видами актов высшей государственной власти не делалось. Одной из причин подобного безразличия являлось то, что российская «юридическая терминология никогда не отличалась особенной определенностью и устойчивостью, почему с тем или иным наименованием, под которым являлся в свет данный закон, не связывалось всегда одного определенного содержания, и нередко сама практика употребляла известные термины в весьма различных смыслах»[99].
1.5.3. Соотношение понятий «право», «закон», «законодательный акт» в условиях советской политико-правовой системы
Октябрьская революция 1917 г. традиционно рассматривается как фактор, обусловивший трансформацию отечественной государственно-правовой системы. Начало революции ознаменовалось вооруженным государственным переворотом – деянием, относимым к наиболее тяжким видам преступлений во все времена и во всех государствах. Однако, победив в вооруженном противоборстве, новая власть стала единственной и в силу этого легальной политической силой, осуществляющей функции публичного управления страной и людьми. Естественно, что для осуществления управления была необходима нормативная система. Такой системой стала система советского права, в структуре которого место основного инструментального элемента занял институт советского законодательства. Понимание права в условиях советской правовой реальности формировалось под воздействием двух основополагающих принципов:
– приоритета партийных догматов над юридическими;
– классовой природы права.
Низведя право до инструмента классового правления, новая власть порвала с многовековой традицией, согласно которой на правовую систему налагались этические ограничения, независимо от того, были ли они кажущимися или реальными. Приняв такую точку зрения, большевики истолковали право как продолжение политической власти. Формула «революционная целесообразность равняется революционной законности» выражала признание новым режимом только тех правовых норм, которые служат интересам революции[100].
Право вершить суд и вмешиваться в человеческие судьбы перестало быть трагической проблемой, поскольку потерял всякую актуальность вопрос о нравственной ответственности судей. Десятки тысяч смертных приговоров «врагам революции» недрогнувшей рукой подписано судьями различных судебных органов, руководствовавшихся в своей деятельности не каким бы то ни было нормативно-правовым актом (старорежимные акты не действовали, а новых попросту не было), а пролетарским чутьем. Отсутствие юридически установленного перечня преступлений обусловило осуществление правосудия по аналогии права с субъективным правосознанием лиц, вершивших «суд скорый». «Введение аналогии вполне оправдывается социалистическим правосознанием, – писал М. А. Чельцов-Бебутов. – Если видеть в обществе (в идеале) трудовое единство, определяющееся общей верховной целью, то падает понятие об уголовном кодексе как хартии свободы отдельной личности. Общее благо – общий закон, который должен быть понятен и близок каждому. Всякое же вредоносное деяние (либо бездействие), препятствующее прогрессу, есть преступление»[101].
Учитывая вышесказанное, можно выделить следующие основные черты, характеризующие государственную правовую систему в первые годы Советской власти: праву была предназначена чисто служебная (а точнее обслуживающая) роль; вопрос о законности (как о публичном правовом режиме, ограничивающим как индивидуальную свободу, так и государственную волю) вообще не ставился; подчеркивалась свобода администраторов и судей отступать от требований нормативно-правовых актов по мотивам целесообразности; допускалась (а в ряде случаев и поощрялась) децентрализация правотворчества, когда судьи на местах решали, кого и за что судить; и, наконец, главное – в рассматриваемый промежуток времени государственной властью был признан абсолютный приоритет политической точки зрения над юридической. По словам Н. Неновски, в этот период государство как суверенная власть в определенном смысле сливается с диктатурой пролетариата, проявляется как ее орудие. «Над ним не стоят никакие законы, никакие верховные абстрактные естественно-правовые принципы, которые могли бы его связать абсолютным образом. Никакой закон не может связывать выражение воли господствующих классов. Всякий закон, включая конституционный, в любое время может быть изменен или отменен, если потребности классового господства вызовут такую необходимость»[102].
Отождествление государства с диктатурой властвующего класса имело двоякую задачу. Во-первых, по существу, вне закона были объявлены представители «враждебных» классов, практически лишенные советской властью гражданских прав. Во-вторых, правовая безответственность государства, неприятие абстрактных, естественно-правовых принципов означала, что и господствующий класс находится в полной зависимости от властной воли диктатуры, которая использует свои полномочия не по закону, а в соответствии с интересами революции.
Следующий этап развития советской правовой системы может быть условно назван этапом укрепления советской законности. Данный этап характеризовался следующими основными чертами:
1) признавалось недопустимым правотворчество на местах;
2) нормативно-правовым актам центральной (федеральной) власти придавался общеобязательный характер;
3) за нарушения декретов или за неточное исполнение предусмотренных ими директив предусматривались жесткие юридические санкции. В этот период понятия «право» и «закон» начинают рассматриваться практически как тождественные, поскольку правом является возведенная в закон воля государства.
В результате вытеснения нигилистического отношения к писаному праву идеями А.Я. Вышинского, по мнению которого «при социализме законность достигает вершин своего развития» и представляет свод четких социалистических законов, которые пользуются авторитетом и у работников юстиции, и всего населения в целом[103], в стране сформировалась и укрепилась система тоталитарной законности, в которой соуживались казалось бы взаимоисключающие положения: с одной стороны, отрицание традиционных правовых ценностей (объявленных буржуазными и, в силу этого, ложными), а с другой стороны, насаждение принципа общеобязательности закона. При этом так же, как и в императорском праве, понимание закона носило неоднозначный характер.
Термин «закон» в СССР стал использоваться не только в субстанциональном/обобщающем (как в Империи), но и в конкретном/формально-юридическом смысле[104]. Говоря о видах законов в СССР, можно назвать: законы (О гражданстве СССР 1938 г.; О порядке ратификации и денонсации международных договоров СССР 1938 г.; О защите мира 1951 г. и др.); основы законодательства и судопроизводства (Основы законодательства о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик 1958 г.; Основы уголовного судопроизводства СССР и союзных республик 1958 г.); кодексы (Воздушный кодекс СССР 1961 г., Таможенный кодекс СССР 1964 г. и др.) указы (О государственном Банке СССР 1954 г.; О внесении изменений в изображение Государственного герба СССР, О прекращении состояния войны между СССР и Германией 1955 г.; Об утверждении Воздушного кодекса СССР 1961 г.; О временном применении уголовного, гражданского и трудового законодательства РСФСР на территории Литовской, Латвийской и Эстонской ССР 1940 г., О временном применении кодексов Украинской ССР на территории Молдавской ССР 1940 г. и др.), положения (Об охране государственной границы СССР 1960 г., О прокурорском надзоре в СССР 1966 г.; О предварительном заключении под стражу 1969 г.;), постановления (О бесплатном проезде школьников, проживающих в сельской местности, 1965 г.; О порядке введения в действие Закона СССР «О всеобщей воинской обязанности» 1967 г.; О порядке выборов районных (городских) народных судов 1965 г. и др.); уставы (Устав внутренней службы ВС СССР 1975 г.; Устав гарнизонной и караульной служб ВС СССР 1975; Дисциплинарный устав ВС СССР 1975 г. и др.).
Анализ содержания перечисленных законодательных актов позволяет говорить о том, что их многообразие обусловливало достаточно размытый статус принимаемых законодательной властью документов, а это, в свою очередь, затрудняло структурирование законодательного массива. Отсутствие четкой и логически последовательной концепции законодательного акта зачастую приводило к тому, что по одному предмету правового регулирования принимались различные виды документов[105]. Объяснение подобной ситуации заключается, на наш взгляд, в том, что на всех этапах становления и развития советского государства праву и закону отводилась сугубо сервисная роль – инструментов государственного управления. При этом практически не имело разницы, как будет называться акт, издаваемый законодательной властью, поскольку сама законодательная власть (Президиум Верховного Совета СССР) являлась таковой лишь номинально, основная власть была сосредоточена у представителей высшего звена партийно-хозяйственной номенклатуры и именно они являлись фактическими законодателями страны Советов. Особенно наглядно подобное соотношение формальной и реальной власти проявилось в период Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг.
В критической обстановке, сложившейся в стране в конце июня – начале июля 1941 г. было принято решение о создании чрезвычайного органа государственной власти – Государственного Комитета Обороны (ГКО).
Во вновь созданном органе сосредоточивалась вся полнота власти в государстве. В соответствии с принятым Постановлением все граждане, а также все партийные, советские, комсомольские и военные органы были обязаны беспрекословно выполнять решения и распоряжения ГКО.
Действие ГКО осуществлялось в период с 30 июня 1941 г. по 4 сентября 1945 г. Всего за рассматриваемый период от имени ГКО был принят 9971 документ. В структуре государственной власти ГКО занял высшую позицию, по сути, объединив функции партийного, советского и хозяйственного руководства страной[106].
На фоне создания единого органа государства, в котором была абсолютизирована государственная власть, происходило усиление личной диктаторской власти И. В. Сталина. 10 июля 1941 г. И. В. Сталин возглавил Ставку Главного Командования, 19 июля – занял пост наркома обороны, с 8 августа 1941 г. он становится и Верховным Главнокомандующим.
Механизм абсолютной власти советского государя исключал разделение властных полномочий с кем бы то ни было. Все наиболее значимые решения принимались И. В. Сталиным лично либо при обязательном согласовании с ним.
В условиях военного времени не соблюдалась формальная процедура законотворчества, в рамках которой высшие по юридической силе нормативные акты – законы должны были приниматься Президиумом Верховного Совета СССР. В годы войны функциональный статус данного органа был минимизирован и носил в большей степени формальный характер[107]. Реальными законотворческими функциями обладал ГКО и лично И. В. Сталин. В рассматриваемый период сложился неписанный, однако, достаточно четкий, основанный на своего рода государственно-правовой традиции, порядок разработки и принятия документов, регламентировавших наиболее важные вопросы в сферах военной, хозяйственной, политической жизни страны и, по сути своей, являвшихся реальными государственными законами.
Приведенный пример весьма убедительно демонстрирует минимизацию фактической значимости для государственной власти (осуществляемой, как уже отмечалось, высшей партийно-хозяйственной номенклатурой) как самих законодательных органов, так и издаваемых ими актов, являвшихся законами не по сути, а по форме. Что же касается действительных законов советского государства, то ими на всех этапах советского строительства являлись партийные директивы, определявшие основные направления государственной политики во всех сферах социальной жизнедеятельности, в том числе в сфере законодательства.
1.5.4. Соотношение понятий «право» и «закон» в современном русском юридическом лексиконе
Закон в современном русском юридическом языке понимается в нескольких смыслах:
– как название нормативного правового акта обладающего высшей по сравнению с другими нормативными правовыми актами юридической силой (федеральный закон – в смысле отдельный закон (ФЗ «О государственной тайне»), закон субъекта федерации);
– как собирательное понятие, обозначающее совокупность источников права – нормативно-правовых актов, регламентирующих ту или иную сферу правового регулирования (федеральный закон в смысле законодательство: п. 1. ст. 120 Конституции РФ – «Судьи… подчиняются только… федеральному закону», УК РФ – уголовный закон и т. п.). В данном контексте понятие «закон» тождественно понятию «законодательство».
Право понимается в следующих контекстах:
– право как правовая культура (правовая жизнь, правовая реальность);
– право как нормативная система, включающая нормы позитивного (вновь создаваемого) и естественного (объективно сложившегося и открываемого в процессе социально-правового развития) права;
– право как отрасль (сфера) правового регулирования (уголовное право, гражданское право, административное право, международное право, право прав человека и т. п.);
– право как совокупность правомочий и обязательств лица (субъективное право);
– право как ценностная характеристика (правовой/неправовой закон; правовое государство).
Говоря о соотношении понятий «право» и «закон», следует иметь в виду следующие подходы.
Во-первых, данные понятия воспринимаются как тождественные категории. В данном случае используются термины «позитивное право» и «законодательство». И в том, и в другом случаях имеют в виду управленческие системы, посредством которых централизованно упорядочиваются и охраняются наиболее значимые общественные отношения.
Во-вторых, закон воспринимается в качестве элемента системы формально-юридических источников права – вида нормативного правового акта.
В-третьих, право и закон соотносятся как содержательная субстанция и юридическая форма. Именно подобное понимание названных категорий предопределяет вопросы о том, может ли закон быть неправовым, и может ли право существовать, не будучи выраженным в законе (в смысле в законодательстве). Попытки однозначного ответа на поставленные вопросы заведомо бесперспективны и обусловлены, прежде всего, тем, что при одних обстоятельствах мы воспринимаем слова «право» и «закон» как тождественные категории, а при других – эти же слова противопоставляем. Как правило, проводимое противопоставление основывается на достаточно примитивной логике, в соответствии с которой закон может быть как хорошим (правовым), так и плохим (неправовым), но при этом право в любом случае выступает как неизменное (с точки зрения социальной ценности) мерило добра и справедливости[108]. Подобный подход в большей степени свойственен теологии, апеллирующей к Божественной благодати, нежели к юриспруденции, в основу которой положены не столько категории борьбы добра со злом (греха с добродетелью), сколько принципы состязательности позиций сторон, каждая из которых настаивает на собственной правоте[109]. Законы (в смысле законодательные акты) пишут, принимают и применяют живые люди, следовательно, разговоры о правовой/неправовой природе законов, прежде всего, предполагают наличие/ отсутствие правовой культуры у законодателей, законоприменителей и законоисполнителей. Но в подобном понимании слово «закон» утрачивает свой изначальный смысл – объективность[110]. Если то, что мы называем законом, по сути своей субъективно и зависит от воли конкретного человека (группы людей), то это – не закон в собственном смысле, а установленное (путем индивидуального либо коллективного волеизъявления) правило поведения, которое в зависимости от обстоятельств может быть исполнено тем, к кому оно адресовано, либо нет. В предлагаемом контексте речь следует вести не о законе как таковом, а об указе (уставе)[111] – совокупности правил поведения, обеспечиваемых гарантиями и санкциями со стороны центра публичности, принимающего соответствующий документ[112].
Обобщая сказанное, следует сделать следующий вывод. В современном русском юридическом языке имеет место смешение лингвистических (речевых) и субстанциональных (сущностных, содержательных) нагрузок терминов «право» и «закон». В зависимости от обстоятельств эти слова используются в разных смыслах, что в конечном итоге обусловливает неразрешимость проблемы их соотношения. Представляется, что снять остроту дискуссии можно, если развести смысловые нагрузки данных слов и в дальнейшем сравнивать лишь однопорядковые категории. В частности, говоря о праве, следует различать право объективное (право, действующее в отношении субъектов, независимо от воли субъектов) и субъективное (право на притязание, определяемое волей субъекта), право как единую систему (российское право) и право как отраслевой элемент системы (уголовное право, гражданское право, административное право), национальное право как продукт внутригосударственной деятельности и международное право, позитивное (создаваемое посредством нормотворческой деятельности) и естественное (существующее вне зависимости от юридического оформления и государственного санкционирования) право. При использовании слова «закон» следует различать значения закона как объективного позитивного права (судьи подчиняются федеральному закону), источника отраслевого регулирования (уголовный закон), типа нормативно-правовых актов (при этом наряду со словом «закон», для обозначения «законов Российской Федерации» используются такие слова как «устав», «кодекс», «указ»). Как уже ранее отмечалось, само по себе подобное словесное многообразие, мягко говоря, не способствует восприятию закона как акта ВЫСШЕЙ юридической силы, так как существует возможность наделения силой закона и других нормативных актов, что автоматически влечет снижение юридического авторитета самого слова ЗАКОН[113].
1.5.5. Соотношение понятий «право» и «закон» в языках английской и романо-германской группы
Для зарубежной юриспруденции проблема соотношения права и закона не столь актуальна, прежде всего, потому, что в языке, данные понятия обозначаются разными словами, что позволяет избежать наложения смысловых нагрузок и тем самым существенным образом снижает накал страстей вокруг обсуждения столь значимой для российских исследователей проблемы.
В английском юридическом языке слова law и right используются в совершенно разных смыслах исключающих их отождествление. Law – это целостная категория, включающая в себя все многообразие подходов к публичному праву, законодательству в целом, отраслевому законодательству, то есть всему тому, что в русском языке относится к объективному (по отношению к конкретному субъекту) праву. Right – это субъективное право, в различных его формах и проявлениях, что же касается названия вида нормативно-правового акта, принимаемого парламентом, то используется слово statute (устав)[114]. Названные категории в силу их разноуровневости не могут пониматься друг через друга, а значит и не вступают в смысловое противоречие. Можно говорить о том, насколько law – выраженное в statute (принятом парламентом уставе) и legislation (законодательстве), соответствует natural law (дословно – естественному закону), однако это проблема соотношения смыслов, но не категорий.
Соотношение понятий «право» и «закон» во французском языке имеет ярко выраженное сходство с английской традицией. Для обозначения объективного права (закона в собственном смысле) используется слово loi. Естественное право переводится как loi de la nature (дословно – закон природы или естественный закон). Слово droit (право) используется для обозначения отраслей и сфер правового регулирования (droit international – международное право), а также для обозначения субъективного права (droit de vot – право голоса). Получается, что droit – это часть loi как нормативной системы. Что касается обозначения актов парламентского нормотворчества, то используется два слова слово loi (закон) и code (кодекс). Таким образом, рассмотрение loi – закона как продукта официального нормотворчества (кодифицированного и некодифицированного) сочетается с его восприятием в качестве loi – системы объективного права, складывающейся из позитивного права, основанного на legislation, и естественного права, основанного на loi de la nature. В отличие от английского языка, во французском слово statut используется для обозначения актов корпоративного нормотворчества (уставов общественных объединений, коммерческих организаций и т. п.), которые ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться в качестве закона.
Что касается соотношения понятий «право» и «закон» в немецком языке, то оно, по сути, тождественно русской юридико-лингвистической традиции. На немецкий язык слово право переводится как Recht, этим же словом переводится и термин законность (хотя, на наш взгляд, более точным было бы говорить о правопорядке), так же, как и в русском языке, Recht используется в достаточно широком смысле для обозначения права вообще – национального и международного права, отраслевого и субъективного права. Закон по-немецки – Gezetz. Так же, как и в русском и во французском языках, Gezetz используется и для обозначения закона в смысле объективного права и для наименования актов федерального законодательства и законодательства земель. Слово Statut используется аналогично французской традиции, для наименования источников корпоративного права, являющихся производными по отношению к Gezetz.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что проблема соотношения понятий «право» и «закон» является ключевой для определения типа правопонимания. Однозначное решение данной проблемы невозможно. Следовательно, не имеет смысла пытаться такое решение выработать. Однако вполне можно договориться о содержании понятий, обозначаемых названными словами в определенном языковом поле, с тем, чтобы впоследствии избегать внутренних противоречий в выстраиваемых логических (философских) и практических (формально-юридических) конструкциях.
1.6. Интегральная юриспруденция и энциклопедия права
1.6.1. Интегральная юриспруденция: история проблемы
Специфика восприятия отечественной юриспруденции отечественными юристами заключается прежде всего в сегментарности юридического знания, его ограниченности рамками определенных научных специальностей. Всего лишь один пример: для теоретика права очевидным является восприятие правоотношения как формы позитивного правового поведения, в котором участвуют два и более субъекта, наделенных по отношению друг к другу корреспондирующими правами и обязанностями. В свою очередь для представителей уголовного права в качестве правоотношения рассматривается преступление – отношение субъект-объектного характера, выраженное в социально-вредном, общественно-опасном поведении физического лица – субъекта преступления, который одновременно выступает в качестве субъекта юридической ответственности (независимо от того, станет он участником реальных уголовно-процессуальных и уголовно-исполнительных отношений или нет). Считается, что в форме правоотношений выражается любое предусмотренное правом поведение субъекта, независимо от его юридической оценки и характера санкций. Таким образом, вступают в противоречие догмы общей теории права и отраслевой юриспруденции. Приведенный пример позволяет констатировать, что теоретическая и отраслевая юридическая наука оперируют различной источниковой базой и развиваются как самостоятельные замкнутые в себе и на себя направления образовательной и научной деятельности. Разобщенность и отсутствие взаимодействия имеются также в системе отраслевых юридических наук[115].
Отмеченная сегментарность обусловливает формирование научной позиции, в рамках которой интегральная юриспруденция ассоциируется преимущественно с теоретической юридической наукой, представители которой, как правило, отождествляют интегральную юриспруденцию с интегральным типом правопонимания.
Получается, что суть дискуссии сводится к возможности (целесообразности) интеграции юридического, философского, социологического и политологического понимания права. Мы, теоретики, в своем стремлении к «чистому праву» превращаемся в схоластов юриспруденции, а это в свою очередь предопределяет отсутствие интереса к нашим умозаключениям и со стороны представителей отраслевой юридической науки, и со стороны практиков, задействованных в сфере правотворческой и правореализационной деятельности. Тем более что часто от самих представителей теоретико-правового знания можно услышать самоуничижительные заявления о том, «что у нас и только у нас напрочь отсутствует научное, философское осмысление права в рамках правоведческих школ. Есть замечательные школы уголовного, гражданского, международного права и т. д., но нет школ теоретико-правовых»[116].
Сложившаяся ситуация может быть объяснена причинами как исторического, так и методологического характера. В историческом плане следует обратить внимание на несовпадение, а в ряде случаев противопоставление в отечественной традиции двух моделей юридического образования: университетского (научного) и профильного (утилитарного).
Общетеоретический (общенаучный) подход к пониманию права как комплексной (интегральной) конструкции, сформировавшийся на базе государственных («классических») университетов, обусловил не стихающие вплоть до настоящего времени дискуссии о типологии правопонимания, характерные прежде всего для представителей теоретического направления в юридической науке. Причем, что интересно, непрерывно умножающееся количество научных работ и дискуссий, связанных с правопониманием, практически неизменно завершается выделением трех основных типов: позитивистского (нормативистского, легалистского, этатистского и т. п.), естественно-правового и социологического. Такая тенденция характерна как для российской юридической науки имперского периода[117], так и для современной теории права[118]. Одновременно возрастает количество интегративных концепций понимания права, в рамках которых предпринимаются попытки объединения (интеграции) тех или иных традиционных (классических) типов правопонимания[119].
Таким образом, в настоящее время интегральная юриспруденция рассматривается преимущественно как абстрактная теоретико-правовая конструкция[120], по сути своей являющаяся интегральным типом правопонимания (в рамках которого предпринимаются попытки объединения нормативизма, юснатурализма и социологической юриспруденции) и в таком понимании выступающая в качестве фрагмента общей теории права.
1.6.2. К вопросу о месте энциклопедии права в системе юридических наук и учебных дисциплин
В отечественной дореволюционной традиции юридического образования наименования «энциклопедия права» и «энциклопедия законоведения» рассматривались в качестве взаимозаменяемых и, как правило, использовались для обозначения учебной дисциплины, изучавшей теоретические основы права и законодательства[121] С. В. Кодан отмечает, что в системе юридического образования Российской империи энциклопедия законоведения являлась предшественницей теории права и в таком своем качестве «перебрасывала своеобразный мост к правовым нормам о государственном (“основные законы” и “государственные учреждения”) и общественном (“законы о состояниях”) строе»[122]. Одновременно формировалось отношение к энциклопедии права как к обобщенному «очерку всех юридических наук, базе изучения и преподавания права»[123]. Таким образом, сложились два основных подхода к сущностному пониманию энциклопедии: пропедевтический и научно-теоретический.
В рамках первого подхода энциклопедия выполняла функцию вводного курса, имевшего своей основной целью ознакомление студентов с первоначальными сведениями о понимании истории, принципах организации и функционирования государства и права, организации и структуре российского законодательства, основах юридической техники и т. п.
Рассмотрение энциклопедии права в качестве обобщающего междисциплинарного курса позволяло говорить о ней как о юридической метатеории, в рамках которой объединялись историко-теоретические, отраслевые, философские, социологические аспекты представлений о праве как о регулятивно-охранительном механизме и социокультурном явлении.
Одновременно с энциклопедией права/законоведения в качестве юридической дисциплины в императорских университетах преподавались теория государства и права и философия права[124]. Сравнительный анализ структуры и содержания этих курсов позволяет говорить об их предметно-методическом сходстве. Различие носило не концептуальный, а понятийный характер и было обусловлено отсутствием единых государственных образовательных/научных стандартов и низким уровнем межвузовского взаимодействия, на фоне которого, безусловно, особо выделялись талантливые научные труды и яркие самобытные авторские лекционные курсы выдающихся представителей российской правовой школы.
В советский период энциклопедия права/законоведения была повсеместно вытеснена из понятийного аппарата юридического образования и науки дисциплиной «Общая теория советского государства и права» (впоследствии – «Теория государства и права» / «Теория права и государства»). Включение в название предмета слов «общая» и «советского», на наш взгляд, несло в себе большое значение. Название теории государства и права «общей» означало, что она рассматривает понятия, принципы, техники, являющиеся стандартами для любых государственно-правовых систем независимо от особенностей национальной правовой культуры и системы источников национального права. Использование слова «советского» означало, что только советское государство и право являются истинными в отличие от «несоветских» (прежде всего буржуазных) аналогов. Такой подход объяснял распространение советского стандарта юридического образования и науки на представителей других государств социалистической правовой семьи и стран, относящихся к «государствам социалистической ориентации». Глобальный системный кризис, обусловивший распад СССР и крах мировой системы социализма, привел к исключению из названия теории слов «общая» и «советская». Введение принципов плюрализма и толерантности в методологию юридического познания позволяет говорить о том, что как учебная дисциплина теория государства и права содержит сведения о национальной (европейской) модели государства и права с акцентом на особенностях организации, структурирования и функционирования права, относящегося к романо-германской семье. Кроме того, в своей основной части теоретическая юриспруденция является теорией правомерного поведения в гражданско-правовой сфере[125].
Таким образом, в современном своем состоянии теория государства и права не выполняет своей основной цели – выступать в качестве общей понятийной и методологической базы для всей образовательной и научной юриспруденции. Означает ли сказанное, что в современных условиях теория государства и права может и должна быть заменена в образовательном и научном пространстве энциклопедией права?[126] Полагаю, что в силу своего статуса «энциклопедия»[127] не может рассматриваться ни в качестве самостоятельной юридической науки, ни в качестве юридической дисциплины, аналогичной по своей сути уже существующей теории государства и права. Если говорить о пропедевтическом (начальном) уровне юридического образования, то целесообразнее использовать название «Основы теории государства и права» (в качестве варианта может быть предложена более узкая по предмету дисциплина – «Основы теории права и законодательства»). Рассмотрение энциклопедии в качестве формы системного обозрения всей научной юриспруденции (теоретической, отраслевой, межотраслевой, прикладной) предполагает ее восприятие как метатеории, в создании которой должны принимать участие представители всех направлений юридического и смежного с ним (социологического, философского, политического) научного знания и которая по названию, форме, содержанию, сути не должна сводиться к отдельным учебным дисциплинам / научным специальностям (теории, социологии, философии права и др,), Приходится констатировать, что в настоящее время реальной работы по созданию энциклопедии права в таком ее понимании в отечественной юридической науке не ведется,
Глава 2 Свобода. равенство. иерархия
2.1. Свобода и воля
Воля – это данный человеку произвол действия, простор в поступках, отсутствие неволи, власть, сила, могущество, вожделение, похоть…[128]
Воля – это возможность и право поступать, распоряжаться кем-, чем-либо по своему усмотрению, власть, отсутствие зависимости от кого-либо, возможность располагать собою по собственному усмотрению, свобода[129].
Свобода – своя воля, простор, возможность действовать по-своему, отсутствие стеснения, неволи, подчинения чужой воле[130].
Свобода – отсутствие политического и экономического гнета, отсутствие ограничений в общественно-политической жизни общества, совокупность всех прав граждан определяющих их положение в государстве, состояние того, кто не находится в заключении, в неволе, возможность проявления своей воли на основе осознания законов развития природы и общества, возможность действовать в какой-либо области без ограничений, запретов, беспрепятственно[131].
Анализ понимания слов «свобода» и «воля» в русском языке имперского и современного периодов позволяет говорить об их восприятии в качестве синонимичных, взаимозаменяемых понятий.
Такой же подход наблюдается в германской и английской лингвистической традиции. Однако, если рассматривать свободу и волю как философско-правовые категории, то говорить о них как о синонимах нельзя. Основными отличительными чертами, позволяющими разграничивать свободу и волю являются:
– масштаб свободы изначально задан определенными границами (правила поведения в обществе, законы государства, деньги, договорные отношения и т. п.). Воля – безгранична, «вольный» человек не подконтролен и неподотчетен в своих поступках кому бы то ни было, в своих действиях он ответственен исключительно «перед своей совестью и Богом»;
– свобода как поведенческая форма может быть реализована только в коллективе равных субъектов, отношения между которыми строятся на взаимно корреспондирующих правах и обязанностях (реализация права одним из участников «свободной» коммуникации, находится в непосредственной зависимости от исполнения соответствующей обязанности контрсубъектом и наоборот). Воля отрицает равенство и признание одинаковой значимости субъективных интересов контрсубъектов. Свое внешнее выражение воля получает в произволе (волюнтаризме), который может быть направлен как на нижестоящих (угнетение), так и на вышестоящих («русский бунт – слепой и беспощадный»), представителей социальной иерархии;
– свобода невозможна вне права и правового закона; воля по определению отрицает правовое (равно, как и всякое другое) внешнее ограничение мысленного и поведенческого самовыражения;
– свобода есть форма поведения, воля – психологический фактор, играющий роль мотиватора и катализатора совершаемых человеком действий и поступков. В зависимости от обстоятельств воля может быть направлена на реализацию свободы и на ее подавление.
Из сказанного следует, что лишены рационального смысла такие выражения как «свободная воля» и «безграничная свобода». Вместе с тем, можно и нужно говорить о «воле к свободе».
Российская ментальность исторически ориентирована на вольность. Показателем такого отношения является написанная в 1935 г. (на начальном этапе «Большого террора») В. Лебедевым-Кумачом «Песня о Родине».
«Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек! Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек. От Москвы до самых до окраин, С южных гор до северных морей Человек проходит, как хозяин Необъятной Родины своей».Применительно к рассматриваемой проблематике, в процитированном отрывке наиболее интересны два смысловых контекста: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек» и «Человек проходит, как хозяин необъятной Родины своей». Получается, что в советской России в середине 30-х годов жили самые «вольные» люди мира, и что каждый советский гражданин чувствовал себя «хозяином» своей страны, со всеми вытекающими из статуса «хозяина», правовыми последствиями. Мы прекрасно понимаем, что песня выполняла идеологическую задачу и являлась одним из инструментов формирования мифа о счастье советской жизни, вместе с тем, очень важно, что при создании этого мифа, активно эксплуатировались два логически взаимосвязанных стереотипа: воля как форма жизни (связь с дыханием) и «хозяин Родины» как начальник обладающих безграничными полномочиями. Резким диссонансом «возвышенному гимну вольной советской России», звучат слова другого гениального поэта М.Ю. Лермонтова, также сказанные о России, правда, более раннего периода:
«Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ».Интересно и то, что сейчас в отношении именно этого стихотворения идет ожесточенная полемика относительно достоверности авторства самого М.Ю. Лермонтова, написавшего столь «непатриотические» строки, и то, что при внимательном сравнении, можно провести сравнение с «Песнью о советской Родине». Если у Лебедева-Кумача есть вольный человек – хозяин Родины, то у Лермонтова это «господа страны», власть которых опирается на «мундиры голубые» и «преданный народ – страна рабов». При такой системе отношений, свобода как форма универсальных социальных отношений отсутствует. Если же говорить о воле и произволе, то как уже ранее отмечалось формами его внешнего выражения могут быть безграничный гнет в отношении бесправных/не свободных подданных и, как форма столь же произвольного противодействия – народный бунт, руководствующийся в своем стихийном развитии единственной общепониманиемой и общевоспринимаемой целевой установкой разрушением «старого мира», ассоциируемого с несправедливостью, насильем и угнетением.
Обобщая сказанное можно сделать вывод о том, что свобода представляет собой формально-содержательный масштаб, определяющий границы возможного, должного, недопустимого поведения для группы формально-равных субъектов осознанно и добровольно подчиняющихся установленным правилам и осуществляющих в рамках этих правил корреспондирующие права и обязанности.
Воля есть предпосылка свободы, человек лишенный воли, не осознает ценности свободы и не стремиться к ней. Вместе с тем, человек, не осознающий необходимости ограничения воли свободой, рассматривает последнюю, как негативный фактор, ограничивающий властный произвол. Не случайно, многие представители бюрократического аппарата, слова либерализм и либералы, используют в уничижительном смысле, придавая им деструктивный характер.
Вопрос: можно ли лишить человека свободы и воли, либо, напротив, дать ему эти качества?
Что касается свободы, то нужно четко понимать, что как и любое другое социальное качество, свобода вырабатывается в процессе общественной жизнедеятельности. Для того, что бы стать и быть свободным, нужно, во-первых, жить в качестве свободного человека, в обществе свободных людей и участвовать в отношениях, основанных на свободе. Такими отношениями являются межсубъектные коммуникации основанные на формальном равенстве сторон и адекватной корреспонденции прав и обязанностей контрсубъектов. Во-вторых, необходимо осознание ценности свободы, в качестве индивидуального состояния и критерия оценки общественных отношений. Получается, что человек изначально не осознает своей свободы, а значит и не может ее использовать. Примером, таких не свободных отношений могут быть внутрисемейные коммуникации между родителями и малолетними детьми, последние «вольны» делать все что хотят (особенно на ранних стадиях развития), то же, кстати, можно сказать и о представителях «старшего поколения», которые не воспринимают свое любимое чадо в качестве равноправного и равнообязанного субъекта и считают себя в праве распоряжаться им и его жизнью по собственному усмотрению, в том числе применять к нему «родительский произвол», нередко выраженный в силовом воздействии («воспитание ремнем»).
Человек, осознающий себя свободным, одновременно понимает собственную ограниченность, заданную как внутренними, так и внешними факторами субъективного и объективного характера. Иными словами, если свобода есть, то она всегда предполагает определенный масштаб, который одновременно ее ограничивает и гарантирует. В таком понимании свободного человека, свободы лишить нельзя, но можно изменить ее внешние рамки, т. е. переформатировать масштаб.
Говоря о воле, следует исходить из ее изначальной безграничности. Следовательно, любое внешнее ограничение произвола следует рассматривать как переход от воли к неволе.
Свобода и воля представляют собой взаимоисключающие понятия, а выражение «свободная воля» представляет собой оксюморон. Свобода предполагает наличие как минимум двух формально-равных субъектов, отношения между которыми носят договорной (консенсуальный) характер и строятся по принципу: «свобода субъекта ограничена свободой контрсубъекта». Таким образом, свобода любого лица есть не что иное, как определенным образом ограниченная самостоятельность. Воля есть составляющая иерархической системы основанной на неравенстве субъекта власти и объекта властного воздействия. Воля всегда одностороння и безгранична. Выражение воли субъекта власти – вождеский либо бюрократический волюнтаризм. Ограничение воли властвующего субъекта есть внешняя форма международно-правового воздействия, либо результат самоограничения (ответственность перед собственной совестью). В качестве антипода властного волюнтаризма выступают такие инструменты как персонифицированный террор («война одиночек»), стихийные и организованные восстания масс (бунты, революции, национально-освободительные движения).
2.2. Свобода как ценность
Любое рассмотрение феномена права в его динамическом аспекте, примером чего являются, в частности, концепции правовой политики и правовой жизни, рано или поздно сталкивается с вопросом о движущих силах поведения людей в правовой сфере. Особенно актуализируется этот вопрос в ситуациях нестабильности и множественности факторов, определяющих развитие права.
Необходимость выбора между альтернативными вариантами поведения характерна не только для познавательного процесса, но и для любого иного социального действия. В правовой реальности даже бездействие зачастую представляет собой результат напряженного выбора. В свою очередь, в основе любого выбора неизменно находится определенная система ценностей.
Именно благодаря ценностному подходу становится возможной сама правовая активность субъектов, равно как и все остальные формы социальной деятельности. Придавая ценностную окраску тем или иным явлениям социального мира, индивиды и общности тем самым идентифицируют их в качестве желательных или нежелательных, связывают с ними свои интересы и намерения. Тот объект, который в глазах субъекта лишен ценностного значения, является для него «слепым пятном», то есть не привлекает его внимания и не учитывается им в своем поведении.
Как правило, под ценностями имеются в виду определенные качества предметов и явлений, с точки зрения индивидуального или коллективного опыта обладающие выраженным положительным или отрицательным значением. Согласно Британской энциклопедии, ценность – «в обычном употреблении термин, обозначающий достойное»[132]. Под ценностью может пониматься «всякий предмет любого интереса, желания, стремления и т. п…»[133]. Несколько иной подход к ценностям связан с тем, что «это устойчивые убеждения в том, что определенный тип поведения (действий) более значим (предпочтителен) в существующем типе культуры или культурном континууме»[134]; «обобщенные представления людей о целях и нормах своего поведения, воплощающие исторический опыт и концентрированно выражающие смысл культуры отдельного этноса и всего человечества»[135].
Философские представления о природе ценностей существенно разнятся – от радикального психологизма, исходящего из относительного (релятивного) характера ценностей, которые сводятся к желаемости объекта для субъекта, или к ощущениям последнего, до объективизма, с точки зрения которого существование ценностей вообще не связано с психофизической организацией человека (М. Шелер), они понимаются как специфические качества самих вещей и лиц (Н. Гартман)[136].
Общая структурная модель, с которой связывается представление о ценностях, основана на том, что человеческое поведение носит интенциональный (т. е. направленный) характер. Различные элементы реальности могут вызывать у человека или коллектива либо притяжение, либо отталкивание. Исходя из этого, ценность может быть охарактеризована как качество, в силу которого предмет или явление становится объектом социальных устремлений.
В повседневной общественной практике ценности наглядно проявляются в ситуациях выбора, когда от субъекта требуется отдать предпочтение тому или иному варианту поведения.
Ценностное содержание не заложено в самих предметах и явлениях социальной реальности, но привносится оценивающим субъектом. «Мы воспринимаем (познаем) людей и вещи, обладающие ценностью или не обладающие ею. И при этом не отдаем себе отчета в том, что мы, субъекты наблюдения, являемся источником ценностных критериев, а не вещи и люди – объекты этого наблюдения»[137]. То качество объекта, которое в данных обстоятельствах выступает для конкретного лица положительной ценностью, для другого субъекта, или для того же в иных условиях, может поменять свой знак на противоположный или стать вовсе безразличным.
В современной философии и психологии является практически общепризнанным представление об интенциональном характере сознания и поведения. Интенция – это направленность (устремленность). Наличие интенции, выступающей в виде цели действия или объекта познания – неотъемлемое свойство человеческой социальной активности.
В психологическом смысле частный случай интенциональности обозначается понятием «мотивация».
С некоторой долей условности мотивационные механизмы можно представить в виде нескольких уровней, различающихся по степени осознанности. Так, базовый (простейший) мотивационный уровень принято связывать с таким явлением, как потребность, которая представляет собой объективно существующую нехватку (дефицит) какого-либо ресурса, необходимого для жизни. Сами потребности также могут разниться по степени сложности (выживание, питание, продолжение рода, общение, самореализация, власть и т. п.), но их общей чертой является то, что они могут не осознаваться самим субъектом. Потребность, которая освоена хотя бы на эмоциональном уровне, перерастает в желание, которое по определению всегда имеет конкретный объект. Если к этому добавляется рациональное осознание, то появляется интерес; критерием осознания является возможность артикуляции, т. е. способность субъекта представить предмет своего устремления в речевой форме.
Наконец, высшая форма мотивации связана с феноменом ценности. О наличии ценности можно говорить там, где не только осознан объект стремления, но и проведена особая интеллектуальная работа – рефлексия, которая позволяет понять причину этого устремления.
В этом смысле ценности имеют ярко выраженную психологическую составляющую, поскольку действуют в тесном сплаве с чувствами и эмоциями. Так, один из основоположников аксиологии Г. Лотце утверждал, что градация ценностей определяется «приговором чувства»[138].
Вместе с тем неверно было бы сводить ценность к одному из видов мотивации, пусть даже наиболее сложному. Ценность не тождественна ценностной ориентации конкретного лица. Как отмечал основоположник феноменологии и теории интенциональности Э.Гуссерль, объект интенции – это нечто подразумеваемое, но оно всегда больше, чем прямо подразумевается в данный момент[139]. Например, мое стремление к свободе и представление о ее желаемых формах всегда является более узким, чем свобода как таковая.
С этим же связана критическая позиция по отношению к теории ценностей, сформулированная М. Хайдеггером: «характеристика чего-либо как «ценности» лишает его истинного достоинства», поскольку «всякое оценивание, даже когда оценка позитивна, есть субъективация»[140].
Субъективизм в трактовке ценностей действительно несет опасность их обесценивания через сведение к индивидуальному произволу, личным пристрастиям и т. п. Однако ценности имеют не только субъективное, но и объективное содержание. Значение ценностей состоит именно в их двойственной, объективно-субъективной природе. Она вытекает именно из того, что происхождение ценностей остается коллективным, даже если сама оценка исходит от отдельного индивида. Ценности объективны в той мере, в какой они сохраняют свою групповую принадлежность. В этом смысле для конкретного человека различаются, с одной стороны, его собственные, субъективные ценности, а с другой стороны – ценности той социальной группы (общности), к которой он принадлежит. Последняя категория ценностей по отношению к нему выступает как нечто внешнее, в некотором смысле принудительное, а значит, объективное.
Ценности не изобретаются отдельными индивидами, а воспринимаются ими из социальной среды, часто специфическим образом преломляясь в жизненном опыте. С другой стороны, ценность, не получающая поддержки со стороны конкретных личностей, была бы лишь квазиценностью.
Объективность ценностей обусловлена их коллективным происхождением. По всей вероятности, на уровень ценностей могут возводиться лишь такие предпочтения, которые оказывают позитивное воздействие на жизнь социальной группы, которая их санкционирует и легитимирует. Иначе говоря, система ценностей – это всегда выражение представлений социального целого о том, что необходимо ему для существования.
Право как нормативная система всегда признает и защищает те социальные ценности, которые являются наиболее типичными и распространенными в данном социуме, а также носят наглядный характер и могут быть представлены в материальной, документальной, словесной форме на основе относительно строгих критериев (поэтому за рамками права почти всегда остаются такие ценности, как, например, добро, дружба, любовь и т. п., которые опираются не столько на точные операциональные описания, сколько на интуицию).
Сходство понятий «ценность» и «цена» является далеким от случайного совпадения, а отражает то обстоятельство, что современный способ общественного устройства в значительной степени основывается на категориях и представлениях обменного типа[141]. В рамках этой модели восприятия все социальные отношения и институты рассматриваются как особые разновидности обмена. Можно предположить, что сама постановка вопроса о ценностях представляет собой косвенный эффект распространения товарноденежных отношений.
В этом смысле обращает на себя внимание явная связь ценности и стоимости[142]. В ряде случаев эти понятия могут выступать как взаимозаменяемые; например, согласно русским переводам, Прудон развивал трудовую теорию ценности, а Маркс – трудовую теорию стоимости, причем под ценностью и стоимостью имеется в виду одно и то же явление.
Корни этих представлений можно обнаружить в архаических культурах. Например, в классической работе М. Мосса «Очерк о даре» описываются поверья племен маори о духах вещи, так называемых «хау» (в буквальном смысле – «ветер»). Этот дух неизменно сопутствует любому предмету и обладает собственной принуждающей силой – в частности, он может обязывать того, кому была подарена вещь, к совершению ответного подарка, или мстить тому, кто украл эту вещь. При этом «хау», по-видимому, стремится «вернуться в место своего рождения» и вообще «само представляется чем-то вроде индивида»[143].
По существу, здесь уже виден процесс появления «двойника» вещи, который выполняет в сообществе различные регулятивные функции и в некоторой степени осознается как нечто самостоятельное. В дальнейшем, как представляется, происходит новое расщепление, при котором этот дух вещи начинает выступать уже в двух личинах – в виде ценности и стоимости, которые иногда сливаются. При этом ценность представляет собой отсылку к притягательным, полезным свойствам предмета, а стоимость выступает как их количественная мера в некотором эквиваленте.
Сами эти свойства чаще всего не имеют автономного бытия, т. е. не могут существовать отдельно от своих носителей. Например, «справедливость» всегда является свойством конкретного поступка или решения, «свободой» может обладать (или не обладать) конкретное лицо, и т. п. Тем не менее эти качества, вызывающие соответствующую эмоциональную реакцию у социальных субъектов, подвергаются фетишизации, или «реификации» (овеществлению), то есть воспринимаются ими как нечто самостоятельное. Таким образом, ценности приобретают опредмеченный характер и становятся основополагающим фактором, который определяет действия человека.
Поскольку в обществе может существовать не одна, а несколько «измерительных шкал», то есть нормативных систем, то и представление о ценности одного и того же явления будет различаться в зависимости от того, какой тип «лекала» применять для его оценки. Одной из таких регулятивных систем является право, которое условимся понимать как набор формально-определенных правил, получивших санкцию власти. В этом смысле любой социальный факт или явление может получать правовую оценку – положительную, отрицательную или нейтральную. Однако для оценки самого права, как самостоятельного института, юридические критерии неприемлемы. Никто не может быть судьей в собственном деле, поэтому выражение «юридическая ценность права», равно как «нравственная ценность морали» и т. п., было бы пустым и тавтологичным.
Следовательно, аксиологическая оценка самого права требует избрать иную точку отсчета.
В частности, нередко привлекает к себе внимание моральная ценность права. Например, Цицерон возводит значимость права к необходимости закрепления безусловных моральных добродетелей, прежде всего доблести. Детальное обоснование моральной ценности права предложено В.С. Соловьевым, который рассматривает право как принудительный этический минимум, то есть своеобразный пониженный порог нравственности, при котором сравнительно невысокий объем требований компенсируется усилением гарантий их выполнения. Фактически для Соловьева право оказывается паллиативной мерой, которая является необходимым инструментом для поддержания нравственности хотя бы на том уровне, который предохраняет общество от гибели («Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царствие Божие, а только в том, чтобы он до времени не превратился в ад»)[144].
Учитывая связь ценности и стоимости, вполне естественно рассмотрение экономической ценности права. Впервые этот вопрос получает основательную проработку в марксистской социальной теории, которая исходит из того, что весь правовой механизм существует лишь для обслуживания экономических процессов, для обеспечения складывающихся производственных отношений. В настоящее время существует такое самостоятельное направление междисциплинарных исследований, как «экономический анализ права». В частности, его ведущий представитель Р. Познер видит экономическую ценность (или «экономический смысл») права в том, что правовое регулирование образует систему, побуждающую людей «вести себя эффективно не только на явных рынках, но и во всем широком диапазоне социальных взаимодействий»[145]. Речь идет о том, что правовыми средствами поведение людей направляется в сторону минимизации общих издержек: «Право стремится «угадать», каким образом стороны должны (ex ante) разместить некое бремя или выгоду, например ответственность в случае материализации некоторого удачного или неудачного непредвиденного обстоятельства. Если право «угадывает» правильно, это приводит как к минимизации издержек трансакций, устраняя необходимость заключения сделки сторонами по вопросу проведенной правом аллокации, так и к эффективной аллокации ресурсов в случае чрезмерно высоких трансакционных издержек»[146].
При этом Р. Познер предвидит, что подобные соображения могут быть подвергнуты критике из-за пренебрежения моральными аспектами, и стремится продемонстрировать связь между моральной и экономической ценностью права: «Честность, надежность и любовь сокращают издержки трансакций. Отказ от насилия способствует добровольному обмену благами. Добрососедство и другие формы альтруизма сокращают внешние издержки и увеличивают внешние выгоды…»[147].
Легитимация права и его ценностей происходит путем их соотнесения с иными нормативно-ценностными системами, существующими в обществе. Одним из способов легитимации может стать апелляция к эстетическому чувству. Как представляется, оно представляет собой универсальный тип человеческого переживания. Восприятие любых социальных реалий, в том числе относящихся к сфере правовой жизни, может быть опосредовано эстетическими оценками. Сталкиваясь с теми или иными правовыми явлениями, человек может производить их эстетическую оценку безотчетно, и именно она будет предопределять его общее отношение к праву и его институтам.
Основатель философской эстетики А. Баумгартен определял ее предельно широко – как науку о чувственном познании, а также более узко – как «теорию свободных искусств»[148]. По существу, эта идея сохраняет свое значение; так, М.С. Каган, говоря о предмете эстетики, указывал, что он «охватывает широкий спектр ценностных свойств реального мира и его художественного удвоения в предметах искусства…»[149].
Хотя эстетика проявляет интерес прежде всего к произведениям художественного творчества, вполне корректно использовать слово «искусство» и по отношению к иным проявлениям мастерства в различных сферах человеческой деятельности[150].
Таким образом, объектами эстетического восприятия и оценки вполне могут выступать все основные правовые явления
– юридический текст как осмысленная система письменных знаков, по аналогии с произведением художественной литературы;
– юридическая процедура как игровое взаимодействие, по аналогии с театральным действом;
– визуальные юридические образы (герб, флаг, дорожный знак и др.) по аналогии с произведением изобразительного искусства.
Исследуя вопрос о реальности объективного права, Б.А. Кистяковский пришел к неожиданному, на первый взгляд, выводу: «Если мы после всего сказанного сравним реальность права с реальностью рассмотренных нами различных видов культурных благ, то мы прежде всего, конечно, должны будем признать своеобразие той реальности, которая присуща праву. Ее следует поставить приблизительно посередине между реальностью произведений скульптуры и живописи, с одной стороны, и произведений литературы и музыки – с другой. Но все-таки ее придется признать немного более близкой к реальности первого вида культурных благ, чем второго»[151]. Дело в том, что правовые явления, видимо, в принципе неотделимы от внешнего способа своей материализации, т. е. от формы.
Наиболее серьезная попытка осмыслить право с эстетической точки зрения принадлежит американскому ученому П. Шлагу. Его основная идея состоит в том, что эстетика права неоднородна. Шлаг выделяет четыре типа юридической эстетики, каждый из которых предполагает определенную картину правовой реальности, свою систему ценностей и соответствующих им практических решений.
Эстетика сетки основана на представлении о четко структурированном пространстве, состоящем из множества строго отграниченных друг от друга частей («юридическая картография»). Этой эстетике наиболее отвечает образ права, высеченного в камне. Отличительная особенность эстетики сетки – ее эмоциональная скудость (что, видимо, не способствует глубокому эстетическому чувству).
Эстетика энергии связана с представлениями о постоянном движении и развитии, в силу чего право воспринимается как совокупность динамических процессов, сил, воздействий и т. п.
Эстетика перспективы строится на том, что право рассматривается не как единое целое, а как калейдоскоп разрозненных образов, зависящих от того, с какой социальной позиции рассматривается то или иное явление.
Наконец, эстетика разобщенности отрицает какую-либо внутреннюю определенность и связанность права, представляя его как нечто совершенно хаотичное[152].
Следствием эстетического многообразия может стать конфликт эстетик. Например, противостояние консерватизма и прогрессизма в сфере права может указывать на борьбу эстетики сетки с эстетикой энергии. Для эстетики энергии, по всей видимости, в качестве базовой ценности выступает свобода как возможность активного действия; для эстетики перспективы – равенство, обеспечивающее одинаковые шансы на существование для любой социальной группы, имеющей собственные воззрения на право.
Так или иначе, мораль и экономика олицетворяют собой лишь частные, хотя и социально значимые, подходы к определению ценности права. Чтобы получить оценку более универсальную, следовало бы найти обобщающий контекст, в который могут вписаться обе эти ценностные системы. Если задаться вопросом о той сфере, по отношению к которой и мораль, и экономика, и право представляют собой составные части, то таковой выступает культура. Поэтому экономическая, моральная и другие возможные оценки права могут быть синтезированы в понятии «социокультурная ценность».
Культура может быть определена как искусственная среда обитания, своеобразная надстройка над биологическими механизмами. Основной функцией культуры является создание структур всеобщности, обеспечивающей людям возможность совместной жизни. В животном мире эта задача, как известно, решается при помощи генетически передаваемых механизмов, которые обеспечивают эффективную регуляцию отношений между особями, включая разрешение возникающих конфликтов. Культура, напротив, принципиально отличается от чисто биологических процессов, не является прямым продолжением естественных физиологических и психических свойств человека[153]. Она возможна лишь как процесс усложнения, как постоянно воспроизводящееся усилие, и в этом смысле представляет собой «специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, радикально отличающийся от биологических форм жизни»[154].
С точки зрения функционального подхода к культуре, предложенного Б. Малиновским, любой социальный феномен может и должен рассматриваться как носитель некоторых свойств, представляющих ценность для культуры как системного целого. В свою очередь, сама культура представляет собой агрегат приспособлений, основным назначением которого является удовлетворение базовых потребностей человека. Иначе говоря, культура не знает ничего бесполезного; всякое явление, каким бы малозначительным или ненужным оно ни казалось, неизбежно вносит свой вклад в решение этой общей задачи, так или иначе способствуя обеспечению этих фундаментальных потребностей. При этом выделяется особая группа явлений – так называемые культурные императивы, которые выступают универсальными условиями действия всех иных функциональных элементов культурной целостности. В частности, к таким «культурным императивам» Б. Малиновский относил и право[155].
Тот факт, что право представляет собой социокультурную ценность, можно подтвердить двумя путями. Во-первых, существование права в социуме требует значительных ресурсов. Построение юридической инфраструктуры и ее поддержание в рабочем состоянии связаны для общества с огромными затратами материального, организационного, интеллектуального и т. п. характера. Законодательный корпус, правоохранительные органы, юридические образование и все прочие институциональные элементы юридического поля имеют чрезвычайно высокую «социальную цену». Но наличие стоимости свидетельствует о том, что существует и ценность, в противном случае необходимые ресурсы перестали бы выделяться.
Во-вторых, социокультурная ценность права наглядно проявляется в ситуациях кризисного и революционного характера. Любая революция с внешней стороны представляет собой радикальный разрыв с прошлым, выражающийся в скачкообразном, резком изменении основ социально-экономического и политического устройства. Поэтому первой жертвой революции обычно становится правовая система общества, обеспечивающая сохранность социального порядка. Революция требует не разового нарушения установленных юридических процедур, а полного отказа от них. Это означает, что выносится приговор существующему правопорядку, на него возлагается значительная часть вины за бедственное состояние общества. Однако, разрушив прежний правовой порядок, революция практически сразу же ускоренными темпами начинает порождать собственные нормативные формы. Дело в том, что революция сопряжена с поражением и гибелью лишь отдельно взятой правовой системы, но не права в целом, как социального института. Напротив, революционный опыт подтверждает универсальность и незаменимость права в качестве средства социокультурной интеграции, поскольку вслед за разрушением старого правопорядка революционные силы почти немедленно вынуждены сами обращаться к правовой форме для внедрения и легитимации новых принципов общественной жизни. Действительно, после любой революции сохраняются опорные конструкции правовой системы – закон, суд, собственность, договор, преступление, наказание, полиция и др. Меняются только их наименования, субъекты и др., но не природа и функции этих базовых институтов права.
Таким образом, общество отдает предпочтение правовым формам и в устойчивые, и в кризисные периоды своего существования. Выбор между правом и его отсутствием неизменно делается в пользу правового устройства, хотя его вид и характер могут существенно разниться в зависимости от конкретно-исторических обстоятельств. Иначе говоря, право обладает объективной социокультурной ценностью, поскольку является предметом постоянных устремлений в масштабе всего общества.
Определить социокультурную ценность права означает ответить на вопрос, каким именно образом оно способствует удовлетворению фундаментальных потребностей человека, иначе говоря, как право участвует в создании искусственной среды, обеспечивающей возможность сосуществования людей.
Сама по себе проблема ценности права возникает при наличии определенных социокультурных условий. Во-первых, любая ценность актуализируется, как правило, при возникновении ее дефицита, поскольку именно тогда становится ясно, что недостающее, недостаточно развитое начало социальной жизни обладает действительной значимостью. Можно предположить, что в гипотетической ситуации полного удовлетворения всех жизненных потребностей культура бы не сталкивалась с понятием ценности. Собственно, сама ситуация выбора сигнализирует о том, что наличные возможности небезграничны и что ради одного блага придется пожертвовать чем-то другим. Таким образом, причиной осознания права как ценности может служить нехватка правовых элементов в общественном устройстве.
Так, В.В. Бибихин роль психологического источника права отводит ощущениям. Согласно гипотезе Бибихина, появлению права предшествует состояние, напоминающее фрустрацию, – неудовлетворенность человека самим собой. И это не какое-то индивидуальное недовольство, а общее чувство людей, что они не таковы, какими им следует быть. Право начинается с двух ощущений: одно из них – это ощущение правильности и надежности, второе – ощущение неудачи и ущербности. Пока это лишь первичные психические реакции, но вскоре они принимают более сложную форму, перерастая в чувство судьбы.
Слово «судьба» не случайно происходит от корня «суд». Судьба – это внешняя сила, принимающая решение о нашем будущем. Если мы чувствуем судьбу как инстанцию, независимую от нашей воли и желаний, но непосредственно на нас влияющую, то это означает, что появляется основа для представлений о норме, или правиле. Если нет такого удвоения реальности, нет представления о втором субъекте, определяющем жизненный путь, то нет потребности в нормировании поведения; тогда нормы, установленные другими, кажутся излишними и ненужными.
Во-вторых, еще одним фактором, актуализирующим вопрос о ценности права, является сомнение. Обоснование того, почему тот или иной предмет является ценным, свидетельствует об отсутствии изначальной уверенности в этом. Объяснять ценность права, таким образом, значит реагировать на открытые или молчаливые сомнения со стороны общества. Всеобщее согласие в этом вопросе не давало бы повода для публичного обсуждения, и в этом случае ценность права выступала бы чем-то само собой разумеющимся, не подлежащим дальнейшей рефлексии в силу своей общеизвестности и очевидности.
Ценность права как такового, как самостоятельного культурного артефакта, находит свою дальнейшую конкретизацию в ценностях специального характера, относящихся к форме и содержанию права. Право, строго говоря, не вырабатывает внутри себя собственной уникальной системы ценностей, а выступает формой обеспечения уже существующих ценностей общества. Оно образуется вокруг аксиологических сгущений. Специфика правовых ценностей состоит, во-первых, в том, что они носят формально признанный и официально определенный характер, закрепляются в системе нормативных источников, охраняются властью. Во-вторых, поскольку право регулирует исключительно внешние поведенческие акты людей, то правовые ценности должны выражаться в конкретных опредмеченных формах; духовные ценности (любовь, мудрость, красота и др.) в основном воспринимаются правом лишь постольку, поскольку возможно их материализованное проявление. В-третьих, правовые ценности, будучи нормативно значимыми, в силу этого неизбежно носят обобщенный, усредненный, типичный характер. Таким образом, правовые ценности могут быть определены как типичные социальные предпочтения, получающие официальное нормативное признание и защиту.
С точки зрения синергетики, ценность представляет собой так называемый «аттрактор» («притягиватель») – состояние динамического равновесия, к достижению которого тяготеет система, находящаяся в точке бифуркации (неопределенности, требующей выбора). При этом выделяются два типа аттракторов: простой – предельное состояние с неизменными или циклически изменяющимися параметрами, к которому тяготеет порядок; так называемый «странный» аттрактор – состояние, характеризующееся хаотическим блужданием параметров системы[156].
Управление, с точки зрения синергетики, должно подстраиваться под объективные процессы, происходящие в управляемой системе, а не подавлять их. Зная внутренние законы самоорганизации социальных систем и наиболее вероятные цели-аттракторы, можно инициировать самодостраивание структур.
При этом для наиболее эффективного влияния можно использовать малые, но правильно рассчитанные «резонансные воздействия», которые при минимальных затратах способны дать синергетический управленческий эффект[157].
Точка бифуркации – это не обязательно конфликтная или кризисная ситуация. В сущности, для правовой жизни как на макро-, так и на микроуровне точкой бифуркации является принятие любого юридически значимого решения. Действительно, сама необходимость в принятии решения означает, что существует несколько вариантов устранения некой неопределенности, и в итоге избрание одного из них определяется актуальным набором ценностей.
Раскрыть содержание общей социокультурной ценности права, а также обусловленных ею более частных правовых ценностей, можно путем обращения к тем юридическим и околоюридическим ситуациям, где ценностные ориентации с необходимостью проявляют себя наиболее открытым образом.
Во-первых, ценностные ориентации наглядно обнаруживают себя в процессе принятия и обоснования юридических решений. Поскольку, как уже указывалось, любое сознательное решение в области права представляет собой акт выбора, то предпочтение, отдаваемое тому или иному варианту, указывает на определенную систему ценностей.
Во-вторых, довольно точным отражением сложившейся системы ценностей являются юридические санкции – награды и наказания. Например, крупнейший культуролог и антрополог А. Рэдклифф-Браун поясняет общее понятие санкции следующим образом: «Санкция – это реакция определенной части общества или значительного числа его представителей на тот или иной способ поведения: реакция одобрения (позитивная санкция) или неодобрения (негативная санкция)»[158]. Социальная действенность санкций, по Рэдклифф-Брауну, двояка: во-первых, индивид ведет себя нужным образом, желая получить одобрение или избежать того наказания, которым ему угрожает общество; во-вторых, формируются стандарты социальной оценки, поскольку индивид привыкает реагировать на различные типы поведения в соответствии с тем, какие санкции за них наступают. «Таким образом, – заключает автор, – то, что называют совестью в широком смысле слова, является рефлексом индивида на санкции общества»[159].
Поощрения, равно как и наказания, построены по модели обменного типа: в рамках этих отношений лицо, совершившее поступок определенного рода, в ответ получает от общества, представляемого публичной властью, своеобразный эквивалент, обладающий одновременно формально-юридическим и социально-ценностным значением. Коренное различие между наказанием и поощрением сводится к тому, что в первом случае и сам исходный акт, и его правовые последствия имеют ценностно-отрицательный характер, а во втором – положительный. Иначе говоря, можно определить примерный набор положительных ценностей путем выявления тех объектов, посягательство на которые юридически преследуется. Аналогичным образом, положительными ценностями для общества являются те социальные блага, которые отнимаются или ограничиваются у людей, подвергаемых наказанию за правонарушения. В случае с поощрением положительная ценность, обнаруженная в поступках субъекта, обменивается на положительную ценность, присутствующую в ответных действиях носителей власти.
Лицо, будь то индивидуальное или коллективное, преследуя собственные интересы, совершает многочисленные поведенческие акты. Часть из них по своей направленности и социальным результатам воспринимается общностью, к которой принадлежит субъект деятельности, в качестве желательных, полезных, необходимых. Для того, чтобы стимулировать совершение подобных действий в будущем, общество в лице властных организаций назначает за них вознаграждение. Чтобы стимулирующий эффект достигался, само содержание общественно полезного поведения, а также тот вид социальных благ, которые выступают в качестве награды, описываются в формализованном виде и приобретают характер юридических правил. Полномочия по непосредственному применению поощрений возлагаются на конкретных носителей власти, которые отслеживают факты социально-полезного поведения и принимают решения о необходимости вознаграждения, о его характере и объеме применительно к конкретному лицу с учетом значимости его заслуг.
В-третьих, аналогичный механизм имеет место в связи с критикой и реформированием действующего права. Если то или иное существующее законоположение либо явление юридической практики отвергается, становится предметом негативной оценки, то подобные суждения непременно имеют под собой ценностные основания. Требования об отмене закона, исходящие от общества или его отдельных представителей, означают констатацию его отрицательной ценности. Соответственно, все предлагаемые инновации так или иначе предполагают, что в случае их внедрения будет достигнута какая-либо положительная ценность.
Наконец, в-четвертых, ценности права коренятся в теоретическом и идеологическом мышлении, которое подвергает их рефлексии, артикуляции, обработке и даже видоизменению. Радикальное изменение системы ценностей, как правило, неотделимо от переворота в правовой идеологии: «Все начиналось с философии права, а заканчивалось революцией»[160].
Разумеется, во всех этих случаях речь идет о действиях и представлениях не всего общества, выступающего «единым фронтом», а конкретных лиц и социальных групп. Соответственно, репрезентируемые ими правовые ценности не обязательно будут иметь общезначимый характер. Однако любой индивид является неотъемлемым элементом социального целого, в отрыве от которого он существовать не может. Индивидуальные ценности всегда обусловлены принадлежностью человека к определенным коллективам; одновременно с этим коллективные ценности существуют и реализуются только благодаря индивидуальным убеждениям. Правовые ценности по преимуществу коллективны, поскольку их признание и обеспечение является продуктом группового взаимодействия. Однако они теряют свою силу, если не находят поддержки в сознании и поведении конкретных личностей. В свою очередь, любой коллектив несет определенную функцию в социокультурном механизме, в противном случае общество избавляется от него, как от балласта.
Аналогично этому, можно различать объективные и субъективные правовые ценности, но не как два самостоятельных вида ценностей, а как разные способы восприятия одних и тех же ценностно окрашенных явлений. Правовая ценность субъективна в той мере, в какой она обладает внутренней притягательностью для конкретного лица или социальной группы, а объективна в той мере, в какой она является внешним фактором, «навязывается» социальным окружением.
Но его отличительной чертой является опосредованность индивидуальных интересов и обусловленных ими действий объективно сложившимися институциональными моделями. Право. это область коллективного взаимодействия, в котором поведение редко осуществляется на основе единоличных решений и индивудуального выбора. Любой современный нормативно-правовой акт представляет собой продукт коллективного, а не индивидуального творчества; правоприменительная деятельность также по преимуществу осуществляется в групповых формах, а любой ее субъект неизбежно учитывает опыт и тенденции практики в соответствующей области. Каждый отдельный гражданин, находящийся в сфере правового регулирования и принимая решения личного характера, фактически участвует в социальных процессах использования и контроля качества формальных институциональных моделей, соотнося свои действия с их образцами и незаметно для себя становясь «человеком юридическим».
Теория рационального выбора исходит из того, что при создании или изменении институтов члены общества руководствуются своими ценностными ориентациями, производят своеобразный расчет, калькулируя выгоды и издержки с целью максимизации индивидуальной полезности.
Альтернативный подход обращает внимание на то, что любой институт налагает определенные ограничения на поведение индивидов и использует санкции против нарушителей установленных правил, не позволяет применять к институциональным процессам модели автономно-рационального поведения. Формирование институтов связано не столько с «расчетом выгод и издержек», который сам по себе невозможен в идеальном виде (по причине когнитивных ограничений человека), сколько с неким «непрактическим» смыслом.
Следовательно, весь конгломерат действий и решений, имеющих место внутри правовой системы либо тесно связанных с нею, выступает суммарным отражением социокультурной ценности права, т. е. его роли в самосохранении общественного целого.
Полная гармония и непротиворечивость в системе правовых ценностей является скорее идеальным, чем реальным состоянием. В современном обществе существует множественность ценностей, между которыми нередко возникают конфликты, поскольку в различных жизненных ситуациях какими-то из них приходится жертвовать.
Правовые ценности всегда образуют систему, то есть находятся между собой в относительно постоянной связи. В зависимости от характера этой связи структура ценностей может носить как иерархический, так и сетевой характер. При иерархической системе ценности располагаются на нескольких уровнях, где и занимают свои неизменные места, подразделяясь на высшие и низшие, абсолютные и относительные (инструментальные)[161]. Такой характер правовых ценностей, как правило, характерен для обществ с высокой религиозностью, где существуют непреложные истины и миропорядок понимается единообразно. В современных секуляризованных обществах западного образца, неоднородных по своему составу и лишенных общей для всех идеологии, структура ценностей строится главным образом по сетевой модели, когда состав ценностей более или менее устойчив, однако строгий порядок подчинения между ними отсутствует, их вес и сила меняются, и каждая из ценностей может временно занять доминирующее положение в зависимости от социально-политических обстоятельств.
Свобода обычно включается в число основополагающих ценностей права и часто ставится в их системе на первое место. Однако в трактовке самого понятия «свобода» не всегда присутствует необходимая определенность. Как писал Ш.Л. Монтескье, «нет слова, которое получило бы столько разнообразных значений и производило бы столь различные впечатления на умы, как слово «свобода». Одни называют свободой легкую возможность низлагать того, кого они наделили тиранической властью; другие – избирать того, кому
они должны повиноваться; третьи – право носить оружие и совершать насилия; четвертые видят ее в привилегии состоять под управлением человека своей национальности или подчиняться собственным законам…»[162].
Одна из классических концепций свободы принадлежит И. Канту. Свобода, в соответствии с его метафизикой нравов, тесно связывается с понятием «произвол»: «Способность желания, согласно понятиям, поскольку основание, определяющее ее к действию, находится в ней самой, а не в объекте, называется способностью действовать или не действовать по своему усмотрению. Поскольку эта способность связана с сознанием способности совершать поступки для создания объекта, она называется произволом. Свобода произвола есть. независимость его определения от чувственных побуждений – это негативное понятие свободы произвола. Положительное же [ее] понятие – это способность чистого разума быть для самого себя практическим»[163]. Более краткое определение свободы у Канта – «независимость от принуждающего произвола другого»[164].
Таким образом, в философии Канта под свободой понимается способность к принятию и реализации разумных решений (позитивный аспект) независимо от собственных чувств и от принуждения со стороны других людей (негативный аспект).
В марксистской традиции общим местом стало определение свободы как познанной необходимости (или «познания необходимости»), со ссылкой на Ф. Энгельса[165]. Порой эта версия находит поддержку и в современной юридической литературе: «Применительно к юридической свободе представление о свободе как познанной необходимости в настоящее время сохраняет свою актуальность»[166].
Это популярное и несколько парадоксальное определение, впрочем, не вполне соответствует тому, как свобода выглядит с точки зрения права. «Познанная необходимость» может иметь место не только в условиях свободы, но и в тех случаях, когда лицо действует под принуждением и его свобода воли не реализуется; например, для того, чтобы заставить себя подчиниться чьему-то приказу, противоречащему твоим интересам и намерениям, также следует осознать необходимость его выполнения. Познавать необходимость может и тот, чьи действия полностью скованы внешней силой. Налицо, по сути, расхождение между юридическим словоупотреблением и философской терминологией, доходящее до того, что под одним и тем же термином скрываются совершенно различные состояния человеческой воли и поведения.
Впрочем, и Ф. Энгельс в действительности придерживался не совсем таких взглядов. Выражение «свобода есть познание необходимости» он использует лишь при изложении идей Гегеля, а не собственных выводов. По мнению самого Энгельса, «свобода воли означает не что иное, как способность принимать решения со знанием дела… Следовательно, свобода состоит в господстве над самим собой и над внешней природой, основанном на познании естественной необходимости…»[167]. Стоит, что называется, почувствовать разницу: согласно Энгельсу, свобода – это вовсе не сама необходимость и даже не процесс ее познания (это означало бы, что свобода – исключительно внутреннее состояние), а определенная интеллектуально-волевая компетенция субъекта, позволяющая ему господствовать (именно господство и является высшей ценностью, по отношению к которой свобода носит, по существу, служебный характер).
Как представляется, это определение может быть использовано для целей теории и философии права лишь с существенными оговорками и ограничениями. Указание на «осознанность» связано с обращением к внутреннему миру человека, в то время как для права представляют интерес главным образом внешние проявления человеческой активности. Строго говоря, даже конституционная «свобода мысли» представляет собой скорее правовую декларацию, чем полноценное правомочие, поскольку юридически удостоверить мышление человека невозможно – оно являет себя лишь через слова и поступки, само же всегда остается скрытым и недоступным для контроля. Индивидуальная способность к осознанию внешних обстоятельств и к принятию решений, разумеется, с точки зрения права далеко не безразлична, но для этого существуют другие понятия – например, дееспособность или вменяемость, а не свобода. Человек может действовать и неразумно, без знания законов природы и естественной необходимости, но при этом оставаться свободным с юридической точки зрения; свобода «выражается не только в возможности действовать в соответствии с познанной необходимостью, но и вопреки ей… Человек волен в том, чтобы познавать или игнорировать необходимость соотносить свое поведение с объективными условиями жизни»[168].
Более адекватно, с учетом специфики права, выглядят другие интерпретации понятия свободы, например: возможность совершать действия по собственному выбору, на основании собственных убеждений, интересов и потребностей[169]; реализация субъектом права своей внешней цели посредством юридической связи с другими субъектами права[170].
Как представляется, для уточнения идеи свободы необходимо прежде всего обратиться к тем обстоятельствам, когда актуализируется само это понятие. Ведь оно, вообще говоря, применимо далеко не в любой культурной ситуации, а представляет собой функциональное средство для решения вполне конкретных, даже локальных социальных проблем.
Если попытаться восстановить ту обстановку, в которой понятие свободы становится необходимым и востребованным, то прежде всего бросается в глаза, что это понятие возникает в ситуациях конфликтности – реальной или потенциальной. Вопрос о свободе возникает тогда, когда существует некоторое противоречие, в первую очередь между потребностями и возможностями. Если все потребности человека удовлетворены, вопрос о свободе для него не важен; если он не сталкивается с каким-то препятствием, то не распознает проблемы свободы. Можно предположить, что любые ценности актуализируются в условиях их отсутствия либо дефицита, когда вдруг оказывается, что чего-то важного не хватает.
Неудовлетворенность, осознание неполной реализации своих интересов и наличия помех на своем пути ощущается как состояние несвободы. Соответственно, свобода мыслится как противоположность этому, то есть как отсутствие ограничений («свобода от…») или как наличие необходимых средств для достижения своих целей («свобода для…»).
Личная свобода предполагает возможность нахождения индивида в «свободном» обществе (антиподом которому выступает «тюремное население»), самостоятельного выбора места своего пребывания, а также распоряжения своим временем, деньгами и т. п. ресурсами.
Свобода договора, закрепленная в ст. 421 Гражданского кодекса РФ, выражается в предоставленной гражданам и юридическим лицам возможности заключать договоры без какого-либо понуждения, выбирать любой предусмотренный или не предусмотренный законом вид договора, по своему усмотрению определять содержание договора.
Свобода совести и свобода вероисповедания означают возможность исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними (ст. 28 Конституции РФ). Во всех этих и других случаях (равно как и в приведенной выше цитате Монтескье) под свободой понимается нечто общее – обусловленная тем или иным субъективным интересом возможность проявления самостоятельности в процессе принятия и осуществления определенных решений.
Эта возможность, именуемая свободой, носит не абсолютный, а относительный характер, поскольку ее объектом является жизненный выбор, изначально ограниченный как имеющимися альтернативами, так и разнообразными внешними и внутренними условиями, сопутствующими его совершению. Собственно, именно нарушение легальных рамок свободы и является основанием для ее «лишения» (точнее ограничения). Поскольку объектом свободы в ее правовом значении является, по существу, только внешняя активность человека, то ее можно определить как возможность движения. Наконец, юридическая свобода отличается от других видов свободы формой своей репрезентации – она гарантирована субъекту через публичное, официальное установление границ допустимого поведения.
Таким образом, свобода с правовой точки зрения может рассматриваться как официально предоставленная субъекту относительная возможность самостоятельного движения, или масштабированное поле беспрепятственного жизненного выбора.
Свобода в онтологическом смысле – это фактически доступный индивиду или коллективу объем социальных возможностей в рамках определенной модели культуры.
В сфере правового поведения наиболее распространенной является так называемая телеологическая детерминация, которая не только не отвергает свободы воли, но непосредственно на ней основывается. Телеологическая детерминация означает, что деятельность субъекта обусловливается не просто сочетанием внешних обстоятельств, но и конкретной целью, которую он ставит перед собой с учетом этих условий; «он полагает определенный эффект в качестве «цели», т. е. соединяет с ним некоторую ценность»[171]. При этом правовые установления представляют собой один из тех факторов, под действием которого люди формируют свою систему правовых ценностей (благ) и выбирают способ достижения этих благ[172].
Свобода в аксиологическом смысле – это та возможность поведения, которая является желаемой для субъекта и представляет собой предмет его рационального целеполагания или эмоционального тяготения.
Продемонстрировать ценность свободы в сфере права можно двояким образом. С одной стороны, свобода объективно необходима человеку как условие его выживания. И.П. Павлов даже предпринял попытку обосновать существование особого «рефлекса свободы», который выражается в том, что живое существо не выносит ограничений своего движения и стремится от них избавиться: «рефлекс свободы есть общее свойство, общая реакция животных, один из важнейших прирожденных рефлексов. Не будь его, всякое малейшее препятствие, которое встречало бы животное на своем пути, совершенно прерывало бы течение его жизни»[173]. Иначе говоря, любые помехи в движении представляют потенциальную опасность для жизни даже в физиологическом смысле. Пусть потребность в свободе изначально появляется как инструментальная, вызванная иными, более глубинными инстинктами; однако, будучи совершенно незаменимым средством самосохранения, со временем она превращается в самостоятельную культурную ценность.
С другой стороны, свобода получает всестороннее формально-юридическое признание в качестве ценности (блага). Конституция Российской Федерации прямо объявляет свободу (точнее, «свободы» – во множественном числе) высшей ценностью (ст. 2). В дальнейшем свобода сама описывается как объект одного из личных конституционных прав («право на свободу и личную неприкосновенность») и, наконец, конкретизируется в виде веера множественных специальных «свобод» (свобода слова, мысли, совести, передвижения и др.).
Правда, следует обратить внимание на то, что свобода, будучи правовой ценностью универсального характера, практически не играет никакой роли в сфере заслуг. В отличие от наказания, для поощрения даже не требуется, чтобы действия награждаемого лица носили добровольный характер: совершение деяния под принуждением не служит основанием, исключающим поощрение. Применительно к мерам поощрения свобода выступает в качестве правовой ценности лишь для узкой сферы отношений, связанных с отбыванием уголовного, административного, дисциплинарного наказания.
Объективная ценность свободы состоит в том, что она является необходимым условием для самореализации человека, позволяя ему по собственному усмотрению определять цели и средства своей деятельности. Свобода воспринимается как подлинное благо, поскольку именно от наличия или отсутствия свободы зависит то, сможет ли человек самостоятельно находить пути удовлетворения своих материальных и духовных потребностей. Чем большими возможностями свободного выбора обладают субъекты правовой жизни, тем интенсивнее происходит самоорганизация, и наоборот. Свобода и самоорганизация – понятия если не равнозначные, то, во всяком случае, вполне соотносимые. Отсутствие свободы или ее крайняя узость могут привести к серьезному социальному напряжению, вызванному накоплением нереализованных интересов, что в конечном счете угрожает гражданскому миру, согласию и солидарности. Если юридический опыт носит для отдельных индивидов или целых социальных групп травматический характер, то есть причиняет им страдания, то он может стать причиной утраты ими лояльности к правопорядку.
Если в правовой системе низок уровень допустимой свободы (например, в деспотических и тоталитарных государствах), то этим нисколько не обеспечивается устойчивость ее развития. Динамическая система не может замереть в равновесном состоянии, поэтому при отсутствии возможностей для самоорганизации (развития) альтернативой является лишь энтропия (деградация).
Чтобы общество сохраняло устойчивость, в его структуре должны присутствовать участки пониженной социальной упорядоченности; эти проявления энтропии выполняют созидательную функцию, поскольку без них социальная система не имела бы резервов самоорганизации. С точки зрения синергетического подхода, зоны социальной аномии необходимы системе для поддержания собственной жизнеспособности, как источник самоорганизации[174].
Однако ценность свободы реализуется через акт выбора, который связан с отказом от альтернативных возможностей и тем самым представляет собой в известном смысле ограничение свободы. Согласно Гегелю, свобода воли – это неопределенность, стремящаяся стать определенностью: «Я не только волит, но волит нечто. Воля, которая… волит только абстрактно всеобщее, ничего не волит и поэтому не есть воля. Особенное, что волит воля, есть ограничение, ибо воля, чтобы быть волей, должна вообще себя ограничивать. То, что воля нечто волит, есть ограничение, отрицание»[175].
Например, осуществив свою законную свободу находиться в определенное время в некотором месте, человек тем самым ее существенно ограничивает, так как отказывается от огромного разнообразия других возможностей, которыми он до этого располагал. Свобода актуализируется в момент принятия решения, как поле выбора; но когда выбор совершается, свобода перестает существовать – по крайней мере, в отношении того действия, которое уже совершено, так как отменить его нельзя.
Как никто не может обладать бесконечно большой суммой денег, так невозможен и неограниченный объем свободы, если понимать ее в более или менее приземленном и конкретном смысле. Свобода, не имеющая границ, превращается во что-то иное, поскольку свобода всегда существует «от» чего-то и «для» чего-то. Если устранить ограничения по объему, содержанию и цели, то свобода перестает быть инструментальной ценностью, утрачивает свое меновое значение. Не утрачивая своего конструктивного значения, при отсутствии или недостаточности сдерживающих факторов свобода одновременно становится опасной и разрушительной силой.
Но тогда возникает вопрос об источниках ограничения: кто определяет границу свободы? Ведь она существует и является ценностью лишь внутри социальных рамок, которые должны носить вполне конкретный характер, а значит, кем-то должны устанавливаться и контролироваться. Здесь можно предложить условную структурную модель свободы как своеобразного тройственного обмена, в котором участвуют: первая сторона – сам субъект, обладающий свободой; вторая сторона – те лица, чьи интересы затрагиваются в процессе реализации его свободы; третья, скрытая сторона – тот, кто определяет границы свободы, то есть решает, что позволено свободному человеку. Естественно, что субъект, принимающий решения в отношении других лиц, может идентифицироваться как носитель власти. Третья, скрытая сторона свободы – это власть, и только она может установить предел свободы.
Таким образом, свобода в обменных категориях может рассматриваться как беспрепятственное циркулирование обменных отношений, урегулированное властью; свобода без властной регуляции непредставима, невозможна как социальный факт.
Юридическая свобода существует для того, чтобы быть использованной, а сам акт свободного поведения направлен на достижение конкретных социальных благ. Свобода не беспредельна, а ограничена общественно допустимыми целями, иначе говоря, ее конкретный объем определяется иными социально-правовыми ценностями.
Конечно, нельзя отрицать, что правовые предписания в каком-то смысле ограничивают свободу субъектов, сужая круг альтернатив и подталкивая к определенному выбору. Но сами по себе ограничения вовсе не являются препятствием для человеческой свободы. Как верно подчеркнул Н.О. Лосский, «наличность таких необходимых форм не есть уничтожение свободы. Нелепо было бы утверждать, что я лишен свободы ввиду существования закона «2х2=4» или ввиду закона, согласно которому, если я совершу деяние, причиняющее страдание какому-либо существу, то и сам я наверное буду хотя бы частично неудовлетворен своею деятельностью»[176].
Свобода здесь определяется не столько тем, в каком отношении находятся действия субъекта к объективным ограничениям, сколько тем, принимает ли он решения самостоятельно или под давлением чужой воли. Право задает условия и границы, в которых протекает свободная активность субъектов правовой жизни, но человеческая воля в сфере права остается свободной и часто непредсказуемой. В целом взаимодействие правовых требований и свободной воли удачно моделируется в образе шахматной доски[177]. Участники играют по правилам, которые не ими установлены, но в рамках этих правил имеют достаточную свободу выбора. Хотя правила остаются одинаковыми, ходы всякий раз делаются разные, и поэтому практически не бывает совершенно одинаковых шахматных партий. Точно так же в государственно-правовой жизни юридические нормы, будучи опосредованы человеческой волей, все время реализуются по-разному.
Вместе с тем, разумеется, взаимоотношения между правом и свободой далеко не идилличны, а, напротив, полны напряжения. И виной тому не что иное, как правовая форма. Антиподом свободы является отчуждение. Согласно глубоким и точным наблюдениям Маркса и Энгельса, отчуждение имеет место там, где результат человеческой деятельности превращается в вещественную силу, выходит из-под контроля своих создателей и сам начинает господствовать над ними, причем так, что нарушает их расчеты и ожидания[178]. Речь идет, конечно, в первую очередь об отчужденном труде, но это описание может подходить к любому социальному институту. В условиях крайнего отчуждения присутствует необходимость, но отсутствует свобода как господство над внешним миром, поскольку человек становится не субъектом, а объектом этого господства.
При этом все признаки отчуждения относятся к самому позитивному («объективному») праву. Оно существует в овеществленной текстуальной форме и, безусловно, является внешней по отношению к человеку силой, которая способна вмешаться в жизненные планы каждого, поскольку действует принудительным образом. Исключением, пожалуй, является лишь правовой обычай, поскольку он вначале органически вырастает из поведения людей, признается ими в качестве «своего» и лишь затем подвергается некоторой формализации. Все остальные формы права предрасполагают к отчуждению; даже договор, где отражена воля самих сторон, с течением времени отчуждается от них, поскольку текст договора статичен, а воля и интересы его участников изменчивы.
Присвоению подлежат только частные аспекты права, а именно так называемые субъективные права. «Своим» может считаться лишь то, что находится в относительно устойчивой связи с субъектом, но при этом полностью ему подконтрольно. Не случайно то, что свобода нередко так или иначе связывается с собственностью (например, по словам Ф.М. Достоевского, «деньги – это отчеканенная свобода»[179]). Вероятно, трудно было бы согласиться с тем, что количество денег прямо увеличивает объем свободы; чисто эмпирически эта гипотеза не подтверждается, поскольку известно, что собственность обременяет и обязывает, и зачастую большой размер имущества фактически не увеличивает свободы, а наоборот, существенно ее сокращает. Однако свобода действительно сходна с собственностью в том, что в обоих случаях происходит присвоение и властвование. Субъективные права – это и есть возможности, находящиеся в полном распоряжении человека, которыми он может воспользоваться или пренебречь как средствами для достижения своих целей. Поэтому именно субъективные права обычно рассматриваются как юридическое воплощение свободы.
Однако субъективные права не возникают и не фиксируются помимо объективного права. Естественные или какие угодно другие потребности, способности, качества, свойства человеческой личности сами по себе не являются правами – они преобразуются в права только после того, как признаются социально полезными, приемлемыми или, наоборот, вредными, недопустимыми, что должно получить отражение в авторитетных текстах.
В некоторых теоретических моделях права факт отчуждения отрицается или игнорируется. Так, психологическая теория права Л.И. Петражицкого вроде бы не предполагает отчуждения, поскольку право объявляется эффектом психики и, следовательно, вообще не существующим отдельно от человеческой личности; однако при этом «общественная функция» права видится в обеспечении единообразия человеческого поведения[180], что, вероятно, требует существования и надындивидуальных структур права. Естественно-правовая теория, создающая облагороженный и сугубо положительный образ права, также не склонна усматривать в нем черты отчуждения; однако и естественное право приводится в действие не иначе как законами государств, международными договорами, судебными решениями и другими инструментами, подверженными отчуждению.
Таким образом, внутренняя конфликтность правовой системы связана с тем, что в ней субъективные права невозможны без объективированных текстуальных форм и, следовательно, отчуждение является необходимым условием свободы.
2.3. Правовая ценность российской Конституции
«Конституция есть выражение основных юридических ценностей, таких как права и свободы человека; верховенство права; справедливость и равенство; демократическое, федеративное, правовое и социальное государство; разделение властей, парламентаризм; правовая экономика… Конституция позволяет стране находиться на столбовом пути всемирной истории, а не на ее задворках»[181]. Вряд ли найдется тот, кто попытается оспорить мнение о Конституции России, высказанное Председателем Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькиным. Однако при более пристальном рассмотрении выясняется, что в реальности ценность Конституции в современной России подвергается существенной девальвации.
– В 2004 году День Конституции – 12 декабря утратил статус государственного праздника и стал памятной датой, значимой для достаточно узкого круга представителей юридической общественности (скажите, когда отмечается День танкиста, День строителя, День железнодорожника? Лично я затрудняюсь ответить. Думаю, что с подобным же затруднением рядовой гражданин столкнется при ответе на вопрос о том, когда отмечается День конституции)[182];
– В 2000 году Конституция была исключена из числа официальных символов президентской власти. За сутки до своей инаугурации, назначенной на 7 мая 2000 г., исполняющий обязанности Президента РФ Владимир Путин отменил Указ Президента РФ № 1138 от 05.08.1996 «Об официальных символах президентской власти и их использовании при вступлении в должность вновь избранного Президента Российской Федерации». Специальный экземпляр текста Конституции был лишен официального статуса символа президентской власти. В настоящий период такими символами являются Штандарт и Знак Президента;
– По статистике, с полным текстом Основного закона страны знаком только каждый десятый россиянин. Каждый третий российский гражданин, по данным ВЦИОМ, не только не читал Основной закон, но и не помнит, что ныне действующая Конституция России принималась в 1993 г. по итогам всенародного референдума;
– Современная российская Конституция в значительной степени утратила содержательную жесткость. В настоящий период ее изменение представляет собой сугубо техническую проблему[183].
В.Д. Зорькин дает своеобразное определение Конституции в качестве «закодированного правовым языком государства»[184]. Лично мне не хотелось бы ощущать себя гражданином «закодированного», не важно каким способом государства, поскольку конституционная демократия – это, прежде всего, осознаваемая свобода и взаимная ответственность власти и личности. Не может не вызывать обоснованных опасений то, что в современной России, как и на предшествующих этапах ее развития, «конституционным кодом», а значит и «закодированным» при его помощи государством, можно достаточно свободно манипулировать. К каким трагическим последствиям произвольные манипуляции с разного рода «кодировками» могут привести, свидетельствует недавняя трагедия на подводной лодке «Нерпа», когда (как свидетельствует официальная версия следствия) матросом была случайно запущена гибельная для жизни людей система экстренного пожаротушения[185].
Перечисленные факторы свидетельствуют, прежде всего, о снижении ценности Конституции в качестве юридической формы позитивного права. Конституция как юридический текст все чаще воспринимается не как нормативно-правовой акт прямого действия, оказывающий реальное регулятивно-охранительное воздействие на общественные отношения, а как документ доктринального характера, включающий по большей мере не поведенческие, а специализированные нормы (принципы, цели, ценности). Опять же лично для меня, это не является свидетельством утраты Конституцией ценности как таковой, а наглядно демонстрирует лишь «дефетишизацию» и «десакрализацию» текста Основного закона, который, переставая восприниматься в качестве всеисцеляющей панацеи и непререкаемой догмы, вместе с тем, сохраняет свойства идейно-правового основания демократического политического режима.
Конституция не священное писание, а документ, созданный конкретными людьми в достаточно сложной социально-политической ситуации и содержащий немало внутренних противоречий. Соответственно, и Президент государства и члены Конституционного Суда – это не жрецы, служащие Конституции подобно тотемному символу и обладающие сверхъестественными возможностями общения с лишь им доступным «конституционным духом», а работающие на определенных должностях чиновники, наделенные в силу своего должностного положения компетенциями, позволяющими осуществлять специфическую правотворческую, правоинтерпретационную и правоприменительную деятельность в конституционной сфере.
Подобное восприятие Конституции означает, что заложенные в ней положения приобретают действенный характер только в том случае, если ими руководствуются люди, относящие себя не к подданным, а к гражданам государства, для которых свобода и право перестают быть не имеющими реального субъективного значения абстракциями. Когда эти люди начинают объединяться и отстаивать свои права и свободы посредством средств и технологий, закрепленных в Конституции, то это свидетельствует о том, что в стране постепенно складываются условия для формирования реального конституционализма.
К таким условиям можно отнести свободу слова, собраний, митингов и шествий, существование легальной оппозиции, многообразие форм собственности и хозяйственных укладов, признание приоритета международного права по отношению к национальному законодательству, возможность защиты прав и свобод человека и гражданина в межгосударственных органах в случаях, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.
Конечно, свободных людей, сверяющих свои слова и поступки не с УКАЗаниями различного рода «верхов», а непосредственно с Конституцией (в этом смысле действительно оказывающей прямое правовое воздействие) во все времена (и нынешний период не исключение) в России было меньше, чем тех, кто во имя личного спокойствия, удобства и безопасности предпочитал занимать соглашательскую позицию. Вышеперечисленные условия реального конституционализма существуют в современной России в ограниченном объеме и зачастую подвергаются существенным ограничениям со стороны государственной администрации. Однако уже сам факт их существования является свидетельством того, что Конституция не утратила своей ценности в глазах тех, кто готов сверять свою жизнь с ее положениями и руководствоваться ее принципами и ценностями в своей повседневной жизнедеятельности. Хочется верить, что число таких людей в России возрастает.
Конституция – это не «закодированное правом государство», а Гимн правового государства. Можно менять слова, но нельзя изменить суть, можно заставить выучить и петь, но нельзя заставить верить. Конституция не изменяет государство и граждан, просто ее наличие необходимо для того, чтобы граждане поверили в то, что они могут изменить собственную жизнь и жизнь своего государства. Именно в этом для меня как гражданина основная ценность Конституции.
2.4. Свобода и равенство
Идея равенства в Новое время стала если не центральным, то одним из наиболее заметных и активно действующих элементов западной концепции права. Ценность равенства сегодня признается практически единодушно и редко кем ставится под сомнение на уровне политической и юридической практики; с этим фактом соглашаются даже противники равенства – например, Г. Лебон, который считал эту идею пагубной и в то же время отмечал ее повсеместное распространение[186]. По всей видимости, равенство обладает особыми мобилизующими свойствами. Именно требование равенства было одним из главных лозунгов, под которыми проходили великие буржуазные революции. Во многих философско-правовых теориях равенство является «краеугольным камнем»; именно в нем зачастую видят квинтэссенцию и основной смысл права как такового. Именно на этом строится, например, «либертарно-юридическая» теория права: «Везде, где действует принцип формального равенства, там есть правовое начало и правовой способ регуляции: где действует право, там есть данный принцип равенства. Где нет этого принципа равенства, там нет и права как такового. Формальное равенство свободных индивидов тем самым является наиболее абстрактным определением права, общим для всякого права и специфичным для права вообще»[187].
Принцип правового равенства занял прочное место в современных конституциях, культивируется в законодательстве и тщательно охраняется судебной системой. Но одновременно с этим место равенства в правовой реальности остается не до конца ясным, обладает некоторой двусмысленностью и даже парадоксальностью.
Равенство в самом общем понимании представляет собой тождественность предметов или явлений, их принципиальное сходство, «одинаковость», отсутствие существенных различий: «при помощи категории равенства обозначаются такие отношения, когда объекты имеют качества (или хотя бы одно свойство) которые могут быть взаимозаменимыми»[188].
Таким образом, равенство, как и справедливость, основано на эквивалентности: равными могут считаться лишь такие элементы, которые можно поменять местами без ущерба для системы. Стало быть, оно наиболее применимо в той социальной среде, где участники отношений выполняют однотипные функции, вследствие чего между ними возникает, пользуясь терминологией Э. Дюркгейма, «механическая солидарность»[189] – таковы, например, солдаты в строю или торговцы на рынке. Однако такое равенство всегда имеет отчетливую границу, за которой начинается либо вражда (граница между «своими» и врагами), либо «органическая солидарность», основанная не на сходстве, а на различии (дистанция между командиром и подчиненным; прилавок, отделяющий продавца от покупателя).
Метафора «равенство стартовых условий», видимо, берет свое начало из состязательно-игрового представления о праве и обществе в целом. Например, Ж.П. Вернан, описывая происхождение идеи равенства («isonomia») в Древней Греции, приводит слова Гесиода о том, что любое соперничество предполагает отношения равенства: состязаться могут только равные[190]. Игра требует, кроме того, чтобы для всех существовали единые правила и единое судейство. Но образ права как площадки для спортивного соревнования, очевидно, помимо равенства на старте означает неравенство сил, как в ходе борьбы, так и на финише.
Изначально идея равенства, очевидно, имела довольно ограниченную сферу действия; по существу, она применялась к сравнительно узкому социальному слою – взрослым свободным мужчинам. Так, согласно Аристотелю, полное политическое равенство в Греции не распространялось на рабов, метеков (иноземцев), детей, стариков, ремесленников, торговцев и др.[191] В целом же равенство понималось не столько как общий принцип, сколько как инструмент управления, который по-разному применяется в зависимости от государственного устройства.
Совершенно иной смысл идея равенства приобретает в христианстве. Существование Бога как высшей и абсолютной инстанции, конечно, не отменяет индивидуальных и социальных различий между людьми, но делает их несущественными: в отношениях с Богом это неравенство не учитывается: «Нет раба, ни свободного… ибо все вы одно во Христе Иисусе» (мит. 3:28); «Нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3:11).
Действующая российская Конституция провозглашает: «Все равны перед законом и судом» (ч.1 ст. 19). Этот принцип, судя по его формулировке, прямо проистекает из идеи равенства перед Богом. Поскольку закон является выражением Божественной воли, а судья – это не кто иной, как посредник в осуществлении этой воли[192], то они тоже должны абстрагироваться от случайных проявлений фактического неравенства.
В современных светских государствах религиозные основания этого принципа утрачены или ослаблены, поэтому равенство, лишившееся Божественной санкции, становится своего рода «категорическим императивом», не требующим и не предполагающим никаких доказательств. В этом одновременно и сила, и слабость правового равенства: оно аксиоматично, директивно закреплено Конституциями и законами, и в то же время не может не вызывать сомнений, поскольку на практике принцип равенства никогда не выдерживается полностью.
С одной стороны, нет сомнений, что с точки зрения правовой формы равенство представляет собой естественное и даже неустранимое явление. В известном смысле требование равенства вытекает из самой сущности права, которое представляет собой набор правил общего характера, унифицирующих социальное пространство. На лиц, которые попадают в одни и те же жизненные условия, распространяются единые юридические стандарты; право, по существу, не имеет дела с уникальной человеческой личностью, а создает обобщенные образы, именуемые статусами, в рамках которых индивидуальные различия, не имеющие юридического значения, стираются и никак не учитываются; в этом отношении происходит взаимное уравнивание людей.
С другой стороны, равенство в сфере права наталкивается на явные препятствия и ограничения. Прежде всего, невозможно добиться полной унификации и юридического отождествления всех людей в силу наличия у них несовпадающих качеств, которые неизбежно будут напоминать о себе. Фактическое равенство людей, очевидно, не может быть обеспечено правовыми средствами; но полное равенство невозможно даже в формально-юридическом отношении, поскольку это означало бы идеальное совпадение прав и обязанностей у всех субъектов. Но в таком случае невозможна дифференциация правового регулирования в отношении разных лиц, не существует никакой динамики в правовом положении отдельно взятого субъекта права. Любой правовой статус сочетает в себе элементы равенства (между носителями одного и того же статуса) и неравенства (между субъектами с разным статусом).
Уточнение смысла и границ равенства как правовой ценности требует определить, каким образом равенство способно участвовать в выполнении основных социокультурных функций права, прежде всего – в интеграции и солидаризации общества.
Связь равенства и солидарности также носит неоднозначный характер и получает самые разноречивые интерпретации. Например, Т. Гоббс, исходя из постулата об исходном равенстве всех людей, считал его одной из основных предпосылок «войны всех против всех», то есть состояния, противоположного солидарности: «Из этого равенства способностей возникает равенство надежд на достижение целей. Вот почему, если два человека желают одной и той же вещи, которой, однако, они не могут обладать вдвоем, они становятся врагами. На пути к достижению их цели (которая состоит главным образом в сохранении жизни, а иногда в одном лишь наслаждении) они стараются погубить или покорить друг друга»[193].
Однако существуют и совершенно обратная теоретическая позиция: «Основание равенства коренится в коллективистских формах собственности, в предпочтении солидарности конкуренции, поисках справедливости… Равенство, как правило, связано с гетерономией личности, т. е. с признанием ее зависимости от других, с необходимостью быть под опекой внешней силы: символа веры, государственной мощи, либо другой объединяющей идеи общего, чаще корпоративного, блага»[194].
Причина этих разногласий, помимо прочего, может заключаться в том, что речь идет о равенстве в двух разных значениях: в первом случае – об элементах индивидуального равенства, имеющих естественное происхождение, во втором – о равенстве как социальном идеале, то есть о нормативно-идеологической конструкции.
Социокультурная целостность, очевидно, обеспечивается благодаря тому, что общество находит такой баланс равенства и неравенства, который способствует достижению необходимого уровня солидарности. Поэтому юридическое равенство – это явление искусственное, специально предназначенное для поддержания социального порядка. Это признавал даже такой адепт равенства, как Ж.Ж. Руссо: «Именно потому, что сила вещей всегда стремится уничтожить равенство, сила законов всегда и должна стремиться сохранять его»[195].
Таким образом, в сфере права равенство служит для того, чтобы вносить коррекцию в сложившуюся систему социальной дифференциации. Особенно наглядно это проявляется в ситуациях, когда необходим демонтаж той или иной социальной системы. Поскольку любой социальный порядок строится на иерархии, а идея равенства ее явно или неявно отрицает, то она становится своеобразным «раствором», который смывает всю предыдущую разметку социальных связей, чтобы потом можно было нанести ее заново.
По существу, нечто аналогичное, хотя и в умеренной форме, происходит и в стабильно развивающихся правовых системах. Например, принцип «равенства всех перед законом и судом» означает, что в правовой реальности подлежат учету лишь такие качества личности, значимость которых признается формально-юридически. Иначе говоря, этот принцип декларирует отмену всех неформальных статусов и в какой-то мере защищает правовую систему от «вторжения» факторов, не имеющих юридического значения. При этом, конечно, не предполагается, что всеобщее равенство «перед» законом означает такое же тотальное равноправие между теми лицами, которые уже оказались под действием этого закона.
В области права равенство, наряду с «состязательной», выполняет еще и примирительную функцию. Дело в том, что естественное социальное неравенство может болезненно переживаться теми социальными группами, которые находятся в приниженном положении по сравнению с другими. Неравномерное распределение социальных благ (власти, имущества, престижа, безопасности, информации и т. п.) может вызывать крайне негативную реакцию со стороны тех, кто по тем или иным причинам оказался в проигрыше. В особенности этот риск возрастает в том случае, если общество признает ценность свободы. Как справедливо замечает по этому поводу Э. Гидденс, «если свобода не сбалансирована равенством, и если многие лишены возможности самореализации, отклоняющееся поведение принимает социально деструктивные формы»[196].
Нормативное провозглашение всеобщего равенства, вероятно, в какой-то степени смягчает напряженность этой проблемы, но не может устранить ее полностью, поскольку необходимость дифференцированного подхода к определению прав и обязанностей различных субъектов все равно сохраняется. В этом смысле ценность равенства вступает в некоторое противоречие с ценностью справедливости, которая требует, чтобы каждое лицо пользовалось тем объемом благ, который адекватен его социальным заслугам.
Все исторически существовавшие типы человеческих обществ построены на основе власти и подчинения. Но иерархия власти не допускает возможности полного равенства между властвующим и подвластным. Это означало бы, что они обладают друг в отношении друга совершенно одинаковыми возможностями, что в корне противоречит самой природе власти: тогда никто из них не сможет подчинить другого своей воле. Таким образом, сама социальная организация сопротивляется абсолютизации равенства. Более того, сам правовой принцип равенства устанавливается и поддерживается законом, который, в свою очередь, появляется как продукт сугубо вертикальной конфигурации отношений и одностороннего навязывания элитой своей воли всему остальному обществу.
То же самое касается, по существу, любых обменных процессов: если представить себе правовую систему, в которой все субъекты наделены совершенно одинаковыми правами и обязанностями, то в ней никакие обменные отношения не состоятся. Обмен ведь и возможен только потому, что один из его участников располагает таким благом, которое отсутствует у другого; например, торговля, как квинтэссенция обмена, возможна только потому, что продавец и покупатель не равны, а имеют разные права и обязанности, соответствующие их функциям в системе обмена. Если покупатель, придя в магазин, обнаружит там за прилавком другого покупателя, то никакого обмена не состоится: лицу, которое вступает в правовые отношения, нужен контрагент, а не двойник[197]. Чтобы обмен произошел, необходимо усвоить различные социальные роли, то есть, по сути, отказаться от равенства.
Таким образом, в реальной правовой системе нет места для равенства, если понимать его как полное тождество статусов; равенство и неравенство всегда сочетаются в тех или иных пропорциях. При этом характерно, что современное право тяготеет к тому, чтобы возводить равенство в ранг универсальной ценности и общезначимого принципа, а неравенство при этом считается чем-то нежелательным и отодвигается «в тень», хотя продолжает существовать фактически и имеет надежное формально-юридическое подкрепление.
При этом, разумеется, далеко не любые личные качества могут быть основанием для дифференциации прав и обязанностей. Круг юридически значимых обстоятельств, оправдывающих отступление от принципа всеобщего равноправия, постоянно сокращается. Переход от декларативного равенства к гарантированному во многом является осуществляется благодаря усилиям тех социальных групп, которые в условиях неравенства оказывались ущемленной стороной; именно таким путем, в частности, происходило утверждение и нормативное закрепление гендерного, расового, национального и других аспектов равенства.
Таким образом, наличие или отсутствие дифференциации прав и обязанностей по тому или иному признаку в значительной степени зависит от того, задевает ли неравенство интересы такой социальной группы, которая способна их артикулировать и защищать.
Сами по себе различия в правовом статусе субъектов еще не вызывают негативной реакции и могут даже не восприниматься как нарушения равенства. Они приобретают болезненный характер, если результатом такой дифференциации оказывается явная диспропорция в объеме социальных благ, причитающихся носителям различных статусов. В таком случае неравенство может вызывать такой психологический эффект, как зависть, что напрямую угрожает солидарности. Возникает представление об «ущемлении» – эта расхожая метафора открыто указывает на насильственное сужение жизненного пространства, причиняющее боль.
Опасность накопления травматического опыта, вызванного неравенством, связана с тем, что соответствующие социальные группы, которые чувствуют незавидность своего положения, могут преисполняться враждебностью к социальному целому; внутри них возрастает внутренняя сплоченность, сопровождающаяся отчуждением по отношению к остальному обществу, что угрожает общесоциальному единству.
Особенно острое неприятие вызывают такие формы неравенства, как льготы и привилегии, которые являются юридическим выражением социальных преимуществ, связанных с занятием высокого положения в обществе и с особой значимостью выполняемой миссии. Правовые привилегии, по существу, представляют собой лишь легальное закрепление неизбежных фактических различий в положении субъектов; принцип формального равенства сам по себе не может устранить эти различия, которые вытекают из структуры властных отношений и социально-управленческих ролей[198].
Пожалуй, наиболее явным отступлением от принципа равенства является такое явление, как иммунитет – правовой институт, позволяющий отдельным субъектам права не подчиняться некоторым общим законам[199].
Нарушение формального равенства возможно и в форме так называемой «позитивной дискриминации», при которой льготы и преимущества вводятся не для подкрепления доминирующей позиции субъекта, а напротив, для того, чтобы компенсировать ему нехватку социальных благ, вызванную его низким социальным положением. В этом случае юридическое неравенство используется как средство достижения социальной справедливости связанной с искусственным «уравниванием» объективно не равных субъектов. Такие меры получили распространение в западных странах начиная с середины ХХ века. Например, в 1945 году чернокожий по имени Суэтт не смог поступить в Школу права Техасского университета, так как по закону штата там имели право обучаться только белые. Верховный Суд США отменил этот закон как противоречащий принципу равноправия. В 1971 году еврей Де Фьюнис столкнулся с обратным: он не был принят в Школу права Вашингтонского университета, хотя набранных им баллов оказалось бы достаточно, будь он чернокожим или индейцем. Де Фьюнис также обратился в Верховный Суд, считая, что предъявление более низких требований к представителям расовых меньшинств нарушает его права. Детально изучив этот вопрос, Р. Дворкин пришел к выводу, что дела Суэтта и Де Фьюниса не однотипны: во второй ситуации расовые критерии были допустимы, поскольку льготы для чернокожих позволяют исправить фактическое неравенство в обществе[200].
Ценность равенства напрямую связана с идеей границы (предела), которая, в свою очередь, в сфере права играет центральную роль. Правовое равенство возможно лишь в относительно однородном сегменте общества; если объявлено равенство между двумя социальными группами, то граница, разделяющая эти группы, если не стерта, то утратила свое официальное значение. Например, закрепление равноправия мужчин и женщин (ч.2,3 ст. 19 Конституции РФ) означает, что существование этих двух социальных групп признается, но юридическое различие между ними отрицается. Соответственно, легальными критериями социальной дифференциации остаются такие различия между людьми, которые еще не затронуты действием правового равенства. Например, в перечне оснований, по которым запрещена дискриминация, отсутствуют такие качества, как возраст и гражданство. Ни Конституция РФ, ни Конвенция ООН о правах ребенка[201] не содержат такого принципа, как равенство прав ребенка и взрослого. Это обстоятельство, как и сохраняющиеся в законодательстве многочисленные ограничения прав детей в гражданско-правовых и конституционно-правовых отношениях, свидетельствует о том, что возрасту продолжает придаваться значение юридически значимого фактора, ограничивающего равенство. То же самое касается гражданства: хотя в Конституции РФ (ч. 3 ст. 62) предпринята попытка ввести элементы равноправия между российскими и иностранными гражданами, устойчивая политическая связь лица с иностранным государством по-прежнему исключает предоставление ему политических прав наравне с гражданами России.
Таким образом, легитимными основаниями для нарушения равенства пока продолжают считаться такие бинарные оппозиции, как «ребенок – взрослый» и «свой – чужой». Другие фундаментальные культурные различия (например, «мужчина – женщина», «единоверец – иноверец») полностью или в основной своей части утратили юридическое значение.
Необходимость поддержания баланса между равенством и неравенством вызывает внутренние конфликты в правовой системе. В частности, это связано с тем, что равенство, декларируемое в качестве общего принципа, вынужденно ограничивается в специальном законодательстве. Те различия, которые на высшем уровне провозглашаются юридически нейтральными, в других случаях все-таки закрепляются в качестве оснований для дифференциации прав и обязанностей.
Например, согласно ч.2 ст. 19 Конституции РФ, государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от обстоятельств, в числе которых, помимо прочего, упоминается язык. По сути, в этой статье данное положение повторено дважды, поскольку сразу вслед за этим говорится: «Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности». Ч.4 ст. 32 закрепляет право граждан РФ на равный доступ к государственной службе. Однако уже в Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» этот принцип сформулирован несколько иначе: равный доступ к гражданской службе для граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации (п.3 ст. 4)[202]. Это добавление создает юридическую коллизию, явно имеющую ценностное происхождение. С одной стороны, ценность равенства предопределяет конституционную норму о равенстве независимо от языка. С другой стороны, прагматика правового регулирования исключает последовательную реализацию этого правила. Так как русский язык является государственным, то лицо, им не владеющее, не может выполнять функциональные обязанности в рамках государственной службы.
Аналогичным образом можно оценить закрепленное в той же ч. 2 ст. 19 Конституции РФ равенство прав независимо от должностного положения. Интересно, что этот принцип фактически отрицается не только в специальном законодательстве, но и в других нормах самой же Конституции, например: Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью (ст. 91); депутаты Государственной Думы не могут находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности (ч.3 ст. 97) и т. п.
Таким образом, в современном обществе ценность правового равенства настолько высока, что оно нормативно закрепляется в преувеличенном виде: равенство распространяется даже на те сферы отношений, где оно не может быть обеспечено не только фактически, но и формально-юридически. Побочным эффектом такой избыточности является снижение общей легитимности права, поскольку либо равенство как общий принцип выглядит как голословная и потому бесполезная декларация, либо исключения из этого принципа – как злоупотребление со стороны законодателя.
2.5. Иерархия и равенство как факторы государственного устройства России
В предыдущем разделе мы дали характеристику равенства в качестве важнейшей конституционно-правовой ценности, с юридическим закреплением и практическим воплощением которой связывается идеальная модель правового государства. На вопрос какая из категорий в большей степени соответствует правовому порядку – равенство или неравенство, абсолютное большинство опрошенных отвечают: «Конечно равенство». Соответственно, равенство представляет позитивную правовую категорию, а неравенство – негативную. Вместе с тем, мы подчеркивали то, что в реальности складывается обратная ситуация. Неравенство изначально заложено в систему общественных отношений и представляет собой объективное явление, в то время как равенство существует лишь как идеал, целеполагание, не достижимое в практической жизнедеятельности.
Если рассматривать категории «равенство» и «неравенство» применительно к механизмам государственного устройства России на различных этапах ее исторического развития, следует прежде всего выделить три этапа (цикла) отечественной политической истории: имперский, советский, постсоветский[203].
Государственное устройство Российской империи основано на узаконенной иерархии (неравенстве), не только не воспринимаемой в качестве ограничения либо нарушения правового статуса субъектов общественных отношений, но являющейся базовой ценностью государства, «краеугольным камнем» сложившегося порядка имперского общежития.
Империя представляет собой специфическую форму административно-территориального устройства, которая не может быть сведена ни к унитарному, ни к федеративному государству. С одной стороны, основной административной единицей Российской Империи являлись губернии и области, формировавшиеся по политико-территориальному принципу и не обладавшие сколько ни будь значительной автономией и самостоятельностью. Губернско-областное структурирование территории государства, позволяет говорить о России «единой и неделимой». С другой стороны в состав Империи входили: Европейская Россия, Привисленский край (Царство Польское), Кавказский край, Сибирь, Степные и Среднеазиатские области, Великое княжество Финляндское. Перечисленные территориальные образования обладали различной степенью автономности и национально-правовой идентичности (так, к примеру, в Финляндии и Польше действовали национальные конституции). Анализируя территориальное устройство Российской империи можно говорить о центральных и окраинных регионах, но ни в коем случае, о метрополии и колониальных владениях. «Россия никогда не была «колониальной державой» в общепринятом смысле и тем качественно отличалась от западноевропейских империй. У нее никогда не было метрополии как таковой: исторический центр был, а метрополии не было. Российская территориальная экспансия носила главным образом стратегический характер, диктовалась потребностями военной и государственной безопасности»[204].
Социальную основу империи составляли возглавляемая императором царствующая династия и подданные, которые в свою очередь разделялись по сословному принципу, предполагающему выделение элитарных (дворянство, духовенство) и простых (буржуазия, купечество, крестьянство, пролетариат) сословий, принадлежность к которым была важной социально-правовой характеристикой населения страны. Переход из одного сословия в другое регламентировался сложным сводом правил и представлял самостоятельную сферу правового регулирования. Сословное неравенство, в частности, проявлялось в межличностных отношениях. К представителям низжих сословий обращались «на ты», те в свою очередь при обращении к «благородным» использовали «вы».
Российская Империя представляла собой «русское» государство, в котором сосуществовали и в целом мирно соуживались «русские» и «инородцы». При этом, важно подчеркнуть, что «национальный вопрос», в современном его понимании, в Империи не стоял. Отношение к русским/инородцам, определялось не столько фактом принадлежности к той или иной национально-языковой группе, сколько вероисповеданием. Русский в Российской Империи – это носитель Православной веры. «Русскими нас сделала Православная вера… Православная государственность превратилась в нашу отличительную черту, в то, что отличало нас от других народов»[205]. «В народном восприятии Святая Русь сливались с Вселенским Православием. Святая Русь есть везде, где есть православная вера»[206]. В процитированных тезисах содержатся очень важные положения.
Прежде всего не следует отождествлять «Святую Православную Русь» и государство Россию. Русь – это народ объединенный Православной верой. Государство Россия – это формализованная структура характеризующаяся обособленной территорией, административным/государственно – бюрократическим устройством, стратифицированным населением (российским обществом/нацией). В таком понимании можно и нужно говорить о более чем тысячелетней истории Руси, но не имеет смысла говорить о столь же значительном отрезке государственной истории России, получившей статус централизованного суверенного государства не ранее XVI века.
Говоря о Российской Империи как о русском государстве следует разделять два типа русских людей: «державных» и «имперских»[207]. «Державные русские» – это представители Православной веры и основные адепты идеи России как «Святой Руси». «Имперские русские» – все иные жители России, признающие ее в качестве государства устанавливающего общий имперский порядок и присягающие ей на верность, т. е. становящиеся «верноподданными» Российской Империи. При таком понимании инородцы/иноверцы (имперские русские), не являясь равными православным (державным русским), вместе с тем, не рассматривались в качестве «лиц второго сорта», ущемленных в своих субъективных правах. Переход «инородца» в статус «державного» русского – это вопрос принятия им Православной веры[208]. По сути, процесс тождественный, в современных условиях, принятию российского гражданства. Сегодня, Россию, наряду с полноправными гражданами, населяют иностранцы и лица без гражданства, которые в своем правовом статусе ограничены в отношении определенных правомочий (в частности не имеют права заниматься перечисленными в законодательных актах видами деятельности, замещать должности в аппарате государственной власти и др.). Принятие российского гражданства, такие ограничения устраняет. То же самое происходило в Российской Империи, когда человек принимал Православие. Так, для того, что бы стать русской императрицей, принцесса Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская, немка по рождению и лютеранка по вероисповеданию, приняла православие и русское имя – Александра Федоровна, «восприняла русскую веру, принципы и устои царской власти»[209].
Православие в Российской Империи имело официальный статус государственной религии. Император носил титул защитника Русской православной церкви (РПЦ), государство выделяло средства на её содержание, признавало за церковными праздниками статус государственных, православные священники были представлены в школах и в армии. Другие традиционные вероисповедания составляли «признанные терпимые», представленные значительной частью населения империи: католики, протестанты, мусульмане, иудеи и буддисты. Они имели право свободно отправлять культ, вести религиозное обучение, владеть имуществом.
Наряду с государственной и признаваемыми религиями, в Российской Империи выделялись не признаваемые государством конфессии, которые именовались сектами и разделялись по степени их «вредности» на «вреднейшие», «вредные», и «менее вредные»[210].
«Менее вредные» или «терпимые непризнанные» – это, в первую очередь, старообрядцы («раскольники»), которые подвергались различным ограничениям, но принадлежность к которым сама по себе не считалась преступлением. В статье 60 Устава о предупреждении и пресечении преступлений говорилось: «Раскольники не преследуются за мнения их о вере; но запрещается им совращать и склонять кого-либо в раскол свой под каким бы то видом».
Отправление религий отнесенных к «непризнанным, нетерпимым и вреднейшим» квалифицировалось как противоправное и влекло государственное преследование в уголовном и административном порядке. Подобным преследованиям в Российской Империи подвергались: молокане, духоборы, хлысты (объявлены «особо вредными»), мормоны, штундисты (запрещены в 1894 году, будучи объявлены «сектою особенно вредною в церковном и общественно-государственном отношениях»), адвентисты седьмого дня (легализованы в 1906 году) и др.
Институт семьи в Российской Империи был основан на религиозной традиции и представлял собой «микромодель» государства, в котором муж – император, жена – императрица, дети – народ (любимый и бесправный).
Октябрьская социалистическая революция 1917 г. кардинальным образом изменила систему ценностных постулатов составлявших основу миропонимания российского общества. Идея иерархии была объявлена «пережитком проклятого прошлого» и заменена «прогрессивным» марксистско-ленинским учением основанном на постулате о «всеобщем равенстве». Причем, так же как иерархия в Империи, равенство (точнее «уравниловка») проявлялось практически во всех сферах государственной и общественной жизни советской России.
Уничтожение императорской семьи, ликвидация сословий, классовый террор имели своей целью формирование «нового» общества «мы», в котором безликие обращения «товарищ» и «гражданин», несли в себе качественно отличные смысловые нагрузки. Товарищ, означало принадлежность к «своим», единомышленникам и соратникам в борьбе за «светлое будущее» человечества. Гражданин – индивид, исключенный из коллектива «сотоварищей». Отсюда: «товарищ командир» и «гражданин начальник». Противопоставление товарищей и граждан, наглядно показывает раскол постреволюционного общества на две враждебных группировки: «революционеров и контрреволюционеров», «красных и белых», «представителей нерушимого блока коммунистов и беспартийных и врагов народа». Причем бескомпромиссность такой дифференциации, на первых этапах построения социализма, нередко приобретала гротесковые формы. К примеру, уголовный элемент объявлялся классово близким и идейно сочувствующим революции, в то время, как представители «эксплуататорских классов», поголовно относились к «врагам народа», с соответствующими последствиями.
Государственная власть перестает быть уделом элитарных сословий. Любую должность, включая и пост главы государства, в советской России мог занять любой гражданин не зависимо от своего происхождения. Сращивание коммунистической партии с советским политическим и хозяйственным аппаратом, обусловило формирование специфической системы получения властных полномочий, в которой партийная карьера, являлась неотъемлемой составляющей карьеры политической и хозяйственной. Глава партии, одновременно являлся главой государства.
Лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь», стал основой уравнивания русских пролетариев с инонациональными «товарищами» по борьбе. При этом отнесение советским государством всех религий к числу «вреднейших и недопустимых», одномоментно исключил конфессиональную подоплеку национального деления, сведя его к пресловутому «пятому пункту». Введение в оборот интернационального понятия «многонациональный советский народ», по сути уравнивало правовые статусы русского народа (переставшего в СССР быть титульной нацией) и нерусских национально-этнических групп.
Формирование общества «равных», предполагало прежде всего материальное уравнение его членов. Частная собственность объявлялась «вне закона». Распределение материальных благ среди членов советского общества осуществлялось под неусыпным контролем государства, по принципу: «От каждого по возможности, каждому по способности». При этом определение значимости, а стало быть и «оценочной стоимости» тех или иных способностей «строителей коммунизма», также являлось государственной прерогативой.
Объявление России, а затем и СССР федеративной республикой, имело следствием формирование равных по политико-правовому статусу (союзная республика – государство) субъектов. С точки зрения формального равенства статус РСФСР, ничем не отличался от статуса Эстонской, Молдавской, Таджикской и т. п. республик.
Институт брака и семьи, перестав быть религиозным, стал рассматриваться в качестве гражданско-правового отношения, в рамках которого правовые статусы супругов уравнивались. Следствием такого уравнения стало в том числе право одного из супругов (прежде всего, жены), жаловаться на действия «второй половины» в «компетентные» государственные органы и просить защиты нарушенных семейных прав. Таким образом государство, получило законную возможность вмешиваться в семейные дела и осуществлять их коррекцию.
Кризис коммунистической идеологии и социалистической экономики, повлекли распад СССР и разрушение мировой системы социализма. На постсоветском пространстве возникли новые суверенные государства, идентифицирующие себя в качестве демократических, правовых. К числу таких государств относится, в том числе и Россия (Российская Федерация). Объявив себя правопреемником Советского Союза, современная Россия, вместе с тем, считает себя «наследницей» и Российской Империи. Насколько можно говорить о правопреемстве государства возникшего на обломках разрушенного им же предшественника вопрос философский. Нас, в первую очередь, интересует как в постсоветской России соотносятся идеи иерархии и равенства.
Перестав быть советской и социалистической, утратив ряд окраинных национальных регионов, Россия, не стала «русским» государством. На смену многонациональному советскому, пришел многонациональный российский народ, в котором статус русских, ничем не отличается от статуса «инородцев». Более того, точно так же как в Советском Союзе, в Российской Федерации сохраняются национальные субъекты, в которых проживают представители титульных национальностей (в Ингушетии живут ингуши, в Чечне – чеченцы, в Бурятии – буряты и т. д.)[211]. Эти субъекты, опять таки по примеру СССР получили конституционный статус республик-государств и имеют свои национальные конституции.[212] Русские, так же как и в советской России, своей национальной автономии не имеют, а попытки представить русскую культуру в качестве синонима российской, на наш взгляд малопродуктивны.
Отказ от общегосударственной коммунистической идеологии, не привел к восстановлению России как «Великой Руси» – носительницы и хранительницы Вселенской Православной Веры. Объявление россиян многоконфессиональным народом, позиционирование РПЦ всего лишь как одной из религиозных организаций, означает ее формально-юридическое уравнивание не только с традиционными мировыми конфессиями, но и с религиозными организациями сектанского типа, которые в Российской Империи относились к числу «нетерпимых, вреднейших». При такой ситуации, вполне естественно возрастает активность «ловцов душ человеческих», в своих действиях далеко не всегда руководствующихся добродетельными и созидательными мотивами.
Принцип уравниловки был основополагающим в механизме приватизации государственной собственности, когда отчужденным, на протяжении ряда поколений, от частной собственности российским гражданам было заявлено, что они являются коллективными собственниками единого государственного богатства и предложено самостоятельно воспользоваться своей виртуальной долей в виде ваучера. Итоги приватизации хорошо известно. При этом государство практически ничего не сделало для того что бы защитить права, тех кто этого сам был сделать не в состоянии. Речь идет о пенсионерах, детях, инвалидах. Общество было поставлено в ситуацию, цинично охарактеризованную «великим комбинатором» О.Бендером: «Дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих».
Закрепление на конституционном уровне «человека, его прав и свобод» в качестве основной ценности, без всяких оговорок, по сути уравнивает права всех российских граждан. Применительно к семье, это означает, что права и интересы, несовершеннолетних детей, равны по своей значимости родительским. А раз так, то ребенок может требовать от родителей соблюдения его прав, а в случае их нарушения, самостоятельно обращаться к государству за защитой. В свою очередь государство, через органы ювенальной юстиции, может в инициативном порядке вмешиваться в процессы семейного воспитания и применять меры административного воздействия, вплоть до изъятия детей из «неблагополучных» семей.
Проведенный сравнительный анализ соотнесения иерархии (неравенства) и равенства в системе социально-политического устройства России позволяет утверждать, что субстанционально, российское государство всегда было и остается империей, со свойственной для этого типа государств «тягой» к централизации и иерархизации отношений во всех важных сферах жизнедеятельности.
Социалистическая революция 1917 г. уничтожила Российскую (Русскую) Империю основанную на ценности иерархии и воздвигла на ее месте Советскую (интернациональную) империю, провозгласившую в качестве основной ценности уравниловку. Однако, как уже отмечалось нами, неравенство есть объективная реальность, в то время как равенство – идеальная категория. «Благими намерениями устлана дорога в ад». Верность этой фразы, неоднократно подтверждала история. Формально отказавшись от иерархии, советское государство «равных», тут же иерархию восстановило. На смену благородным сословиям пришла «новая элита» – партийно-хозяйственная номенклатура, «красная» профессура и советский генералитет. Уничижение религии, сопровождалось возвеличиванием коммунистической идеологии, которой предназначено было стать духовной основой будущего общемирового порядка. В отличие от Российской Империи (Империи Великой Руси), Советская Империя претендовала на монополизацию истины, в последней инстанции и позиционировала себя в качестве государства – форпоста человеческого прогресса и мировой культуры. Несостоятельность такой позиции была доказана временем.
Разрушение двух империй Российской (русской Православной) и Советской (интернациональной, коммунистической), не привело к образованию третьей. Современная Россия, является одним из других равных государственных образований современного мира. Точно так же, как в самой России равным статусом и равными правами (но не обязанностями) обладают Алтайский Край и Республика Алтай, Краснодарский край и Республика Адыгея, так и на международной арене сегодняшняя Россия (бывшая РСФСР) по своему государственному статусу (члена ООН) равна таким вновь образованным государствам как Эстония, Латвия, Молдавия и др. Это не принижает политико-правового статуса Российской Федерации, но и не возвеличивает его. В государственном и социальном устройстве Российской Федерации по прежнему возобладает идея равенства, ранее ставшая гибельной для двух Великих Империй. О современной России как об империи руководствующейся в своей жизнедеятельности имперской идеей говорить не только не принято, но и чревато. Недопустимость единой государственной идеологии закреплена на конституционном уровне. Но ведь без единой национальной идеи нет единой нации, а без иерархии нет государства в буквальном его понимании.
2.6. Свобода и наказание в виде «лишения свободы»
Под наказанием в виде лишения свободы в современном российском уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве понимается содержание осужденного в одном из специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы: исправительной колонии, колонии-поселении, лечебном исправительном учреждении, воспитательной колонии, тюрьме. Вместе с тем, правоограничения, аналогичные установленным наказанием в виде лишения свободы, применяются к лицам, содержащимся в следственных изоляторах и с точки зрения презумпции невиновности считающимся невиновными, осужденным военнослужащим отбывающим наказание в виде ареста и содержания в дисциплинарной воинской части и т. п. Получается, что человека можно подвергнуть одним и тем же, либо однопорядковым лишениям, но в одном случае, будет считаться, что он лишен свободы, а в другом случае, что лишения свободы не происходит. Нелогичность такого подхода, на наш взгляд, очевидна. Кроме того, следует акцентировать внимание на несоответствие названий видов учреждений целям уголовного наказания. В современной России, в качестве унифицированного названия используется термин «исправительное учреждение». Вместе с тем, в процесс исполнения наказаний вовлечены воспитательные колонии (воспитательные центры), исправительные колонии, колонии-поселения, тюрьмы, дисциплинарные воинские части, лечебные исправительные учреждения, арестные дома. В соответствие с действующим УК России, к целям уголовного наказания отнесены: восстановление социальной справедливости; исправление осужденных; предупреждение совершения новых преступлений. Если следовать логике целевого подхода, то получается, что в отношении несовершеннолетних осужденных, в качестве целевой установки деятельности определяется воспитание (не отнесенное к целям уголовного наказания). Что же касается дисциплинарных воинских частей, то возникает вопрос: какое отношение они имеют к уголовно-исполнительной системе и системе исполнения уголовных наказаний? Полагаем, что данный сегмент является историческим анахронизмом, который должен быть купирован. Принцип равенства всех перед законом и судом, предполагает привлечение к уголовной ответственности за совершение преступлений предусмотренных действующим уголовным законом всех граждан, не зависимо от их социально-профессионального статуса. Не понятно, почему за совершение одного и того же преступления военнослужащий офицер должен подвергаться одному наказанию, а солдат служащий по призыву другому. Кроме того, не может не вызывать критики сам факт существования в министерстве обороны, собственных учреждений исполнения уголовных наказаний, кстати, как и специализированных постоянно действующих военных судов и военной прокуратуры. Такая система структурирования ведомственных правоохранительных и судебных органов, с одной стороны подвержена многочисленным коррупционным рискам, а с другой представляет реальную угрозу обеспечению и защите прав и законных интересов личности.
Полагаем, что словосочетание «лишение свободы» должно быть исключено из перечня видов уголовных наказаний, поскольку в любом случае, речь идет не о лишении, а об ограничении свободы, посредством определенного режима исполнения наказаний. В качестве вида уголовного наказания следует определить содержание в течение определенного срока осужденного в учреждении УИС в рамках определенного режима исполнения наказания. При этом в зависимости от поведения конкретного осужденного режим может изменяться как в сторону смягчения и расширения масштабов индивидуальной свободы, так и в сторону ужесточения. Так, к примеру, именно свобода является ценностным основанием таких поощрительных мер, как условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 Уголовного кодекса Российской Федерации)[213], а также предоставление дополнительного свидания, разрешение дополнительно расходовать деньги, увеличение времени прогулки осужденным, разрешения на проведение за пределами колонии-поселения выходных и праздничных дней (ч. 1, 2 ст. 113 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации)[214]. При этом речь идет не о подлинном увеличении объема свободы, а лишь о полном или частичном снятии тех ограничений, которые были ранее наложены в порядке уголовного наказания.
2.7. Свобода и иерархия субъектов насилия
Степень субъективной свободы человека зависит от многих внешних обстоятельств, одним из которых является способность практически реализовать свое право. Современное общество основано на подчинении большинства населения меньшинству субъектов публичной власти, которые на профессиональной основе занимаются масштабированием прав индивидов, дозированием количества и качества причитающейся им свободы.
Иерархически организованная социальная система предполагает наличие субординации и среди тех, кто отмеряет свободу для другого. Лица, осуществляющие контроль за контролирующими, относятся к самой насыщенной властными полномочиями прослойке государственного механизма. На вершине пирамиды может находиться верховный иерарх, неуязвимый в период своего владычества Сын Солнца, убедивший окружающих в своих трансцендентальных качествах, превзойти которого при жизни не отважится никто.
Каждое государство имеет свои особенности политико-правовой культуры, эволюционирующие под воздействием комплекса внутренних и внешних факторов. Неумолимые процессы глобализации и технические достижения делают межгосударственные границы прозрачнее, а общепланетарную (из разных источников) информацию доступнее. Волею истории в России сложилась такая пирамида иерархий, в которой «среднестатистическому» человеку (рациональному, получающему деньги из бюджета, некритически настроенному, без уголовных наклонностей) психологически и экономически комфортно существовать. Ему выгоднее соблюдать установленные и отстаиваемые незнакомыми ему людьми правила даже в том случае, если он считает эти правила неразумными и могущими принести ему вред. Комплексом мер убеждения и принуждения публичная власть научилась демонстрировать населению свою государственно значимую эффективность. К экономически зависимому от государства (публичной власти) населению можно отнести более 100 млн россиян, в том числе детей, пенсионеров и почти половину трудоспособных граждан. Голоса избирателей обмениваются на обещания социальных гарантий и некоторых свобод. Действующая публичная власть напоминает населению, что в случае несогласия с ее планами и действиями зависимое население будет лишено бюджетных средств, а страна может погрузится в хаос передела власти и собственности. Финансовые ограничения напрямую приводят к уменьшению экономической свободы, производной для многих других форм свободы (пищи, крова, лечения, образования, отдыха, перемещения и т. п.).
Россия привыкает к социальному неравенству, гротескному расслоению доходов, волюнтаризму в принятии политических и экономических решений. Примат углеводородной индустрии для нужд публичной власти приводит государство и население к прямой зависимости от мировых цен на нефть и курсов иностранных валют. Владение и пользование углеводородными запасами является в России для конкретных лиц основой не только экономического, но и политического могущества. Любое общество содержит естественное неравенство людей, но именно способность государства юридико-техническими средствами и социальными поддержками привести людей к равенству в свободе характеризует сущность каждого правящего режима. Указанное стремление выровнять возможности граждан в экономической и политической свободе в значительной степени отличает социальное государство от тиранического.
Следует признать, что не каждый человек стремится к равенству с себе подобными. Цивилизация развивается в парадигме соперничества, стремления превзойти другого, оказаться быстрее, выше, сильнее, умнее, богаче и т. д. Дух соревновательности – один из двигателей прогресса, а место в иерархии публичной власти как ничто другое демонстрирует жизненный успех. Современные российские студенты все больше стремятся стать госслужащими, почивать на лаврах политического успеха нефтегазовых компаний или расцветать в других огосударствленных монополиях. Не ослабевает поток стремящихся занять место в правоохранительных органах и судах. Включенность индивидуума в одну из ветвей власти позволяет ему навязывать свою волю окружающим, становиться выше их в иерархии субъектов принуждения, что способствует повышению его экономического благосостояния.
Расширение собственной свободы может осуществляться и посредством сужения пространства свободы подотчетных лиц. Ограничение свободы невозможно без принуждения, основанного как на законе, так и на произволе. Закон приводится в действие людьми, интерпретирующими его по собственному усмотрению. Право усмотрения, например судьи, обеспечено механизмом уголовно-процессуального принуждения, всей мощью судебной индустрии. Право усмотрения «дона корлеоне» основано на его харизме, способности к насилию, страхе подчиняющихся его воле людей. И судья, и «дон корлеоне» нуждаются в соответствующей интерпретации своих законов и понятий, в помощниках, «консильери» и прочих сподвижниках. Все они занимают определенную нишу в иерархии интерпретаторов закона и права.
Способность к интерпретации правовых норм, юридических фактов и правоотношений является качеством, недостаточным для того, чтобы ко мнению интерпретатора прислушивались и его рекомендации исполнялись другими людьми. Реальной властью обладают только те интерпретаторы, в чьи полномочия входит применение нормы к конкретным правоотношениям, наложение санкции и принуждение. В российских процессуальных кодексах среди субъектов, обладающих правом на принуждение, указаны суды, прокуроры, следователи (ОВД, ФСБ, Ск, ФСКН), дознаватели (ОВД, фСб, ФССП, ФПС, ФСКН, ФТС, МЧС). Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации содержит внушительный перечень субъектов, уполномоченных в силу закона применять принуждение к физическим, должностным и юридическим лицам.
В российском государстве актуализировано невероятное количество институтов, официально уполномоченных интерпретировать право и назначать наказания. Помимо судей, в иерархию субъектов административного насилия включены еще семьдесят три (!) политико-правовых игрока, таких например, как органы внутренних дел (полиция), органы и учреждения уголовно-исполнительной системы, налоговые органы, таможенные органы, пограничные органы, военные комиссариаты, органы, осуществляющие государственный ветеринарный надзор, органы, осуществляющие государственный земельный надзор, органы, осуществляющие государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, органы, осуществляющие федеральный государственный надзор за использованием и охраной водных объектов, органы, осуществляющие государственный лесной контроль и надзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный лесной контроль и надзор, органы, осуществляющие функции по контролю в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения, органы, осуществляющие функции по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, органы, осуществляющие контроль и надзор в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания, органы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, органы, осуществляющие государственный экологический контроль[215] и т. д.
Семьдесят четыре иерархические структуры публичной власти, алгоритмы принятия решений которых скрыт от большинства населения, являются оплотом консервативных механизмов официального толкования права. Трудно представить, как такое большое количество институтов власти одновременно осуществляет единообразную правоприменительную и официальную интерпретационную деятельность, осуществляя легальное насилие. Все эти установления, кроме суда, относятся к исполнительной ветви публичной власти и занимают свое место в иерархии государственного принуждения. Каждая из вышеперечисленных структур в пределах своей компетенции принимает участие в формировании принципов и правил масштабирования свободы. Эти институты исполнительной власти взаимодействуют с законодательными органами и судами, в значительной степени предопределяя характер судебного толкования курируемых составов правонарушений и отраслевых направлений человеческой деятельности. На мнение этих структур ориентируется экспертное сообщество, заключения которого суд обязан принимать во внимание в процессе правоприменения.
Для полноты исследования иерархии субъектов насилия необходимо синхронизировать ее с иерархией правоприменителей и с иерархией интерпретаторов права. Соотношение этих иерархий коррелирует с соотношением свободы и принуждения. Проблема принуждения является одной из ключевых в юридической практике. Хозяйствующие субъекты и лица, занимающиеся нарушением закона на постоянной основе, стараются организовать свои действия так, чтобы избежать наказания либо минимизировать его. Некоторые правовые теории актуализируют психический элемент феномена принуждения, не относя принуждение к признакам права. Например, профессор Санкт-Петербургского государственного университета А.В. Поляков среди признаков права выделяет лишь существование субъектов, обладающих взаимообусловленными (коррелятивными) правами и обязанностями и наличие социально признанных и общеобязательных правил поведения (норм)[216]. Исследуя онтологический статус права, он приходит к выводу о том, что «государственное принуждение не является необходимым условием функционирования права. Большинство норм большинством субъектов реализуется безо всякого государственного принуждения»[217].
Несомненно, субъекты государственной власти не стоят за спиной каждого человека, заключающего гражданско-правовой договор, вступающего в семейные отношения, соблюдающего либо нарушающего формализованные правила или обычные нормы поведения. Действительно, правовое принуждение «имеет психическую природу и интеллектуально-эмоциональное (ценностное) обоснование». Но вступающие в правоотношения люди подразумевают возможность принудительной защиты своего права, что для многих является важным основанием начала правовой коммуникации. Субъект не будет заключать договор поставки дорогостоящего оборудования и платить деньги в форме предоплаты, если его интересы не гарантированы системой законодательства, судебной практикой и возможностью обеспечительных мер исполнительной системы. Разумный российский человек не начнет заниматься средним и большим бизнесом, не заручившись поддержкой неформальных лидеров общества и субъектов правоохранительной деятельности.
Растущее ежегодно количество административных правонарушений свидетельствует о правовой энтропии, – население явно не желает соблюдать устанавливаемые государством нормы поведения. Статистика судебных и правоохранительных органов, мнения специалистов иллюстрируют масштабы нарушений: более тридцати миллионов в год обращений с заявлениями о совершении преступления, еще большее количество фактов, свидетельствующих об административных правонарушениях. Достаточно ли только психического принуждения к нарушителям норм закона и права для того, чтобы защитить интересы потерпевших от уголовных преступлений и административных правонарушений? Следует ли настаивать на том, что принуждение (государственное, корпоративное, нравственное и т. п.) не относится к основным признакам права? Какими словами следует уговаривать должника (мошенника, убийцу, насильника) возместить различные формы вреда?
Функция общей превенции наказания предполагает как минимум существование системы наказаний. Наказание – это всегда насилие над материальным, физическим, психическим состояниями субъекта, ограничение его свободы воли, экономической и даже физической свободы. Принудительное исполнение наказания в российском правовом дискурсе часто сопровождается неоправданной жестокостью. Следует учитывать также избирательный характер правоприменения. Вынесение наказание в известной степени становится актом «раздачи боли». Воля наказанного человека трансформируется, жесткая система наказаний стремится подавить стремление человека к свободе мысли, свободе передвижения, свободе предпринимательства, физической свободе. Это касается не только уголовной, но и административной, дисциплинарной, гражданско-правовой ответственности. Запрет выезда за границу, отказ в регистрации изменений в учредительные документы, лишение права управления транспортным средством и другие формы массовых поражений в правах формируют характер правоотношений между обычным населением и субъектами, уполномоченными на применение санкций.
Существование принудительных мер предполагает систему наказаний и иерархию субъектов, принимающих решения о наказаниях. Особая каста людей, уполномоченных «раздавать боль», в российской публичной власти занимает важное место. Каждый активный человек имеет тот или иной опыт правовой коммуникации с сотрудником дорожной полиции, налоговым инспектором, следователем, судьей и другими субъектами иерархии государственного насилия. Но принуждение и правовая коммуникация не ограничиваются взаимоотношениями с субъектами публичной власти. Довольно часто людям приходится сталкиваться с негосударственной системой принуждения, когда нормативная система социальной группы предъявляет дополнительные требования к человеку. Например, в большинстве банков требуется соблюдать корпоративный стиль одежды, в гольф-клуб не допустят игрока в джинсах, судимость не позволит преподавать в средней школе и высшем учебном заведении, в стандартный бассейн не пройти без купальной одежды и шапочки, в некоторые финские парные нельзя входить в одежде и т. д. Всем известны экстралегальные методы принуждения в так называемой криминальной среде. Например, из обвинительного заключения по материалам одного общеизвестного уголовного дела следует, что лидер организованного преступного сообщества демонстративно на «рабочем совещании» убил члена своей социальной группы за несоблюдение субординации во взаимоотношениях со «старшими товарищами». После этого было совершено очередное почти ритуальное убийство гражданской жены человека, который (по мнению иерарха социальной группы) совершил нарушение декларированных «понятий» (корпоративных правил). На фоне материалов этого уголовного дела оспариваемый недавно прокурором договор работодателя с работницей (моделью), обязывающий ее не вступать в период действия договора в брак, не беременеть и не рожать детей выглядит как безобидные придирки к сотруднице.
Известно, что публичные смертные казни за карманные кражи не спасли общество от активности воров-карманников. Трудно определить, насколько практика смертных казней за коррупционные преступления в Китае и жесткие санкции за незаконный оборот наркотиков в большинстве государств способствуют снижению уровня коррупции, препятствуют наркотизации общества, но без этих насильственных мер современные государства уже не смогут стабильно функционировать.
В российской правовой действительности иерархия субъектов насилия выражена недостаточно внятно. Говоря более прямолинейно, лукавые нормы процессуального закона, наделяя судью максимальной компетенцией, преувеличивают его действительные возможности в принятии самостоятельных решений. Например, в уголовно-процессуальной коммуникации при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судья практически следует воле следователя; следователь, в свою очередь, основывает свои предположения о необходимости заключения человека под стражу на сведениях оперативного характера, которые ему представляет оперативный уполномоченный. По большинству уголовных дел экономического характера уголовные истории начинаются по воле «опера ОБЭП» – оперативного сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Нередки случаи, когда именно «опер» без высшего юридического образования, руководствуясь корпоративным или коммерческим интересом, принимает решение, которое в дальнейшем считают себя обязанными легитимировать и следователь, и прокурор, и судья.
Судья арестовывает человека, потому что следователь ходатайствует об этом и прокурор поддерживает ходатайство. А следователь ходатайствует об аресте на основании вербальных коммуникаций с оперативными сотрудниками, своим вышестоящим руководством и тех (подчас примитивно шаблонных, изготавливаемых «на коленках») рапортов и справок, которые ему предоставляет «опер ОБЭП». Вопреки принципам уголовного процесса (осуществление правосудия только судом, независимость судей, неприкосновенность личности, презумпция невиновности, состязательность сторон, свобода оценки доказательств и т. п.) концептуальное решение о необходимости (целесообразности) применения принудительной меры (дозе насилия), ее виде и длительности в отношении человека принимает не судья, а субъект исполнительной власти – следователь, прокурор, оперативный сотрудник. В российской правовой действительности судья, как правило, становится лишь инструментом воли оперативного сотрудника, следователя, прокурора. Для того, чтобы не исполнить требование следователя и прокурора об избрании меры пресечения или ее продлении судье требуются сверхусилия: гражданское и профессиональное мужество, способность выдержать подозрение в коррупционном мотиве своего решения об отказе выполнить волю исполнительной власти. Поэтому абсолютное большинство судей свыклись со своей вторичной ролью при избрании и продлении меры пресечения в виде заключения под стражу.
Нередко наблюдается заискивание судей перед следователями и прокурорами, стремление всячески помочь им. Доходит до того, что судьи подсказывают прокурору, – как следует правильно проводить обвинительную тактику в конкретном процессе, тем самым практически отправляя функции обвинителя и судьи в одном лице. О таких устоявшихся в российском уголовном процессе деловых обыкновениях следует информировать граждан России, честно рассказывая им о действительном положении дел. Пора развенчать фальшивые декорации прокламированной презумпции невиновности, состязательности процесса etc. Население вправе знать реальную, а не камуфляжную иерархию субъектов насилия в государстве.
Следует принять во внимание, что во многих судах 90 % судей уголовной юрисдикции в прошлом были следователями, прокурорами, сотрудниками правоохранительных органов. Не их вина, что им привычнее выполнять функцию обвинителя, чем пытаться имитировать независимость и беспристрастность. Обвинительный уклон нельзя рассматривать как отклонение от нормы, поскольку в существующих материальных и процессуальных реалиях уголовного судопроизводства обвинительный аспект доминирует. Презумпция вины есть реально действующая уголовно-процессуальная норма и ее следует внести в текст УПК РФ, чтобы не дезориентировать излишне доверчивых граждан.
История российского права за последние полтора века продемонстрировала весь спектр возможных соотношений иерархии субъектов интерпретации права с иерархиями правоприменения и насилия. Последовавшие за отменой крепостного права преобразования судебной системы в России поставили отечественное правосудие в ряд прогрессивных государств. Подписанный 20 ноября 1864 года Указ императора Александра II Правительствующему Сенату «Об учреждении судебных постановлений и о Судебных уставах» провозглашал: «да правда и милость царствуют в судах». Принятие новых уставов государства («Учреждения судебных мест», «Устав уголовного судопроизводства», «Устав гражданского судопроизводства», «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями») по мнению Александра II происходило с целью «… водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе нашем то уважение к закону, без коего невозможно общественное благосостояние и которое должно быть постоянным руководителем действий всех и каждого, от высшего до низшего»[218].
Октябрьская революция 1917 года привнесла в список источников права и оснований для вынесения судебных решений революционную целесообразность, пролетарское правосознание, легитимированный красный террор и многие другие юридические особенности, ставшие частью нашей правовой действительности. Начала формироваться новая для мировой цивилизации социалистическая теория государства и права. Укреплявшаяся в определенных соотношениях сначала революционно-анархическая, затем сталинско-депрессивная иерархия субъектов насилия внесла существенный диссонанс в теорию разделения властей и в представления о судебных прерогативах. Принималась во внимание интерпретация права и свободы, принадлежащая только одной определенной (социалистической) концепции, все остальные рассматривались как вражеские. Оценка права, юридического факта и правоотношений со стороны коммунистической партии доминировала над инструментализмом толкования права юристами. Доктрина толкования основывалась на принципах социалистического реализма. Государство как структура публичной власти конкретных людей год за годом, десятилетие за десятилетием становилось все крепче и крепче. Политическая олигархия являлась одновременно и финансовой вплоть до революции 1991 года. Но вдруг оказалось, что оплот коммунистов всего человечества (Союз Советских Социалистических Республик), ядерная держава, успешно противостоящая капиталистическому лагерю, по форме территориального устройства является почти конфедерацией. Распад «почти конфедерации» на юридически равноправные государства по современным представлениям произошел в бархатном режиме.
Наступившие «девяностые» годы внесли очередные изменения в соотношение иерархий интерпретаторов, правоприменителей и субъектов насилия. Большинство читателей, имеющих не только философский, но и эмпирический опыт тех лет, согласится, что в означенных иерархиях доминировала интерпретация, формулируемая субъектами насилия. Правила поведения, социальные нормы, правовые обыкновения диктовали сильные, смелые, организованные и вооруженные группы лиц. Охранные предприятия конкурировали с преступными сообществами и с милицейскими подразделениями. Взыскивать долги предпочиталось без участия суда, на «стрелку» для выяснения отношений «по понятиям» могли приехать как «обезбашенные беспредельщики», так и «продуманные» оперативники уголовного розыска, «крышующие» участника спора. Побеждала интерпретация правоотношений, предложенная с позиции самой убедительной силы, как правило сопровождавшейся огнестрельным оружием и «ксивой». Субъекты публичной власти в сложившейся ситуации получали свои дивиденды, поскольку в их пользовании и владении находился весь спектр институтов государственного принуждения.
Многие из сформировавшихся в те годы организованных преступных сообществ удачно присоединились к процессам приватизации, первоначального накопления капитала и трансформировались в мощные финансово-политические империи. До настоящего времени не закончились предварительные расследования и судебные процессы над группами лиц, обладавшими в девяностые годы силовым влиянием над крупными городами и целыми регионами.
XXI век пришел в Россию с новым типом взаимодействия интерпретаторов, правоприменителей и субъектов насилия. Начался период расцвета правоохранительных органов, многочисленные службы которых за пятнадцать лет настолько укрепили свои позиции в механизмах государственной власти, что теперь все значимые решения в государстве принимаются только сотрудниками (бывшими или действующими) этих органов общественной и государственной безопасности.
Новая расстановка сил между иерархиями правоприменителей, интерпретаторов и субъектов насилия будет существовать ближайшие десятилетия, а современные политические технологии могут продлить (законсервировать) ее надолго. Вкратце существо взаимодействия между интерпретаторами, правоприменителями и субъектами насилия можно охарактеризовать следующим образом:
1. Верхний эшелон в иерархии субъектов насилия занимают правоохранительные органы и другие структуры исполнительной власти, ведающие вопросами безопасности государства.
2. Эти же субъекты выполняют основные объемы правоприменительной деятельности.
3. Организованные преступные сообщества не выдерживают конкуренции с сотрудниками правоохранительных органов и функционерами публичной власти. Тем не менее влияние так называемых криминальных авторитетов сохраняется для некоторой части населения. В большинстве регионов между субъектами публичной власти и «авторитетами» достигаются локальные договоренности об условиях их сосуществования.
4. Суд как de jure верховная инстанция в иерархии правоприменения становится все более формальной стадией уголовной юрисдикции. Инквизиционный подход современного уголовного судопроизводства сводится к уточнению объема обвинения, одобрению выводов следственного органа и выбору наказания в дискурсе требований прокурора.
5. Суд является высшим интерпретатором права, но содержание своего толкования он согласовывает с субъектами исполнительной власти.
6. Неофициальное доктринальное (профессиональное, научное) толкование права используется правоприменителем только в случае его совпадения с усмотрением правоприменителя.
Вполне возможно, что сложившееся в современной России соотношение интерпретаторов, правоприменителей и субъектов насилия наиболее полно отвечает интересам стабильности публичных правоотношений. Даже если все три означенные функции будет осуществлять не одно лицо, степень взаимодействия между оперативным сотрудником, следователем, прокурором и судьей становится настолько плотной, что они взаимно дополняют друг друга в обвинительной функции. При таком типе отношений внутри уголовного судопроизводства обществу (обычным людям) следует относиться критически к действию принципов состязательности процесса, презумпции невиновности, равноправия сторон и т. п., стараться не нарушать закон и не спорить без надлежащей подготовки с субъектами публичной власти.
Без упорядоченной иерархии субъектов насилия коммуникация участников правоотношений по поводу их прав, свобод и обязанностей перестает быть правовой. Соотношение между иерархиями субъектов насилия, правоприменителей и интерпретаторов вырабатывалось постепенно, оно является итогом социальных договоренностей, отражает расстановку сил и средств в социуме. Обладание реальными свободами может быть основано только на взаимодействии индивидуальных нормативных систем, признающих общие правила нормативности, включая систему принудительных мер. Система социально-нормативных правил поведения между субъектами, обладающими коррелятивными правами и обязанностями становится правовой только в случае признания единообразных иерархий органов насилия, правоприменения, интерпретации права. Скрытые связи в этих иерархиях должны быть опубличены для осознания населением действительного масштаба своих свобод.
Глава 3 Право – язык юридической коммуникации
3.1. К морфологии правовых коммуникаций
Пестрое многообразие представлений о праве в значительной степени связано с тем, что за ними скрывается единая и сложная реальность, которая с трудом поддается описанию в сжатом и компактном виде. В результате различные объяснительные модели и схемы, имеющиеся варианты и способы понимания права, по существу, дают отражение лишь отдельных фрагментов этой реальности. Но если попытаться свести их воедино (что и пытаются проделать «интегративные» теории права), то вместо ожидаемой целостной картины чаще всего получается нечто более или менее эклектичное.
Так, по версии марксизма, вся правовая реальность – не что иное, как побочный эффект производительных сил и производственных отношений, слабый отклик или эхо тех судьбоносных процессов, которые творятся в экономической жизни общества; теория естественного права приписывает праву природную реальность; психологическая теория права находит свое законченное выражение в правовом солипсизме Л.И. Петражицкого, который отрицает наличность правовых явлений где-либо, кроме индивидуального человеческого сознания. Реальность права находят также в историческом процессе, в социальной коммуникации (диалоге), во властеотношениях и т. п.
Реальным можно считать все то, что воспринимается как нечто объективное, существующее с высокой степенью самостоятельности, при этом воздействующее на чувства и поведение мыслящего субъекта. Таким образом, реальность должна быть относительна активна, действенна, она не оставляет человека безучастным, а принуждает считаться с собой.
Если задаться вопросом, в чем же солидарны между собой все конкурирующие варианты правопонимания, то этим пунктом общего согласия можно признать идею права как особой меры. В любом своем значении право рассматривается как отмеривающее, дозирующее, регулирующее, разграничивающее начало. Юридический опыт всегда базируется на представлениях о границах дозволенного, о надлежащей процедуре действий, о строгом следовании определенным нормам – разногласия, по сути, касаются лишь природы и масштабов этой меры, но не самого факта ее существования.
Другим, хотя и не столь очевидным свойством права является его способность к образованию собственного мира, понимаемого в обоих смыслах – и как обособленная живая система, и как свободное от войны состояние.
Так или иначе, самая обобщенная и усредненная модель права неизбежно основывается на идеях границы и формы, поскольку соблюдение мер и созидание миров в равной степени несовместимы с аморфностью, беспредельностью и хаотичностью.
Одним из основных преимуществ коммуникативного подхода к праву является то, что он позволяет перейти от упрощенной схемы правового регулирования как одностороннего процесса к рассмотрению права в качестве сложного полисубъектного взаимодействия, тем самым вводя в круг факторов, подлежащих изучению, не только волеизъявление одного из субъектов, но и ответную реакцию на него; другое достоинство данной концепции состоит в том, что коммуникативный подход позволяет в полной мере учесть обменную природу права.
А.В. Поляков определяет правовую коммуникацию через нормативное взаимодействие лиц на основе интерпретации социально легитимированных текстов и реализации присущих им прав и обязанностей, при этом исходя из эйдетического приоритета правомочия[219]. Эти критерии правовой коммуникации, как представляется, носят содержательный характер, поскольку могут быть и не явлены в непосредственном наблюдении. Для построения системы критериев их необходимо дополнить признаками, относящимися к форме правовой коммуникации, т. е., условно говоря, ее морфологическими аспектами (учитывая сложившуюся в ряде гуманитарных и естественных наук традицию применения предложенного И.В. Гете термина «морфология» к учению о форме и внешнем виде изучаемых явлений[220]).
Форма применительно к правовой коммуникации представляет собой внешний способ ее бытия, очертание, границу между нею и другими видами социальной коммуникации. В качестве содержания правовой коммуникации выступают конкретные требования, дозволения, запреты, юридические суждения и решения.
Согласно философии томизма, форма не отличается от идеи: «В самом деле, «идеей» по-гречески называется то же, что по-латыни именуется «формой»[221]; при этом форма предшествует возникновению вещи, либо в силу ее природы (например, огонь порождает огонь), либо как образец в уме ее создателя (например, форма дома – в уме архитектора)[222].
Одно из наиболее глубоких философских исследований феномена формы принадлежит отечественному мыслителю А.Ф. Лосеву, который отождествляет понятия «форма» и «выражение», раскрывая их в ряду с понятиями «факт» и «смысл». Форма, согласно Лосеву, – это особое видение факта, когда он берется в его соотношении с внешней реальностью (в отличие от смысла, который относится к внутренней жизни факта): «Выражение, или форма, есть смысл, предполагающий иное вне себя, соотнесенный с иным, которое его окружает; он – самораздельность, рассматриваемая с точки зрения иного, привходящего извне»[223].
Из определения Лосева вытекает, что формой предмета является то, каким он предстает перед наблюдателем. По существу, форма есть лицо вещи, и отсюда появляется новое определение: «Она – твердо очерченный лик сущности, в котором отождествлен логический смысл с его алогической явленностью и данностью»[224]. В авторской терминологии Лосева «логическим» называется все, что относится к мысли, т. е. идеальное, а «алогическим» – материальное начало. Таким образом, форма представляет собой материальное воплощение идеального содержания.
С точки зрения диалектической логики, как указывал Л.И. Спиридонов, форма есть обоснованное и опосредованное бытие, существенная определенность предмета – то, что отличает одно явление от другого в границах целого. Социальная форма опосредует связи индивидов с обществом, наделяет их общественными функциями, включает в систему общественных отношений и обеспечивает устойчивость социальной организации[225].
Исследуя с философских позиций феномен римского права, В.В. Бибихин обратил внимание, что наибольшее историческое значение имело не столько содержание законов, сколько их форма, конструкция, связанная с отчетливой определенностью и общей институциональной структурой[226]. Римское право представляло собой не столько набор норм определенного содержания, сколько институциональный правопорядок, который именно в силу своей системности смог возродиться в средневековой Европе, когда эта институциональная модель из прошлого стала идеей, в полной мере отвечавшей сложившимся интересам социальных акторов.
В ходе институционализации происходит эволюция человеческой деятельности от вариативных форм ко все более стандартным, от «импровизированных» к заранее известным, от разрозненных к согласованным, от индивидуализированных к общепринятым. Право является именно той сферой стабильности, точности, гарантированности поведения, где институционализация достигает своей высшей точки.
Идея правовой формы становится особенно популярной в рамках марксистского правового учения. В трудах К. Маркса и Ф. Энгельса, впрочем, это понятие не раскрывается. Из немногочисленных пояснений Маркса относительно общего понятия «форма» видно, что он понимал форму вполне традиционно – как способ выражения: «Дальнейший ход исследования приведет нас опять к меновой стоимости как необходимому способу выражения, или форме проявления стоимости…»[227].
Хотя понятие формы является одним из наиболее часто встречающихся в тексте «Капитала», где речь идет о формах товара, формах стоимости, формах труда и т. п., относительно правовой формы сообщается не так уж много: 1) одной из правовых форм является договор[228]; 2) сделки представляют собой метаморфозы, т. е. превращения форм капитала[229]; 3) юридическая форма сделок не определяет их содержания, а зависит от него[230]; 4) один и тот же способ производства может принимать различные юридические формы[231].
Заявка на раскрытие марксистской концепции правовой формы содержится в работе Е.Б. Пашуканиса «Общая теория права и марксизм», где автор предполагал «наметить основные черты исторического и диалектического развития правовой формы, пользуясь главным образом теми мыслями, которые я нашел у Маркса»[232]. Однако Пашуканис также не дал общего теоретического описания правовой формы, ограничившись лишь тем, что она представляет собой «реальное опосредствование производственных отношений»[233]. Для Пашуканиса правовая форма существует в виде противоположностей: субъективное право – объективное право, публичное право – частное право,[234] – а ее материальным основанием выступают частные интересы и акты обмена[235].
Вопрос о марксистском понимании правовой формы экономических отношений специально рассматривался в работах В.В. Ла-паевой, которая, впрочем, также не дала определения правовой формы, склоняясь к отождествлению правовой формы и правового отношения[236].
Кроме того, складывается тенденция уравнивать правовую форму с правовыми нормами и институтами. Такую позицию занимала, в частности, Р.О. Халфина: «Термин «правовая форма» применяются в различных смыслах – как совокупность правовых норм, как система права, норма права и т. п. Вместе с тем в последние годы все более широко применяется понятие правовой формы как комплекса норм или институтов, опосредующих определенных вид общественных отношений»[237]. Однако такое решение неудовлетворительно постольку, поскольку, во-первых, лишает понятие правовой формы собственного смысла, а во-вторых, радикально формализует правовые нормы и институты, отрицая наличие у них содержательного аспекта.
Автор единственного в постсоветской юридической науке диссертационного исследования, посвященного правовой форме, Ю.Б. Батурина предлагает следующее определение: «правовая форма – это объективно выраженная и устойчивая связь между составляющими право элементами (частями), а также между правом и неправовыми явлениями, нуждающимися в правовой регламентации»[238]. В последней части определения верно намечена такая смысловая особенность правовой формы, как ее «буферное» положение между юридическими и неюридическими аспектами социальной реальности; однако эта идея неудачно выражена словом «связь», поскольку связь между ними может быть самой различной, в том числе далекой от правовой формы – например, экономическая детерминация законотворчества, лоббистское давление и т. п.
Вместе с тем понятие формы широко используется в официальных юридических текстах, что дает возможность обратиться за уточнениями к действующему российскому законодательству.
Так, в Гражданском кодексе Российской Федерации понятие формы фигурирует в следующих значениях:
во-первых, организационно-правовая форма юридического лица, включающая в себя наименование определенного типа юридических лиц, присущие им особенности создания и ликвидации, распределения ответственности, порядка принятия решений и ведения основной деятельности;
во-вторых, форма сделок (ст. 158 ГК РФ), которая существует в следующих вариантах: устная, письменная (простая или нотариальная) или молчаливая. Письменная форма сделки, помимо самого способа текстуального закрепления воли, может предполагать совершение на бланке, наличие печати, засвидетельствование подписи и т. п. процедурные требования (ст. 160 ГК РФ);
в-третьих, формы заключения договора на торгах – конкурс и аукцион, различающиеся по способу определения выигравшего лица (п.5 ст. 447 ГК РФ).
Итак, исходя из вышесказанного, о правовой форме можно сделать следующие промежуточные выводы.
1. Правовая форма носит образный характер;
2. Правовая форма представляет собой определенное отношение права к явлениям внешней реальности и критерий отличения права от неправа;
3. В правовой форме сочетаются материальные и идеальные элементы;
4. Правовая форма может проявляться в способе создания текста, его внешнем виде, порядке совершения действий и т. п.
Иначе говоря, правовая форма может быть определена как внешний образ коммуникации, придающий ей юридически значимый характер. Это понятие, таким образом, шире по смыслу, чем «форма права», которая понимается обычно как способ выражения нормативно-правового предписания; правовая форма присуща не только нормам, но и другим элементам коммуникации, например, требованиям индивидуального значения или отдельным юридическим фактам-действиям.
Формальная сторона права онтологически является вполне самостоятельной по отношению к содержанию. Действительно, содержание правовых текстов не всегда является для них чем-то специфичным – оно может быть заимствовано из иных областей социальной жизни; правовые суждения могут быть переложением нравственных правил, религиозных заповедей, идеологических лозунгов и т. п.
Существенной стороной любого предмета является та, благодаря которой он сохраняет свою качественную определенность. Поскольку содержание юридических текстов порой изменчиво до такой степени, что порой за ним невозможно уследить, то лишь относительный консерватизм юридической формы позволяет с достаточной уверенностью идентифицировать те или иные явления в качестве правовых. Благодаря этому текст может утрачивать и приобретать юридические свойства, не меняясь по своему содержанию. Проект закона, одобренный и подписанный всеми необходимыми инстанциями, еще не обладает юридической силой; на другое утро, ничуть не меняясь содержательно, но будучи опубликован в официальном источнике, он становится законом. Спустя некоторое время он может по решению уполномоченных субъектов снова утратить силу, хотя бы в нем не изменилась ни одна буква.
Аналогична, например, позиция Х. Перельмана: нет оснований считать, что решение, корректное с формально-юридической точки зрения и вынесенное уполномоченными органами, утрачивает свой статуса правового акта в силу того, что остается без практических последствий[239].
В.В. Бибихин показывает специфику правовой коммуникации в отличие от обычного общения через серию бинарных оппозиций: формальность и человечность, записываемое и устное, принцип и приспособление, позитивное и естественное, закон и нравы.
Формальное противопоставляется человечному, поскольку требует поступать не так, как подсказывает интуиция или личные отношения, а в соответствии с внешне установленными правилами. Письменное отличается от устного своей особой прочностью и стабильностью (поэтому, строго говоря, письменная форма права не является единственно возможной, ее вполне заменяет громкая и четкая устная артикуляция). Принцип как непреложный образец поведения противоположен гибкости, необходимой для приспособления. Позитивное, т. е. положенное кем-то раз и навсегда (или надолго), отличается от того, что естественно и не нуждается в публичном провозглашении[240].
Правовая коммуникация, таким образом, – это не столько конкретные тексты с их исторически изменчивым и часто случайным содержанием, сколько общий режим отчетливой определенности речи и поведения людей. Если такого режима нет, то ни один отдельно взятый закон или их совокупность не способны его обеспечить.
3.2. Языковой аспект правовой формы
Дальнейшая дифференциация конкретных проявлений правовой формы может производиться по-разному. Так, М. ван Хук приводит позицию Р. Саммерса, который выделяет пять типов правовой формы: существенная форма (включающая такие характеристики, как прескриптивность, общность, полнота и определенность); структурная форма (предполагающая наличие необходимых элементов правовой нормы); выразительная форма (способ выражения правила, включая его письменное изложение, терминологическую сторону и т. п.); объективированная форма (отражение нормы в источнике права); организационная форма (процедурные правила, компетенция и др.)[241].
Одна из наглядных характеристик права состоит в том, что оно обладает ярко выраженным текстуальным характером, то есть представляет собой знаковую систему. Собственно, есть основания утверждать, что данное свойство является универсальным для всех культурных явлений; все, что имеет смысл, в силу этого с полным основанием может быть приравнено к тексту. Согласно М.М. Бахтину, все без исключения гуманитарное знание имеет дело с изучением текстов: «Гуманитарные науки – науки о человеке в его специфике, а не о безгласной вещи и естественном явлении. Человек в его человеческой специфике всегда выражает себя (говорит), то есть создает текст (хотя бы и потенциальный). Там, где человек изучается вне текста и независимо от него, это уже не гуманитарные науки (анатомия и физиология человека и др.)»[242]. При этом текстуальное содержание имеют не только высказывания, но и поступки человека: «Человеческий поступок есть потенциальный текст и может быть понят (как человеческий поступок, а не физическое действие) только в диалогическом контексте своего времени (как реплика, как смысловая позиция, как система мотивов)»[243].
Однако исходным пунктом правовой реальности является, конечно, не любой текст, в противном случае материя права полностью слилась бы с культурным фоном. Отправная и центральная точка права – текст словесный и, более того, письменный. Действительно, даже с чисто эмпирической точки зрения во всех случаях, когда отдельное лицо сталкивается с правом, при этом контакте всегда явно или скрыто присутствует письменный текст – закон, протокол, договор, инструкция или что-то аналогичное. Дело в том, что ни одно явление социальной реальности не может быть признано правовым, если оно не опосредовано текстом определенного рода. Не существует таких явлений, событий, процессов, которые являлись бы правовыми объективно, по природе своей, вне особого способа письменного закрепления. Разумеется, вся правовая реальность не может быть сведена к корпусу письменных источников, однако все ее «неписаные» компоненты являются сугубо производными и подчиненными, они не обладают автономным и самодостаточным бытием в отрыве от порождающего их текста. Например, юридическая сделка может быть совершена в устной форме, однако это возможно лишь благодаря юридическому предписанию, содержащегося в писаном тексте Гражданского Кодекса. То же самое касается правовых обычаев, приобретающих юридический характер в силу указаний закона или судебных решений.
Что касается «устного права», то оно может признаваться лишь с некоторой долей условности, в качестве маргинального явления, как прообраз полноценного права или как его упадочная форма. Но в развитом своем состоянии право всегда письменно, поскольку иначе его социокультурные функции остались бы неосуществимыми.
Устные тексты в правовой сфере (например, выступления сторон в судебном процессе) всегда представляют собой нечто вроде соединительной ткани между письменными текстами; так, судопроизводство всегда начинается с искового заявления (жалобы, постановления и т. п.), а завершается приговором или решением. При этом исторически пропорция устных и письменных форм судопроизводства может меняться, но сам письменный компонент непременно сохраняется в качестве центрального.
Юридический язык – едва ли не главный фактор, конституирующий право как самостоятельный социальный институт. Ни для кого не секрет, что юридические тексты пишутся и всегда писались на совершенно особом языке; сам этот язык меняется, но его «особость» по отношению к общелитературному усредненному языку данной эпохи и общества неизменно сохраняется. Регулярно высказываемая учеными-юристами идея, будто бы законы должны писаться на языке, понятном и близком большинству людей, едва ли имеет шансы быть претворенной в жизнь.
Р. Барт в своих эссе «Разделение языков» и «Война языков» показал, что наличие у каждой социальной группы собственного языка, так или иначе вписывающегося в национальный язык (так называемого «социолекта») является, по существу, залогом выживания данного коллектива. Использование определенных слов и грамматических конструкций позволяет выстраивать ту картину мира, которая функционально необходима данной социальной группе. Эти языки находятся между собой в сложных отношениях, часто построенных на силе и противостоянии[244]. Соответственно, написание юридических текстов на языке большинства не имеет смысла: «незачем приспосабливать письмо к языку большинства, ибо в обществе отчуждения большинство не универсально, и потому говорить на его языке (так поступает массовая культура, ориентируясь на статистическое большинство читателей и телезрителей) – значит все-таки говорить на одном из частных языков, пусть даже и на самом массовом»[245]. Если следовать классификации Барта, то юридический язык относится к так называемым «энкратическим» языкам, которые обладают властным характером – либо рождаются и живут внутри властных группировок, либо используются ими для влияния на остальное общество.
Обособление юридического «социолекта» внутри национального языка, по существу, способствует сохранению правовой системы как функционально самостоятельного механизма в составе общества; переход права на разговорный или любой другой язык, соответственно, означал бы постепенное растворение в культуре и утрату своей предметности. Особенности юридического языка соответствуют миссии права и юридического сообщества как хранителей идеи социального порядка.
Приведем в этой связи характерное рассуждение одного из ведущих российских специалистов по философии права. Изучая язык Декларации независимости США 1776 г., И.П. Малинова отмечает ее сдержанный пафос, достоинство слога, благородную интонацию («Когда в ходе событий для одного народа становится необходимым разорвать политические узы, связывавшие его с другим, и среди других держав на земле занять самостоятельное и равное положение, на которое ему даруют право законы естества и создатель, – приличествующее уважение к мнению человечества обязывает объявить причины, побуждающие к отделению…»). Далее, переходя к современной традиции составления международных актов о правах человека, автор указывает: «В ней превалирует установка на исчерпывающую точность формулировок, категоричность тона и присущая скорее отраслевым кодексам канцелярская стилистика. В грамматическом, фразеологическом и вообще стилистическом построении самих преамбул, задающих тон всему документу, совершенно отсутствует человек – и как адресат деклараций, конвенций, и как их смысл, и как тот подлинный автор, от лица которого и составляли конвенцию ее авторы. В результате в этих декларациях и конвенциях есть буква, но нет духа»[246].
Но это суждение противоречиво. Разве сама бросающаяся в глаза категоричность и отсутствие личностного начала не относятся именно к духу этих юридических текстов? Видимо, здесь предполагается, что дух права может быть основан только на чувстве индивидуальности; в этом случае безличность и холодность юридического языка действительно свидетельствовали бы о бездуховности. Но если «подлинный автор» правовых текстов – не личность, а социальное целое, то категоризм и строгость формулировок говорят именно о том, что замысел текста не обращен к отдельно взятому лицу, а направлен на общее благо, являющееся для каждого императивом.
Развивая эту критику современных конвенций о правах человека, И.П. Малинова продолжает: «Поэтому они действуют на официальном, формальном уровне. В них нет интонации, отсутствует та гармоническая, почти звуковая волна культуры, которая только и может вызвать резонансный отклик людей…»[247]. По всей видимости, следует понимать это так, что действие права «на официальном, формальном уровне» есть какой-то низший способ его осуществления, не требующий никакого резонансного отклика. Однако наличие у права официальных свойств и является, собственно, его основным преимуществом, которое ценится более всего. Именно ради того, чтобы право действовало на формальном уровне, и понадобился отказ от образных языковых средств, от эмоциональности и благородного пафоса. Вполне очевидно, что Декларация независимости США выполняло совсем иную задачу, а именно демонтировала существующий политический порядок, чтобы построить на его месте новую государственность; именно этому и служили соответствующие языковые конструкции, не рассчитанные поэтому на формальное действие. Что касается современных юридических актов, направленных на защиту правовых ценностей, то они достигают этого именно своим формализмом, требовательностью, намеренной сухостью и бесстрастностью, поскольку устранение эмоций оказывается одним из необходимых первоначальных условий для создания общей среды обитания.
Сверхзадача таких текстов, отличающихся сухостью, монотонностью, отсутствием образов, – создание безэмоциональной социальной среды, гашение эмоционального фона в обществе.
Согласно исследованиям К. Леви-Строса, равнодушие, отсутствие эмоций в мифах архаических народов предстает скорее как положительное качество. Во всех случаях, когда персонаж мифа
не испытывает никаких чувств или скрывает их, это вызывает одобрительную оценку. Наоборот, открытое проявление чувств скорее рассматривается как опасность, как непредсказуемая угроза[248]. В связи с этим можно выдвинуть гипотезу, что для ранних (и не только) человеческих сообществ одной из первоочередных проблем является понижение эмоционального накала, то есть переключение людей в менее экспрессивный поведенческий регистр.
Сверхэмоциональное поведение всегда рассматривается на общекультурном уровне с некоторой долей настороженности. Это видно даже в общепринятом словоупотреблении; достаточно задуматься над тем, какое поведение называется «культурным». Человек «культурный» – это скорее человек эмоциональный, открыто выражающий свои чувства, или сдержанный человек, скрывающий их? Какое поведение считается «культурным» – бурное выражение эмоций или умение управлять ими? Думается, ответ достаточно очевиден: «культурность» ассоциируется со вторым типом поведения, то есть со способностью контролировать свои эмоциональные реакции.
Если это имеет силу для отдельного индивида, можно предположить, что это должно распространяться и на коллективы людей. Как представляется, право – это и есть один из инструментов сдерживания социальных эмоций. Путем создания специфических текстов, описывающих людей со значительно заторможенной эмоциональной сферой, достигается эффект снижения «накала страстей» в обществе.
Сила права – это магия письменного слова. Буквенный способ выражения является неотъемлемой чертой права, поскольку в наибольшей степени отражает его функциональную природу. Перекодировка социального порядка в буквенную форму позволяет представить его в виде унифицированного набора знаков и одновременно законсервировать в таком качестве на неопределенный срок для передачи данного социального опыта во времени и пространстве. Текст содержит описание желательной модели поведения, а также необходимую вспомогательную информацию (например, определения используемых терминов).
В ранних юридических текстах (как, собственно, и в современных) легко обнаружить сходство с различными заклинательными практиками, заговорами, молитвами и т. д. Повелительная, императивная стилистика этих текстов, их монотонная ритмика, по сути, направлены на то, чтобы «загипнотизировать» адресата и вызвать с его стороны такое поведение, которого иначе трудно было бы добиться.
В нормативных текстах часто используется такой прием, как «перформатив». Согласно Дж. Остину, перформативным является такое высказывание, которое внешне выглядит как констатация факта, однако не может быть истинным или ложным, потому что не повествует о каком-то отдельно существующем событии или действии, а само по себе является действием (например: «завещаю наручные часы своему брату», «объявляю войну» и т. п.)[249].
Такой же характер, по существу, носят положения законодательных актов, не содержащие прямых разрешений, требований и запретов, а сформулированные в описательном виде, например: «Столицей Российской Федерации является город Москва» (ч. 2 ст. 70 Конституции РФ); «Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней политики государства» (ч.3 ст. 80 Конституции РФ); «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подобный способ регулирования особенно распространен в отраслях публичного права, хотя его существование, как правило, не учитывается в имеющихся классификациях правовых норм, которые обычно сводятся к управомочивающим, обязывающим и запрещающим.
Суггестивными эффектами юридического текста являются нейтрализация и универсализация – он создает впечатление уверенности и беспристрастности, описывает желаемое состояние общественных отношений таким образом, как если бы оно не было лишь выражением чьих-то интересов и намерений, а уже представляло собой реальность, существующую объективно и одинаковую для всех.
3.3. Публичное и частное право как сферы юридической коммуникации
Слово «право» может использоваться как для обозначения целого, так и для характеристики отдельного сегмента этого целого. В первом случае под правом понимается единая нормативная система, посредством которой определяются и регламентируются общезначимые общественные отношения. К примеру, когда мы говорим о национальном праве, международном праве, праве прав человека и т. п. то имеем в виду именно целостное восприятие права как системы норм и отношений, сложившихся в определенном социуме на определенном этапе его исторического развития.
Вместе с тем одновременно с обозначением целостного системного понятия, словом «право», также называются сегменты правового целого, что, на наш взгляд, является не вполне удачным[250], поскольку затрудняет восприятие права как единого внутренне структурированного социального явления.
Однако, принимая во внимание то, что подобное отношение к использованию слова «право» является традиционным, мы в рамках данного раздела также будем называть правом отдельные сегменты правового целого, а именно: публичное и частное право. Вместе с тем следует согласиться с тем, что часть не может быть тождественна целому, следовательно, ни один из далее перечисленных сегментов права не может быть назван правом в собственном смысле[251].
Деление права на публичное и частное своей историей восходит к римской юриспруденции. Понимание Империи как целостного социального образования и, вместе с тем, совокупности относительно самостоятельных структурно-функциональных элементов, обусловило появление таких ранее неизвестных категорий как республика (общее дело) и патриотизм (служение «большой Родине»),
Возникновение государства «общего дела», своим следствием имело появление «общего интереса», обеспечиваемого публичным (общезначимым) правом, Вместе с тем, наряду с общегосударственными интересами, человек, в своих поступках не мог не руководствоваться эгоистическими соображениями и устремлениями, упорядочение и юридическое обеспечение которых составляло предмет правового регулирования в частном праве, В современных правовых системах делению права на публичное и частное придается различное значение, Наибольшее значение оно сохраняет в странах причисляющих себя к романо-германской правовой семье, в число которых входит и Российская Федерация[252],
Определение публичного права как системы общеобязательных правил поведения (правовых норм), регулирующих отношения, обеспечивающие общий, совокупный (публичный) интерес[253], предполагает его рассмотрение в качестве феномена объективного, первичного и приоритетного по отношению к индивидуальным и групповым волеизъявлениям, По мнению П,А, Оля: «В отечественной политико-правовой традиции необходимость служения общему благу, то есть публичным интересам обосновывается «снизу», путем аппелирования к духовно-нравственным ценностям индивидов, прежде всего, через специфическую интерпретацию нравственных категорий, и, прежде всего, через понятие долга, При этом сам индивид не противопоставляется обществу, а как бы «сливается» с ним…»[254],
Процесс формализации публичного права связывается с выявлением и отнесением тех или иных отношений к общезначимым и, соответственно, приданием правилам поведения, регламентирующим эти отношения, характера общеобязательных. В свою очередь легализация «общезначимого права» осуществляется путем возведения в закон воли субъекта, наделенного соответствующими прерогативами в сфере правотворчества и выступающего в качестве «центра публичности».
Функции центра публичности в зависимости от обстоятельств могут выполнять:
– верховный правитель государства и коллективные органы государственной власти (в национальном праве);
– межгосударственные органы и организации (в международном праве).
Народ (общество), являясь социальным основанием государства в целом и государственной власти в частности, в реальной жизни выступает в качестве объекта управления и, таким образом, не может рассматриваться в качестве центра публичности и формального источника публичной власти.
Выступая в качестве единой, целостной нормативной системы, «право в целом» упорядочивает разноуровневые интересы вовлеченных в правоотношения субъектов, обеспечивает их реализацию, определяет средства и пути разрешения коллизий и конфликтов интересов.
В зависимости от характера представляемого и защищаемого субъективного интереса в системе права целесообразно выделять:
а) нормы, регламентирующие публичные интересы (а точнее интересы субъекта/субъектов образующих центр публичности) – публичное право
– международное право;
– национальное право.
б) нормы, регламентирующие частные интересы, подразделяемые на:
– корпоративные (корпоративное право);
– личные (личное право).
Юридическая сущность норм публичного права определяется центром публичности и получает формализацию путем законодательного закрепления воли центра публичности[255]. Формальными источниками публичного права являются нормативно-правовые акты – законы[256], издаваемые от имени всего государства/международного сообщества и значимые в пределах его юрисдикционного пространства для всех индивидуальных и коллективных субъектов, в данном пространстве находящихся.
Разграничение международного и национального права актуализирует проблему их соотношения и определения соответствующих центров публичности. И международное и национальное (государственное) право, претендуют на статус правовых систем публичного (общезначимого) характера. Возникает вопрос: какая система является приоритетной? Конституция России 1993 г. в ст. 15 закрепляет два положения носящих коллизионный характер. С одной стороны п. 1 гласит: «Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации»[257]. С другой стороны, в п. 4 отмечается, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Процитированные положения заслуживают ряда комментариев.
Прежде всего, применительно к национальному российскому праву, в качестве источников права называются собственно Конституция, законы и иные правовые акты. Что касается международного права, то сначала в п.4 ст. 15, в качестве элементов правовой системы России упоминаются общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, однако во второй части положения говорится только о международных договорах подписанных и ратифицированных Российской Федерацией. Как быть в случае возникновения коллизий между национальным законодательством и «общепризнанными принципами и нормами международного права», остается непонятным.
Кроме того, неясно, какие принципы права относятся к числу «общепризнанных» и каким образом в качестве самостоятельного элемента правовой системы может выступать «норма международного права» без конкретного формального источника ее юридического закрепления.
Отсутствие конкретики в данной области, придает п. 4 ст. 15 декларативный, не подкрепленный реальными обязательствами характера. На практике, как нам представляется, действует принцип приоритета национального законодательства перед международным правом. Что касается последнего, то центром публичности в нем выступает не международное сообщество (точно так же, как в государстве, в качестве субъекта властных полномочий, выступает не народ, а бюрократический аппарат), а государство/группа государств, претендующее на роль «сверхдержавы», определяющей основные направления международной политики.
Частное право, в соответствие с названием выражает интересы носителей выделенных из публичных интересов, которые, с одной стороны не противоречат общезначимым нормам, а с другой стороны не сливаются с ними.
Нормы публичного и частного права, выступая в качестве структурных элементов единой системы права, зачастую противопоставляются друг другу. При этом в основу их коллизионности положена гипотеза об изначальном противоречии между разнонаправленными тенденциями правового регулирования. С одной стороны, сохранение государственно-правовой системы требует ограничения свободы поведения, как со стороны отдельных индивидов, так и со стороны локальных социальных образований (корпораций), являющихся элементами вышеназванной системы.
С другой стороны, в основу сохранения и развития любой системы, в том числе и государственно-правовой, положена борьба за выживание, а это в свою очередь обусловливает коллективную и индивидуальную конкуренцию.
Коллизионность норм публичного и частного права, обусловливает выделение двух теоретических моделей их соотношения:
– Системоцентричная модель
За основу рассуждений принимается постулат о приоритете общесистемной безопасности по отношению к безопасности социальных групп и индивидов, данную систему образующих. Частные (корпоративные и индивидуальные) нормы рассматриваются в качестве фрагментов системы публичного права, в котором интересы отдельной социальной группы либо личности значимы настолько, насколько утилитарно полезны для всего государственно-организованного социума в целом. Виды и объем частных прав и свобод, определяются на уровне центра публичности и, соответственно, на этом же уровне могут изменяться. При этом пределы вмешательства в сферу частно-правовых интересов, зависят от воли все того же центра публичности. Подобная позиция позволяет говорить о том, что частное право в качестве самостоятельного правового образования представляет фикцию. «Человек не имеет прав. – Восклицает Эмиль Фиге – У него нет никаких прав, абсолютно никаких. Я даже не понимаю, что означает выражение «право человека». На чем основано это право? Наделен ли им ребенок при рождении? Он наделен потребностями, которые удовлетворяют окружающие. Он входит в общество… по отношению к которому он чувствует себя… обязанным, но я не могу привести ни одного аргумента, который бы доказывал, что общество чем-то обязано индивиду»[258].
Системоцентризм основан на отношениях субординации, в качестве субъектов которых, с одной стороны, выступает государство (в лице аппарата государственной власти), играющее роль верховного правителя, издающего руководящие предписания, и общество (народ) как объект властного воздействия и подчиненный субъект исполнения принимаемых на властном уровне решений. В рамках подобного рода отношений, тот, кто обладает властью, – тот обладает всем, что можно посредством властной деятельности получить. Прежде всего, это касается отношений, связанных с собственностью. Получается, что стремление к власти есть стремление к обладанию собственностью. При этом механизм овладения собственностью построен на принципе ее экспроприационного перераспределения от подвластных к властителям. В подобных условиях фискальный аппарат государства носит ярко выраженный принудительно-карательный характер.
В системоцентичном государстве субъективный интерес лица, обладающего публичной политической властью, приобретает публичный характер. При этом зачастую субъективный публичный интерес вступает в противоречие с субъективным частным интересом. В качестве наиболее образного примера может быть приведена проблема, сложившаяся в сфере комплектования российской армии. Руководство вооруженных сил заявляет о недостатке квалифицированных военных кадров и настаивает на отмене отсрочек от воинской службы, предполагающих призыв в армию студентов и выпускников гражданских вузов. В качестве аргумента, как правило, приводится конституционное положение об обязательной военной службе граждан Российской Федерации (ч. 2 ст. 59 Конституции), являющейся, по мнению отечественного генералитета, формой «отдания» гражданского долга и осуществления «почетной» воинской обязанности по защите Отечества (т. е. государства). Однако если рассматривать воинскую службу, осуществляемую в мирное время, как вид трудовой деятельности (аналогичный военной службе по контракту), то возникает логичный вопрос о соотносимости данных заявлений с положениями ст. 37 Конституции, определяющей, что «Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду… Принудительный труд запрещен». С точки зрения гражданско-правовых и трудовых отношений не понятно, почему за одну и ту же работу солдат срочной службы и воин-контрактник получают разную зарплату, почему в первом случае привлечение к службе носит принудительный характер. Ссылки на необходимость защиты Отечества малоубедительны, поскольку данный долг возникает у граждан в условиях военного времени, когда всей стране угрожает реальная опасность. В мирное время задача армии сводится к подготовке и переподготовке военных специалистов, а также содержанию кадровых подразделений, способных при введении военного положения в кратчайшие сроки развернуться в полноформатные вооруженные силы. В приведенном примере достаточно отчетливо прослеживается коллизия субъективного интереса высшего военного руководства, лоббируемого федеральными политиками и приобретающего в силу своего законодательного оформления публичный характер, и субъективный интерес частного характера, носителями которого являются призывники, а также их родные и близкие. Последние пытаются по мере сил оказывать противодействие государству в его стремлении реализовать соответствующие властные установки. Причем, не имея возможности легального противостояния с государством, носители частных интересов зачастую прибегают к средствам криминального характера.
– Эгоцентричная модель
Частные (эгоистичные) интересы рассматриваются в качестве первичных и, следовательно, более значимых по отношению к публичным (общесоциальным). «Индивидуальная свобода… представляет собою… основную свободу, свободу в себе, и все прочие виды свободы являются лишь ее расширением или, скорее. ее гарантией. Индивидуальная свобода – это право, в соответствии с которым я считаю, что могу жить по-своему, действовать по-своему до тех пор, пока я не причиняю никому вреда и не чиню никому серьезных препятствий»[259].
В рамках эгоцентристской модели коллизионность норм публичного и частного права обусловлена стремлением отдельно взятой корпорации/личности представить собственные интересы в качестве наиболее важных и ценных и осуществлять их реализацию и защиту, в том числе, за счет пренебрежения публичными интересами общества и государства. По мнению К. Поппера «индивидуализм стал основой нашей западной цивилизации. Это – ядро христианства («возлюби ближнего своего», – сказано в Священном
Писании, а не «возлюби род свой»)[260]. Следует особо подчеркнуть, что «пренебрежение публичными интересами общества и государства», применительно к эгоцентристской модели, не следует рассматривать в качестве их отрицания. Человек/корпорация, находясь в обществе, не может быть выделен и отделен от общественной организации. Однако, осознание себя в качестве «центра социального мира», предполагает восприятие этого мира с точки зрения собственной безопасности и комфорта. Признание за частным правом самостоятельного категориального статуса, предполагает осознание паритета публичных и частных интересов, в одинаковой степени важных и значимых для их носителей.
Системоцентричная конструкция «государство (власть) – общество (подданный)», меняется эгоцентричной, в рамках которой государство и общество выступают в качестве равноправных и равнообязанных партнеров. В системе подобного рода, строящейся по типу акционерного общества, государство уподобляется управленцу, избираемому из числа акционеров и подотчетного в своей деятельности собранию акционеров. Для того чтобы подобная система стала реальностью, необходимо, прежде всего, чтобы отношения собственности стали первичными по отношению к властеотношениями. Иными словами, для того чтобы получить властные полномочия, необходимо прежде состояться в качестве собственника. Соответственно, качественным образом меняется понимание права. Продолжая носить публичный характер, право перестает быть инструментом реализации власти одних представителей социума над другими. Принцип равенства перед правом и законом предполагает равнообязанность по отношению к правовым предписаниям как со стороны представительных органов государственной власти, так и со стороны общества, делегировавшего этим органам свои полномочия по управлению общественными отношениями. Особенно важно в данном случае то, что управленческие отношения между партнерами предполагают равенство их субъективных интересов. В данном случае утрачивает смысл спор о приоритете публичных и частных составляющих права, поскольку именно с компромиссом публичных и частных интересов, в конечном счете, связывается эффективность правового регулирования. При этом государство приобретает двойственное значение как субъект управления обществом (аппарат публичной политической власти) и как социополитическая организация общества (государственно-организованный народ). В качестве субъекта – носителя публичного интереса следует рассматривать государство-народ. В свою очередь, государство-аппарат представляет собой субъект – носитель частного интереса, связанного с самосохранением и обеспечением для самого себя режима наибольшего благоприятствования. В качестве других субъектов частных интересов можно выделить как отдельных индивидов, так и коллективные образования (корпорации). Реализация и защита частных интересов субъектов осуществляется в рамках договорных отношений, предполагающих определенную свободу поведения в процессе выработки соответствующих правил взаимодействия. При этом, вступая в данные отношения, представители государственного аппарата не должны использовать свои властные полномочия для создания в отношении себя режима наибольшего благоприятствования.
Коллизионность публичных и частных интересов в рамках как системоцентричной так и эгоцентричной системы следует рассматривать в качестве объективной реальности. Однако осознание несовпадения интересов не следует рассматривать в качестве основания для безапелляционного вывода о том, что внутренняя коллизионность права в любом случае обусловливает конфликт между субъектами – носителями разнонаправленных интересов. Представляется возможным выделение двух вариантов взаимодействия:
– конфликт как средство разрешения объективного противоречия между государственной бюрократией, институтами гражданского общества (негосударственными корпорациями), а также отдельно взятыми гражданами;
– консенсус как результат достижения компромисса, обусловленного взаимным стремлением участников общественных отношений к установлению взаимовыгодных либо, что зачастую не менее важно, взаимоприемлемых условий для взаимодействия.
Принимая во внимание альтернативность моделей взаимодействия публичного и частного права, следует также иметь в виду, что институт частного права (интереса), в свою очередь объединяет корпоративное и личное право.
Корпоративное право складывается из правил, устанавливаемых и действующих в пределах обособленных социальных групп[261]' В качестве основных форм корпоративного права могут быть названы договор, обычай, акты локального (ведомственного) нормотворчества.
Что касается личного права, то оно представляет собой правила, установленные конкретной личностью и значимые лишь для нее. «Личное право в виде притязания выступает тем активным началом фактичности, которое формирует нормативность объективного права. Поэтому личное право выступает с одной стороны, предпосылкой объективного права, а, с другой стороны, его реализацией»[262]. Внешними формами выражения личного права являются различные индивидуальные правовые акты, выраженные как в документальной (договоры дарения, завещания и т. п.), так и в поведенческой (юридически значимые деяния) формах.
3.4. Правовые состояния и взаимодействия
В понятийном аппарате юридической науки вплоть до настоящего времени отсутствует унифицированный подход к пониманию феномена «правоотношение». Как правило, отмечается, что правоотношение – это урегулированное и защищаемое правом социальное взаимодействие, в процессе которого субъекты (участники) реализуют корреспондирующие права и обязанности.
Если руководствоваться данным определением, то в качестве признаков правоотношения могут быть названы следующие:
– формальные: формой правоотношения является социальное взаимодействие (то есть правоотношение возможно тогда, когда в нем участвуют взаимодействующие субъекты, причем в качестве условия правосубъектности называется наличие у лица право– и дееспособности);
– квалификационные: правоотношением признается социальное взаимодействие, предусмотренное, одобренное и защищаемое правом (правоотношение выступает в качестве юридического антипода правонарушения. Последнее рассматривается в качестве юридического факта, являющегося основанием правоотношения, возникающего в сфере реализации юридической ответственности);
– содержательные: правоотношением является межсубъектная коммуникация в процессе которой субъекты реализуют корреспондирующие права и обязанности.
Однако общетеоретическое понимание правоотношения в настоящий период не может рассматриваться в качестве универсального и, следовательно, нуждается в переосмыслении. Об этом свидетельствует наличие нескольких проблемных зон, в частности:
– отсутствует единая позиция, касающаяся соотношения понятий «юридически значимое отношение» и «правоотношение». Нередко данные понятия рассматриваются как тождественные. В частности, в теории уголовного права в качестве уголовно-правового отношения рассматривается преступление [263]. Соответственно, возникает коллизия между общетеоретической и отраслевой (и, в частности уголовно-правовой) дефинициями феномена «правоотношение»;
– рассмотрение правоотношения в качестве социального взаимодействия предполагает участие в нем двух и более персонифицированных сторон (право– дееспособных субъектов). Вместе с тем в теории права выделяются абсолютные правоотношения, в которых персонифицирован только один субъект (отношение, связанное с реализацией права собственности, когда правомочие владения и пользования конкретного собственника связывается с обязательствами неопределенного круга субъектов воздерживаться от совершения действий, способных причинить ущерб имущественным интересам собственника). Если взять за основу уголовно-правовую модель правоотношения – преступления, то получается, что в нем субъектный состав ограничивается личностью преступника вступающего в противоправные отношения с объектом – закрепленными в законе правами индивидов и организаций (в число последних, в том числе, входят государство и человечество). При этом лицо (индивид, коллективное образование, государство), на законные интересы которого посягал преступник, рассматривается в качестве… объекта (!!!) преступного посягательства, что исключает из функциональной структуры таких отношений, социальные взаимодействия правовосстановительного (по отношению к потерпевшему) характера;
– традиционно в качестве субъекта правоотношения рассматривается правосубъектное (право– дееспособное) лицо. Вместе с тем в ряде случаев фактическим участником правоотношения выступает лицо с неполной дееспособностью (гражданско-правовые отношения, связанные с совершением сделок). Кроме того, применительно к ряду субъектов достаточно тяжело точно определить момент приобретения ими правосубъектности. Так, если в качестве субъекта рассматривать государство (например, Россию), то возникает вопрос, с какого момента государство может выступать в качестве самостоятельного субъекта международно-правовых отношений (с момента самопровозглашения либо с момента международного признания? Если за основу будет принят второй критерий, то возникает следующий вопрос, с каким количеством и каких государств связывается факт международного признания государства?).
Перечень нерешенных проблем в области теории правоотношения можно продолжить, но и из перечисленного, думается, понятно, что категория «правоотношение» в настоящий момент вряд ли может претендовать на положение универсальной, общеправовой догмы.
Представляется, что более содержательными в смысловом отношении, нежели категория «правоотношение», являются понятия «правовые состояния» и «правовые взаимодействия». Данные понятия обозначают различные качественные характеристики феномена «правовое (либо что более точно – юридически значимое) отношение». Состояние – это отношение субъекта к чему-либо (кому-либо), взаимодействие – это отношение субъекта с кем-либо. Таким образом, и правовые состояния, и правовые взаимодействия следует рассматривать в качестве элементов юридически значимых отношений (коммуникаций).
Правовое состояние – урегулированное (предусмотренное) действующим законодательством положение субъекта в правовом пространстве, характеризующее субъект-объектное отношение. В основу содержания правового состояния положено понимание правосубъектности.
Правосубъектность представляет собой юридически закрепленную возможность иметь права и обязанности, самостоятельно реализовать их в рамках конкретного правоотношения, а также отвечать за результаты своего поведения.
Правосубъектность, в свою очередь, складывается из правоспособности и дееспособности.
Правоспособность – это потенциальная возможность лица выступать в качестве носителя субъективных прав и обязанностей. Обладание правоспособностью рассматривается в качестве юридического основания принципа «формального равенства» субъектов.
У субъектов – физических лиц правосубъектность, как правило, возникает с момента рождения и прекращается в момент смерти. Вместе с тем, в ряде отраслей предусматривается возможность возникновения правоспособности у еще не родившегося ребенка. Индивидуальная правоспособность наступает сразу в полном объеме. Ограничение правоспособности не допускается.
Коллективные субъекты считаются правоспособными начиная с момента их официального признания (юридической регистрации). Правоспособность коллективных субъектов носит видовой характер, различаются общая и специальная правоспособность. Общая правоспособность предполагает, что любой коллективный субъект является обладателем комплекса соответствующих прав и обязанностей. Специальная правоспособность зависит от функционального назначения той или иной организации и обусловлена принципом «разделения труда». Так, к примеру, правоохранительные органы специально создаются для реализации соответствующей функции, то же самое можно сказать об органах государственной власти, коммерческих организациях и т. п.
Дееспособность — это фактическая способность лица своими осознанными, волевыми действиями реализовать субъективные права и юридические обязанности, а также нести ответственность за совершенные правонарушения.
В отличие от правоспособности, возникающей у всех индивидов сразу и в полном объеме, приобретение ими дееспособности, а также определение ее объема, зависит от ряда объективных и субъективных факторов.
Дееспособность субъектов-физических лиц возникает при условии их вменяемости и достижения возраста «совершеннолетия».
Вменяемость означает, что человек способен отдавать себе отчет в совершаемых поступках, контролировать свое поведение, осознавать возможные результаты совершаемых поступков и самостоятельно отвечать за их социально-вредные последствия.
Возрастом совершеннолетия является закрепленный в законодательстве возраст, с достижением которого связывается фактическая возможность индивида реализовать свои права и обязанности, а также отвечать за правонарушения. По общему принципу совершеннолетним лицо является с 18 лет. Вместе с тем в ряде отраслей права устанавливаются иные возрастные пределы. К примеру, в конституционном праве закрепляется положение, в соответствии с которым быть избранным в представительные органы государственной власти Российской Федерации может лицо не моложе 21 года, Президентом России может стать человек, достигший 35-летнего возраста; в административном праве юридической ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет и т. п.
Кроме перечисленных факторов на индивидуальную дееспособность оказывают влияние такие обстоятельства, как образовательный уровень; физическое состояние; законопослушность и т. п. К примеру, статусом судьи в Российской Федерации могут обладать только лица с высшим юридическим образованием; в ряде профессий (военнослужащие, моряки, летчики и т. д.) выдвигаются особые требования к состоянию здоровья претендента на ту или иную должность; нарушение требований правовых норм влечет за собой ограничение либо изъятие определенных субъективных прав и, таким образом, ограничивает дееспособность индивида в соответствующей сфере правоотношений.
По объему прав и обязанностей, которые субъект может самостоятельно реализовать в рамках правоотношений, различается полная и неполная дееспособность:
1) полная дееспособность предполагает, что индивид может самостоятельно реализовать основные права и обязанности, защищать их всеми не запрещенными законом средствами (и прежде всего в судебном порядке), нести юридическую ответственность за совершенные правонарушения. Безусловно, с юридической точки зрения «полнота» данного вида дееспособности в достаточной степени условна, поскольку, как уже отмечалось, в ряде случаев устанавливаются дополнительные условия для занятия определенными видами социально-правовой деятельности;
2) неполная дееспособность, в свою очередь, подразделяется на частичную и ограниченную:
а) частичная дееспособность предполагает, что индивид самостоятельно может реализовать лишь часть своих потенциальных прав и обязанностей, а также полностью либо частично освобожден от ответственности за совершение поступков, повлекших за собой вредоносные результаты. При этом неполный характер дееспособности обусловлен обстоятельствами объективного характера: недостижением возраста совершеннолетия, временными психическими расстройствами. В некоторых отраслях права предусматривается возможность юридического признания частично дееспособного лица полностью дееспособным. К примеру, в ч. 2 ст. 21 ГК РФ указано, что вступившее в брак лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.
б) ограниченная дееспособность связана с принудительным ограничением правового статуса ранее полностью дееспособного индивида и представляет собой либо меру юридической ответственности (лишение права управления автомобилем за нарушение правил дорожного движения), либо является формой профилактического или же правовосстановительного характера (ограничение дееспособности лица, злоупотребляющего алкоголем, в случае если его поведение влечет ухудшение материального положения иждивенцев).
По своему содержанию индивидуальная дееспособность подразделяется на общую и специальную.
Общая дееспособность предполагает, что лицо самостоятельно может реализовать так называемые основные права и обязанности, осуществление которых не ставится в зависимость от специального правового статуса, обусловленного профессией, социальным положением, местом проживания и т. п.
Специальная дееспособность обусловлена специальным правовым статусом субъекта и зависит от многих обстоятельств (рода занятий, гражданства, национальной принадлежности и т. п.)
Дееспособность коллективных субъектов возникает одновременно с правоспособностью, т. е. в момент официального признания (юридической регистрации) данного образования в качестве субъекта права. Так же, как и у индивидуальных субъектов, дееспособность субъектов коллективного характера подразделяется на общую и специальную. При этом обладание специальной дееспособностью зависит как от специальной правоспособности (субъект изначально создается в целях осуществления определенного вида деятельности), так и от наличия специального разрешения (аккредитации, лицензии и т. п.) компетентного государственного органа на осуществление конкретных функциональных полномочий. К примеру, в Конституции России закрепляется положение, в соответствии с которым государство передает часть своих функций органам местного самоуправления и наделяет их в связи с этим соответствующими полномочиями.
В свою очередь само государство также может выступать в качестве самостоятельного субъекта правоотношений.
Объективная невозможность сведения феномена государства к единственному формальному образу обусловливает ряд вопросов, связанных с правосубъектностью государства как коллективного лица:
– если деятельность государства осуществляется конкретными органами, наделенными определенной компетенцией, то насколько возможно говорить о правосубъектности государства как единого коллективного лица?
– с какого момента возникает правоспособность государства?
– каким образом государство реализует свою дееспособность во внутригосударственных и международных отношениях?
Итак, можно ли говорить о правосубъектности государства как целостного коллективного лица. Если говорить о сфере международных отношений, то особых проблем нет. Государство в данном случае выступает как самостоятельное политико-правовое образование – субъект международных отношений, персонификация которого осуществляется за счет территориального и социального обособления, а также ряда внешних атрибутов (государственных символов).
Представление о государстве как о субъекте внутригосударственных отношений сформировать сложнее. В данном случае неприемлем антропоцентрический подход (органическая концепция государства) предполагающий восприятие государства как некоего обособленного политического тела (аналогичного телу биологическому). Как уже отмечалось ранее, государство как субъект представлено умозрительной абстракцией «ГОСУДАРСТВО» и существующими в эмпирической реальности государственными органами, которым ГОСУДАРСТВО делегировало властные полномочия, определенные функциональной компетенцией.
Рассмотрение правосубъектности лица как комплексной категории, включающей право– и дееспособность, актуализирует проблему приобретения и утраты правоспособности ГОСУДАРСТВА. Анализ существующих государственных образований позволяет говорить о том, что приобретение правоспособности государством зависит от двух факторов: факта обретения государственного суверенитета и международного признания. Суверенитет ГОСУДАРСТВА означает верховенство государственной власти в пределах собственной пространственной юрисдикции и независимость в определении и осуществлении внутренней и внешней политики. Институт международного признания предполагает восприятие ГОСУДАРСТВА в качестве равноправного (и равнообязанного) субъекта межгосударственного взаимодействия. В настоящее время существуют так называемые непризнанные государства (Приднестровская Молдавская Республика, Южная Осетия, Абхазия), которые, с одной стороны, обладают всеми внешними атрибутами государства и с определенной оговоркой могут рассматриваться в качестве суверенных социально-политических образований. Однако непризнание этих самопровозглашенных государств другими ГОСУДАРСТВАМИ не позволяет говорить о наличии у них государственной правоспособности.
Дееспособность ГОСУДАРСТВА как субъекта управленческих правоотношений, на наш взгляд, складывается из кратоспособности и деликтоспособности.
Кратоспособность представляет собой качественную сторону государственной деятельности, характеризующую реальную способность ГОСУДАРСТВА осуществлять публичную политическую власть. В основу кратоспособности ГОСУДАРСТВА положены принципы суверенности и легитимности государственной власти.
Деликтоспособность ГОСУДАРСТВА предполагает сочетание принципов индивидуальной и коллективной ответственности. Коллективная ответственность сводится к формам экономической (материальной) и политической ответственности государства как самостоятельного обособленного коллективного лица. Экономическая ответственность ГОСУДАРСТВА осуществляется за счет казны, представляющей собой денежный эквивалент совокупной собственности государства, включающей наряду с финансовыми средствами (бюджет, стабилизационный фонд) исчисляемые в денежных единицах материальные ресурсы государства (земля, внутренние водоемы, недра, леса и т. П.). За счет казны осуществляется ответственность ГОСУДАРСТВА как во внутригосударственной, так и в международной сфере. В пределах государственной территории иски организаций и граждан к конкретным государственным органам, обеспечиваемые за счет государственной казны, фактически являются исками к ГОСУДАРСТВУ. Примерами международной экономической ответственности ГОСУДАРСТВА могут служить контрибуции, налагаемые на ГОСУДАРСТВО, проигравшее военный конфликт, а также обязательства ГОСУДАРСТВА производить выплаты из государственной казны в пользу определенных лиц по решениям органов международного правосудия.
Политическая ответственность может выражаться в применении к ГОСУДАРСТВУ мер, направленных на ограничение его кратоспособности. В частности, по результатам завершения Второй мировой войны подверглась существенному ограничению кратоспособность ряда государств Восточной Европы, включенных в социалистическое содружество и фактически попавших в политическую зависимость от СССР. Причем события, имевшие место в 1960-1970-х годах в Венгрии и Чехословакии свидетельствовали о том, что «патронаж старшего брата» предполагал, в том числе, и применение мер военного вмешательства во внутреннюю политику суверенных ГОСУДАРСТВ. Наглядным примером ограничения кратоспособности ГОСУДАРСТВА являлось также принятие внешнеполитического решения стран-победительниц о разделе единой Германии и создании на ее территории двух самостоятельных ГОСУДАРСТВ: ГДР и ФРГ.
Включение в деликтоспособность ГОСУДАРСТВА индивидуальной ответственности связано с тем, что реальные действия вредоносного характера от имени государства осуществляют конкретные люди. При этом общество (нация), вольно или невольно допустившее этих людей к государственной власти и своим позитивным либо безразличным отношением к принимаемым этой властью противоправным решениям легитимизировавшее их, опосредованно разделяет ответственность за ущерб, причиненный ГОСУДАРСТВОМ другим странам, народам, индивидам. В подобном отношении немецкий народ несет ответственность за злодеяния против человечества, совершенные гитлеровским режимом, а российский народ несет ответственность за злодеяния, совершенные режимом Сталина против собственной нации. Однако говорить о применении мер карательного характера в отношении государства и общества, безусловно, нельзя. В данном случае ответственность за преступления, совершенные ГОСУДАРСТВОМ и от имени ГОСУДАРСТВА, будут нести конкретные индивиды, ответственные за организацию этих преступлений либо принимавшие наиболее активное участие в их осуществлении. Так, Нюрнбергский процесс рассматривался как суд над фашизмом – человеконенавистническим политическим режимом. Вместе с тем, в качестве подсудимых на процессе фигурировали конкретные люди – бывшие руководители нацистской Германии, которым предъявлялись конкретные обвинения и которые, таким образом, несли персональную ответственность за преступления, совершенные ГОСУДАРСТВОМ – фашистской Германией.
При рассмотрении субъектного состава правоотношений возникает вопрос, каким образом соотносятся понятия субъект правоотношения и субъект права?
Безусловно, субъект правоотношения во всех случаях является субъектом права, вместе с тем обратная связь не столь очевидна. Соотношение этих понятий следует рассматривать в трех «плоскостях»: путем сравнения объема дееспособности субъектов; определения возможности самостоятельной реализации ими прав и обязанностей; и, наконец, с точки зрения фактического участия субъектов в конкретных правоотношениях.
Сравнение объема дееспособности субъекта права и субъекта правоотношения позволяет сделать вывод о том, что для субъекта права характерно наличие общей, а для субъекта правоотношения специальной дееспособности. При этом обладание общей дееспособностью выступает в качестве необходимого, но не всегда достаточного условия для вступления в правоотношение. Как уже отмечалось, специальная дееспособность зависит не только от возраста и вменяемости, но и от образования, опыта работы, состояния здоровья и т. п. Таким образом, возникает ситуация, когда являющийся субъектом права, однако не наделенный специальной дееспособностью индивид не может выступать в качестве субъекта конкретного правоотношения. К примеру, лицо, не годное по состоянию здоровья к несению воинской службы, не может выступать в качестве субъекта соответствующих правоотношений.
Анализ соотношения категорий «субъект права» и «субъект правоотношения» с точки зрения принципиальной возможности самостоятельной реализации прав и обязанностей, защиты своих законных интересов и ответственности за правонарушения позволяет утверждать, что субъектом правоотношения может выступать только лицо, обладающее полной дееспособностью, т. е. такой человек, который в состоянии самостоятельно участвовать в соответствующих правоотношениях. Как уже отмечалось ранее, сам термин «полная дееспособность» носит условный характер и должен восприниматься с точки зрения ограничительного толкования. Наличие полной дееспособности в одной отраслевой сфере, может сопровождаться неполной дееспособностью в другой отрасли. К примеру, признание человека полностью дееспособным в гражданском праве не означает приобретения дееспособности в конституционном праве. Получается, что, являясь субъектом гражданского права (и соответственно потенциальным субъектом гражданско-правовых отношений), человек, вместе с тем, не может выступать в качестве субъекта конституционно-правовых отношений (связанных, к примеру, с избирательным правом).
Классификация правовых состояний:
а) по способу установления и юридического закрепления:
– объективные (жизнь, смерть): устанавливаются по факту и предполагают регистрацию того или иного состояния в органах ЗАГС;
– субъективные (виновность, невиновность): предполагают признание факта правового состояния соответствующим решением компетентного органа (должностного лица). Данное решение выносится в порядке административного (судебного) усмотрения и в любом случае является субъективным;
б) по юридической оценке:
– правомерные нормативные (гражданство, дееспособность);
– правомерные девиантные (алкогольное опьянение, усталость);
– противоправные (наркотическая зависимость, членство в преступной организации).
В) по времени:
– постоянные (гражданство);
– временные (нахождение на действительной воинской службе).
Формы правового состояния – с определенной долей условности следует выделить две основных формы правовых состояний:
– состояние подзаконности – совокупность позитивных интересов, возможностей и долженствований предопределяющих законопослушное поведение субъекта;
– состояние противозаконности – совокупность целевых установок, мотивов, возможностей и долженствований предопределяющих противозаконное поведение субъекта.
Правовое взаимодействие – это урегулированное (предусмотренное) правом отношение, связывающее двух и более персонифицированных субъектов, реализующих в рамках данного отношения свои разнонаправленные интересы.
Классификация правовых взаимодействий:
а) по методу правового воздействия:
– субординационные (власти-подчинения);
– координационные (договорные);
б) по юридической оценке:
– правомерные;
– противоправные;
в) по системному критерию:
– внутрисистемные (урегулированные национальным законодательством);
– межсистемные (урегулированные международным правом).
Формы правовых взаимодействий:
– конфликтное взаимодействие: реализация интересов одного субъекта осуществляется за счет ущемления, причинения вреда интересам контрсубъекта (необоснованное ограничение правового статуса личности должностным лицом, совершение преступления против личности и т. П.);
– консенсуальное взаимодействие: реализация разнонаправленных интересов субъектов осуществляется посредством диалога сторон, целью которого является поиск и достижение взаимного компромисса (мировое соглашение, заключение сделок и т. п.).
Юридическое состояние и юридическое взаимодействие являются качественно различными и вместе с тем неразрывно связанными формами правовых отношений (положений) субъектов.
Юридическое состояние – это субъект-объектное отношение с участием единственного персонифицированного субъекта, определяемое внутренними и внешними параметрами его правового положения.
Юридическое взаимодействие – это субъект-субъектное отношение, в рамках которого устанавливается связь между двумя и более субъектами стремящимися реализовать в рамках данного отношения свои разнонаправленные интересы в отношении единого объекта.
«Юридическое состояние» и «юридическое взаимодействие» представляют собой универсальные юридические категории, посредством которых могут быть охарактеризованы любые юридически значимые отношения (как правоотношения, так и правонарушения).
Например, на основании предлагаемых категорий можно создать модель системы преступлений:
– преступления-состояния (хранение оружия, членство в преступной группировке, недоносительство и т. п.);
– преступления-взаимодействия, которые, в свою очередь, подразделяются на:
а) конфликтные (грабеж, разбой и др.);
б) консенсуальные (взятка, торговля наркотиками, проституция и др.)
3. Включение категорий «юридическое состояние» и «юридическое взаимодействие» в понятийный аппарат теоретико-правовой и отраслевой науки в перспективе позволит избежать ряда противоречий, связанных с различным смысловым пониманием одних и тех же терминов (прежде всего термина «правоотношение»).
Существует две конструкции, к которым с той или иной степенью условности могут быть привязаны все формы человеческого поведения: это социальное партнерство и социальный конфликт. В основу партнерства положено соглашение о степени свободы субъектов в отношении противоположной стороны, конфликт есть форма проявления волюнтаризма. В мотивационном аспекте конфликт опирается на принципы одностороннего завладения требуемым дефицитом ресурса и психологическим образом врага в отношении контрсубъекта. Таким образом, партнерство это диалог двух и более свободных субъектов. В свою очередь конфликт – столкновение двух и более враждебных воль. Восприятие противоположной стороны в качестве врага, логически предполагает ее уничтожение. При этом уничтожение может носить как реальный (уничтожение живой силы противника в условиях военного конфликта), так и виртуальный (рейдерский захват имущественных активов) характер.
В условиях устойчивой государственной традиции отношения свободы характерны для относительно стабильных социальных страт, не зависимо от их формально-юридического статуса (в число таких страт входят и государственная бюрократия, и институты гражданского общества, и организованные преступные группировки).
Язык свободы оперирует терминами: толерантность, мультикультурность, интегративность и т. п.
В качестве враждебных в стабильном государстве воспринимаются: во-первых, внешние по отношению к государству и обществу социальные группы, как персонифицированные (Березовский, США, НАТО), так и абстрактные (международный терроризм, Запад); во-вторых, традиционно противопоставляемые социальные страты – правоохранительная система государства – преступные группировки.
Язык враждебности – это прежде всего противопоставление полярностей: добро – зло; свой – чужой; друг – враг; человечность – бесчеловечность и т. п.
Наличие устойчивой государственной традиции предполагает относительную устойчивость как смысловых образов и юридических оценок закрепляемых на языковом уровне, так и субъектов к которым обращен язык свободы и язык вражды.
Кризис государственности и революционные потрясения, приводят к тому, что на всех уровнях социальной организации одновременно происходит утрата основополагающих целевых ориентиров и ценностных детерминант, при помощи которых в недавнем прошлом задавались параметры общественного устройства, правила общежития, модели политико-правового развития. В том случае, когда утрачивают свою значимость исходящие от государства правила, еще вчера казавшиеся незыблемыми, а новых правил государство предложить не может, в обществе начинает происходить «разруха в умах», следствием которой является стирание четкой грани между добром и злом, правом и преступлением, государством и преступным миром[264].
Смешение граней различия между правомерным и преступным поведением является одной из характерных черт политических режимов переходного типа, которые именно в силу своей переходности просто не способны обеспечить стабильности общественных отношений, в том числе отношений связанных с взаимодействием государства и преступного мира.
В обстановке «правового хаоса» сталкиваются две антагонистических политико-правовых системы: традиционного государства, находящегося на стадии распада и «нового» государства вступающего в эпоху становления. При этом то, что раньше считалось преступлением, в условиях «обновленного» мира воспринимается как героизм и наоборот[265]. Кроме того, в условиях, когда перестают действовать традиционные институты уголовного преследования и правосудия их функции передаются вновь организуемым структурам – чрезвычайным комиссиям, трибуналам и т. п., которые в своей деятельности руководствуются не принципом законности, а принципами революционного правосознания и революционной целесообразности. Получается, что в условиях правового хаоса, такие основополагающие понятия как право и преступление наполняются достаточно произвольным смыслом, зависящим в большей степени не от юридической теории и практики, а от политической воли. Таким образом, в ситуации политико-правового хаоса, в юридическом смысле, система государственности функционирует вне легального публично-правового поля определяемого таким комплексным признаком государства как внутренний и внешний суверенитет.
Следовательно, не существует и преступности в ее традиционном формально-юридическом (легалистском) понимании. Сказанное вовсе не исключает наличия в условиях политико-правового хаоса преступности как объективной категории существующей вне государственной воли и независимо от нее, однако данный факт, в формально-юридическом аспекте практически ничего не меняет, т. к. отсутствуют юридические механизмы квалификации и противодействия данной правовой девиации.
3.5. Право, анархия, преступление и государство
Вспоминая известный слоган «анархия – мать порядка», следует добавить: диктатура – его отец. Существует мнение, что анархические движения возникали как реакция на политические режимы, игнорирующие требования маргинальных слоев населения. Во многих учебных пособиях по теории права и государства рассматриваются преимущественно два политических режима: демократический и тоталитарный. Демократия обычно противопоставляется тоталитаризму, в качестве мягкого варианта которого иногда рассматривается авторитаризм. Но Сциллой и Харибдой этого понятийного ряда следует считать анархию (в левой части доски) и тоталитаризм (справа). То, что авторы подразумевают под демократией (наполняя это понятие неодинаковым содержанием) в указанном понятийном ряду должно находиться где-то в середине между анархией и тоталитаризмом. Демократия не может существовать без анархических идей, поскольку демократия – это такой режим политической власти, на который финансово-политические олигархи соглашаются только для того, чтобы отойти вправо, подальше от анархизма.
Книгу “Демократия и тоталитаризм” Раймон Арон писал на материале лекций, прочитанных еще в 1957–1958 гг. в университете Сорбонны, но в 2015 г. его идеи становятся снова актуальными для раскрытия феномена свободы в дискурсе отечественной правовой системы: «в режимах с единовластной партией нет особого понимания свободы, отличного от того, которым пользуются режимы конституционно-плюралистические. Неверно, что смысл слова “свобода” различен по разные стороны “железного занавеса”. Верно только, что до сих пор все свободы никогда не гарантировались одновременно всем гражданам. Каждый теоретик поет хвалу своим взглядам, выделяя то, что дает его режим и в чем отказывает другой. Подобные споры о достоинствах и недостатках режимов понятны и уместны. Возможна ли философская концепция свободы, которая оправдала бы выбор в пользу определенного режима – в частности, режима с единовластной партией? Не думаю. Философы охотно объясняют, что высшая свобода сливается с разумом. Став разумным, человек поднимается над конкретикой и достигает некоей всеобщности. Но, как сказали Кант и Огюст Конт, такое воспитание разума непременно проходит через подчинение труду и закону, и оно обязательно везде и всегда»[266].
Для воздействия на потенциальных тиранов, успешного формирования и отстаивания демократического режима в государстве должны развиваться анархические дискурсы. Только в противопоставлении анархии и тоталитаризма возможно реальное функционирование демократических институтов. “Всякое правительство стремится стать единоличным; таково его первоначальное происхождение, такова его сущность. Будет ли парламент избран с цензовыми ограничениями или посредством всеобщего голосования, будут ли депутаты избираться исключительно рабочими и из среды рабочих, парламент всегда будет искать человека, которому можно было бы передать заботу об управлении и подчиниться. И пока мы будем поручать небольшой группе людей заведовать всеми делами – экономическими, политическими, военными, финасовыми, промышленными и т. д., как это делаем теперь, – эта небольшая группа будет стремиться неминуемо, как отряд в походе, подчиниться единому главе", – эти своевременные и по состоянию на 2015 г. мысли были записаны Петром Алексеевичем Кропоткиным в 1885 г. в период его нахождения во французской тюрьме[267]. Современный анархизм можно рассматривать как силу, призывающую к инфильтрации стагнирующей бюрократической машины в запуганном, избалованном нефтедолларами обществе.
Анархизм – философская концепция, превозносящая статус свободного человека в свободном обществе, выступающая против всех типов принуждения и эксплуатации человека человеком. Анархизм предлагает заменить власть чиновников солидарностью индивидуумов, которые на основе взаимной заинтересованности, взаимопомощи и личной ответственности смогут обеспечить лучший порядок, чем существующий, основанный на рабстве и принуждении.
Идеи анархизма и в XXI в. продолжает будоражить умы населения. Термины анархия и анархизм нередко безосновательно используются в общем синонимическом ряду с хаосом и беспорядком, однако такой подход не соответствует идеям классического анархизма. Среди принципов анархизма следует отметить отсутствие власти и принуждения, солидарность, свободу ассоциаций, равенство и братство (сестринство). Обращаясь к классическому анархизму, его исследователь Поль Эльцбахер рассматривает в качестве главных теории Годвина, Прудона, Штирнера, Бакунина, Кропоткина, Тукера и Толстого[268].
Анархическая философия никогда не была единой, она обогащалась опытом экзистенциализма, сюрреализма, фрейдомарксима и других влиятельных направлений мысли. Современный анархизм “декларирует свои основные ценности и цели – недосягаемые вполне, но всегда манящие, разворачивает огонь своей критики и предлагает конкретные пути и механизмы для продвижения в желательном направлении. Анархизм по своей сути – адогматическое, апофактическое, расчищающее путь мировоззрение, исполненное пафосом свободы и борьбы. Ликвидация опеки над личностью и отчуждения личности во всех его формах – основной постулат анархизма (при этом современный анархизм далек от старых иллюзий о “гарантированности” прогресса и от “финалистических” утопий). Если прогресс вообще возможен, если возможно какое-то благо, то – на путях свободы, а не рабства, опеки и отчуждения – таково анархическое кредо сегодня”[269].
Отношение человека к праву всегда было связано с психологическими драмами: существует искушение злоупотребить субъективным правом и пренебречь обязанностями по отношению к другому. К законам в России никогда не было уважения, их нарушение в известной степени определенными стратами даже одобряется. Конфликт человека и общества трихотомичен: он проявляется через конфликт человека и государства, конфликт человека и закона, конфликт человека и права.
Государство является формой управления обществом на определенной территории. Сущность государства проявляется в насильственном подавлении лиц, препятствующих планам публичной власти. Действующие от имени государства субъекты публичной власти не мотивированы на реализацию интересов большинства населения, поскольку их статус и карьера напрямую не зависят от мнения обычных людей. Можно поставить под сомнение любое исследование так называемого «мнения населения». Социологические исследования, результаты голосований, итоги выборов в силу совокупности причин не могут отразить действительное мнение всех или хотя бы количественного большинства. Зачастую заказчики социологических опросов политического характера (тот, кто платит) принципиально оговаривают предсказуемые результаты. Результаты выборов практически проверить невозможно, опыт показывает, что оспаривание их результатов (независимо от содержательной составляющей) бесперспективно.
У подавляющего большинства населения отсутствует возможность целенаправленно и конструктивно влиять на принятие решений субъектами публичной власти. Нормоприменителями в государстве являются судьи и сотрудники исполнительных органов. Демонстрации, пикеты, митинги, голодовки и иные формы актов отчаяния (бессилия) со стороны населения зачастую пресекаются публичной властью, их организаторы преследуются, становятся фигурантами административных и уголовных дел. Современная пирамида власти любого государства представляет собой замкнутую систему, нуждающуюся в населении преимущественно для формирования бюджета, подтверждения своей легитимности и заполнения штата обслуживающего персонала.
Причина противостояния обычного человека и государства кроится в новой форме отношений социального рабовладения, где собственником благ (денег, жилья, должностей и т. п.) выступает государство, эксплуатирующее человека, предоставляющее ему прожиточный минимум только в случае соблюдения установленного характера взаимоотношений. Постиндустриальное государство представляет известную опасность для законопослушного населения, поскольку субъекты власти, наделенные практически неограниченными полномочиями, не считают себя связанными нормами, изданными для населения. Это приводит к неустранимому конфликту между государством (пирамидой субъектов публичной власти) и обычным человеком.
Закон есть требование публичной власти к населению. Конфликт человека и закона проявляется в том, что человек не в состоянии повлиять ни на процесс создания текста закона (поскольку текст создается специальным органом без участия обычного человека), ни на легальное толкование этого текста в правоприменительной практике (поскольку толкование осуществляют субъекты публичной власти, отстраненные от обычного человека: исполнительные органы и суды, действующие в пользу публичной власти). Вышеизложенное убеждение не опровергается теорией так называемой представительной демократии, согласно которой население избирает своих представителей, представители постулируют закон, а исполнительные органы и суды применяют этот закон в интересах населения. Ни в одном из почти двухсот земных государств такая последовательность не действует. Идея представительной демократии, теоретическая возможность защитить себя при помощи закона от произвола государства не находит практического подтверждения в жизни обычного человека. Факты и закономерности взаимодействия человека с субъектами публичной власти в XXI веке с неизбежностью свидетельствуют о тотальной независимости публичной власти от населения государства.
Право не является продуктом исключительно государства и не совпадает с законом, являющимся важным, но только одним из нескольких источников права. Право есть способ и результат взаимодействия людей, порождающего субъективные права и обязанности. Правоотношения суть взаимодействия людей по поводу их субъективных прав и обязанностей. Именно в выборе субъектов и содержания правоотношений человек может найти коммуникационные возможности (социальную страту), соответствующие его представлению о надлежащем праве. Многие сделки даже в современном мире осуществляются «на честном слове», договоры скрепляются рукопожатием. Разветвленная система регламентации частной жизни граждан (в том числе предпринимательской деятельности) не приводит с неизбежностью к защите людей друг от друга и от государства.
Право – это система норм, в формировании которой население принимает активное участие. Можно сказать, что право имманентно культуре соответствующего этноса. Государство как иерархия публичной власти находится в руках тех, кто формулирует, интерпретирует и применяет нормы-приказы. Конфликт изданной субъектом публичной власти нормы-приказа и субъективного права обычного человека на первый взгляд вполне предрешен, – обычный человек уступит или будет сметен «отрядами вооруженных людей». Но в практической жизнедеятельности жернова правосудия могут давать сбой и случаются казусы фрагментарного торжества нормативной системы обычного человека над императивом публичной власти.
Обычный человек при формулировании «личного правила» выявляет наиболее понятный и близкий его мировосприятию источник права, в дальнейшем преимущественно ориентируясь на него. Обыденное правопонимание не оперирует научными категориями государства, закона, права, закономерностями их возникновения и функционирования. Понимание этих феноменов сводится к личным представлениям о существующем и желаемом. Напряженность и внутренний конфликт трихотомии государство-закон-право может быть скрыт от людей, не занимающихся специальными исследованиями. Несовершенство и субъективизм человека в познании общественных закономерностей не снимается систематическим и фундаментальным образованием. Проблема скорее заключается в разнообразии подходов к пониманию означенных феноменов. Представления одних людей о праве, применении закона и функционировании государства подчас не находят единства с представлениями других людей. «Нет истины более несомненной, более независимой от всех других, менее нуждающихся в доказательствах, чем та, что все существующее для познания, то есть весь этот мир, является только объектом по отношению к субъекту, созерцанием для созерцающего, короче говоря, представлением. Естественно, это относится и к настоящему, и ко всякому прошлому, и ко всякому будущему, относится и к самому отдаленному, и к близкому: ибо это распространяется на самое время и пространство, в которых только и находятся все эти различия. Все, что принадлежит миру, неизбежно отмечено печатью этой обусловленности субъектом и существует только для субъекта. Мир есть представление»[270].
Проблемы неодинакового правопонимания делают невозможным единство индивидуальных нормативных систем. Иллюзорность и синкретичность окружающего мира, энтропия социального хаоса катализируют склонность человека к выработке максимально простых и ясных правил для ускоренного достижения желаемого блага. Многовековой опыт человечества наглядно демонстрирует самые доступные способы получения всего и сразу – это преступление, точнее, его ближайшие результаты. Можно предположить, что большая часть богатств мира сконцентрирована не в руках хлеборобов, медсестер и школьных учителей. Тайны первоначального накопления капиталов будоражат умы человечества: какими способами в России несколько десятков человек за пару десятилетий прибрали к рукам все основные отрасли промышленности. Волшебные превращения так называемой «приватизации» иллюстрируют неодинаковые правовые статусы у личностей, неравно приближенных к механизму распределения государственной собственности. Ночные правила городских окраин во всех государствах отличаются от устава частного колледжа. Можно ли осуждать подростка из пригородной уличной банды за то, что его индивидуальная нормативная система не совпадает с правопониманием стажера нотариуса?
Цели, мотивы, установки людей не изменились за тысячелетия, гедонистический лозунг «хлеба и зрелищ» сегодня не менее актуален: человеку по-прежнему необходимо есть и пить, удовлетворять сексуальные стремления, пользоваться жилищами и транспортными средствами, оберегать детей и быть защищенным в старости. Каждый человек – гедонист по своей натуре, даже если он не осознает или не признает этого. Современное общество потребления возбуждает потребительские желания, навязывает увеличивающиеся и усложняющиеся блага, заманивая гипертрофированными образами роскошной жизни: дворцами, бриллиантами, мощными автомобилями, яхтами и т. д. В это же время для большей части населения земного шара невозможно не только получение рекламируемых предметов роскоши, но даже удовлетворение базовых потребностей в пище, одежде, жилье, лекарствах, образовании.
С одной стороны, обычные люди умирают от голода, холода, болезней, отсутствия лекарств. С другой стороны, специальные субъекты демонстрируют личные самолеты, усадьбы, яхты и т. п. Растущее в геометрической прогрессии социальное расслоение общества, исчезновение так называемых социальных лифтов способствует криминализации и анархизации молодежи. У пришедшего в этот дивный мир для радости и наслаждений молодого человека в какой-то момент может сложиться впечатление, что все блага уже захвачены группами политико-финансовых олигархов, а его будущая жизнь укладывается исключительно в схему рабовладельческих отношений. Феномен социальной справедливости не может найти своего реального воплощения для многих людей. Во всех вариантах правопорядков именно такой упрощенный взгляд на функционирование общества формирует социальную базу для рекрутирования в группы нарушителей закона и анархистов. Ошибки государственного управления и недостатки первичного образования катализируют недовольство субъекта имеющимся у него минимумом благ, формирует социальную базу преступности и анархизма.
Преступность становится своего рода вечным двигателем – частью жизненного механизма цивилизации, демонстрирующего человечеству грани дозволенного. Жернова правосудия перемалывают человеческие судьбы, но на смену ушедшим в тюрьму в строй встают очередные добровольцы. Человек становится биороботом конвейера преступности, занимает уготовленное место, быстро «прожигает» часть своей жизни, затем его заменяют другим элементом из «дышащей в затылок поросли». Преступников репродуцирует общество, нуждающееся в них, чтобы иметь перед собой образцы неповиновения. Миф о Робин Гуде, грабящем богатых и помогающем бедным, во все времена будет современным. Воровская идея вносит коррекцию в распределение благ, налогоплательщики платят деньги государству, часть бюджетных денег через коррупционные составляющие поступает на содержание преступных сообществ. «Как мы видим, речь действительно идет о замещении криминалом важнейших функций, подлежащих ведению государства и гражданского общества. Последствия такого замещения не просто тревожны, они ужасны»[271]. В бюджетах государств растут статьи расходов на борьбу с преступностью (включая борьбу с терроризмом, экстремизмом, внешними врагами) и содержание тюремной индустрии.
Защита жизней, здоровья и собственности граждан должны рассматриваться как обязанность со стороны государств, но XXI век предлагает другую парадигму: защити себя сам! Тенденция неоспорима – доверие населения к судам, административной и правоохранительной системе стремительно падает во всем мире. Государства больше не гарантируют гражданам безопасность. «В самом деле, государство, не способное защитить своих граждан от массового насилия со стороны бандитов и коррупционеров, этой неспособностью обрекает себя на деградацию»[272]. Критиками государственного принуждения выдвигается концепция ограничения роли государства, замены его насилия на разнообразные формы социального контроля. Между тем, ослабление государственного контроля никогда не приводило и не приведет к удовлетворению потребностей общества в необходимых ему благах, не уменьшит количество преступлений и не изменит человеческую сущность. Никто, кроме государства, не вправе и не в состоянии императивно воздействовать на преступность: использовать деньги общества, людей, оружие, определять виновных лиц, лишать их свободы и жизни. «Только государства и одни государства способны объединить и целесообразно разместить силы обеспечения порядка. Эти силы необходимы, чтобы обеспечить правление закона внутри страны и сохранить международный порядок»[273]. Нарастание противоречий на земном шаре уже отражается в усилении тоталитарных функций почти всех государств. XXI век может стать эпохой развития государственного (социального) рабовладения, хотя сегодня это может звучать непривычно на фоне рассуждений о развитии демократии.
Для многих преступление становится единственным способом снятия конфликта между целями, к которым общество побуждает своих членов (богатство, роскошь, известность), и отсутствием легальных возможностей достижения этих целей. В любом обществе существуют только формальное равенство возможностей, лишь усиливающее фактическое неравенство. В условиях конфликта между объявленными целями и средствами их достижения преступление оказывается внятным, действенным способом преодоления фактического неравенства. В мире, где уже все распределено на десятилетия вперед, где кнопка управления социальными лифтами находится у субъектов публичной власти, обычный человек выбирает путь нарушений закона, в том числе по причине предполагаемой (прокламируемой в его страте) невозможности добиться реализации своих социально-экономических целей в рамках законоодобряемой структуры средств. Переход на незаконные (но правовые с его точки зрения) методы добычи благ рассматривается им как обоснованная корректива социальной несправедливости, как мятеж против существующего нормопорядка, в рамках которого он не в состоянии получить для себя то (причитающееся), что ему обещает / навязывает насыщенное благами преступное общество.
Возникшая в середине XX в. школа социальной защиты признала понятие «опасного состояния» наряду с «привычными преступниками» и «аномальными преступниками»[274], выработала меры ресоциализации преступника. Согласно этому гуманистическому движению в уголовной политике средства борьбы с преступностью должны рассматриваться как инструменты защиты общества, а не наказания индивида. Уголовная политика на основе социальной защиты должна ориентироваться в большей степени на индивидуальное, чем на общее предупреждение преступности, большее значение следует уделять ресоциализации правонарушителя, нежели его изоляции от общества. Гуманизация уголовного законодательства предполагает восстановление у правонарушителя чувства уверенности в себе, осознание его включенности в социум. Что можно сделать для развития у человека ответственности перед окружающими его людьми, для корреляции его «личного правила» с общественными ценностями? Может быть, иначе подойти к осмыслению явления преступности и личности правонарушителя. Представители школы социальной защиты считают, что наказание как кара должно быть исключено из системы мер воздействия, так как перевоспитание и социализация правонарушителя более эффективны для защиты общества, чем кара и возмездие.
Человек является элементом социальной системы, ориентированной на жизнь в условиях противостояния добра и зла. Государство периода глобализации не может продемонстрировать обычному человеку примеры добра по отношению к нему. Субъекты публичной власти неспособны научить гражданина хорошему поведению, гражданское общество и оппозиция не в состоянии сформировать эффективную структуру. Теоретический оптимизм романтиков прошлого века опровергается фактами жизни, предлагающими пессимистические прогнозы: «… государство превратится из криминализированного в криминальное… граждане наши тогда поделятся на хищников, вольготно чувствующих себя в криминальных джунглях, и «недочеловеков», понимающих, что они просто пища для этих хищников. Хищники будут составлять меньшинство, «ходячие бифштексы» – большинство. Пропасть между большинством и меньшинством будет постоянно нарастать. По одну сторону будет накапливаться агрессия и презрение к «лузерам», которых «должно резать или стричь». По другую сторону – ужас и гнев несчастных, которые, отчаявшись, станут мечтать вовсе не о демократии, а о железной диктатуре, способной предложить хоть какую-то альтернативу криминальным джунглям. Об этой диктатуре станут мечтать как о высшем благе»[275]. Удивительно, но эта и несколько предыдущих цитат принадлежат Председателю Конституционного суда Российской Федерации, профессору, доктору юридических наук, Заслуженному юристу Российской Федерации Валерию Дмитриевичу Зорькину.
В период социалистической государственности анархическим идеям не было практического места, но наступивший четверть века назад постсоциалистический капитализм с гегемонией финасово-политических олигархов и спецслужб создает условия для трансформации анархизма постмодерна в новое революционно-освободительное движение. «Нет больше ни Дионисия, ни Наполеона, ни Гитлера: политическая история бытия сворачивается к оглушенному состоянию, а мышление теряет линию внешнего в себе самом – в таком мире террор отправляет не родовспомогательную, а, напротив, чисто абортивную функцию (работая по принципу сломанного винта: отрицание не открывает возможности, но, напротив, неумолимо отбрасывает дискурс к началу)»[276], – говорит современный петербургский философ Николай Грякалов, напоминая нам об исчезновении революционной монополии на террор, о конституировании немыслимых и неописуемых сообществ, для которых «принцип рулетки» коэкстенсивен существованию, о том, что «после поражения СССР в 3-й мировой мы вступили в череду бесшумных войн – карательных акций мирового гегемона. Персидский залив, Сербия, Афганистан, Ирак – все это войны с нулевым приростом содержания (коль скоро их исход изначально предрешен). Сверхсильная репродукция одного и того же здесь неотличима от глубочайшей тишины – полной самотождественности исторического содержания»[277].
Убаюканные центральными телевизионными каналами россияне могут продолжать спать спокойно, но опыт борьбы за свободу, полученный анархистом-коммунистом Нестором Ивановичем Махно, сегодня оказывается весьма актуален на некоторых территориях распавшегося Советского Союза. Публичная власть скрывает от населения как стратегию своих действий на Украине, так и условия соглашения о мире в кавказском регионе. Эти вопросы относятся к праву населения на достоверную информацию о политической доктрине правителя и прямо влияют на все формы юридической и материальной свободы. Россия вступила в период непредсказуемых для ординарного человека политических действий публичной власти. Помните, анархия – мать порядка, но диктатура – его отец! Мы знаем одно великое государство, не без участия которого сложились благоприятные условия для интенсивного развития «Исламского государства Ирака и Леванта» («ИГИЛ»), представляющего собой «полуреальное квазигосударство» с шариатской формой правления, вытеснившее Аль-Каиду с позиций врага США № 1[278].
Это современное анархическое государственное образование “поддерживает традиционный ислам, истребляют курдских суфистов, а также верующих авраамических религий, что ислам запрещает и что, по их заявлениям, обычно осуждают даже радикальные салафиты. Выступая за равенство и эмансипацию своих женщин, создавая из них ударные боевые части, ИГИЛ официально восстановило рабство женщин иноверцев и своих противников и торговлю рабынями. Привлекают высокообразованных людей разного происхождения со всего мира, даже министр финансов – коренной австралиец. В подконтрольных территориях боевики ИГИЛ проводят идеологическую подготовку уже у детей, устраивая тренировки на пленных, где дети учатся убивать. Каждый месяц, по данным американских спецслужб, к организации присоединяется не менее 1000 иностранных добровольцев, помимо мобилизации населения в Ираке и Сирии, а общее число иностранцев – не менее 16 тысяч. На стороне организации в Сирии и Ираке действуют добровольцы из 80 стран мира, в том числе, Франции, США, Канады, Марокко, Германии, России. По словам беглого бывшего исламиста в каждой западной стране есть крупные подпольные группы ИГИЛ, цель которых заключается в дестабилизации обстановки в европейских странах и организации серии терактов, если будет приказ. Целью организации являются ликвидация границ, установленных в результате раздела Османского халифата, и создание исламского ортодоксального суннитского государства как минимум на территории Ирака и Шама (Леванта) – Сирии, Ливана, Израиля, Палестины, Иордании, Турции, Кипра, Египта (минимум Синайский полуостров), как максимум – во всём исламском мире и во всём мире”[279].
Характеризуя философию анархизма, П.И. Новгородцев отмечал: «Пафос анархизма и его стихия есть свобода, но свобода не как принцип индивидуального обособления, а как основа разумного и совершенного общения»[280]. В книге «Взаимопомощь как фактор эволюции» Петр Кропоткин подчеркивает, что склонность людей к взаимной помощи имеет такое отдаленное происхождение, и она так глубоко переплетена со всею прошлой эволюцией человеческого рода, что люди сохранили ее вплоть до настоящего времени, несмотря на все превратности истории[281]. Государства же, «как на континенте, так и на Британских островах, систематически уничтожали все учреждения, в которых до того находило себе выражение стремление людей ко взаимной поддержке. Деревенские общины были лишены права мирских сходов, собственного суда и независимой администрации; принадлежащие им земли были конфискованы. У гильдий были отняты их имущества и вольности, они были подчинены контролю государственных чиновников и отданы на произвол их прихотей и взяточничества… Государственный чиновник захватил в свои руки каждое звено того, что раньше составляло органическое целое. Политическое образование, наука и право были подчинены идее государственной централизации. В университетах и школах стали учить, что. государство – единственный пристойный инициатор дальнейшего развития. что в пределах государства не должно быть никаких отдельных союзов между гражданами, кроме тех, которые установлены государством и подчинены ему; что для рабочих, осмеливавшихся вступать в «коалиции», единственное подходящее наказание – каторга и смерть»[282].
Несмотря на то, что эти рассуждения опубликованы в 1902 г., проблематика остается актуальной по настоящее время. Спор о путях реализации предусмотренного ст. 31 Конституции РФ права на собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования летом 2014 г. решен кардинальным образом. Все, кто не заручился поддержкой субъектов публичной власти, теперь не отделаются административным наказанием, а могут пойти отбывать наказание в места лишения свободы. Это, конечно, демократичнее, чем каторга и смерть, но отбывать пять лет на нарах в колонии общего режима Федеральной службы исполнения наказаний желающих мало. Заметно, как из отечественного медиапространства и с улиц исчезают критические дискурсы, предоставляя место восхвалению очередных успехов «партии и правительства». Очевидно, что критиковать действия публичной власти в начале XXI в. не менее опасно, чем в начале «XIX” в. За нарушение “установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние совершено неоднократно” вновь введенная статья 212.1 УК РФ[283] наказывает, в том числе, принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
В заключении к книге «Великая французская революция 1789–1793» П.А. Кропоткин отметил, что любой народ, вступающий в период революций, «уже получит в наследие то, что наши прадеды совершили во Франции. Кровь, пролитая ими, была пролита для всего человечества. Страдания, перенесенные ими, они перенесли для всех наций и народов. Их жестокие междоусобные войны, идеи, пущенные ими в обращение, и сами столкновения этих идей – все это составляет достояние всего человечества. Все это принесло свои плоды и принесет еще много других, еще лучших плодов и откроет человечеству широкие горизонты, на которых вдали будут светиться как маяк, все те же слова: «Свобода, Равенство и Братство»[284].
3.6. Право солидарности
Если вся культура представляет собой систему инструментов для жизнеобеспечения и удовлетворения базовых потребностей человека, то ее исходной и первичной задачей становится создание общей среды обитания, в которой было бы возможным сосуществование людей. Такая среда вовсе не является чем-то само собой разумеющимся, она требует постоянно возобновляемых коллективных усилий, и все остальные культурные механизмы функционируют лишь при том условии, что уже существует и поддерживается это пространство, свободное от бесконтрольного насилия.
Данте Алигьери писал в своем трактате «Монархия»: «дело, свойственное всему человеческому роду, взятому в целом, заключается в том, чтобы переводить всегда в акт всю потенцию «возможного интеллекта», прежде всего ради познания, и, во-вторых, расширяя область познания, применять его на практике. И поскольку в целом происходит то же, что и в части, и поскольку случается, что в отдельном человеке, когда он сидит и пребывает в покое, благоразумие и мудрость его совершенствуются, очевидно, что и род человеческий, будучи в состоянии покоя и ничем не возмутимого мира, обладает наибольшей свободой и легкостью совершать свойственное ему дело… Из того, что было разъяснено, становится очевидным, с помощью чего род человеческий лучше, или, вернее, лучше всего другого достигает того, что ему собственно надлежит делать. А следовательно было найдено и наиболее подходящее средство, которое приводит к тому, с чем все наши дела сообразуются, как со своею последнею целью, – всеобщий мир»[285].
Мирное состояние требует известной согласованности, равновесия, единения в поступках и побуждениях. Разумеется, мир в рамках человеческого сообщества не является абсолютным, он имеет свои уровни и пороги, однако в целом он считается всеми нормальным и естественным, принимается в качестве отправной точки для любых оценок и планов. Обратное состояние, связанное с отсутствием этой минимальной умиротворенности и построенное на всеобщей открытой враждебности, знакомо современному человеку лишь фрагментарно; оно актуализируется во всевозможных экстремальных социальных ситуациях (стихийные бедствия, революционные события, войны и т. п.), когда ослабевает действие привычных социальных механизмов. Однако Т. Гоббс, описывая этот режим вражды, именно ему присваивает титул «естественное состояние», причем оно даже не может считаться обществом в собственном смысле слова: «все, что характерно для времени войны, когда каждый является врагом каждого, характерно также для того времени, когда люди живут без всякой другой гарантии безопасности, кроме той, которую им дают их собственная физическая сила и изобретательность. В таком состоянии нет места для трудолюбия, так как никому не гарантированы плоды его труда, и потому нет земледелия, судоходства, морской торговли, удобных зданий, нет средств движения и передвижения вещей, требующих большой силы, нет знания земной поверхности, исчисления времени, ремесла, литературы, нет общества, а, что хуже всего, есть вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти, и жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна»[286].
Современные исследователи не отвергают этой гипотезы, хотя и описывают соответствующее положение дел в несколько иных терминах – например, в качестве «жертвенного кризиса». Согласно концепции Р. Жирара, вся система культурных механизмов предназначена главным образом для того, чтобы предотвратить наступление жертвенного кризиса, при котором вырывается наружу и распространяется тотальное беспорядочное насилие: «Стоит стереться жертвенному различию, различию между чистым и нечистым, как вслед за ним стираются и все прочие различия. Перед нами единый процесс победоносного шествия взаимного насилия»[287].
В условиях распада социальной целостности, неизбежно сопровождаемого вспышкой насилия, гибнут все культурные ценности и достижения. Поэтому поддержание мира и единства оказывается наиболее важной, хотя зачастую и скрытой, миссией культуры. Угроза единству должна распознаваться как наиболее страшная и устраняться любой ценой.
Погашение агрессии или хотя бы ее снижение до социально допустимого уровня возможно лишь при условии, что все члены данного сообщества подчиняются некоторым общим образцам поведения. Разумеется, речь идет не о полном совпадении их представлений о должном и сущем, а всего лишь о наличии солидарности, то есть единого смыслового контекста, в котором протекает совместная деятельность.
Солидарность представляет собой такое качество социальной коммуникации, при котором ее участники и сознательно или интуитивно разделяют некоторые установки, стандарты поведения и коллективные ценности в той мере, в какой это позволяет им действовать сообща.
Общность поведенческих установок не обязательно означает, что эти установки совпадают – важно, чтобы они сочетались между собой, дополняли друг друга и могли связываться в целостность. Кроме того, солидарность не препятствует внутреннему делению целого на части; собственно, само наличие частей (например, отдельных социальных институтов) возможно лишь постольку, поскольку существует целое, и, следовательно, процесс интеграции (солидаризации) первичен по отношению к дифференциации и индивидуализации[288].
Связь права и солидарности в наиболее открытой форме была намечена в рамках научного направления, получившего соответствующее наименование: «теория правового солидаризма». Крупнейший представитель этой школы Л. Дюги писал: «В солидарности я вижу… факт взаимозависимости, соединяющей друг с другом в силу общности потребностей и разделения труда членов одной и той же социальной группы»[289]. Обеспечение солидарности, согласно Дюги, является основным юридическим императивом, единственной непреложной социальной нормой, по отношению к которой все законы и обычаи носят лишь подчиненный характер. Поэтому «никто не имеет в социальном мире другого полномочия, кроме выполнения задачи, возлагаемой на него социальной нормой…»[290]. На этом основании теория солидаризма в версии Л. Дюги отрицает, в частности, существование такого явления, как субъективные права, усматривая в них попытку противопоставить индивидуальную волю общественной необходимости, что не согласуется с принципами солидарности[291].
Теория солидаризма завоевала неоднозначную репутацию из-за своих крайностей, выразившихся в отрицании субъективных прав и признании их «социальными функциями», что можно рассматривать как реакцию против индивидуалистических представлений о праве. Вместе с тем солидаристский потенциал действительно является объективным свойством права, вытекающим из его происхождения и природы.
Объединение людей в устойчивое сообщество требует надежных механизмов, которые действовали бы с достаточно высокой степенью автономии, без опоры на индивидуальное целеполагание, которое не обладает необходимой долговечностью, подвержено колебаниям и не может удерживать в стабильном состоянии многочисленные коллективы. Индивидуальная воля должна автоматически подчиняться некоторому фактору, который по отношению к ней является объективным, в противном случае единство и мир станут недостижимыми. Наиболее распространенным вариантом решения этой проблемы является фетишизм, который отнюдь не сводится к архаичным формам верования, а представляет собой универсальный способ социальной организации.
Социальные связи и коммуникации, которые образуют живую плоть любого человеческого сообщества, в основном являются сложными, невидимыми и неосязаемыми, а потому недостаточно устойчивыми. Фетиш – это особый предмет, который обозначает собой систему социальных отношений, репрезентирует их, то есть делает наглядными для всех членов данного сообщества. В некотором смысле фетиш даже отождествляется с этими отношениями, которые благодаря ему уже не воспринимаются как нечто разрозненное, эфемерное, а обретают конкретную форму и очертания.
В родовой культуре члены общества объединены прежде всего наличием общего предка, поэтому фетишем становится то, что напоминает об этом предке (культурном герое) и в силу подобия замещает его, так что он фактически участвует в жизни рода на всем ее протяжении и своим присутствием поддерживает социальное единство. Вокруг фетиша (тотемного животного, столба и т. п.) выстраивается ритуально-мифологический комплекс, подчиняющий себе все совместное существование людей. При этом «в культуре, ориентированной преимущественно на ритуал, отсутствовала однородная семиотическая система, специально предназначенная для фиксации, хранения и переработки информации. О такой системе можно говорить лишь с широким распространением письменности»[292].
В усложняющемся обществе возникают новые объединяющие механизмы, которые дополняют и подкрепляют друг друга; усиливающийся риск распада компенсируется множественностью «страховочных узлов». Религия продолжает ритуально-мифологическую линию социальной интеграции, обогащая ее усложненным церемониалом, иерархией предметов поклонения, внешней атрибутикой, корпусом священных текстов и т. п. На определенном этапе истории фетишем социального устройства становится человеческая личность. Фигура монарха часто является воплощением социального порядка, мира, целостности государства, политического единства и народного согласия. Монарх непременно наделяется сверхъестественными качествами, отражающими его непосредственную связь с высшими силами («Сын Неба», «помазанник Божий»). Так, в странах средневековой Европы короли обладают магическими способностями, в частности, имеют дар исцелять некоторые болезни наложением рук (эта черта используется в том числе для легитимации их власти)[293]. Своей внешностью король также должен отличаться от подданных, этому служат не только искусственные атрибуты власти, но и естественные, природные отметины на его теле[294].
Появление и развитие письменности знаменует собой формирование новых способов интеграции. «Письмо и знание, письмо и управление, письмо и власть идут нераздельно рука об руку»[295]. Социально значимая информация, образующая каркас человеческого сообщества и гарантирующая его сохранение в качестве единого целого, существовала ранее в виде устной речи, ритуально-телесных практик или изображений. Письменность выступает в качестве нового носителя коллективной памяти, перекодированной в систему однотипных знаков и благодаря этому свободно передаваемой во времени и пространстве практически без ограничений и смысловых потерь.
Письменный текст со временем берет на себя функцию основного социокультурного интегратора, главным образом благодаря созданию новых, технически более совершенных форм его воспроизводства. Устойчивость и целостность общества обеспечивается, по существу, магическим путем – изготовлением двойника, дублирующего в миниатюре социальную систему и принимающего на себя все риски, связанные с ее функционированием. Широко известна концепция «двух тел короля» в средневековой политической и правовой мысли, в соответствии с которой у короля как носителя сакральной власти имеются два тела, он как бы един в двух лицах: король как личность и король как носитель власти, олицетворение сообщества, своего государства, как «гарант» стабильности и благополучия. Одно время бытовала такая практика, когда после смерти короля изготавливался его двойник в натуральную величину – кукла, которая прибивалась к крышке гроба и подвергалась захоронению вместе с умершим.
С появлением книгопечатания возникает возможность тиражировать, фиксировать, хранить образцы поведения практически без количественных ограничений. С этим событием совпадают некоторые другие явления, связанные с «юридической магией». В первую очередь, отмирает обычай «двух тел короля» одновременно с обязанностью короля лично участвовать в боевых действиях, что в свое время произвело скандальный эффект, потому что считалось невозможным, чтобы армия сражалась не под командованием монарха. Одновременно с этим набирает силу королевское право как новый монопольный вид права, объединивший разрозненные доселе потоки правовой информации (как известно, в Средневековье существовало три основных потока – обычное право, церковное право и римское право, которые функционировали как бы автономно друг от друга и в иерархическую структуру выстроены не были). Именно благодаря книгопечатанию королевская власть обретает возможность значительно усилиться за счет использования этой юридической магии, которая по-прежнему эффективно подчиняет себе деятельность человека.
Общей тенденцией этого периода, по мнению исследователей, является дистанцирование[296]. Власть уже не находится в гуще событий, а как бы вынесена за скобки; король уже физически не присутствует в народе, он изолирован, находится в особой резервации. Дистанцируется также юридическое воздействие; центр, откуда исходит юридическая информация, может располагаться за тысячи миль от места ее получения.
Правовая форма была успешно освоена не только светской, но и религиозной властью. В рамках иудаизма юридическое начало практически полностью совпадает с сакральным, Тора одновременно является и священной книгой, и основным источником права.
«Закон» в иудейском смысле, как непререкаемое вероучение, обладает всеми качествами закона в юридическом смысле, так как он изложен в письменном виде и подкрепляется авторитетом власти. Жесточайшая канонизация текста Завета (Торы) представляет собой особую технику сохранения коллективной памяти и основанной на ней идентичности, «вмешательство в традицию, которое подвергает находящуюся в постоянном течении полноту традиции строгому отбору, прочно утверждает и сакрализует отобранное, т. е. интенсифицирует его до высшей, непреложной обязательности и раз и навсегда останавливает поток традиции»[297].
Христианство тонко улавливает амбивалентную природу закона, который, с одной стороны, обеспечивает минимально необходимый уровень порядка и согласия в обществе за счет подчинения всех людей единому стандарту, а с другой стороны, неизбежно основывается на приказе, насилии и неравенстве. Хорошо известны слова апостола Павла: «закон производит гнев, потому что, где нет закона, нет и преступления»; «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление»; «ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить (Богу) в обновлении духа, а не по ветхой букве»; «я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер; и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти» (Рим. 4:15; 5:20; 7:6, 9-10). «Трагедия закона, – резюмирует Б.П. Вышеславцев, – заключается в том, что он достигает прямо противоположного тому, к чему он стремится: обещает оправдание, а дает осуждение («нет праведного ни одного»); ищет мира, а дает гнев; требует соблюдения, а вызывает нарушение («Проповедуя не красть, крадешь? Говоря: «не прелюбодействуй», прелюбодействуешь? Гнушаясь идолов, святотатствуешь?» Рим. 2:22); наконец – обещает славу, а дает бесчестье («хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога?» Рим. 2:23)»[298].
Тем не менее христианская церковь сделала решительный выбор в пользу закона, евангельские сомнения по поводу его приемлемости были отброшены, и все христианские конфессии были иерархически выстроены на юридической основе.
Согласно К. Шмитту, именно высокая степень «юридизации», тяготение к правовым формам выступает одним из главнейших качеств католической церкви, которая благодаря этому смогла выстоять и окрепнуть: «Ц – тоже «юридическое лицо»… Что она есть носительница юридического духа самого большого стиля и подлинная наследница римской юриспруденции – это должен был признать за ней всякий, кто знал ее. В ее способности к юридической форме – одна из ее социологических тайн»[299].
Закон, в самом широком смысле этого слова, способен быть фетишем и выполнять в обществе интегрирующую функцию именно в силу своей формы, а не содержания. «К социальным фетишам можно отнести не только вещи, но и слова, например, этнонимы (имя группы является надежным и весьма эффективным ее заместителем), а также «соционимы» (род, клан, племя, народ, нация, этнос, человечество)»[300]. В этом смысле уникальная интегративная способность закона, очевидно, определяется тем, что он в качестве фетиша сочетает в себе слово и вещь, идеальное и материальное, будь то скрижали с заповедями Моисея, свиток, книга с напечатанным текстом или экран компьютерного монитора. Интересно, что в некоторых случаях предметный носитель даже обладает самостоятельной силой и может обходиться без текста: «Грамота служила символом. Поэтому она вообще могла не содержать текста, и такие cartae sine litteris нередко применялись. Государь, желавший добиться повиновения подданных или передать им свой приказ, мог послать им простой кусок пергамента или печать без грамоты, – этого символа его власти было достаточно»[301]. Материализация идеи в звуке или даже действии является относительно эфемерной, недолговечной, требует постоянного повторения и подтверждения. Напротив, «буква закона» обладает одновременно и прочной вещественностью, и одухотворенностью, что позволяет ей стать символом коллективного единства и предметом своеобразного поклонения.
Нормативные письменные тексты представляют собой активное и вместе с тем относительно стабильное ядро правовой реальности, вокруг которого образуется специфическая среда. Это достигается главным образом благодаря особому построению самого текста.
Документальная форма права обеспечивает единство социально-нормативного поля, «маркируя» собой те предписания и дозволения, которые в рамках данного сообщества не нуждаются в дополнительном обосновании своей значимости. Иными словами, авторитет нормы гарантируется местом («источником») ее нахождения или, точнее, способом внешнего оформления. Это придает правовой системе необходимую внутреннюю гибкость и динамизм при сохранении общих параметров ее конструкции в неизменном виде. Даже в самых децентрализованных системах права формальные стандарты законности непременно остаются едиными, что достигается, в частности, благодаря существованию конституций.
Определяемые юридическими текстами процедурные формы, а также визуальная юридическая атрибутика (флаг, герб, униформа и др.) зрительно укрепляют единство социальной системы, поскольку являются общими для различных частей социума, в том числе значительно удаленных друг от друга в пространстве и времени.
Сам язык закона построен так, чтобы создавать единую социальную среду, отличительным свойством которой является практически полное отсутствие эмоций, что далеко не случайно: эмоции представляют собой нечто потенциально опасное, могущее привести к столкновениям, вывести коллектив из баланса, нарушить его мирное состояние. Эмоции необходимо держать под контролем, а для этого требуется искусственно созданное пространство, лишенное роковых страстей.
Кроме того, право – это еще и принудительный текст, властно изменяющий поведение людей. Но эта его способность («регулировать общественные отношения») не носит прямого характера, а осуществляется через сознание, которое и выступает непосредственным объектом правового воздействия. Одним из способов такого внушения является, например, особая ритмическая модель построения юридического текста, основанная на повторении одних и тех же стилистических конструкций.
Например, текст Салической правды практически полностью выстроен с использованием сложных предложений по модели «если – то»: «§ 1. Если кто будет вызван на суд по законам короля, и не явится, присуждается к уплате 600 ден., что составляет 15 сол. § 2. Если же кто, вызвавши другого на суд, сам не явился, и если его не задержит какое-либо законное препятствие, присуждается к уплате 15 солидов в пользу того, кого он вызовет на суд…§ 4. Если же ответчик будет занят исполнением королевской службы, он не может быть вызван на суд. § 5. Если же он будет вне волости по своему личному делу, он может быть вызван на суд, как выше упомянуто»[302] и т. п. Тем самым обеспечивается, условно выражаясь, «автоматизация» социальных процессов и создаются объединяющие всех алгоритмы социального взаимодействия; происходит своего рода принудительная солидаризация, отличающаяся от органической солидарности ритуала письменной формой закрепления и наличием карательных санкций за отступление от предписанного.
Наряду с этим юридические тексты могут содержать и прямое указание на мир и солидарность в качестве правовых ценностей. Пример такого рода находим в другом средневековом памятнике – так называемом Декрете Хлотаря: «В целях соблюдения мира повелеваем, чтобы во главе отрядов ставились выборные сотники и чтобы их верностью и тщанием охранялся вышеназванный мир. И дабы с помощью божией, между нами, родными братьями, была нерушимая дружба (постановили), чтобы сотники имели право преследовать вора и идти по следам в провинциях и того и другого государства»[303]. Упоминание о «нерушимой дружбе», могущее показаться излишним, становится в данном случае обоснованием конкретных юридически значимых властных решений; «дружба», противостоящая вражде, обозначает не что иное, как социальную солидарность.
Прямые ссылки на солидарность как на общественный идеал неизменно встречаются в юридических текстах, относящихся к различным культурам и историческим периодам. В эпоху Средневековья, например, они сравнительно нечасты, поскольку основное идеологическое подкрепление социальной солидарности обеспечивалось христианской религией. С наступлением
Нового Времени юридические тексты обретают большую декларативность, то есть наполняются такими положениями, которые не столько имеют прямую регулятивную силу, сколько выполняют функцию «идеологической разметки», выступая своего рода заменителем религии в деле сохранения солидарности на уровне коллективного самосознания.
Незаменимость правовых форм в качестве социальных интеграторов особенно наглядно проявляется в переходные и революционные эпохи. Любая революция выносит приговор существующему правопорядку, возлагая на него значительную часть вины за бедственное состояние общества. Но характерно, что ни одна революция не ограничивается в сфере права чистым отрицанием. Разрушив прежний правовой порядок, революция практически сразу же ускоренными темпами начинает порождать собственные нормативные формы. Более того, именно великие революции вызывают к жизни появление выдающихся памятников права: так, английская буржуазная революция XVII века создала первую и единственную в истории страны писаную конституцию – уникальный документ под названием «Орудие управления», – а окончание революционного цикла отмечено изданием таких судьбоносных для английской правовой системы законодательных актов, как Билль о правах и Хабеас корпус акт. Великая Французская революция обогатила историю мирового права Декларацией прав и свобод человека и гражданина; первыми шагами Октябрьской революции в России также становятся юридические документы – Декрет о мире, Декрет о земле, Декреты о суде и т. п. Революционный опыт подтверждает универсальность и необходимость права в качестве средства социокультурной интеграции, поскольку вслед за разрушением старого правопорядка революционные силы почти немедленно вынуждены сами обращаться к правовой форме для внедрения и легитимации новых принципов общественной жизни. То же самое, в сущности, относится не только к революциям, но и к любым переходным стадиям в развитии общества.
Поскольку новые правовые системы в значительной степени секуляризованы, то есть очищены от религиозного содержания, то они нуждаются в новых идейно-эмоциональных резервуарах, которыми становятся Конституции. Декларативность конституционных актов вовсе не является их системным изъяном, как иногда считают.
Роль правовых деклараций заключается в том, чтобы юридически артикулировать систему ценностных ориентиров, поддерживающих в обществе необходимую солидарность.
«Конституирование» социальной среды при помощи верховного нормативного текста, наделенного соответствующим именем, требует не только описания основных институтов власти и установления конкретных правил поведения, но и манифестации тех оснований и принципов, на которых покоится само существование данной среды в качестве единого целого.
Действующая Конституция Российской Федерации является законом переходного государства, раздираемого острыми внутренними конфликтами, и потому в ней занимает центральное место риторика социальной целостности и солидарности. Именно этому в основном посвящена преамбула к Конституции, где многократно в различных вариациях выражена идея о сплоченности и единстве российского общества. Формулировка «многонациональный народ» усилена словами «соединенные общей судьбой на своей земле», «гражданский мир и согласие», «исторически сложившееся государственное единство» и др. Столь настойчивое повторение может свидетельствовать о том, что именно сохранение единства и предотвращение распада являлось основной задачей права в момент принятия Конституции.
Для сравнения можно процитировать преамбулу более раннего («саратовского») проекта российской Конституции: «Мы, граждане Российской Федеративной Республики, сознавая историческую ответственность за судьбу России, свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов, входящих в Союз суверенных Республик, в целях обеспечения достойной жизни и подлинно свободы нынешним и всем последующим поколениям, сохранения и укрепления единства России, исходя их принципов незыблемости прав человека, социальной справедливости, свободы самоопределения наций, защиты прав всех народов, населяющих Российскую Федеративную Республику, их культуры, традиций и языка, твердо решив создать демократическое правовое государство, развивая и укрепляя отношения сотрудничества со всеми народами мира, способствуя сохранению жизни на Земле, основываясь на Декларации о государственном суверенитете Российской Федеративной Республики 1990 года, торжественно принимаем и провозглашаем настоящую Конституцию»[304]. При тождественности основного содержания очевидно и некоторое различие между двумя преамбулами: по сравнению с принятой Конституцией в саратовском проекте идея социального единства занимает гораздо меньше места («сохранение и укрепление единства» упоминается всего один раз в общем перечислении). Выражение «граждане Российской Федеративной Республики» более корректно, чем «многонациональный народ», но использование множественного числа не создает впечатления, что речь идет о едином субъекте.
Дальнейший текст действующей Конституции РФ также переполнен аналогичными напоминаниями о единстве в его различных аспектах: о суверенитете, распространяющемся на всю территорию страны (ч.1 ст. 4); об обеспечении государством своей целостности и неприкосновенности (ч.3 ст. 4); о государственной целостности и единстве системы государственной власти как принципах федеративного устройства (ч.3 ст. 5); о единстве российского гражданства (ч.1 ст. 6); о единстве экономического пространства, свободном перемещении товаров, услуг и финансовых средств (ч. 1 ст. 8); о запрете объединений, угрожающих целостности государства (ч. 5 ст. 13); о применении Конституции на всей территории страны (ч. 1 ст. 15); об установлении основ единого рынка на федеральном уровне (п. «ж» ст. 71); о недопустимости установления таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на территории России (ч.1 ст. 74); о единой системе исполнительной власти (ч. 2 ст. 77) и т. п.
В самом тексте Конституции прямо названо еще одно интегрирующее начало – Президент Российской Федерации. Именно он несет на себе основную нагрузку по обеспечению единства: принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти (ч.2 ст. 80); торжественно дает присягу защищать суверенитет и целостность государства (ч.1 ст. 82). Тот же смысл имеет символическое упоминание о «согласительных процедурах», применяемых Президентом для разрешения разногласий между органами власти (ч. 1 ст. 85): «согласие», «согласование» во всех случаях обозначают одну из форм социального единения. Президент, по существу, является воплощением самой Конституции, выполняет одинаковые с нею функции; и это вполне отвечает традициям российского общества, которое охотнее интегрируется вокруг человеческой личности, чем вокруг юридического текста.
Таким образом, в действующей российской Конституции использованы практически все основные приемы, благодаря которым юридический текст может стать интегрирующим и солидаризирующим фактором:
во-первых, напоминание об общей территории («родной земле»);
во-вторых, указание на единство исторического опыта («соединенные общей судьбой», «исторически сложившееся государственное единство», «память предков»);
в-третьих, репрезентация коллектива в качестве единого субъекта («многонациональный народ»);
в-четвертых, обозначение внешних границ сообщества, четко отделяющих его от внешнего мира («целостность и неприкосновенность своей территории»);
в-пятых, снятие или ослабление внутренних границ («единство экономического пространства», «свободное перемещение товаров», «на территории Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств и др.);
в-шестых, провозглашение единства нормативной основы («Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации… Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы»);
в-седьмых, установление единых стандартов и гарантий для всех членов сообщества («каждый имеет право», «все равны перед законом» и т. п.);
в-восьмых, персонификация субъекта, на которого специально возлагается осуществление социально-интегрирующей функции («Президент… принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти»).
Если война – это взаимодействие насильственное, основанное на взаимном подавлении и вытеснении, вплоть до уничтожения, то есть полного лишения ресурсов, то мир, по контрасту, – это отношения взаимного признания. Мир означают, что участники отношений считаются с существованием друг друга и готовы продолжать общение на основе уважения каждым жизненного пространства своего контрагента.
Если война возможна путем молчаливого нанесения ударов, то мир всегда требует организованной речевой среды. Мир – это постоянное согласование, уточнение чужих и своих интересов, поиск равновесия между ними, обсуждение совместных планов. Взаимное признание нуждается в регулярном словесном подтверждении. Роль права в мирном процессе – предоставление соответствующих речевых форм и средств для его поддержания. Прежде всего это достигается благодаря свойству права устанавливать границы в пространстве и времени. Это позволяет в переговорном порядке распределять территориальные и иные ресурсы, придавая им режим общего или индивидуального пользования, а также назначать точное время действия этих решений – на бессрочной основе или в течение строго определенного периода. Сообщество решает задачу обеспечения мирной жизни путем отгораживания от внешней агрессивной среды. Собственно, именно этот принцип – введение точных границ – в свое время привел к необходимости перехода от обычного (устного) права к письменным формам.
Свойственная праву пониженная эмоциональность также может выступать одной из гарантий мира, показывая, что он опирается не на сиюминутные переживания сторон, а на стабильное волеизъявление (впрочем, именно для мирных соглашений и деклараций часто бывает характерен повышенный эмоциональный фон, что может, соответственно, свидетельствовать об их ненадежности).
Тот факт, что мир является базовой правовой ценностью, вытекает из природы права как текстуального порядка, охраняющего социальную целостность и солидарность. Мир и солидарность неотделимы друг от друга: насилие разрушает связи между людьми, а распад единства неизбежно ведет к агрессии. Сложное устроение всей системы правовых ценностей, включающей свободу, справедливость, равенство, истину и т. п., предполагает наличие между ними достаточно устойчивого баланса, который в состоянии войны теряется. Война означает сжимание правового поля и вынужденный ценностный аскетизм. Полнота реализации правовых ценностей возможна только в мирных условиях.
Многие из правовых форм специально рассчитаны на достижение и поддержание мира. В особенности это относится, например, к такой правовой форме, как договор. В отличие от закона с его односторонним воздействием, договор, даже независимо от его содержания, является символом перехода двух и более субъектов к сотрудничеству, или его продолжения, посредством согласия в отношении прав, обязанностей и ответственности друг друга. Здесь присутствуют признаки мирного состояния в его развитом виде – совместная деятельность, создание речевой среды, демонстрация обоюдного признания субъектности.
Ценность мира проявляется и в такой правовой форме, как состязательная судебная процедура. Однако в данном случае эта ценность защищается путем моделирования борьбы. Происходит перенос потенциального насилия в словесную область.
«По отношению к проблематике насилия и справедливости, – указывает П. Рикер, – изначальная функция судебного процесса состоит в том, чтобы переносить конфликты с уровня насилия на уровень языка и дискурса… На мой взгляд, не подлежит сомнению, что процедурные правила судебного процесса сами собой способствуют продвижению справедливости (правосудия) в ущерб духу мести. И происходит этой в той мере, в какой судебный процесс образует дискурсивные рамки, подходящие для мирного арбитража конфликтов. И как раз неоспоримая заслуга установления процедурных правил состоит в том, что они позволяют судебному процессу как особому институту переносить конфликты из сферы насилия в сферу языка и речи»[305]. В сфере судопроизводства опасность конфликта минимизируется и наличествуют готовые формы перехода к мирному взаимодействию, основной из которых, как явствует из самого названия, выступает «мировое соглашение».
Остается прояснить, каким же образом культивирование ценности мира может сочетаться с существованием такого явления, как право войны. Действительно, наличие правил, регулирующих ведение боевых действий, причем исторически длительное, так или иначе означает легализацию войны, ее допущение в качестве правомерного поведения. Это связано с тем, что само право, часто будучи универсальным по замыслу, изначально было локальным по сфере действия и обеспечивало мир внутри сообществ, но не при их столкновении. Появление «права войны» отражало и тот факт, что юридически защищаются и иные ценности, кроме мира, в том числе и чисто политические. Например, в качестве оправдания войн часто используются ссылка на такую ценность, как справедливость; такова позиция И.К. Блюнчли: «Даже и в этой страстной борьбе проявляется в полной силе чувство справедливости, присущее человеку. Государство берется за оружие лишь затем, чтобы защитить поруганную справедливость, хотя часто превратно понимаемую. Уверенность в правоте своего дела придает силу и могущество даже слабому, сознание же несправедливости способно вселить страх и робость в сильного»[306]. Чаще всего «право войны» допускало ведение войн оборонительных или освободительных, т. е. завоевание мира и свободы. Кроме того, нормы «права войны» всегда строились так, что сдерживали произвол воюющих сторон, что, с учетом крайне ограниченных возможностей самого права в международных отношениях, можно рассматривать как стремление к миру.
До настоящего времени в законодательстве отсутствует общеправовой принцип, способствующий избежанию социальных конфликтов; именно такую функцию мог бы выполнять принцип социального партнерства.
Думается, что социальное партнерство – это принцип общественной и правовой жизни, в соответствии с которым социальное взаимодействие должно осуществляться на бесконфликтной основе, путем совместного принятия решений по вопросам общего значения, с целью наиболее полного удовлетворения интересов субъектов.
Начав свое существование в сфере трудового права, принцип социального партнерства имеет все основания расширить свое действие на большую часть всех общественных отношений, в т. ч. хозяйственно-экономические, семейные, политические, административные, включая взаимодействие между федеральными и региональными властями, и т. д. Это означало бы, что все субъекты правоотношений обязаны осуществлять свою деятельность с учетом чужих интересов, в режиме сотрудничества, что во всех случаях разрешение социальных и юридических конфликтов должно происходить на упреждающей основе, то есть путем профилактики, использования переговорных механизмов и других средств компромисса.
Глава 4 Законы и закономерности права и государства
4.1. Что такое закономерность?
Государственно-правовая закономерность – категория, имеющая все основания претендовать на одно из ведущих мест в юридической науке. Вместе с тем научное значение данной категории и ее познавательные возможности до сих пор нельзя считать раскрытыми.
В последние десятилетия наблюдается своего рода критический пересмотр отношения к государственно-правовым закономерностям. Высказывается, в частности, мнение, что представления о предмете теории государства и права как системе закономерностей правовой действительности отличаются «известной неопределенностью… Указанный подход не дает ясного представления ни о специфике правовой науки, ни об уровне, состоянии и динамике развития правовой теории»[307]. В одной из последних крупных работ по методологическим вопросам права констатируется отсутствие у юристов «четких представлений о том, что же такое объективная закономерность, каковы ее критерии и какие именно элементы права могут быть хоть как-то соотнесены с этой трудноуловимой частью предмета теории права»[308]. Аналогичные скептические мнения все чаще и чаще встречаются на страницах теоретикоправовой литературы.
Подобные суждения, как представляется, отражают реальное положение дел в сфере исследования государственно-правовых закономерностей и свидетельствуют о том, что уровень научной разработки данной категории далеко не соответствует ее подлинной роли и значению в юриспруденции. Прежде всего это выражается в том, что до сих пор не сложилось сколько-нибудь определенного и общепризнанного научного понимания государственно-правовой закономерности, в результате чего рассматриваемая категория фактически не имеет точного содержания.
Можно предвидеть следующее возражение: понятие закономерности не носит специально-юридического характера и принадлежит скорее философии, чем юриспруденции. Из этого можно заключить, что правоведению нет необходимости заниматься созданием своего определения закономерности, а достаточно в готовом виде взять его из философии.
На чем же основывается возможность и необходимость существования в теории государства и права собственного понятия закономерности, не во всем совпадающего с общефилософским? Прежде всего это связано с тем, что предметно-объектная область юриспруденции гораздо уже, чем у философии. Философия обобщает значительно больший круг явлений, в силу чего ее категории оказываются слишком широкими для использования в юриспруденции. Например, философская категория «закон» охватывает также и законы природы, которые коренным образом отличаются от закономерностей государственно-правового развития. Философские категории неизбежно носят усредненный характер и не отражают многих важных особенностей тех более частных категорий, из которых складываются. Поэтому полная взаимозамена общего и частного понятий невозможна; иначе говоря, определять государственно-правовую закономерность так же, как закономерность вообще, было бы по меньшей мере неточно.
Кроме того, требовать полного и безоговорочного перенесения философской категории в ту или иную науку можно лишь тогда, когда в самой философии присутствует устойчивое, единообразное понимание данной категории (хотя бы в ее основных чертах). Если это и можно сказать о каких-либо философских категориях, то только не о понятии закономерности. Одни специалисты предлагают называть закономерностью «универсальную мировую связь законов», «единство законов данной области», «совместное действие законов данной области явлений»[309]. Другие выступают против различения закономерностей и законов; третьи указывают, что «различия между понятиями «закономерность» и «закон» – лишь в оттенках»[310]. Есть мнение, что закономерность надо рассматривать «как «пойманную» наукой тенденцию в развитии действительности, представляющую собой проявление закона»[311]. Но встречаются и противоположные суждения: «Принято считать, что в природе действуют объективные закономерности – устойчивые, повторяющиеся связи между предметами и явлениями. Мы же познаем законы – отражение этих объективных закономерностей в нашем сознании»[312].
Само понятие объективного закона в социальной философии переживает тот же кризис, что и понятие закономерности в теории государства и права. После того, как марксистская идеология утратила свое монопольное положение, социальная философия резко охладела к категории социального закона; например, едва ли в советское время было возможно появление работы о предмете социальной философии, где вообще не упоминалось бы о социальных законах[313]. Термин «социальный закон» сегодня употребляется в философских и социологических работах не так интенсивно, как раньше. Самые современные, новаторские течения в социальной философии обычно предпочитают не прибегать к данной категории и уж тем более не высказываются по вопросу о ее точном содержании. Возможно, это связано с распространившимися сомнениями в ценности точных определений как таковых и утверждениями, что «сущность вещей не схватывается в понятиях… Ни одно понятие не может выразить не только сущность вещи, но даже наше представление об этой вещи»[314]. Но такой подход ведет к познавательной неопределенности, к отсутствию четкого представления об объектах и предмете исследования, в результате чего оно превращается в «размышления по поводу» и не дает сколько-нибудь достоверных выводов.
Как нам представляется, одна из основных причин осторожного отношения современной отечественной философии к категории социального закона заключается в том, что практически все социальные законы, о существовании которых заявляла марксистско-ленинская философия, оказались поставлены под сомнение либо беспристрастной критикой, либо самим ходом исторического развития. В этих условиях социальное познание вполне естественно утратило уверенность в том, что в общественной жизни вообще существуют такие факторы, которые полностью удовлетворяли бы марксистско-ленинским представлениям о социальном законе. Поэтому само сохранение категории социального закона в философском лексиконе требует подвергнуть ее известному пересмотру по сравнению с прежней трактовкой.
Иначе говоря, единого понимания закономерности в философии просто не существует, и юриспруденции ничего иного не остается, как попытаться самой сформулировать рабочее определение закономерности для внутренних научных целей. На наш взгляд, сущность объективных социальных закономерностей вполне адекватно передана в следующих словах: «явления, события и процессы в природе и обществе при соответствующих условиях развиваются в главном именно так, а не иначе»[315]. Однако необходимо именно определение, причем имеющее операциональный характер, то есть содержащее такую совокупность критериев, которая позволяла бы безошибочно отличать государственно-правовую закономерность от любых других явлений.
Процесс формирования категорий правовой науки – если иметь в виду целенаправленное, а не спонтанное формирование – исключительно сложен с методологической точки зрения. В целом, как представляется, здесь возможны два основных подхода. При первом из них понятие формируется как бы «с нуля», после чего под него «подгоняются», подстраиваются все остальные научные положения. Например, некоторые ученые-юристы в одностороннем порядке разработали совершенно новое понятие права и требуют в соответствии с ним полностью перестроить всю юридическую науку[316]. Однако этот подход уместен в тех случаях, когда понятие вводится впервые, иначе он лишь вносит дезорганизацию в категориальный аппарат.
При другом подходе выработка определения исходит из предыдущего опыта научных изысканий, из практики употребления соответствующего термина. Когда требуется определить понятие, уже находящееся в научном обороте, можно установить по контексту те значения, в которых данное понятие обычно используется, и затем, поскольку они не противоречат друг другу, индуктивным путем получить из них общее определение. Тем самым достигается преемственность научного знания и его реальное развитие: оформившиеся идеи получают словесное закрепление и могут служить основой для последующей работы. Подобные «привычки называния» (Л. И. Петражицкий)[317] важны еще и потому, что отражают интерес науки ко вполне определенным явлениям объективной действительности. Если не учитывать таких «привычек» и вкладывать в понятия иной смысл, есть опасность подменить один объект другим, который наука вовсе не стремится изучать.
Итак, что в современной юридической науке считается государственно-правовыми закономерностями? Следует сразу отметить, что определение данного понятия ученые-юристы дают крайне редко. Рассуждая о тех или иных закономерностях государственно-правового развития, они, как правило, обходятся вовсе без точной дефиниции, считая его само собой разумеющимся, несмотря на ту неопределенность, которая существует по данному вопросу в философии. Впрочем, иногда определения государственно-правовой закономерности все же даются. Более того, фактически сложилось и некое общее представление об этом понятии, хотя и не во всем соответствующее имеющимся определениям.
Наиболее типичным является определение государственно-правовой закономерности через категорию «связь»: государственно-правовая закономерность есть существенная, необходимая, устойчивая и повторяющаяся связь явлений в сфере государства и права[318]. Оно повторяет принятое в философии определение закона – именно закона, а не закономерности, хотя между этими категориями нет полного тождества. Без сомнения, данное определение фиксирует одну из существенных сторон закономерности и в целом имеет полное право на существование, однако приведенные выше критические замечания ученых-юристов относительно абстрактности, неопределенности, неуловимости понятия «закономерность», на наш взгляд, касаются именно этой формулировки. Она скорее отражает внутренний механизм действия государственно-правовой закономерности, чем ее наглядные внешние признаки, позволяющие распознать закономерность среди множества явлений правовой жизни. В результате наблюдается некое несоответствие между общим понятием государственно-правовой закономерности и конкретными закономерностями, изучаемыми юридической наукой. Например, С.С. Алексеев при анализе механизма правового регулирования выделял в качестве его основных закономерностей такие, как развитие перспективных способов правового регулирования, сужение сферы применения правообеспечительных актов, укрепление и развитие нормативной основы правового регулирования и др.[319]. В.А. Шабалин добавлял к этому последовательную демократизацию юридической надстройки, всемерное укрепление законности, развитие прав и свобод граждан и т. п.[320]
С.С. Алексеев называет такие закономерности современного правового развития, как рост регулятивной силы права, возвышение частного права, возвышение и развитие правосудия[321]. Разумеется, в каждой из перечисленных закономерностей можно обнаружить проявление некой связи, однако данная связь не составляет непосредственного содержания закономерности, а представляет собой ее скрытый элемент. Поэтому общепринятое определение государственно-правовой закономерности следует считать несовершенным, что требует его замены на другое, более точно отражающее природу данного явления.
Для этого следует выделить и раскрыть основные признаки государственно-правовой закономерности, которые в совокупности дадут наиболее полное представление об этой научной категории, ее специфике и месте в политико-правовой жизни общества.
1) Государственно-правовая закономерность есть определенная однотипность, регулярность, повторяемость процессов и явлений. В философской литературе признается, что «повторяемость – важнейшая черта закона»[322]; некоторые ученые уже предлагали определять философскую категорию «закон» через «повторяемость»[323]. Сходство, повторение фактов, в отличие от связи или тенденции, составляют содержание каждой закономерности без исключения. Закономерность – это всегда определенный ряд фактов; не может быть закономерностью отдельно взятый факт, как и несколько фактов, не имеющих между собой ничего общего. В различных видах закономерностей повторяющиеся факты либо следуют друг за другом, либо имеют место одновременно.
Если вернуться к приведенным выше закономерностям, то можно убедиться, что все они строятся на многократном повторении сходных фактов. Например, возвышение частного права – процесс, складывающийся из множества отдельных проявлений, в числе которых принятие ряда конкретных законов, совершение в соответствии с ними сделок, вынесение судебных решений, издание официальных разъяснений, научных работ и т. п. Но объединяет все эти многочисленные факты одно – в них выражаются и воплощаются частноправовые начала, что и дает нам возможность говорить о существовании указанной закономерности[324].
Существует точка зрения, что в общественно-историческом процессе не может быть никаких объективных закономерностей, поскольку любое событие и явление в нем является индивидуальным, неповторимым, создается свободным человеческим духом; «здесь нет места для закономерности, ибо закономерность есть лишь в необходимом, общество же опирается на свободу и неопределимую волю людей»[325]. В отличие от советской, современная социальная наука подвергает эту позицию серьезному обсуждению. Однако возражением против нее и аргументом в пользу существования объективных социальных законов считается обычно не наличие связей между элементами общества, а наличие несомненного сходства, регулярности, повторяемости в общественных явлениях и процессах[326]. Акцент на повторяемости явлений, а не на их связи – еще одно важное изменение в трактовке социального закона. Оно проявляется и в общих формулировках: «закон – устойчивое, общее, существенное, необходимое, повторяющееся в явлениях»[327], – и в более частных положениях, например, когда говорится об исторических закономерностях как «повторяемости эпизодов исторического развития, его поступательном характере»[328].
2) Государственно-правовая закономерность есть определенная связь между фактами и явлениями. Само собой разумеется, закономерность нельзя определять просто как повторяемость фактов: чтобы определение было адекватным, его требуется дополнить еще несколькими признаками, ибо далеко не всякую повторяемость фактов следует считать закономерностью. Там, где повторяющиеся факты разрознены, автономны, не может быть речи о закономерности. Если установлено, что между схожими фактами нет никакой связи, что они имеют место совершенно независимо друг от друга, налицо не закономерность, а случайное совпадение.
С равным основанием можно говорить о закономерности и как о связи, и как об отношении между фактами и явлениями. Еще Ш.Л. Монтескье отмечал, что «законы в самом широком значении этого слова суть необходимые отношения, вытекающие из природы вещей; в этом смысле все, что существует, имеет свои законы…»[329]. Столетие спустя его дополнил Г. Спенсер, определив объективный закон как «единообразие отношений между явлениями»[330] и соединив тем самым два важнейших признака закономерности: повторяемость и связь (отношение) фактов и явлений.
3) Являются устойчивыми и систематическими. Закономерность налицо лишь там, где повторяющиеся факты достаточно многочисленны, а схожесть их не подлежит сомнению; в этом, кстати, отличие закономерности от простой тенденции, которая может быть кратковременной и непрочной. Далее, не может признаваться закономерностью такая повторяемость, которая носит хаотичный, неупорядоченный характер. Закономерность всегда приводит происходящее в систему, подчиняет события некоему принципу, сообщает им определенную периодичность, постоянство или взаимозависимость. Именно в систематичности состоит отличие закономерности от случайного стечения обстоятельств. Данный признак носит до известной степени оценочный характер, так как нельзя с точностью измерить уровень устойчивости той или иной тенденции, чтобы определить, можно ли именовать ее закономерностью. Однако полная точность здесь не требуется: достаточно лишь отсечь те тенденции, которые носят явно нестабильный, колеблющийся характер. Какая именно частота повторения необходима, чтобы признать наличие закономерности, зависит от распространенности самих явлений, к которым она относится. Главное здесь, чтобы сохранялась определенная планомерность происходящего и неизменно прослеживалась его зависимость от времени или иных факторов.
4) Существуют объективно, т. е. независимо от воли и сознания людей. Государственно-правовые закономерности существует независимо от воли и сознания человека, не создаются и не отменяются людьми, а действуют самостоятельно и сами управляют их волей и сознанием, предопределяют как содержание отдельных событий, так и общее направление, и результаты всей социальной деятельности в области государства и права. Это требует с максимальной четкостью отграничивать социальные законы от тех социальных институтов и связей, которые целенаправленно и сознательно формируются самими людьми, а также отвергнуть идею о том, что законы – это не явления объективной реальности, а лишь используемые в целях наглядности мыслительные конструкции.
Закономерности имеют собственное, автономное бытие, не подчиняются велениям человека, а напротив, сами в значительной мере управляют его поведением. Как уже отмечалось, не является закономерностью такая повторяемость фактов, которая имеет место в результате сознательной деятельности человека. Особенно важно проводить это различие именно в государственно-правовой сфере, поскольку здесь тесно соседствуют оба типа регулярности – вносимая человеческой волей и существующая независимо от нее. Порой требуется довольно внимательный анализ, чтобы определить природу той или иной существенной связи государственно-правовых явлений и отнести ее к непосредственным проявлениям объективной закономерности либо к результатам целенаправленного воздействия. Существует достаточно точный критерий для такого разграничения: рассматривая конкретную систематическую повторяемость фактов в государственно-правовой сфере, следует установить, входила ли такая повторяемость в намерения кого-либо из субъектов соответствующей деятельности. Разумеется, и этот критерий не всегда легко применить, поскольку сами намерения почти всегда находятся под властью какой-либо закономерности.
Например, является ли закономерностью тот факт, что все постсоциалистические государства Европы имеют органы судебного конституционного контроля?[331] С одной стороны, это несомненный продукт политической воли: государственный орган не возникает «сам по себе», для его появления необходимо принятие осознанного решения, которому предшествует длительная проработка. Кроме того, даже сам феномен наличия одного и того же властного института у нескольких государств в данном случае не обошелся без субъективного фактора, так как в процессе реформирования своего государственного механизма постсоциалистические страны не могли не учитывать опыт друг друга. Однако входило ли в планы какой-либо из этих стран повторение одного и того же института во всех странах? По-видимому, нет: каждая из них стремилась лишь к тому, чтобы наилучшим образом обустроить внутреннюю политико-правовую систему. Таким образом, сама повторяемость возникла помимо их желания и поэтому может быть по данному признаку отнесена к закономерностям. Но она не была бы закономерностью, если бы конституционные суды были созданы во всех этих странах решением какого-либо международного органа или по их собственному соглашению.
В связи с этим юристы вслед за философами иногда ставят такой вопрос: «реально ли наличествуют эти закономерности в той области, которую изучает соответствующая наука, – и она лишь открывает эти закономерности? Или же эти закономерности – лишь порождение могучего научного разума, который и вносит сформулированные им закономерности в социальное и иное бытие?»[332]Но значение науки именно в том, что она направлена на получение объективно истинных знаний, и поэтому едва ли можно считать «могучим» научный разум, который не способен отличить объективное течение событий от изменений, производимых его собственной активностью. Юридическая наука призвана находить реально существующие закономерности правовой жизни, не выдавая за них свои призывы и рекомендации, об этом писали еще дореволюционные юристы[333].
5) Выражают глубинные, существенные свойства и стороны государственно-правовых явлений. Как нам кажется, ранее этот признак вносил в дефиницию закономерности элемент излишней оценочности и субъективизма, отказывая реально существующим закономерностям в праве считаться таковыми лишь на основании их «несущественности». Если у повторяемости фактов присутствуют все атрибутивные признаки (систематичность, объективность, логическая обоснованность), то нельзя отрицать за ней характер закономерности по причине кажущейся «несущественности». Напротив, любая такая тенденция уже в силу этого характеризуется некоторой существенностью, ибо устойчивое повторение какой-либо черты есть раскрытие подлинной сущности явления, действие его внутреннего механизма. Даже самые малозначительные факты, если в них наблюдается определенная система, могут очень многое сказать исследователю. Если повторяемость отражает лишь внешние, поверхностные стороны явления, она никогда не будет ни систематической, ни логически обоснованной: систематичность означает наличие у тенденции движущих сил внутри явления, а логическая обоснованность – наличие связи с другими свойствами данного явления. Сама закономерность может и не носить особо значимого характера, но при этом всегда будет определяться наиболее существенными свойствами явления.
6) Имеют логическое объяснение. С систематичностью тесно связан другой признак государственно-правовой закономерности – обязательное наличие рациональной основы, не в смысле целесообразности, а в смысле логической объяснимости. Говорить о закономерности, по существу, можно лишь тогда, когда вскрыт механизм ее действия и установлено, почему факты именно таковы, как они есть. Если налицо лишь констатация повторения, но причина его остается неясной, то закономерность не является окончательно исследованной, поскольку без этого нельзя быть уверенным ни в объективности, ни в систематичности повторения.
Научный принцип рационализма требует признать причинную обусловленность любого явления объективной действительности. Эту обусловленность далеко не всегда можно с точностью установить, однако, в соответствии с указанным принципом, необходимо исходить из ее существования. Данная познавательная установка означает, что фактически не подлежит объяснению только одно – почему каждое явление имеет свою причину. Как показал еще Кант, «этот закон, лишь благодаря которому явления составляют некую природу и делаются предметами опыта, есть рассудочный закон, ни под каким видом не допускающий отклонений или исключений для какого бы то ни было явления, так как в противном случае мы поставили бы явление вне всякого возможного опыта…»[334].
В философской литературе справедливо указывается, что закономерность не тождественна причинности и что существует значительное число непричинных законов[335]. Однако это утверждение нисколько не опровергает того факта, что любая закономерность имеет собственную причину, так как иное означало бы, что закономерности исключены из всеобщей системы причинно-следственных связей. Что касается законов природы, то для них поиск такой причины часто чрезвычайно затруднен, иной раз представляется невозможным; в случае же с социальными закономерностями подобные трудности вполне преодолимы. Более того, есть основания считать, что без логического объяснения вообще нет самой закономерности, то есть что повторяемость фактов, которую не удается объяснить, закономерностью считаться не может. В самом деле, при отсутствии объяснения не может быть уверенности в том, что перед нами именно закономерность, а не случайное стечение обстоятельств или плод чьего-либо умысла; нельзя также выяснить механизм действия закономерности, а значит, достоверно установить само ее содержание.
Государственно-правовая закономерность не должна оставаться «вещью в себе» – иными словами, при ее исследовании не следует ограничиваться одной лишь констатацией повторяемости тех или иных фактов в государственно-правовой сфере, а необходимо задаться вопросом о причине этой повторяемости. Поэтому обязательным этапом в изучении государственно-правовой закономерности является поиск причины, без которого процесс познания не будет завершенным. «Познание закономерности, – писал П.М. Рабинович, – … проходит две ступени познания: а) сущности и б) механизма их действия»[336].
Процедура объяснения закономерности, по существу, представляет собой сведение ее к другой, более общей закономерности[337].
Эту последнюю, в свою очередь, можно таким же образом свести к еще более общей; в конце этой логической цепи будет находиться максимально абстрактная закономерность, причина которой не найдена, например, генеральная закономерность: «все имеет свою причину», – которая, как уже отмечалось, не поддается объяснению. Проделывая эту операцию с государственно-правовыми закономерностями, мы, очевидно, рано или поздно покинем область государственно-правовых явлений и перейдем к закономерностям иной социальной сферы. Но какой же именно? До недавнего времени не подвергалось никакому сомнению, что правовые явления полностью детерминируются законами экономического развития, или, иначе говоря, что государственно-правовые закономерности производны от экономических. Широко известно также учение Л. И. Петражицкого, в котором государство и право оказались целиком подчинены психологическим закономерностям[338]. Однако думается, что корни той или иной государственно-правовой закономерности могут лежать и в психологической, и в экономической, и в политической, и в культурной, и в географической, и в любой другой сфере, а чаще сразу в нескольких. Объяснение государственно-правовой закономерности отнюдь не становится более убедительным, если оно основано лишь на установлении связи государства и права с иной социальной сферой по типу «надстройка и базис».
7) Действуют в определенном масштабе. Государственно-правовые закономерности ограничены в своем действии определенными временными и пространственными границами. Отечественные исследователи обозначали это свойство закономерностей как «пространственно-временную интервальность»[339], то есть наличие у закономерности определенных рамок – как географических, так и исторических. Иными словами, закон существует не всегда, а начинает осуществляться в определенный момент времени и впоследствии может сойти на нет.
В разных частях земного шара и даже в одном государстве на разных этапах его исторического развития правовые явления могут характеризоваться совершенно различными, подчас диаметрально противоположными закономерностями. Существование всеобщих государственно-правовых закономерностей, которые распространялись бы без исключения на все регионы и на все эпохи развития права, является неочевидным; но даже если такие закономерности и имеются, число их крайне невелико. Например, к ним часто относят закономерную связь экономики и права, которая выражается в том, что содержание права определяется экономическими факторами и что «правовые установления, правовые отношения, правопорядок и уровень правового регулирования в целом соответствуют экономическому строю и обусловленному им культурному развитию общества»[340].
Наличие у государственно-правовых закономерностей масштаба действия открывает возможность для его измерения, а также для классификации закономерностей по временному и пространственному признакам. Верное определение масштаба важно для того, чтобы избежать ошибочного расширения сферы действия той или иной закономерности, когда она проецируется на те случаи, к которым не имеет отношения.
8) Реализуются через человеческое поведение. Объективный характер государственно-правовых закономерностей не означает, что они являются для человека чем-то посторонним и что процесс их действия протекает безо всякого участия с его стороны. Совсем напротив, человеческая деятельность служит единственным каналом реализации государственно-правовых закономерностей. В государственно-правовой сфере нет ничего, что появлялось или происходило бы совершенно самостоятельно, помимо человеческого сознания. Любой результат действия государственно-правовой закономерности есть в то же самое время результат человеческих усилий. Причем воздействие идет не параллельно, а опосредованно: государственно-правовая закономерность – это, по существу, закономерность человеческого поведения в области государства и права. Иными словами, повторяемость фактов является объективной, но сами факты продуцируются человеком.
Государственно-правовая закономерность независима от человеческой воли лишь в том смысле, что люди не в силах создать или отменить ее; но, так как единственным каналом ее проявления выступает человеческое поведение, они могут вмешаться в ее действие, существенно скорректировать ее ход и результаты. Не следует фаталистически относиться к объективным закономерностям, полагая, будто они сработают в любом случае, какие бы меры ни принимать. В научной литературе разработано понятие «использование объективных законов», под которым понимается «их сознательное, планомерное практическое применение; деятельность людей, организованная в соответствии с требованиями объективных законов; воздействие на законы, дающее простор или ограничение их действия, некоторую его корректировку»[341]. Это позволяет наиболее эффективно осуществлять социально значимую деятельность, в том числе юридическую, основываясь на установленных закономерностях, пользуясь их выгодными сторонами и предотвращая их негативные последствия.
9) Выявляются на основе общественной практики. Процесс исследования государственно-правовой закономерности всегда должен опираться на достаточный массив эмпирических данных; он не может вестись спекулятивным, умозрительным путем, сводиться к сопоставлению абстрактных понятий. Не исключено, разумеется, выведение закономерности из каких-либо более общих научных положений, однако подобная гипотеза в любом случае лишена ценности без подтверждения многочисленными конкретными фактами. Недооценка этого принципа приводит к появлению немалого количества теоретических построений, которые претендуют на статус истинного знания, но в то же время расходятся с реальной жизнью, а вследствие этого нередко и между собой. Порой забывают и о том, что закономерность, в отличие от нормы, лишь фиксирует наличное положение дел и не может носить характер предписания или пожелания[342]. «Не реальная действительность должна сообразовываться с законами, а наоборот – последние верны лишь постольку, поскольку они соответствуют объективному миру»[343].
10) Действуют в сфере государственно-правовых явлений. Речь идет о том, что государственно-правовые закономерности – относительно самостоятельная группа социальных закономерностей, что и является предпосылкой для их теоретического исследования. Но это требует ответа на вопрос, какие именно из социальных закономерностей принадлежат к государственно-правовым, то есть каким образом можно определить, носит ли конкретная закономерность государственно-правовой характер. П.М. Рабинович, уделивший значительное внимание изучению этого вопроса, пришел к выводу, что «связь может быть отнесена к специфическим государственно-правовым закономерностям, если а) по крайней мере одним из ее участников выступает государственно-правовое явление и б) она непосредственно обусловливает и отражает юридическое своеобразие данного явления»[344].
Считаем верным выделять именно государственно-правовые закономерности как целостную группу, исходя из неразрывности государства и права как социальных явлений. Разумеется, часть закономерностей может быть присуща исключительно государству, часть – исключительно праву, но при этом они составляют принципиально единую категорию объективных закономерностей. Системообразующим признаком здесь должен считаться именно юридический характер закономерностей; иными словами, те закономерности развития государства, которые не имеют отношения к юридической стороне его деятельности, не должны считаться государственно-правовыми, а носят иной, политический характер.
Итак, суммируя наиболее важные из перечисленных признаков, государственно-правовую закономерность можно кратко определить как объективную, систематическую повторяемость взаимосвязанных фактов в сфере государства и права. Именно в таком понимании государственно-правовая закономерность является одной из основных категорий общей теории права и главным предметом ее изучения.
Это, конечно, никоим образом не опровергает иных существующих трактовок закономерности. Государственно-правовая закономерность – это и устойчивая связь государственно-правовых явлений, и доминирующая тенденция в развитии государства и права[345], и «отношение между сущностями»[346], и «наличие определенного порядка и последовательности в явлениях объективного мира»[347]. Все эти трактовки вполне укладываются в приведенное определение, благодаря чему примиряются и дополняют друг друга, раскрывая отдельные стороны этого сложнейшего явления социальной действительности.
4.2. Закономерность и свобода
Государство и право – особые институты культуры, элементы «искусственной среды», при помощи которой человек выделяет себя из природы, и в этом качестве они не могут обладать реальным существованием в отдельности от человеческих индивидов и сообществ. Человек – единственно возможный носитель правовых начал, единственный, кто способен создавать правовые ценности и для кого они могут быть предназначены[348]. Поэтому, признавая существование в сфере государства и права таких явлений, как объективные закономерности, не зависящие от воли и сознания человека, мы оказываемся перед некоторым противоречием, пусть даже имеющим внешний характер, и вынуждены отвечать на вопрос, каким же образом объективная закономерность соотносятся с человеческой субъективностью, как они взаимодействуют и можно ли говорить о приоритете одного над другим.
В отечественных социальных науках, в том числе в юриспруденции, отмечаются два основных подхода к этой проблеме. Согласно первому из них, типичному для марксистско-ленинской традиции, с развитием общества и его переходом на социалистические и коммунистические позиции диалектика закономерного и субъективного постепенно исчезает, поскольку закономерности реализуются через их использование в общественных целях. Таким образом, действие и использование законов зачастую почти сливались, смешивались. Это заметно в таких высказываниях: «При социализме общественные законы действуют, как правило, через сознательную активность людей, все более выступая таким образом как законы сознательной и планомерной деятельности трудящихся. Субъективной стороной этой планомерно организованной деятельности является знание самих законов, умение их использовать и т. д…»[349]. При этом считалось, что для капиталистического общества характерной является стихийная форма действия социальных, в том числе государственно-правовых закономерностей[350].
Второй подход к проблеме сводится к тому, что субъективный фактор является для государственно-правовых закономерностей чем-то дополнительным, что вторгается в него и непредсказуемо осложняет ход государственно-правового развития; «объективные законы, реализующиеся в деятельности и поведении индивидов, классов, партий, корректируются субъективными факторами – мировоззренческими и методологическими установками, политическими теориями и доктринами, что существенно влияет на построение, формы, направленность правового регулирования, содержание отраслей, институтов, юридических конструкций и моделей»[351].
Иные возможные подходы к истолкованию связей субъективного и объективного, свободы и необходимости не получили в российской юридической науке широкого распространения. В частности, для теоретиков права вовсе не были характерны фаталистические представления в духе механицизма, отрицающие за человеком всякую свободу выбора и сводящие его деятельность к простой реализации объективных законов, которые незаметно для него всецело управляют его поступками. Противоположная крайность связана с тем, что объективные социальные закономерности считаются фикцией, а человек и его активность объявляется феноменами настолько сложными, что сама идея закономерности в их отношении неприменима. Этот взгляд имеет некоторое влияние в философии и социологии, но не в юридической науке.
Но даже те относительно взвешенные подходы, которые использовались в теории государства и права при анализе взаимодействия человеческой воли с объективной закономерностью, в настоящее время уже обнаруживают свою неполноту и неточность. Так, первый из приведенных подходов, фактически отождествляющий действие и использование государственно-правовых закономерностей, ставит под сомнение объективный характер последних. Действительно, если закономерности реализуются путем осознанного следования им, то они мало чем отличаются от социальных норм, программ, требований. Отсюда и попытки отграничить закономерность от повторяемости: «повторяемость может иногда свидетельствовать о нарушении объективной закономерности, основанной на глубинных, сущностных чертах и характеристиках явлений»[352]. Получается, что человек может без особого труда нарушить объективную закономерность, если просто не знает о ее существовании! Тем самым закономерность превращается в некое подобие технологической рекомендации, которая просто позволяет повысить эффективность работы, или социального императива, который требует от человека поступать определенным образом под угрозой каких-то негативных последствий.
Второй подход, в соответствии с которым субъективный фактор вмешивается в действие закономерности и корректирует ее, представляется более близким к действительности, но все же не может быть принят безоговорочно. Дело в том, что здесь подразумевается существование какого-то основного механизма действия государственно-правовых закономерностей, по отношению к которому субъективно-личностный фактор выступает в качестве постороннего. Но на чем тогда строится этот основной механизм и каким образом он может функционировать, если субъективный фактор влияет на него лишь извне? Фактически это означает, что государственно-правовые закономерности могут действовать без участия людей, что невозможно себе представить. Поэтому модель, включающая в себя субъективный фактор как дополнение к механизму действия государственно-правовых закономерностей, изначально противоречива.
На наш взгляд, современные возможности философии и социальных наук, в том числе юриспруденции, вполне позволяют синтезировать указанные подходы и более адекватно оценить роль человеческой воли в реализации объективных государственно-правовых закономерностей. Для этого в первую очередь следует преодолеть ограниченность этих объяснительных схем и признать, во-первых, что действие государственно-правовых закономерностей и их использование есть качественно различные, несовпадающие процессы; и во-вторых, что субъективный фактор не присоединяется к механизму действия закономерностей откуда-то извне, а является его составной частью, причем неотъемлемой и центральной.
Этот взгляд, в свою очередь, может основываться лишь на такой философско-методологической установке, которая носит характер своеобразного компромисса между детерминизмом и индетерминизмом. Как известно, детерминистские учения полностью подчиняют человеческое поведение объективным законам, в то время как индетерминистские концепции считают человеческую волю свободной от каких-либо внешних закономерностей и факторов[353]. Выше уже упоминалось, что юридическая наука отказывается от радикальных решений проблемы, отвергая в равной мере и абсолютную обусловленность субъективной воли внешними обстоятельствами, и абсолютное отсутствие зависимости от них. Представляется, что наиболее последовательным развитием этой позиции могло бы стать следующее положение: в области права противопоставление свободного поведения и закономерного поведения вообще некорректно. Свободные поступки индивидов и групп в сфере правового регулирования – это и есть поступки, закономерные с правовой точки зрения, именно потому, что свобода личности является для правовой жизни закономерным атрибутом[354].
В современной философской и культурологической литературе уже практически не оспаривается тот факт, что человеческое существо в своей деятельности воспроизводит некоторые устойчивые «матрицы», которые внушаются ему самой культурой: «всякое соприкосновение отдельного человека с действительностью всегда опосредовано моделями, имеющими надындивидуальный характер…»[355]. Именно такими надындивидуальными моделями являются, в частности, социальные закономерности как объективно срабатывающие типичные связи между фактами и явлениями. Эти закономерности могут рассматриваться как особые культурные образцы («паттерны»), которые, в отличие от социальных норм, создаются не отдельными личностями или группами, а возникают сами собой в процессе социального развития и действуют независимо от их осознания людьми. Закономерность не есть принудительное воздействие на человеческую волю; как писал П.А. Сорокин, «находиться вне вещей и управлять ими закон не может, ибо он сам-то есть не что иное, как обнаружение тех свойств, которыми обладают вещи»[356].
В этом смысле любое социальное действие человека является закономерным настолько, насколько оно мотивировано. Мотивация в данном случае есть точный эквивалент закономерности: во-первых, мотивированность поступка означает его причинную обусловленность; во-вторых, мотивация привносит в человеческое поведение элементы типичности и единообразия. Чем меньше мотивировано то или иное действие, тем меньше в нем закономерного и больше случайного. Но правовая жизнь – как раз такая область, в которой мотивированные поступки встречаются значительно чаще, чем импульсивные и спонтанные, а следовательно, деятельность людей в этой сфере носит максимально закономерный характер.
Однако при этом следует оговориться: любой мотивированный поступок является закономерным с социальной и психологической точки зрения, но далеко не каждый из них закономерен в правовом смысле. В сугубо правовой плоскости закономерными могут считаться лишь такие деяния, детерминация которых типична именно для правовой жизни. Таких деяний в сфере права, на наш взгляд, большинство. Несколько меньшую группу составляют такие поступки, которые закономерны только в общесоциальном, но не в юридическом смысле, т. е., они не охватываются государственно-правовыми закономерностями, не являются типичными для правовой жизни, но подчиняются более общим социальным законам. Наконец, совсем единичны такие случаи, которые не являются закономерными ни с правовой, ни с общесоциальной точки зрения.
В сфере правового поведения наиболее распространенной является так называемая телеологическая детерминация, которая не только не отвергает свободы воли, но непосредственно на ней основывается. Телеологическая детерминация означает, что деятельность субъекта обусловливается не просто сочетанием внешних обстоятельств, но и конкретной целью, которую он ставит перед собой с учетом этих условий; «он полагает определенный эффект в качестве «цели», т. е. соединяет с ним некоторую ценность»[357]. При этом именно государственно-правовые закономерности представляют собой тот фактор, под действием которого люди формируют свою систему правовых ценностей (благ) и выбирают способ достижения этих благ[358]. Можно убедиться, что подобные закономерности сами по себе вовсе не являются препятствием для человеческой свободы. Как верно подчеркнул Н.О. Лосский, «наличность таких необходимых форм не есть уничтожение свободы. Нелепо было бы утверждать, что я лишен свободы ввиду существования закона «2х2=4» или ввиду закона, согласно которому, если я совершу деяние, причиняющее страдание какому-либо существу, то и сам я наверное буду хотя бы частично неудовлетворен своею деятельностью»[359].
Государственно-правовые закономерности вполне совместимы со свободой личности именно потому, что имеют своим источником саму личность: они носят характер не внешней механической силы, а внутреннего органического фактора, двигателя человеческой активности в области права. Как нам представляется, государственно-правовые закономерности в своем возникновении и существовании обладают в полном смысле экзистенциальной природой, т. е. находят объяснение и обоснование во внутреннем мире человека. Что же именно в человеческой натуре служит предпосылкой к складыванию государственно-правовых закономерностей?
Во-первых, это так называемые «законы рационального расчета», или «экзистенциального эгоизма»[360], которые предполагают, что каждый человек в первую очередь стремится действовать в соответствии с собственными интересами и получить от своих поступков определенную выгоду. Разумеется, подобная мотивация отнюдь не является универсальной и единственно возможной[361], однако трудно отрицать, что именно в сфере права большинство действий совершается именно из прагматических побуждений и нацелены на достижение определенного практически ценного, полезного результата.
Во-вторых, базой для государственно-правовых закономерностей служат законы коллективного поведения людей. Право – это область коллективного взаимодействия, в котором очень немногие поступки людей носят действительно единоличный характер. Так, в наше время любой нормативно-правовой акт представляет собой продукт коллективного, а не индивидуального творчества; правоприменительная деятельность также по преимуществу осуществляется в групповых формах, а кроме того, любой правоприменитель в своей работе неизбежно учитывает опыт своих коллег и общую направленность правоприменительной политики в соответствующей области, так что и применение права не может считаться делом индивидуального значения. Даже отдельный гражданин, находящийся в сфере правового регулирования и принимающий какое-либо личное решение, фактически участвует в массовых социальных процессах, поскольку в своем поведении он использует коллективные формы, закрепленные правом – иными словами, соотносит свое поведение с некоторым коллективным образцом.
При этом следует отчетливо помнить, что реализация государственно-правовых закономерностей в поведении индивидов и социальных групп происходит на основе нелинейности, поскольку их действия никогда не предопределяются внешними факторами со стопроцентной вероятностью. Недетерминированных поступков в сфере права не совершается, но в то же время любая детерминация является относительной, носит неоднозначный, вариативный, статистический характер[362]. Как отмечал в этой связи американский исследователь Дж. Уолд, «когда наступает время принять решение и проявить то, что называется свободной волей, то есть сделать выбор, когда такое время приходит, то личность… как уникальный результат неповторимости состава, генетики и истории – эта личность выступает перед нами как некая неизвестная величина. В этот момент никто не предскажет результата, ни посторонний наблюдатель, ни лицо, принимающее решение, потому что никто не имеет необходимой информации. Я сказал бы, что сущность свободной воли не в недостаточности детерминизма, а в непредсказуемости»[363].
В советское время юридическая наука, как известно, связывала понятие свободы с конструкцией осознанной необходимости[364]. В новейшей юридической литературе справедливо отмечается, что эти представления требуют существенного пересмотра, поскольку в действительности свобода «выражается не только в возможности действовать в соответствии с познанной необходимостью, но и вопреки ей. Человек волен в том, чтобы познавать или игнорировать необходимость соотносить свое поведение с объективными условиями жизни»[365]. Отсюда, возможны следующие основные варианты поведения по отношению к государственно-правовым закономерностям.
Во-первых, субъект правовой жизни может проигнорировать существующую закономерность и даже поступить вопреки ей. Однако, по образному выражению А.И. Герцена, «личность, противодействующая всеобщему, попадает на глупое положение человека, бегущего с лестницы в то самое время, как густая колонна солдат поднимается на нее»[366]. Например, в последние несколько лет наблюдается такая закономерность правового развития России, как ее постепенная интеграция в европейскую правовую систему, приближение к стандартам европейского права в области прав человека и в иных сферах правового регулирования[367]. При этом далеко не исключается появление таких нормативно-правовых актов или принятие иных юридически значимых решений, которые будут противоречить этой объективной тенденции. Лица, ответственные за принятие подобных решений, тем самым действуют вразрез с закономерностью государственно-правового развития, хотя тем самым не отменяют ее.
Во-вторых, субъект может поступить в соответствии с данной закономерностью; при этом, если речь идет о подлинной закономерности, то для ее реализации не имеет особого значения, является ли она «осознанной необходимостью» или лицо даже не подозревает о ее существовании. Природа закономерностей такова, что они воплощаются в поведении субъекта независимо от того, знает он про них или нет. Если лицо осознает, что поступает закономерно, само по себе это ничего не меняет в его поведении. Так, именно в этом смысле закономерным является факт внедрения в российское законодательство и практику европейских правозащитных стандартов. Знают ли законодатели о существовании этой объективной тенденции или действуют из соображений конкретной целесообразности, в данном случае несущественно.
Наконец, третий вариант – использование государственно-правовой закономерности. Он отличается от предыдущего тем, что субъект не просто действует в русле закономерности, но при помощи этой закономерности добивается повышения эффективности своих действий. Для этого, как правило, необходимо иметь довольно точное представление о содержании закономерности, хотя теоретически не исключается использование закономерности, основанное не на научном ее познании, а на интуитивном ощущении. Особенность использования закономерности заключается в том, что субъект извлекает из нее дополнительный эффект, который самой закономерностью прямо не предусматривается. Например, предположим, что законодатель обнаружил такой способ сочетания европейских правовых стандартов с традиционными российскими ценностями, который позволит значительно повысить уровень защищенности прав и свобод человека.
Отметим, что в каждом из трех вариантов поведение субъекта правовой жизни может быть как свободным, так и несвободным. Свобода здесь определяется не столько тем, в каком отношении находятся действия субъекта к объективной закономерности, сколько тем, принимает ли он решения самостоятельно или под давлением чужой воли. Можно согласиться с тем, что в области права свободой должна считаться не осознанная необходимость, а возможность совершать действия по собственному выбору, на основании собственных убеждений, интересов и потребностей[368].
Закономерность не направлена против свободы хотя бы потому, что свобода сама по себе существует лишь благодаря закономерности. «Законы, усвоение которых не зависит от воли деятеля, очерчивают сторону гетерономии проявлений деятеля… образуют космическую структуру, в рамках которой открывается простор для бесконечно разнообразных деятельностей»[369]. Государственно-правовые закономерности – это условия и границы, в которых протекает свободная активность субъектов правовой жизни. Конечно, нельзя отрицать, что закономерности в каком-то смысле ограничивают свободу субъектов, сужая круг альтернатив и подталкивая к определенному выбору. Но это ограничение с оборотной стороны является стимулом, поскольку в отсутствие закономерностей никакой выбор был бы вообще невозможен, поскольку отсутствовали бы основания предпочесть какой-либо из вариантов, да и сами варианты не появились бы. Представим себе, что в правовой жизни исчезли все закономерности. Что в таком случае заставит законодателя принимать новые законы, а правоприменителя – толковать и выполнять имеющиеся? Что побудит гражданина вести себя правомерно или противоправно? Само гипотетическое допущение показывает: свобода от закономерностей – это отсутствие жизни, а стало быть, отсутствие свободы.
В отношении человека, являющегося участником правовой жизни, нередко употребляют выражения «правовое существо», или «человек юридический» («homo juridicus»)[370]. Такая терминология, думается, обязывает рассматривать человека как плотно интегрированного во всю систему правовых связей и закономерностей. Невозможно согласиться с тем, что «поиск детерминант и закономерностей, причин и обстоятельств вводит нас лишь в такую реальность, в которой правовое существо не может не чувствовать себя посторонним, а потому вынуждаемым, невменяемым, несвободным, неответственным»[371]. Ведь человек становится «правовым существом» не сам по себе, а лишь тогда, когда он вступает в мир права, попадает в сферу правового регулирования и оказывается под действием государственно-правовых закономерностей. Таким образом, применять к индивиду юридические мерки, оценивать его с правовой точки зрения как свободного или несвободного, ответственного или неответственного можно лишь в том случае, если он уже находится в пределах правовой жизни, а значит, уже испытывает на себе действие ее закономерностей.
Поэтому прав Б.П. Вышеславцев: «свобода имеет свою закономерность, отличную от закономерности природы»[372]. В настоящее время свобода сама становится государственно-правовой закономерностью: если человек поступает в сфере права свободно, то он уже поступает закономерно, поскольку современное право предоставляет каждому возможность самостоятельно и беспрепятственно делать жизненный выбор – «разрешено все, что не запрещено законом». С другой стороны, если человек поступает несвободно, под принуждением – например, находится в заключении, выполняет обременительные обязательства или подчиняется требованиям государственного органа – то и в этом случае он поступает закономерно, ибо государство и право по своей природе не могут обойтись без использования принудительных мер.
Итак, человеческая воля в сфере права определяется множеством закономерностей, но остается свободной и часто непредсказуемой. В целом же взаимодействие объективной государственно-правовой закономерности и свободной воли удачно моделируется в образе шахматной доски[373]. Участники играют по правилам, которые не ими установлены, но в рамках этих правил имеют достаточную свободу выбора. Хотя правила – закономерности – остаются одинаковыми, ходы всякий раз делаются разные, и поэтому практически не бывает совершенно одинаковых шахматных партий. Точно так же в государственно-правовой жизни объективные закономерности, будучи опосредованы человеческой волей, все время реализуются по-разному.
4.3. Право и революция
Любая революция с внешней стороны представляет собой радикальный разрыв с прошлым, выражающийся в скачкообразном, резком изменении основ социально-экономического и политического устройства. Поэтому первой жертвой революции обычно становится правовая система общества, обеспечивающая сохранность социального порядка. Одновременно с этим, впрочем, революция является одним из важнейших источников юридического опыта.
Согласно классическому пониманию юридического опыта, он может рассматриваться в качестве «системы коллективных актов признания «нормативных фактов» и воплощенных в них ценностей»[374]. Но это представление нуждается в некоторых пояснениях, поскольку его автор (Г. Гурвич), как известно, исходил из возможности существования права не только в официально-нормативной форме, но и в виде так называемого «социального права», спонтанно образующегося во всех человеческих сообществах и выражающего коллективную солидарность.
Подобное расширение рамок юридического опыта едва ли продуктивно, поскольку в тогда его составе оказываются едва ли не все существующие варианты нормативного регулирования общественной жизнедеятельности. Это, в свою очередь, отвлекает внимание от особой сферы социальных явлений, обладающих свойствами текстуальности, формализма и императивности – тех явлений, которые традиционно именуются правовыми (юридическими).
Именно поэтому, с нашей точки зрения, юридический опыт можно определить как хранящуюся в коллективной памяти социума информацию о текстуальных формах властного упорядочения социальных отношений.
Здесь, собственно, и обнаруживается основная проблема восприятия революции в качестве источника юридического опыта. Право по своему предназначению призвано закреплять, стабилизировать модель социального устройства; революция, напротив, означает упразднение сложившегося социального порядка вместе с его юридическими атрибутами. Юридический опыт базируется на представлениях о границах дозволенного, о надлежащей процедуре действий, о строгом следовании определенным нормам; революционный процесс есть нечто враждебное любой установленной процедуре, направленное на ликвидацию существующей системы правил. Таким образом, с внешней точки зрения революция, очевидно, выглядит как явление антиправовое и, следовательно, как полная противоположность юридическому опыту.
Однако наряду с этим революции демонстрируют и иного рода свойства. Один из крупнейших теоретиков революции, юрист и религиозный мыслитель О. Розеншток-Хюсси в своем фундаментальном исследовании роняет несколько загадочную, на первый взгляд, мысль: «силы революции и пассивного послушания – это только две стороны одного и того же явления, без которого историческая связь не существует…»[375]. Иначе говоря, революционные ситуации и периоды стабильного правопорядка управляются, в сущности, одними и теми же социальными факторами, под воздействием которых относительно свободно переходят друг в друга.
Разумеется, трудно всерьез утверждать, будто бы причины и движущие силы революции всецело лежат в области права. Но существенный характер связи между революцией и правом подтверждается хотя бы тем, что одной из отличительных черт революции является ее способность к созданию качественно новой правовой системы. Бунт, переворот, восстание также могут привести к серьезным изменениям в области права, но для них это свойство не является обязательным. Революция, напротив, непременно имеет своим результатом юридическое оформление новых принципов общественного устройства.
Таким образом, одним из элементов революционного юридического опыта может считаться «акт признания», выражающийся в констатации кризисного состояния правовой системы. Начало революционных событий свидетельствует не только об ухудшении общего качества жизни, о растущем недовольстве властью, о повышенной политической конфликтности и т. п. Революция происходит в том случае, если отсутствуют правовые средства для преодоления указанных проблем, когда нет легальных механизмов, которые позволили бы осуществить необходимое оздоровление общества. Собственно, любое право неизбежно отстает от реальной социальной динамики, но именно в этом заключается его миссия – обеспечить некоторую степень консервации общества, обезопасить от излишне резких перемен. Вполне естественно, что в особых ситуациях право становится препятствием к принятию оперативных антикризисных решений. Быть препятствием, как известно – одно из наиболее ценных функциональных свойств права. Но не всегда выбор делается в соответствии с правилом: «Fiat justitia, pereat mundus» («Пусть восторжествует юстиция, даже если погибнет мир»). Как правило, инстинкт самосохранения подсказывает обществу противоположный вариант: пожертвовать юстицией.
Более того, революция требует не разового нарушения установленных юридических процедур, а полного отказа от них. Это означает, что революция выносит приговор существующему правопорядку, возлагая на него значительную часть вины за бедственное состояние общества. Поэтому после того, как пик революционных событий остается позади и наступает относительная стабилизация, не происходит восстановления прежних правовых институтов, а на их месте возникают какие-то иные. Революция знаменует собой гибель старого порядка и рождение нового общества, которое нуждается в символическом подтверждении своей новизны.
Характерно, что ни одна революция не ограничивается в сфере права чистым отрицанием. Разрушив прежний правовой порядок, революция практически сразу же ускоренными темпами начинает порождать собственные нормативные формы. Более того, именно великие революции вызывают к жизни появление выдающихся памятников права: так, английская буржуазная революция XVII века создала первую и единственную в истории страны писаную конституцию – уникальный документ под названием «Орудие управления», – а окончание революционного цикла отмечено изданием таких судьбоносных для английской правовой системы законодательных актов, как Билль о правах и Хабеас корпус акт. Великая Французская революция обогатила историю мирового права Декларацией прав и свобод человека и гражданина; первыми шагами Октябрьской революции в России также становятся юридические документы – Декрет о мире, Декрет о земле, Декреты о суде и т. п.
На юридическом фронте революция ведет борьбу одновременно в двух направлениях – во-первых, против существующего несовершенного права, которое олицетворяет собой ненавистный старый порядок; во-вторых, за создание какого-то иного, пока неведомого права, в котором воплотятся идеалы справедливости и нового социального строя.
Концепция «борьбы за право», как известно, разработана Р. фон Иерингом в противовес исторической школе права, которая исходила из того, что для права нормальным является безболезненное, постепенное, эволюционное развитие, не требующее ни революций, ни даже коренных реформ. Иеринг доказывал обратное, а именно то, что единственно возможный путь правового развития предполагает активные усилия отдельных лиц и социальных групп по отстаиванию своих интересов, в том числе самыми бескомпромиссными средствами. Мирное развитие, по его убеждению, для права вообще несвойственно, а все основные завоевания и достижения в истории права сопровождались ожесточенной борьбой. Такая борьба, согласно Иерингу, не только естественна, но представляет собой долг каждого человека по отношению к себе и обществу[376]. Это, кстати, как нельзя лучше согласуется с позднейшим тезисом Г. Гурвича, согласно которому одной из наиболее заметных черт юридического опыта «является крайне драматичный характер такого опыта, преобладание в его структуре элементов антиномичности. Ни один вид непосредственного опыта не разрывается болезненными конфликтами в такой степени, как юридический опыт»[377].
Борьба за действующее, уже существующее право должна происходить, очевидно, в рамках самого этого права. Если лицо, стремясь к обеспечению собственных прав, прибегает для этого к незаконным средствам, то оно в значительной степени лишается возможности ожидать защиты от официальной правовой системы. Таким образом, если удар направлен против самой правовой системы, то речь идет о борьбе за какое-то иное право. Великие революции демонстрируют относительное разнообразие типов права, за которые ведется борьба, при том, что во всех случаях действующий правовой порядок становится мишенью для уничтожения.
В частности, известно, что английская буржуазная революция проходила под знаменем восстановления прежних вольностей и свобод, в умалении которых обвинялась королевская власть; иными словами, в этом случае речь фактически идет о борьбе за прошлое право. Великая французская революция вдохновлялась идеями естественных прав и свобод, принадлежащих от природы каждому и не подлежащих ограничению, но безосновательно нарушаемых при «старом режиме» (борьба за вечное право). Что касается революций в России, то в их идейной основе было заложено представление о том, что самодержавная монархия является тормозом на пути социального прогресса, в некотором смысле мешает прорваться в будущее. Февральская революция была призвана предоставить народу полный объем прав и свобод западного образца, которые при царском режиме допускались неохотно и дозировано. Октябрьская революция также эксплуатировала демократические лозунги в связке с идеями перераспределения собственности, что автоматически требовало построения качественно иной правовой системы (иначе говоря, борьба велась за новое право).
Разумеется, все три разновидности правового идеала носили в значительной степени искусственный, сконструированный характер, однако примечателен сам по себе факт, что объекты «борьбы за право» в ее революционном варианте, видимо, должны занимать ту или иную позицию на воображаемой временной оси по сравнению с действующей правовой системой. Дело в том, что право является одним из тех социальных институтов, которые обеспечивают «связь времен»; как писал об этом П. Бурдье, право «создает гарантии того, что будущее будет создаваться по образу прошлого, что неизбежные изменения и адаптации будут осмыслены и сформулированы на языке, не противоречащем прошлому…»[378]. Такая особо тесная связь права и времени приводит к тому, что революционные силы начинают воспринимать право в качестве своеобразной «машины времени», которая позволяет обществу свободно перемещаться в необходимое ему историческое состояние.
3. Еще одно объяснение того факта, что революция практически сразу облекается в юридические формы, может заключаться в языковой природе права. Поскольку революция рассчитывает на глубокое и необратимое преобразование общества, то она обязана действовать на языковом уровне, который предопределяет собой коллективное восприятие и оценку происходящих событий. «Любая революция, – пишет Розеншток-Хюсси, – должна говорить на новом языке, поскольку она должна повести людей в новом направлении.
В социальном движении последних пятидесяти или ста лет революция присутствует всюду, где обнаружится новый язык без корней»[379].
Право – это и есть тот язык, на котором выговаривается, самовыражается революция, или, точнее, новоявленная революционная власть. Основные элементы этого нового языка, как правило, складываются еще до начала самой революции в структуре радикально ориентированной политико-правовой идеологии. В этом смысле Г. Радбрух имел полное основание утверждать: «Все начиналось с философии права, а заканчивалось революцией»[380]. Великая французская революция опиралась на труды Вольтера и Руссо, Октябрьская революция в России – на массив текстов Маркса и Энгельса, Плеханова и Ленина, Троцкого и Бухарина и т. д. Характерно, что окончательным результатом английской буржуазной революции стала не диктатура Кромвеля, лишенная основательной идеологической базы, а ограниченная (конституционная) монархия, заранее подготовленная такими мыслителями, как Мильтон, Сидней, Локк и др.
Право стабильно функционирующего общества представляет собой описание более или менее привычных, узнаваемых реалий; оно повествует о реально сложившемся и живущем обществе. Именно здесь вполне применимы хрестоматийные слова Маркса: «законодатель должен смотреть на себя как на естествоиспытателя. Он не делает законов, он не изобретает их, а только формулирует, он выражает в сознательных положительных законах внутренние законы духовных отношений»[381]. Но это высказывание идеолога революции не относится к обществу революционной эпохи.
Право революционного времени – это проект несуществующего общества, по сути дела, особая разновидность утопии. Революционное правительство не может дожидаться, пока новые властные институты, права и свободы граждан, основные начала социального бытия сформируются сами собой, как «внутренние законы духовных отношений», чтобы лишь затем выразить их в позитивном праве. Напротив, все эти новшества вначале появляются на бумаге и только после этого становятся свершившимся фактом. Их нужно описать с опережением, как уже существующие и действующие явления, в противном случае они никогда не появятся.
В этом состоит двойственность революционного юридического опыта: с одной стороны, он свидетельствует об ограниченности возможностей права, о его бессилии перед лицом фатальных внутренних и внешних угроз. Эта сложная система процедур и условностей, выступающая гарантом гражданского мира и порядка, в экстремальных условиях обнаруживает свою слабость и рассыпается при столкновении с реальностью истории.
С другой стороны, революционный опыт для права является в известном смысле триумфальным. Речь идет даже не о том, будто бы революции помогают освободиться от устаревших институтов и способствуют дальнейшему совершенствованию права. В конце концов, необратимость правового прогресса вызывает сомнения, и многие революции (например, Октябрьская социалистическая революция в России) внесли в развитие права, мягко говоря, далеко не однозначный вклад.
Дело в том, что революция сопряжена с поражением и гибелью лишь отдельно взятой правовой системы, но не права в целом, как социального института. Напротив, революционный опыт подтверждает универсальность и незаменимость права в качестве средства социокультурной интеграции, поскольку вслед за разрушением старого правопорядка революционные силы почти немедленно вынуждены сами обращаться к правовой форме для внедрения и легитимации новых принципов общественной жизни.
Соответственно, бытующее мнение о неправовом или антиправовом характере революционных обществ является по меньшей мере неточным. Отсутствие права может иметь место как сугубо временный и притом краткосрочный эпизод в развитии революционных событий. Разумеется, если оценивать революцию с точки зрения предшествующего ей правового порядка, то ее неправомерность будет очевидной. Например, вывод о том, будто социалистическая революция в России представляла собой «отрицание права», а нормативные установления коммунистической диктатуры были анти-правовыми[382], вытекает из того, что право отождествляется с буржуазными принципами свободы, формального равенства, частной собственности и т. п.; иными словами, с конкретным содержанием одной из исторически возможных правовых систем. Это доказывает, на наш взгляд, что содержание права является его изменчивой и наиболее случайной стороной, а устойчива и существенна в данном случае форма.
Важен с точки зрения юридического опыта вопрос о механизме зарождения нового правового порядка и его соотношении со старым. Движущие силы революции развиваются внутри общества, следовательно, испытывают на себе то или иное воздействие права. Чтобы общество сохраняло устойчивость, в его структуре должны присутствовать участки пониженной социальной упорядоченности; эти проявления энтропии выполняют созидательную функцию, поскольку без них социальная система не имела бы резервов самоорганизации. С точки зрения синергетического подхода, зоны социальной аномии необходимы системе для поддержания собственной жизнеспособности, как источник самоорганизации[383].
Так или иначе, идеологическая и организационная подготовка революции берет свое начало в тех сферах общественной жизни, которые находятся в конфронтации с официальной культурой и политикой. Такие враждебно настроенные элементы, несущие в себе явную опасность для социального целого, обычно преследуются властью, в том числе с использованием юридических средств. Поэтому можно сказать, что движущие силы будущей революции находятся по отношению к старому порядку не только в политической, но и в юридической оппозиции.
Юридический опыт для отдельных индивидов и социальных групп может носить травматический характер, то есть быть источником негативных переживаний (дискриминация, имущественные потери, лишение свободы и т. п.). Подобный травматичный опыт, накапливаясь в обществе, может становиться дополнительным условием, способствующим революции: индивиды утрачивают лояльность к правопорядку, который причиняет им страдания. Как замечает Розеншток-Хюсси, особенности революций в числе прочего определяются тем, в каких условиях проходят встречи будущих лидеров: «Суровый характер большевизма вытекает из того характера мест для встреч, которые революционная группа имела в ссылке. Большевики встречались в ссылке и в тюрьме, в Швейцарии и Германии, во Франции и в Сибири»[384]. Для революционера такие биографические факты, как наличие официального статуса преступника, число приговоров, продолжительность пребывания в тюрьме или ссылке, были залогом доверия соратников и вхождения в элиту революционного движения. Именно конфликт с правопорядком позволял сформировать непримиримость к устоям общества, подлежащим разрушению.
Если признать, что революция по своей природе и истокам может считаться не только политическим, экономическим, но и правовым явлением, то становится объяснимым, почему во главе революции столь часто оказываются люди с юридической подготовкой (изучавший право в университете Кромвель, адвокат Робеспьер, помощник присяжного поверенного Ульянов). В этом качестве востребован не столько ученый-теоретик, который понимает право на умозрительном уровне, сколько человек действия – юрист-практик, причем не обязательно успешный. Он обладает достаточным знанием существующего правового механизма, чтобы найти способ его разрушения. Гражданин, не сведущий в вопросах права, может считать правовую систему несправедливой и несовершенной, но только юрист знает, что она к тому же слаба и уязвима. Одновременно юрист в роли лидера революции выступает своеобразным передаточным звеном, гарантом того, что на месте прежнего правопорядка сравнительно быстро возникнет новый и что период беззакония не затянется слишком надолго.
Таким образом, парадоксальность революционного юридического опыта заключается еще и в том, что революционный авангард должен относиться к правовой системе с достаточной неприязнью, чтобы стремиться к ее уничтожению, но одновременно быть достаточно осведомленным в этой области, чтобы суметь воссоздать правовой порядок в случае победы революции.
Далеко не случайно то, что сам термин «революция» восходит к латинскому «revolvere» – «возвращение». Правовая система прежнего общества, будучи упраздненной в ходе революции, сравнительно быстро восстанавливается в основных своих параметрах, хотя и с новым институциональным обликом. Действительно, после любой революции сохраняются опорные конструкции правовой системы – закон, правосудие, собственность. Меняются только их наименования, формы, субъекты и др., но не природа и функции этих базовых институтов права.
Собственно, революция наследует и все очевидные пороки прежней правовой системы, которые не только не исправляются, но порой даже усиливаются – несправедливые законы, произвольные налоги, жестокие уголовные наказания свойственны для любого нового порядка не менее, чем для старого. Революция в действительности не стремилась к решению этих проблем, а всего лишь пользовалась ими как предлогом для ускоренной модернизации, которая только в отдаленной перспективе может привести к некоторому улучшению жизни людей.
Всплеск насилия, характерный для любой революции на определенном этапе ее развития, вовсе не является полностью стихийным, но в значительной степени легализуется новой властью, представляя собой элемент правовой политики (террор обычно начинается не спонтанно, а объявляется специальными юридическими актами).
Дело в том, что старый порядок имеет по меньшей мере одно преимущество перед революционным правом: он опирается на силу традиции и массовой привычки, а значит, не нуждается в постоянном подкреплении насильственными методами. Суровость и репрессивность революционного права во многом является компенсацией его внутренней слабости, отсутствия подлинной убедительности. По этой же причине оказывается необходимым демонстративное физическое устранение лица, символизирующего собой весь прежний правопорядок.
Тем не менее противоборство старой и новой правовых систем может затягиваться на некоторое время. Поэтому революция дает обществу достаточно редкостный опыт, именуемый в научной литературе «правовым плюрализмом»: он понимается как ситуация, когда в какой-либо стране, провинции или регионе сосуществуют более двух разных правовых систем и в одной и той же ситуации может применяться каждая из них[385]. Впрочем, представление о правовом плюрализме в современной юридической антропологии отличается некоторой непоследовательностью, поскольку его обычно распространяют на такие явления, которые выходят за пределы приведенной трактовки. В частности, правовой плюрализм чаще всего усматривают в том, что различные социальные, культурные, этнические группы (меньшинства) в рамках одного общества могут вырабатывать и соблюдать собственные нормативные порядки. Однако здесь, очевидно, не происходит никакого «сосуществования правовых систем», а налицо лишь множественность нормативных регуляторов; говорить в таких случаях о правовом плюрализме – значило бы отождествлять понятия «право» и «норма», т. е. отрицать существование каких-либо форм регламентации совместной жизни, кроме права – тогда все правила поведения действительно могли бы рассматриваться как различные типы права. Но стирание различий между «правом» и «правилами» явно противоречит сложившейся терминологической традиции. Если же подобные «неофициальные» нормативные порядки поддерживаются и санкционируются государством (как, например, крестьянское или инородческое обычное право в дореволюционной России), то здесь опять-таки речь не идет ни о каком сосуществовании разных правовых систем, а лишь о единой правовой системе, вмещающей в себя различные нормативные подсистемы в качестве составных частей.
Однако именно в периоды революций общество сталкивается с реальным опытом правового плюрализма, поскольку появляются различные центры власти, каждый из которых действует путем издания общеобязательных нормативных требований. Эти центры власти могут представлять собой реликты прежнего социального строя или конкурирующие между собой группировки революционных сил. Например, в первые годы Советской власти в России, как известно, активно функционировали не только институты власти, сформированные большевиками (ВЦИК, Совет народных комиссаров и др. с их местными органами), но и различные правительства, созданные белогвардейскими войсками на контролируемых ими территориях, а в течение короткого времени – еще и выборный представительный орган, Учредительное собрание. Все эти органы занимались нормотворческой деятельностью, и по формальным признакам исходящие от них нормативные установления носили юридический характер. Вместе с тем они не составляли единой системы, поскольку отрицали юридическую силу друг друга.
Какая же из этих нормативных общностей может и должна считаться правом? Решить этот вопрос при помощи таких критериев, как «действенность», «исполняемость» и т. п., представляется затруднительным. Постфактум, разумеется, юридический характер признается только за «нормативной продукцией» победившей стороны. Однако в период противостояния едва ли можно определить, чье нормотворчество более результативно с точки зрения числа подчиняющихся ему людей. Во-первых, в революционные эпохи степень повиновения нормативным требованиям вообще существенно снижается, от кого бы они ни исходили. Во-вторых, бурный и драматический характер революционных событий, очевидно, делает невозможным точное исчисление актов правомерного поведения в сравнении с количеством противоправных деяний. Соответственно, оценить уровень исполняемости нормативных установлений, исходящих от различных субъектов власти, также оказывается невозможным.
Таким образом, единственным точным критерием остается внешняя форма, которая в том или ином виде выдерживается всеми органами, претендующими на завоевание власти. Поскольку на каждой территории таких субъектов может быть несколько, то издаваемые ими нормы являются юридическими в одинаковой степени, что и позволяет квалифицировать данную ситуацию в качестве «правового плюрализма».
Это положение дел сохраняется до того момента, пока одна из конкурирующих сил не одерживает верх в борьбе и не завладевает монополией на форму права. Это означает, что централизованная власть в императивном порядке объявляет, какие источники права она признает, кем и в каком порядке они могут создаваться и каким способом должны доводиться до сведения общества. Другие претенденты на власть подавляются, прекращают свою нормотворческую активность, и в этот момент состояние правового плюрализма завершается.
Тем не менее даже после этого революционное право не обретает устойчивого статуса. Дело в том, что формальное господство одного нормативного порядка еще не означает, что его социальная миссия реализована. Чтобы производить необходимое интегративное, мобилизующее и управляющее действие на людей, право должно обладать сильными суггестивными качествами, т. е. быть инструментом коллективного внушения. У адресатов правового регулирования не должно быть сомнений в том, что требованиям права следует подчиняться. При этом их «акт признания» должен распространяться на всю систему правовых норм, ведь невозможно обосновывать целесообразность каждого отдельного требования.
В рамках «старого» (дореволюционного) правопорядка, как уже отмечалось, это внушение опирается на силу традиции и привычки; правовые императивы воспринимаются как часть устоявшегося образа жизни, что обеспечивает относительно высокий уровень их соблюдения. Нововведения революционной эпохи этим свойством не обладают, что требует, кроме прочего, обращения к силовым и количественным способам легитимации.
Силовая составляющая выражается в том, что революционным законам, как правило, в той или иной степени свойственна жестокость, вызванная не только борьбой с врагами, но и необходимостью показать мощь новой власти и права. Способность закона стать причиной человеческой смерти есть наглядное свидетельство того, что закон не является пустой формальностью. Показательные судебные процессы, проводимые по упрощенной процедуре и завершающиеся смертными приговорами, являются признаком того, что революционное право еще не обрело устойчивого качества[386]. Однако в какой-то момент жертвами этих процессов становятся сами вожди революции, и это означает, что правовые институты уже набрали собственную силу и стали самостоятельным фактором социальной жизни, а не орудием в руках отдельных личностей.
Другое направление легитимации революционного права основывается на том, что относительная слабость его регулятивных возможностей в какой-то мере компенсируется количеством издаваемых правовых актов. Тем самым демонстрируется, что правовая система способна порождать новый нормативный материал и, следовательно, является жизнеспособной. Новый правопорядок стремится заполнить созданные революцией вакуумы в нормативном регулировании общественных отношений и тем самым выйти на уровень дореволюционного права хотя бы в количественном отношении.
Так, в Советской России вплоть до конца 20-х годов наблюдалась повышенная интенсивность правотворчества даже на самых низовых уровнях: «На местах «народное правотворчество» развивалось как самостоятельный жанр. В некоторых районах Астраханского, Сталинградского, Саратовского округов в неделю выходило несколько десятков постановлений»[387].
Вступление правовой системы в устойчивую фазу характеризуется тем, что снижается репрессивный накал и объемы правотворчества становятся умеренными. Тем самым революционный этап правового развития заканчивается.
Итак, революционный юридический опыт является амбивалентным по своей смысловой направленности. Он демонстрирует относительную хрупкость традиционного правового порядка, которая проявляется в периоды социальных кризисов, причем в первую очередь это касается правовых систем, построенных по жестко иерархическому принципу и нацеленных на централизованное упорядочение общественного целого. Такие правовые системы, не обладающие достаточным ресурсом гибкости, сравнительно легко разрушаются в агрессивной среде. Вместе с тем революция представляет собой не просто стремительный демонтаж старого правопорядка, но и своеобразную форму «борьбы за право». Право в революционных условиях проявляет удивительные способности к самовоспроизводству: исчезнув под натиском революционных сил, оно сравнительно быстро возрождается в обновленной форме. Минуя временный период правового плюрализма, обусловленного наличием нескольких альтернативных правотворящих инстанций, общество переживает этап репрессивного права и неизбежно приходит к монистическому правовому устройству, опирающемуся на власть юридической формы и процедуры.
4.4. Цикличность государственной идеологии и ритмы государственной политики России
4.4.1. Линейное и цикличное измерение государственных закономерностей
С одной стороны, история – это наука, изучающая всевозможные источники о прошлом с целью установления последовательность событий, определения объективности описанных фактов и формулирования выводов о причинах и следствиях событий. С другой стороны, история – это сам процесс становления, развития, трансформации объектов социально-культурного мира: человечества в целом, государства, права, религии, науки и т. п.
Процессуальный подход к пониманию истории актуализирует проблему определения границ задающих масштабы и определяющих перспективы исторического движения.
Традиционно, социальная история представляется в качестве линейного вектора, задающего направление развития от начальной точки – появления человека как биологического вида – homo sapiens в бесконечность. Вплоть до недавнего времени основным подходом к масштабированию линейной истории являлся формационный, в рамках которого история воспринималась в качестве меняющих друг друга общественно-экономических формаций.
Впервые в контексте философии истории термин «формация» в его категориальном значении был употреблен К.Марксом в книге «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Родовым по отношению к категории общественной формации выступает понятие человеческого общества как обособившейся от природы и исторически развивающейся социально-культурной формы жизнедеятельности людей. В любом случае общественная формация представляет исторически определенную ступень развития человеческого общества, исторического процесса.
Базовыми звеньями формационного развития выступает «формационная триада» – три макроформации. Формационная триада была представлена К. Марксом в виде первичной (архаической) догосударственной общественной формации основанной на общей собственности на средства производства и уравнительном распределении материальных благ; вторичной (экономической) государственной общественной формации, основанной на частной собственности на средства производства и эксплуататорских отношениях в сфере производства и распределения материальных благ; третичной (коммунистической) постгосударственной общественной формации основанной на общественной собственности как на средства производства, так и на произведенные материальные блага.
Говорить о государственно-правовых закономерностях можно только применительно к вторичной формации. При этом следует иметь в виду, что государство и право, для представителей формационного подхода, выступают в качестве инструментов классового господства, существующих до тех пор пока существуют классы и классовая борьба. Основной закономерностью в рамках экономической формации является повторение классовых конфликтов между эксплуататорскими и эксплуатируемыми классами. Классовый конфликт есть двигатель социального прогресса. Отмена частной собственности, слияние классов и стирание разницы между городом и деревней влекут отмирание государства и права. Таким образом, имеет место завершение государственно-правовой истории и связанных с этой историей закономерностей.
Социально-исторический цикл представляет замкнутый на себя этап истории государства и права. Точка начала и завершения цикла являет собой нулевую отметку. Рождение есть переход из ничего в нечто, смерть/разрушение, распад – переход из нечто в ничто. Можно говорить о линейности истории народа, земли, веры, но государству и праву, так же как и отдельным людям, свойственно рождаться и умирать.
В рамках циклической истории следует выделять закономерности двух типов: закономерности развития в рамках длящегося цикла и закономерности смены циклов.
Закономерности государственно-правового развития в рамках длящегося цикла измеряются событиями, характеризующими возникновение и становление государственных институтов и механизмов правового регулирования (это своего рода рождение и юность государства)[388], фазу государственно-правового «среднего возраста» характеризующего стабильное состояние государственно-правового развития, государственно-правовую аномию, обусловливающую снижение эффективности государственно-правового управления, нарастание кризисных тенденций и обусловленной этими тенденциями социальной напряженности, пиком кризиса является политико-правовой хаос, фактическое безвластие – охлократия. Возникновение нового государства и права происходит в условиях открытого гражданского конфликта и во всех случаях связано с установлением диктаторской авторитарной формы правления.
Закономерности смены циклов определяются по методике кругового и спирального развития. Круговой цикл в прямом смысле «замкнут на себя». Всякий раз в конечной фазе происходит обнуление баланса, история начинается с отрицания позитивного опыта предшествующего периода и его негативной критики осуществляемой идеологами «новой» государственно-правовой политики. Развитие по спирали предполагает использование наследия прошлого выраженного в государственно-правовой традиции и культуре для формирования государственно-правового настоящего. Спираль не обязательно означает прогресс как форму улучшения политикоправовой реальности, но это в любом случае качественное изменение ее смысла и содержания.
Россия и Запад, являются самостоятельными государственно-правовыми конструкциями взаимодействие между которыми не носит интегративного характера. Запад развивается по спиральной цикличности: можно выделять античный (дохристианский), патримониально-теологический и политико-правовой (длящийся в настоящий период) циклы. Россия развивается по круговому циклу, в пределах которого воздвигаются и разрушаются вертикали власти и формируемые властью управленческие отношения. При этом название модели этих отношений большого значения не имеет. Это может быть и империя, и «высшая форма демократии – диктатура пролетариата» и «суверенная демократия». Неизменным остается одно: вертикальная иерархия системы управления, в рамках которой государство олицетворяется в бюрократическом аппарате, по сути своей, владеющим страной и народом. В таком понимании, «государство» есть смысловая конструкция характеризующая уровень политико-правового развития России и, вместе с тем, критерий выявления закономерностей динамики круговой цикличности отечественной истории, включая идеологию.
Идеология – это: 1. Система взглядов, идей, представлений, характеризующих то или иное общество. 2. Совокупность связанных между собой идей и требований, выступающих как основа конкретных действий, решений[389].
Опираясь на приведенную дефиницию, можно сформулировать определение государственной идеологии как совокупности идей и взглядов характеризующих конкретное государство на определенном этапе его исторического развития и определяющих его внутреннюю и внешнюю политику.
Государственная идеология является важнейшей сущностной характеристикой любого государства, определяющей смысл государственной деятельности и ее направленность.
4.4.2. Ритмы государственной политики
Рассмотрение государственной политики в качестве динамической категории существующей и изменяющейся в рамках определенного социо-пространственно-временного континуума, позволяет говорить о ней как о циклической системе, подчиняющейся в своем развитии определенным ритмам. В качестве фактора определяющего и задающего ритм правовой политики выступает организация публичной политической власти. Л.А. Тихомиров в своей работе «Монархическая государственность» отмечает, что «несмотря на общность целей и сходство средств политики всех государств, различие между политикой монархии, аристократии и демократии неизбежно существует. Это зависит от различия свойств верховных принципов. В общем арсенале политики есть средства действия, наиболее подходящие для одной формы Верховной власти, наименее для других. Для того, чтобы осуществлять цели государства наиболее действительно, быстро и экономно, нужно уметь пользоваться именно той силой, теми свойствами, которые представляет данная верховная власть; пробуя при ней действовать по незнанию или недоразумению так, как это свойственно какой-либо другой форме верховной власти, мы можем только истощать и компроментировать свою… Сознательная подделка какой-либо формы верховной власти под способы, действия другой не имеет ни малейшего смысла. Государства, сознательно подделывающиеся под формы действия других, неизменно осуждены на гибель»[390]. Интересно, что строки эти написаны человеком, в молодости активно участвовавшим в деятельности террористической организации «Земля и воля», ставящей перед собой задачу уничтожения монархического правления в России, а в зрелом возрасте пришедшим к вере и ставшим крупнейшим идеологом монархизма и видным религиозным философом. Если применить сказанное к истории российской государственности, то нетрудно заметить, что на всех этапах политика российского государства тяготела к монократическим формам правления, основанным на выстраивании иерархической пирамиды (вертикали) публичной власти замыкающейся в своей вершине на фигуре персонифицированного главы – «правителе, а, по сути, хозяине земли русской». При этом не столь важно как в формально-юридическом смысле именовалась должность занимаемая «Верховным правителем» – великий князь, царь, император, генеральный секретарь ЦК партии, президент[391]. На всех этапах отечественного политогенеза (и современный этап исключением не является) государственная политика осуществлялись в ритме задаваемом «сверху». Так же как в симфоническом оркестре музыканты подчиняются дирижеру, так же и в политике исходящей от централизованной государственной бюрократии основные властные полномочия сосредоточены у «главного государственного чиновника» дирижирующего «бюрократическим оркестром». Возникает вопрос: можно ли в условиях системы централизованной публичной политической власти в положительном контексте говорить о ее разделении? Безусловно, нельзя. Сама природа централизованной власти исключает ее разделение, а, следовательно, и оценивает разделение исключительно в негативном смысле. Государство – это, прежде всего, государственный суверенитет, означающий верховенство и независимость государства по отношению ко всем другим субъектам политических отношений. По сути своей, суверенитет и есть высшая власть, принадлежащая государю, и не подлежащая какому бы то ни было ограничению (за исключением собственной совести и божественной воли) делению, либо делегированию.
Ритм правовой политики централизованного государства – это ритм единого строя подчиненного строевому уставу и воле командира-единоначальника. Отсутствие командира, либо, что еще хуже появление нескольких начальствующих субъектов в равной степени претендующих на высшие командные полномочия превращает порядок в хаос, а мелодию суровых, но справедливых и единственно верных приказов Верховного главнокомандующего в какофонию безудержной борьбы за власть приводящей к властному произволу победителей по отношению к проигравшим (в числе которых в любом случае оказывается простой народ).
Применительно к российской истории случаи практического разделения властей связываются со «смутными временами» влекущими многочисленные беды и невзгоды. А.Н. Медушевский отмечает: «Аморфность и беззащитность общества, в том числе и верхних его слоев, слабость среднего класса и отсутствие западных традиций борьбы за политическую свободу…, а главное, внешний, навязанный характер государственного начала при проведении социальных преобразований сделали непрочной всю социальную систему, для которой в принципе были характерны лишь два взаимоисключающих состояния: механическая стабильность, переходящая в апатию (в периоды усиления государственного начала) или обратное состояние – дестабилизация, переходящая в анархический протест против государства (в случае его слабости). При отсутствии стабильности возникает тенденция к «параду суверенитетов». Когда система вновь восстанавливается, возникает тенденция к «собиранию земель», ведущая к централизации, доходящей до абсолютизма»[392].
Получается, что основной целью, задающей направленность и определяющей содержание политики российского государства (независимо от правовой формы ее выражения) является обеспечение единства социально-политической системы на всех ее уровнях и во всех проявлениях.
В области публичной власти принцип единства реализуется посредством неделимого государственного суверенитета; в сфере права, означает «подгосударственный» характер принимаемых законодательных актов, а также «прогосударственную» направленность юридического процесса, продолжающего тяготеть к приоритету публичного интереса по отношению к частному, а также к доминированию обвинительного уклона уголовного следствия и правосудия над состязательным.
Ритмичность как свойство правовой политики, предопределяет необходимость выявления кодировки, при помощи которой закрепляются базовые социальные ценности с достижением и обеспечением которых связывается деятельность государства.
Применительно к правовой политике государств относящихся к системе традиционной западной демократии, в качестве такого кода может быть названа триада «Свобода. Равенство. Братство». При этом ключевым словом является «Братство», означающее солидарность и партнерство юридически равных и свободных личностей (физических и юридических), обладающих определенным объемом неотъемлемых прав и законных интересов, реализуемых в договорных формах.
В свою очередь в странах ранее относящихся к социалистической правовой семье, а в настоящее время находящихся на постсоветской стадии социально-политического развития, в ходу была иная триада: «Мир. Труд. Май». Несмотря на кажущуюся бессмысленность, в ней тоже есть определенная логика.
Слово «мир» обозначает в русском языке три важнейших смысловых образа: это, во-первых, все, что окружает человека, т. е. рассматриваемые в совокупности природные и культурные явления во всевозможных их проявлениях (отсюда «бесконечность мироздания»; многообразие миров и т. п.), во-вторых, общность людей связанных неразрывными «кровно-родственными» и духовными связями (отсюда «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»)[393], а в-третьих, состояние «невоенного» существования государства и общества. В отличие от западной политико-правовой культуры, базирующейся на разделении индивидуальных, корпоративных и государственных интересов, а также на отделении государства от общества и церкви, российская культура оперирует миром как целостной, неразделяемой категорией, в которой интересы отдельной личности (коллектива, корпорации), производны от публичных интересов государства и вторичны по отношению к ним.
«Труд» является основной доминантой социалистической правовой политики («Кто не работает, тот не ест»; тунеядство – состав преступления по советскому УК), отсутствие частной собственности и формальный запрет экономической эксплуатации человеком человека, придает труду характер единственного легального средства экономического жизнеобеспечения. В отличие от советской традиции, на Западе, труд обязательным не является и, в силу этого не обеспечивается системой развернутых государственных гарантий и санкций. Одним из проявлений личной свободы является «свобода труда», предполагающая возможность самостоятельного выбора человеком вида и характера своей жизнедеятельности. Индивид самостоятельно и добровольно принимает решение о том, в какой сфере социальной деятельности он будет осуществлять профессиональную трудовую деятельность и будет ли трудиться в принципе.
Третье слово «май», действительно в связи с двумя ранее «расшифрованными» кодами, смысла не имеет. Вместе с тем оно необходимо для завершения триады, посредством замены «неудобного» выражения «удобным». Если же следовать логике ритма социалистической (постсоциалистической) правовой политики, то заключительным словом должен быть «страх», являющий собой цементирующую основу для мира и выступающий наиболее действенным стимулом для труда, в отношении которого государство применяет неэкономические формы эксплуатации.
В мире тружеников сплоченных в единую общность «многонациональный народ» страхом перед механизмом государственного принуждения, идеалом публичной политической власти является «симфония властей» подчиненных в своей организации и функционировании единой мелодии под названием государственная (национальная) идеология и «всемогущему» дирижеру – главе государства, в руках которого сосредоточены практически абсолютные властные полномочия.
Глава 5 Право и правовой статус личности
5.1. Теория правового статуса личности
Вопросы правового статуса личности составляют важное направление как общетеоретической, так и отраслевых юридических наук. Это обусловлено целым рядом объективных причин, в том числе происходящими в современных государствах процессами демократизации и гуманизации социально-правовой действительности. На первый план как во внутригосударственном, так и в международном праве выходит человек, его права и свободы. Как подчеркивают ученые, права личности играют главную структурообразующую роль в процессе становления права в целом[394].
Высшая ценность прав и свобод человека, его благосостояния и достоинства была подчеркнута на проходившей в 1999 г. в Будапеште Всемирной конференции «Наука для XXI века: новые обязательства». В пункте 39 принятой на ней Декларации о науке и использовании научных знаний подчеркнуто: «Проведение научных исследований и использование их результатов всегда должно иметь целью достижение благосостояния человечества, быть проникнутым уважением к достоинству и правам человека, к охране окружающей среды, а также полностью учитывать нашу ответственность перед нынешним и грядущим поколениями»[395]. Как справедливо отмечает Е. А. Лукашева, права человека «сами по себе являются важнейшей проблемой гуманитарных наук и требуют постоянного исследования динамики и трансформации этого явления в связи с новыми процессами современного мира, ещё более поднимающими значимость и ценность этого явления»[396]. В период проведения правовых реформ, направленных на построение правового государства, подчеркивают ученые, личность должна находиться в центре внимания юристов[397].
Указанные факторы обусловливают наличие многочисленных работ, посвященных правам и свободам индивида, но большинство из них носит отраслевой, специальный характер. Это делает актуальным комплексное общетеоретическое исследование более емкой юридической конструкции – правового статуса, сердцевиной которого и выступают субъективные права и свободы личности. Как верно подчеркивают ученые, правовой статус – это одна из важнейших политико-юридических категорий, которая «неразрывно связана с социальной структурой общества, уровнем демократии, состоянием законности»[398]. Правовой статус – это сердцевина нормативного выражения основных принципов взаимоотношений между личностью и государством: по своей сути он представляет собой систему эталонов, образцов поведения людей, поощряемых и защищаемых от нарушений государством и, как правило, одобряемых обществом[399]. Особое внимание в данном исследовании будет уделено проблеме определения понятия, структурно-видовых особенностей и содержанию такой его разновидности, как экономико-правовой статус.
Чтобы сформулировать понятие экономико-правового статуса личности, необходимо начать с дефиниции правового статуса как такового.
Сам термин «статус» означает «положение», «состояние»[400]. Каждый индивид как член общества занимает в нем определенное положение, то есть обладает социальным статусом. Социальный статус личности обусловливается целым рядом объективных и субъективных факторов и проявляется в различных формах. В частности, как только индивид становится членом государственно-организованного общества, строящегося на правовых началах (в отличие от первобытного общества, опирающегося на мононормы), его социальный статус приобретает правовую форму через закрепление в соответствующих юридических нормах. Это не означает, однако, трансформацию социального статуса в некий новый правовой статус. Правовой статус личности отражает её социальное положение[401], которое характеризуется «системой реально складывающихся социальных возможностей в жизнедеятельности индивидов, направленных на удовлетворение их потребностей и интересов»[402]. Последнее же может определяться не только правовыми, но и иными социальными нормами. То есть правовой статус выступает органической частью социально-нормативного статуса и соотносится с социальным статусом, как форма и содержание[403]. В правовом статусе отражаются все основные стороны юридического бытия индивида: его интересы, потребности, взаимоотношения с государством, трудовая и общественно-политическая деятельность, социальные притязания и их удовлетворение[404]. Он персонифицирует индивида как своего рода юридическую личность, существующую в правовом поле. Так, М. Ф. Орзих подчеркивает, что на правовом уровне структуры личности «сущностно-содержательные качества человека преобразуются, создается юридическая модель личности как фиксация системы её качеств, обеспечивающих возможность включения человека в государственно-правовую сферу общественной жизни»[405]. Одной из главных качественных характеристик такой личности становится её политико-правовая связь с конкретным государством, то есть гражданство. Отсюда и идентификация индивида не просто как физического лица, а как гражданина (или, соответственно, иностранца, бипатрида, апатрида).
Закрепляя правовое положение личности, государство юридически определяет её положение как субъекта права. Как подчеркивает Н. В. Витрук, человек не становится субъектом права сам по себе: он признается таковым законами государства, которое юридически признает за ним определенные социальные свойства, необходимые для участия индивида в правовых связях и отношениях. Без этих социально-юридических качеств, признаваемых за индивидом со стороны государства, нет субъекта права. Данные качества аккумулируются в понятие правосубъектность личности[406].
Таким образом, правовой статус в самом общем виде можно определить как правовое, то есть юридически закрепленное, положение личности в обществе[407].
Однако в юридической литературе даже это весьма абстрактная дефиниция вызывает дискуссии, в частности, по поводу соотношения понятий «правовой статус» и «правовое положение». Проблема здесь состоит в том, какие элементы включать в данные понятия. Очевидно, что правовое положение (или статус) личности определяется, в первую очередь, её юридически закрепленными правами и обязанностями. Так, в «Большом юридическом словаре» правовой статус человека характеризуется как система признанных и гарантируемых государством прав, свобод и обязанностей, а также законных интересов человека как субъекта права[408].
Однако, стремясь показать все социально-юридические качества личности как субъекта права в их единстве, ученые предлагают раскрывать правовое положение индивида более широко, комплексно, не сводя его лишь к системе юридических прав, свобод и обязанностей. Так, Е. И. Колюшин отмечает, что взгляд на взаимоотношения человека с государством и обществом как на сложную систему не позволяет сводить правовой статус только к соответствующим правам и свободам[409]. Воеводин Л. Д. также обращает внимание на необходимость выработать «такой вариант понятия правового статуса, который давал бы полное представление о месте человека и гражданина в обществе и государстве»[410]. Н. И. Матузов подчеркивает, что правовой статус «охватывает по существу всю сферу юридических связей и отношений между личностью и обществом»: «Всё то, что так или иначе законодательно определяет и закрепляет (оформляет) положение личности в обществе, входит в понятие правового статуса»[411].
В качестве элементов правового статуса следует рассматривать:
– правовые нормы, устанавливающие данный статус;
– правосубъектность;
– основные права и обязанности (составляют ядро правового статуса);
– законные интересы;
– гражданство;
– юридическую ответственность;
– правовые принципы;
– правоотношения общего (статусного) типа[412].
По мнению Н. В. Витрука такое расширенное понимание правового статуса нуждается в конкретизации. Ученый предлагает различать два самостоятельных понятия – правовое положение (статус) личности в широком смысле и правовое положение (статус) в узком смысле – отражающих явления, реальную связь между которыми можно определить как отношение целого и части. Правовое положение – это «широкая обобщающая категория, которая раскрывает все стороны закрепленного в праве состояния личности, охватывает все её социально-юридические признаки, качества»[413]. Правовое положение выступает как юридическая конструкция, включающая в качестве элементов систему юридических прав, обязанностей и законных интересов личности, которые в единстве образуют правовой статус личности, а также гражданство и правосубъектность как необходимые предпосылки правового статуса личности и юридические гарантии прав, обязанностей и законных интересов личности. Таким образом, правовой статус, для Н. В. Витрука, выступает ядром правового положения личности[414].
Также разграничивает понятия «правовой статус» и «правовое положение» В. А. Кучинский. В качестве элементов правового статуса он рассматривает устанавливаемые законодателем и выражающие государственную волю объективные права и обязанности. Правовое положение, представляется как более широкое понятие, включающее наряду с объективными и субъективные элементы – гражданство, правосубъектность, субъективные права и обязанности. Оно представляет собой единство статических и динамических, объективных и субъективных моментов, выражающих не только правовое закрепление (как правовой статус), но и реализацию в определенных юридических формах свободы личности[415].
На наш взгляд, подобное разграничение несет в себе верную идею о полиструктурности правового положения личности, сочетающего в себе объективные и субъективные элементы, но, поскольку «статус» и есть «положение», данные понятия должны использоваться как взаимозаменяемые. Как справедливо подчеркивает Д. И. Луковская, различение правового статуса и правового положения (первое – как часть, ядро второго) «оказывается смысловым удвоением одного и того же термина: статус – это и есть положение, состояние личности»[416]. Иной позиции придерживается Н. И. Матузов, утверждающий, что понятия «правовой статус» и «правовое положение» тождественны. По мнению ученого, разграничивать надо не правовой статус и правовое положение (подобные попытки разграничения представляются ему «неоправданными и малоплодотворными») одних и тех же субъектов, а правовой статус (положение) различных субъектов, если брать их в различных социальных качествах и ролях[417].
Высказывались также предложения ввести совершенно новый термин для обозначения правового положения (статуса) в широком смысле. Так, З. К. Александрова, предложила термин «правовой комплекс» гражданина[418]. Однако введение качественно нового понятия всегда сопровождается определенными сложностями, поскольку оно должно отвечать основным требованиям, предъявляемым к юридической терминологии, быть научно обоснованным и объективно необходимым.
На наш взгляд, проблема соотношения категорий «правовой статус» и «правовое положение» заключается не столько в словесных формулировках, сколько в их содержательном наполнении. Категория «правовой статус» представляет собой нормативный комплекс в котором закрепляются юридические характеристики субъекта воспринимаемого одновременно в качестве лица обладающего общими, специальными и индивидуальными (личностными) правами, обязанностями, ответственностью. Таким образом, правовой статус это нормативно-правовая конструкция определяющая место субъекта в системе правового регулирования и задающая юридические параметры его поведения в ней.
Правовое положение, представляет собой своеобразный «срез», показывающий какие права и обязанности предусмотренные правовым статусом, в каком объеме, лицо реализует в данное время, в данной ситуации. Правовой статус статичен и подвержен переодическим изменениям, свзанным с переходом субъекта в ту или иную новую социальную категорию (изменение должностного, семейного положения, получение инвалидности, осуждение судом и т. п.). Правовое положение динамично. Поскольку человеческая жизнь изменяется постоянно, постольку правовое положение конкретного человека подвергается непрерывной коррекции, осуществляемой как самим субъектом, так и при помощи внешних средств правового воздействия.
Системный подход к пониманию правового статуса позволяет рассматривать его не просто как юридическую категорию, а как юридическую конструкцию, в которой выражается структурно-системное строение объекта, то есть его состав. Наличие «состава» показывает полиструктурность объекта, включающего определенные структурные элементы. При этом переход от простого понятия к понятию юридической конструкции, как справедливо подчеркивает Н. В. Витрук, – «это не обычная смена понятий, а переход от одной формы абстрагирования, отражения к другой посредством модели, когда не просто формулируется понятие явления, а путем анализа вычленяются его структурные, составные части (элементы) и из них конструируется идеальная модель (юридическая конструкция)»[419].
Элементами правового статуса личности как юридической конструкции (идеальной модели)[420] будут выступать те правовые качества, которыми наделяется индивид как субъект права. И здесь следует ответить на вопрос, какие же из уже названных характеристик лица следует рассматривать в качестве элементов правового статуса, поскольку, только исследовав все важнейшие внутренние связи, можно проникнуть в сущность исследуемого явления.
Бесспорно, что ядром данной модели, вокруг которого и будут выстраиваться остальные элементы, выступают юридические права и обязанности личности. Они составляют содержание правового статуса, или правовой статус в узком смысле слова[421]. К нему ряд ученых относит и другие элементы. Так, наряду с юридическими правами выделяют юридические свободы личности. По мнению большинства ученых, однако, принципиальной разницы между «правами» и «свободами» нет: свободы личности – «суть одновременно и её права»[422]. Права и свободы личности можно определить как «материально обусловленные, юридически закрепленные и гарантированные возможности индивида обладать и пользоваться конкретными социальными благами: социально-экономическими, духовными, политическими и личными»[423]. Юридические обязанности, в свою очередь, представляют собой установленную государством необходимость определенного поведения личности. При этом права и обязанности индивида настолько тесно взаимосвязаны и предопределяют друг друга, что иногда они вместе охватываются понятием «права человека» в широком смысле этого слова. Так, Б. Л. Назаров пишет: «… права человека – это не только определенные социальные возможности, но и определенные социальные необходимости, не свобода вообще, но мера свободы, которая в значительной степени регулируется посредством обязанностей и ответственности перед другими и обществом в целом»[424].
В качестве самостоятельного элемента содержания правового статуса предлагают также рассматривать «законные интересы».
По мнению Н. В. Витрука, законные интересы как интересы, которые непосредственно не охватываются содержанием установленных законом прав и свобод, но подлежат защите со стороны государства, являются, наряду с правами, свободами и обязанностями, необходимым дополнительным элементом правового статуса[425]. «Существование законных интересов наряду с правами, свободами и обязанностями, – пишет ученый, – расширяет правовые возможности личности»[426]. Однако при этом Н. В. Витрук допускает трансформацию основных законных интересов граждан в самостоятельные права.
В целом проблема выделения законных интересов наряду с правами и обязанностями носит весьма дискуссионный характер. В частности, достаточно подробно она рассматривается в трудах А. В. Малько, который определяет законный интерес как отраженное в объективном праве либо вытекающее из его общего смысла и в определенной степени гарантированное государством простое юридическое дозволение, выражающееся в стремлениях субъекта пользоваться конкретным социальным благом, а также в некоторых случаях обращаться за защитой к компетентным органам – в целях удовлетворения своих потребностей, не противоречащих общественным[427]. При этом он отмечает, что содержание законного интереса состоит из двух элементов (стремлений): пользоваться конкретным социальным благом (центральный, осевой элемент) и обращаться в необходимых случаях за защитой к компетентным органам государства или общественным организациям (дополнительный элемент, обеспечивающий реализацию первого)[428]. Особое внимание ученый обращает на необходимость разграничения понятий «законный интерес» и «субъективное право», поскольку между ними много общего, «родственного», но в то же время существуют и определенные различия. Субъективные права и законные интересы, по его мнению, – это различные правовые дозволенности: законный интерес в отличие от субъективного права есть простая правовая дозволенность, имеющая характер стремления, в которой отсутствует указание действовать строго зафиксированным в законе образом и требовать соответствующего поведения от других лиц и которая не обеспечена конкретной юридической обязанностью[429].
Иной точки зрения придерживается Е. А. Лукашева. Она отмечает, что «интерес предшествует правам и обязанностям независимо от того, находит ли он прямое закрепление в законодательстве или просто подлежит «правовой защите со стороны государства», то есть «интерес – это категория внеправовая, или «доправовая»[430].
Поскольку проблема выделения законных интересов не относится непосредственно к предмету нашего исследования, отметим лишь, что нам также не представляется необходимым выделение законных интересов как самостоятельного элемента правового статуса, поскольку по крайней мере даваемое им определение весьма абстрактно: что означает «простая дозволенность» – разве может быть дозволенность «сложной»; в чем смысл выделения такой дозволенности, которая конкретно не определена и не обеспечена соответствующей обязанностью. Поэтому более обоснованной считаем позицию, рассматривающую законный интерес как внеправовую категорию.
В качестве элементов правового статуса также указываются, как отмечалось выше, устанавливающие статус лица правовые нормы, его правосубъектность и гражданство. На наш взгляд, данные качества не определяют, а предопределяют, то есть обусловливают правовой статус лица, то есть фактически здесь смешиваются причина и следствие. Между тем построение понятийно-категориального аппарата требует строгого соблюдения законов логики в соотношении однопорядковых и разнопорядковых понятий. Поэтому правовые нормы, устанавливающие статус лица, правосубъектность и гражданство выступают, по нашему мнению, основаниями, предпосылками правового статуса личности. Именно их наличие делает правовой статус «функционирующим, действенным для личности»[431]. То есть они могут быть включены в юридическую конструкцию правового статуса, но не в его содержание.
Так, очевидно, что без норм права не было бы и правового статуса, поскольку именно они, как уже подчеркивалось, придают социальному статусу индивида форму правового. В то же время ставить их в один ряд с правами и обязанностями, составляющими содержание правового статуса, не обоснованно, т. к. они представляют собой абстрактные предписания безличностного характера, в то время как правовой статус по своему содержанию связан именно с юридической персонификацией личности. По этим же основаниям, на наш взгляд, не требуется включение в правовой статус в качестве самостоятельных элементов правовых принципов, которые носят ещё более абстрактный характер и конкретизируется непосредственно в нормах права. Нормы права, таким образом, выступают юридическим (нормативным) основанием правового статуса.
Как мы уже отмечали, некоторые ученые предлагают рассматривать как элемент правового статуса, наряду с правами, свободами и обязанностями, гражданство. Более того, само определение гражданства, распространенное в научной литературе и нашедшее отражение, в частности, в российском законе «О гражданстве РФ»[432], как устойчивой правовой связи лица с конкретным государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей, позволяет некоторым ученым по сути отождествлять его с правовым статусом. Но, как справедливо отмечает Н. В. Витрук, неразрывная связь правового статуса и гражданства не дает основания объявлять правовой статус содержанием гражданства: гражданство есть юридическое основание (условие), предпосылка обладания и пользования правовым статусом, причем не единственное[433]. Отсюда и более четкое определение гражданства, даваемое ученым: «… гражданство как правовое явление есть правовая устойчивая, постоянно длящаяся связь по принадлежности лица к государству (государственно-организованному обществу), которая опосредуется совокупностью прав личности в сфере отношений гражданства (по его признанию, приобретению и прекращению, утрате)»[434]. Соответственно Н. В. Витрук делает вывод, что гражданство находится вне статуса и не входит в его содержание, оно является предпосылкой обладания правовым статусом и должно быть включено в более широкое понятие – правовое положение личности[435]. Мы согласны с ученым в том, что гражданство нельзя отождествлять с правовым статусом, также как нельзя включать его и в содержание правового статуса, но его можно рассматривать в качестве основания правового статуса как особый юридический факт. На это обращает внимание и Е. А. Лукашева, подчеркивая, что гражданство «является для индивида юридическим основанием пользоваться правами и свободами и выполнять установленные законом обязанности, то есть основанием правового статуса гражданина»[436]. А. А. Чепурнов также отмечает, что гражданство не является конкретным правом человека или совокупностью прав, не может оно рассматриваться и как правоотношение лица с государством – оно составляет предпосылку и юридическое основание вступления граждан в правоотношение, является условием установления правового статуса личности[437]. Гражданство, по нашему мнению, – это ничто иное как правовое состояние[438], то есть длящийся во времени юридический факт, периодически порождающий определенные правовые последствия, а именно – порождающий определенные права и обязанности индивида, составляющие ядро его правового статуса. Даже в тех случаях, когда обладание соответствующими правами не ставится в зависимость от наличия гражданства, последнее всё равно определяет правовой статус как особую форму статуса социального. Как справедливо подчеркивает в этой связи Б. Л. Назаров, «правовой статус человека в значительной мере характеризует его как гражданина, который в системе социальных связей является участником тех из них, что регулируются правом»; «человек взаимодействует во всех социальных связях, гражданин – в таких, которые носят юридический характер»[439].
В отношении правосубъектности как способности лица быть субъектом права[440] следует отметить, что она, наряду с нормами права, служит тем фундаментом, на котором и строится вся юридическая конструкция правового статуса. Это неотъемлемое качество индивида как «носителя» правового статуса, которое и превращает его из личности «биосоциальной» в личность юридическую. Правосубъектность, включающая в себя правоспособность и дееспособность, предопределяет как содержание правового статуса (объем субъективных прав и обязанностей), так и форму его реализации. Так, правоспособность, под которой понимают потенциальную возможность лица иметь права и нести обязанности, выступает необходимым условием возникновения правового статуса любого лица. Именно поэтому общая правоспособность как необходимое юридическое свойство личности появляется у человека с момента рождения и прекращается со смертью. Именно поэтому правоспособность как абстрактная возможность не может быть ограничена или отобрана у индивида: не существует неправоспособных или ограниченно правоспособных лиц. Правоспособность нельзя ни передавать, ни ограничивать, от неё невозможно отказаться[441]. Наличие одинаковой общей правоспособности у всех лиц реализует демократический принцип равенства перед законом.
В отличие от правоспособности, дееспособность как элемент правосубъектности означает уже не потенциальную возможность, а реальную способность индивида своими собственными действиями осуществлять права и исполнять обязанности. Она, в свою очередь, определяется целым рядом факторов, таких, как возраст, психическое состояние лица, и возникает в полном объеме по общему правилу с достижением совершеннолетия. Именно дееспособность предопределяет разное содержание правового статуса индивидов и разные формы его реализации. Так, если индивид признан ограниченно дееспособным или недееспособным (а дееспособность, в отличие от правоспособности, может быть ограничена, и человек может быть лишен дееспособности), то он не может самостоятельно реализовывать те права и обязанности, которые входят в содержание его правового статуса: «недостающая» дееспособность в этих случаях как бы восполняется действиями законных представителей этих лиц. И реализация прав и обязанностей здесь будет опосредованной – через опекунов и попечителей. Соответственно, правосубъектность, и в первую очередь дееспособность, служит своего рода фактическим основанием правового статуса, учитывающим конкретные жизненные обстоятельства каждого индивида. Накладываясь на юридическое основание, которым выступают нормы права, фактическое основание и образует реальную основу для формирования содержания правового статуса. Поэтому нельзя также согласиться с позицией, достаточно распространенной среди советских ученых, сводящей по сути правовой статус именно к правосубъектности (или даже правоспособности). Так, например, Н. Г. Александров писал, что «право, определяя круг действий, которые государство разрешает совершать, устанавливает правоспособность, или правовой статус граждан… и тем самым определяет их правовое положение»[442]. Как справедливо подчеркивает в этой связи Н. И. Матузов, «правоспособность – весьма существенный элемент правового статуса, но она всё же не исчерпывает и не раскрывает в полной мере действительное правовое положение личности в обществе, не отражает всё богатство и сложность их взаимосвязей; сведение правового статуса к правоспособности обедняет и, в конечном счете, принижает реальное положения гражданина… в государстве»[443].
В качестве элемента правосубъектности иногда также выделяют деликтоспособность – способность нести ответственность за совершенные противоправные деяния. Более того, как уже отмечалось, саму юридическую ответственность также предлагают включать в правовой статус индивида как самостоятельный элемент[444]. На наш взгляд, подобное выделение ответственности (и соответственно деликтоспособности) не обосновано, так как претерпевание негативных последствий личного, материального или организационного характера за совершение правонарушения (в чем и заключается юридическая ответственность [445]) есть ни что иное, как обязанность правонарушителя. Таким образом, способность нести юридическую ответственность охватывается понятием дееспособности, а само несение негативных последствий входит в содержание правового статуса как обязанность правонарушителя.
Интересную точку зрения на эту проблему высказывает Н. В. Витрук. Он обращает внимание на то, что вопрос о месте юридической ответственности в правовом статусе индивида зависит от того, как её понимать, в частности – в статике или в динамике. Средства юридической ответственности, установленные в праве и взятые в статике, по его мнению, – один из видов юридических гарантий защиты прав и обязанностей, а юридические гарантии, обеспечивающие реализацию и защиту прав, обязанностей и законных интересов личности, он относит к структурным элементам правового положения личности. Если же рассматривать юридическую ответственность в динамике как определенное поведение и деятельность в процессе реализации и защиты прав и обязанностей, то в этом случае, как пишет ученый, она составляет часть этого процесса[446]. Однако, на наш взгляд, и в том, и в другом случае подобное понимание ответственности вообще выходит за рамки правового статуса, так как относится именно к сфере защиты прав и обязанностей, то есть по сути к средствам защиты самого правового статуса.
Дискуссионным является вопрос и о включении в правовой статус общих (статусных) правовых отношений, в рамках которых индивидами реализуются их права и обязанности. С одной стороны, очевидно, что правоотношения не могут быть поставлены в один ряд с правами и обязанностями лица. Как подчеркивает Н. В. Витрук, «правовые связи и отношения не выступают в качестве структурного элемента правового статуса, так как они существуют не в одном ряду с правами, обязанностями и законными интересами личности, а как форма их существования (проявления)»[447]. С другой стороны, полное выведение их за рамки правового статуса (по аналогии, например, с юридическими гарантиями) лишает последний фактической составляющей, то есть по сути превращает в формальную характеристику лица. Между тем, правовой статус индивида – это не только те юридические качества, которые закреплены в нормах права, но и их реальное воплощение в действительности. Реализация же основных субъективных прав и обязанностей индивида происходит именно в рамках правовых отношений[448]. Ведь именно субъективные права и обязанности индивида и составляют юридическое содержание правоотношения, а их реальное воплощение – его фактическое содержание. Поэтому, на наш взгляд, нельзя отрывать права и обязанности индивида от формы их реализации, так как это разрушает и юридическую конструкцию правоотношения (субъект – объект – субъективные права – юридические обязанности), и юридическую конструкцию правового статуса. Без правовых отношений правовой статус из юридической конструкции по сути превращается в юридическую фикцию.
Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, правовой статус индивида можно определить как систему предусмотренных юридическими нормами прав, свобод и обязанностей индивида, обусловленную его правосубъектностью и гражданством и реализуемую в соответствующих правоотношениях.
При рассмотрении правового статуса, необходимо различать его структуру и содержание. По нашему мнению, содержание является одним из элементов структуры[449]. Подобный подход позволяет объединить в рамках единой конструкции правового статуса объективные и субъективные элементы, подчеркнув тем самым связь правового статуса как с государством, устанавливающим данный статус, так и с индивидом, выступающим носителем этого статуса и субъектом реализации включаемых в статус прав, свобод, обязанностей.
Объединить обозначенные элементы в рамках конструкции правового статуса нам позволяют также подходы к пониманию данной категории отечественного законодателя, что нашло отражение в различных нормативных правовых актах, посвященных правовому статусу отдельных категорий лиц. К сожалению, не везде законодатель дает нормативное определение правового статуса, но из содержания самих законов можно сделать соответствующие выводы. Так, например, дефиницию правового статуса мы находим в статье 1 Закона РФ от 27 мая 1998 года «О статусе военнослужащих»: «Статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод, гарантированных государством, а также обязанностей и ответственности военнослужащих, установленных настоящим Федеральным законом, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации»[450]. При этом в статье 4 данного Закона прямо закрепляется, что правовыми основами статуса военнослужащих являются «Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также нормы международного права и международные договоры Российской Федерации»[451]. Указывается также и фактическое основание статуса военнослужащего, в частности, в статье 2 закона сказано, что «граждане (иностранные граждане) приобретают статус военнослужащих с началом военной службы и утрачивают его с окончанием военной службы»[452]. Таким образом, в действительности, исходя из содержания указанного закона, в правовой статус военнослужащих входят, кроме обозначенных в нормативном определении прав, свобод, обязанностей, также его основания (юридическое и фактическое). Нормы об ответственности военнослужащих, также включенные в нормативное определение правового статуса, расположены в той же главе закона, что и обязанности (Глава III), что, на наш взгляд, подтверждает возможность не выделения их в качестве отдельного элемента правового статуса; точно также и гарантии прав и свобод расположены в главе, посвященной самим правам и свободам военнослужащих (Глава II), что также позволяет не рассматривать их отдельно. В ряде других федеральных законах о правовых статусах тех или иных категорий лиц хотя и не содержится нормативное определение правового статуса, но схема построения их содержания аналогична рассмотренной выше[453]. При этом термины «правовой статус» и «правовое положение» используются законодателем как синонимы. Например, статья 2 федерального закона «О статусе судей в РФ» указывает: «Все судьи в Российской Федерации обладают единым статусом. Особенности правового положения некоторых категорий судей, включая судей военных судов, определяются федеральными законами, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, также законами субъектов Российской Федерации. Особенности правового положения судей Конституционного Суда Российской Федерации определяются федеральным конституционным законом»[454]. Аналогичную синонимию мы находим и в статье 2 Закона РФ «О статусе военнослужащих»[455].
Приведенные примеры из российских нормативных правовых актов не только дают нам юридическое основание для определения структуры правового статуса, но и логично подводят нас к вопросу о его видах. Существование различных видов правовых статусов обусловлено в первую очередь различиями в их основаниях – как юридическом (нормах права), так и фактическом (объем правосубъектности), что в свою очередь приводит к дифференциации содержания правового статуса и форм его реализации. Отсюда возможны различные критерии классификации правовых статусов.
Так, В. Д. Перевалов в зависимости от сферы действия и структуры правовых систем выделяет:
– международный (общий) правовой статус личности, который включает помимо внутригосударственных также права, свободы и обязанности, выработанные международным сообществом и закрепленные в международно-правовых документах (они и будут составлять нормативную основу данного статуса), и защита которого предусмотрена как внутренним законодательством, так и международным правом;
– конституционный (базовый) статус личности, объединяющий главные права, свободы, обязанности, закрепленные в основном законе страны, который должен обладать устойчивостью, стабильностью для формирования в обществе законности и правопорядка;
– отраслевой статус личности, состоящий из правомочий, опосредованных отдельной или комплексной отраслью права (гражданским, трудовым, административным и т. д.);
– родовой (специальный) статус личности, отражающий специфику правового положения отдельных категорий лиц (военнослужащих, судей, пенсионеров и др.), которые могут иметь дополнительные субъективные права и обязанности;
– индивидуальный правовой статус, характеризующий особенности положения конкретного человека в зависимости от его возраста, пола, профессии и других особенностей[456].
Здесь следует обратить внимание на взаимную зависимость, а точнее взаимную обусловленность указанных видов статуса: каждый следующий вид вытекает из предыдущего, основывается на нем. В данной классификации показываются своего рода уровни субъективации правового статуса, начиная от самого общего – международного и заканчивая самым конкретным – индивидуальным. Причем, если в международном, конституционном и отраслевом видах статусов на первый план выходит различие в юридическом основании соответствующего статуса (международно-правовые нормы – конституционно-правовые нормы – нормы конкретной отрасли права), то в родовом и индивидуальном видах основным дифференциатором выступает уже фактическое основание правового статуса (виды правосубъектности лица), что в принципе позволяет рассматривать данные классификации как самостоятельные[457].
Более разнообразные классификации правовых статусов приводит Н. В. Витрук, опираясь на существование тех или иных видов прав, свобод, обязанностей и законных интересов, составляющих ядро правового статуса. В частности, он указывает, что личность по отношению к конкретному государству выступает в качестве отечественного гражданина или иностранного гражданина или лица без гражданства, соответственно правовой статус личности в конкретном государстве имеет такие разновидности, как правовой статус гражданина, правовой статус иностранного гражданина и правовой статус лица без гражданства[458]. Как мы уже отмечали, гражданство является основанием, предпосылкой правового статуса, предопределяя особенности его содержания и форм реализации. Хотя наиболее распространенным в мировой практике является национальный режим правового положения иностранцев (аналогичным же статусом, как правило, обладают и апатриды), означающий их уравнивание в правах и обязанностях с гражданами государства, но даже он не отрицает исключений, устанавливаемых внутригосударственными законами. Как справедливо отмечают ученые, даже в случае установления национального режима, статусы граждан и иностранцев не могут совпадать абсолютно, т. к. иностранный гражданин продолжает сохранять правовую связь с собственным государством[459]. Кроме того, в определенных сферах для иностранных граждан и лиц без гражданства предусматривается специальный (преференциальный) правовой режим, наполняющий их правовой статус специфическим содержанием по сравнению с правовым статусом граждан данного государства.
Отмечая деление всех прав и свобод на негативные, обеспечивающие автономию личности от государственного вмешательства (гражданские и политические права и свободы), и позитивные, обязывающие государство содействовать осуществлению прав и свобод личности (социальные, экономические и культурные права и свободы), Н. В. Витрук выделяет соответственно негативный и позитивный правовой статусы[460]. На наш взгляд, подобный перенос классификации прав и свобод на классификацию правовых статусов не достаточно обоснован. Сам термин «негативный» привносит некоторый отрицательный аспект в содержание правового статуса: будучи правовым, то есть основанным на нормах права, статус не может быть негативным. В этом отношении более аргументированной нам представляется другая классификация, проводимая Н. В. Витруком в зависимости от социального назначения прав, свобод и обязанностей[461].
Права, свободы и обязанности личности имеют социальное назначение, заключающееся в удовлетворении её многообразных потребностей и интересов. Потребности и интересы личности и блага, лежащие в основе прав, свобод и обязанностей индивида непосредственно связаны с основными сторонами жизнедеятельности человека – с производством и распределением материальных и интеллектуальных благ, с участием в политической жизни страны, с созданием и использованием духовных ценностей, со сферой личной жизни. Отсюда и классификация прав, свобод и обязанностей на личные, политические, экономические, социальные, культурные, и соответствующие виды правовых статусов: статус личной свободы, политико-правовой статус, социально-экономический правовой статус, социально-правовой статус, культурно-правовой статус, охранительно-защитный правовой статус (последний состоит из прав, нацеленных на защиту всех иных прав, свобод и обязанностей индивида)[462]. Естественно, что данная классификация, и на это обращает внимание сам ученый, в определенной степени условна, поскольку содержание многих прав, свобод и обязанностей многоаспектно, но она в полной мере отражает многообразие правовых статусов, причем не только по их содержанию (то есть совокупности прав, свобод, обязанностей индивида), но и по их основаниям и формам реализации. Каждый из указанных видов статусов имеет свои юридические и «фактические» основания, то есть предусматривается соответствующими нормами права и обусловливается соответствующим объемом правосубъектности и состоянием в гражданстве, а также имеет свои формы реализации в соответствующих правоотношениях (политических, экономических, культурных и т. п.).
Таким образом, проведенный нами анализ общетеоретических аспектов дефиниции и классификации правового статуса личности позволяет сделать следующие основные выводы.
В общей теории права отсутствует единый подход к дефиниции правового статуса, который в самом общем виде может быть определен как юридически закрепленное положение личности в обществе.
Правовой статус является юридическим оформлением социальнонормативного статуса индивида, персонифицируя последнего в качестве юридической личности, существующей в правовом поле, создает «юридическую модель личности».
5.2. Теоретико-правовые аспекты социализации личности
При рассмотрении процесса соотношения общества, государства, индивида возникает необходимость оценки места и роли в социально-политической системе каждого из перечисленных субъектов. Демократизация и конституционализация современного российского общества актуализирует проблему социализации личности, предполагает формирование новых, нестандартных подходов к ее разрешению. При этом, полагает В.С.Нерсесянц, определяющее значение имеет осознание и закрепление в индивидуальном и коллективном сознании того обстоятельства, что в абстракциях права за внешней условностью речь идет о способности конкретной личности жить в соответствии с общепринятыми правилами поведения (в основу которых положены идеалы общечеловеческой справедливости) и противостоять неоформленной (неопределенной, неупорядоченной, хаотичной…. докультурной и некультурной) фактичности[463].
Рассмотрение процесса политико-правовой социализации личности, предполагает совмещение в рамках одного понятия двух явлений, относящихся к взаимосвязанным, однако не тождественным сферам общественной жизни. Само понятие социализация по смыслу относится к социологии, политико-правовая область изучается юридической наукой. При этом, под социальным понимается все то, что относится к обществу, взятому в своей целостности. Если исходить из такой парадигмы, социализация личности будет представлять собой процесс включения человека в общественную (социальную) жизнь, «усвоения индивидом образцов поведения, психологических механизмов социальных норм и ценностей, необходимых для успешного функционирования индивида в данном обществе»[464].
В частности, в таком аспекте социализация изучается социальной психологией, рассматривающей данный процесс с точки зрения усвоения индивидом определенных социальных ролей. Ограниченность такого понимания социализации с юридической точки зрения заключается в следующем. Во-первых, не видно, о каком обществе (демократическом или недемократическом) идет речь. Следует признать, что в каждом обществе, независимо от формы политического режима существуют определенные правовые установки и социальные ценности (причем, как это ни парадоксально на первый взгляд – в тоталитарном обществе эти общезначимые нормативы обладают гораздо большей реальностью, чем в условиях демократии). Из приведенного определения нельзя составить представление о том, из чего складывается «успешное функционирование индивида в обществе». Мало что дает интерпретация социализации как процесса в ходе которого индивидом усваиваются те или иные социальные роли. Неясно, о каких ролях идет речь. Возникает, к примеру, вопрос: возможно ли отнести к понятию социализация усвоение личностью негативных ролей, осуществление которых идет вразрез с общими интересами?
Во-вторых, это определение не позволяет оценить социальную активность самой личности, не ясно является ли личность только объектом социализации или она все же может быть субъектом этого процесса (хотя бы по отношению к себе самой). При этом, успешная социализация возможна только при условии активного участия индивида в общественной жизни.
Вместе с тем социализация личности предполагает включение индивида в сферу социальных отношений, в определенной степени отличающихся от отношений возникающих в регулируемой государственной властью сфере политики, права, экономики. В этом смысле социальные отношения определяют сущностную черту гражданского общества, основным принципом создания и функционирования которого является определенная обособленность от государства. Само понятие «гражданское общество» рассматривается как совокупность социальных институтов (политических партий, общественных объединений, религиозных конфессий, а также отдельных граждан), которые обладая определенной независимостью от государства (политической, экономической, духовной), могут ограничивать государственную власть[465]. В политической области это ограничение сводится к созданию института оппозиции осуществляющего конструктивную критику курса проводимого «партией власти», в экономической – достигается при помощи закрепления принципа паритета в процессе взаимоотношения различных видов и форм собственности (и в первую очередь частной и государственной), а также положенного в основу взаимодействия государственного и негосударственного секторов экономики, принципа свободной конкуренции. В духовной сфере закрепляется принцип отделения церкви от государства. В основу взаимоотношения духовной и светской властей положен законодательно закрепленный принцип свободы совести и вероисповедания, предполагающий право лица самостоятельно и добровольно выбрать религию либо отказаться от религии вообще.
Изучение политико-правового аспекта социализации личности обычно связывается с двумя альтернативами: коллективистской и индивидуалистической. При этом в ряде случаев выделенные подходы рассматриваются как взаимоисключающие друг друга. Так, по мнению Д.И.Блохинцева «индивидуализм и коллективизм – это две противоположные концепции. Индивидуализм – это смерть общества, а коллективизм – это смерть личности». На наш взгляд подобное противопоставление не совсем оправданно. Правильнее говорить об индивидуальности и коллективности в их взаимодействии, а не в противопоставлении. Индивидуализм как специфическое (присущее только одному конкретному индивиду) восприятие окружающей действительности формируется в общении, в совместной деятельности с другими людьми. По словам П. Сорокина, «общество способно продуцировать, нормы, значения, ценности, существующие как бы внутри каждого из социосознательных «эго» – конституирующих общество членов»[466]. При этом, всякое право и всякая власть человека над человеком являются взаимными, никто не имеет больше другого. Равенство прав порождает равную для всех членов сообщества обязанность соблюдать эти права. Естественно, в процессе рассмотрения проблемы социализации личности необходимо учитывать характер связей объединяющих людей в том или ином коллективе. Коллектив может навязывать свою волю индивиду, выступая в качестве тотальной организации подчиняющей человека своей воле, всецело владеющей им. Люди в таком сообществе равны по отношению друг к другу, но это равенство рабов перед своим господином, в роли которого и выступает объединяющее людей сообщество. Другой вариант возможен в том случае, если коллектив складывается как общность в которой человек находит и утверждает себя как личность обладающая определенным комплексом неприкосновенных прав и свобод, покушаться на которые не имеет права кто бы то ни было. В таком коллективе, индивидуальные права обладают прерогативой по отношению к общественным интересам.
Исследование теоретико-правовых аспектов социализации личности в контексте проводимых в современной России реформ, предполагает разработку своеобразной базовой модели этого процесса, в основу которой должен быть положен определенный тип (стандарт) личности. Судя по всему, сегодняшние реформаторы ориентируются на «экономического человека – нового русского», основной целью которого является обеспечение собственного материального благополучия. Этот тип приходит на смену «советскому политическому человеку», жизнь которого подчинялась принципу «жила бы страна родная и нет других забот», и которого современные молодые люди пренебрежительно называют «совком».
Вряд ли имеет смысл возражать против самой концепции прерогативы индивидуального интереса перед общественным. Любить самого себя и соответствующим образом эту любовь реализовать, столь же естественно для человека, как жить, дышать, стремиться к продолжению рода. При этом стремление человека к улучшению своего материального положения может только приветствоваться. Вместе с тем, экономические функции человека не стоит абсолютизировать. Они непременно должны дополнятся и обогащаться социально-правовым содержанием. Можно ли считать социализированными многих российских предпринимателей и политиков, начисто лишенных какой бы то ни было социальной ответственности?
Проблема формирования «идеального человека», конечно же сугубо теоретична, никому еще на практике не удавалось создать общество из людей какого-либо одного типа, хотя усилия в этом не раз предпринимались. У сильных мира сего всегда существовало искушение создать общество из одинаковых унифицированных людей, облегчая себе задачу управления ими. К примеру основным принципом идеального государства-полиса по мнению классика античной политико-правовой мысли Платона, является разделение труда между различными сословиями: философами-правителями, воинами и работниками (ремесленниками и земледельцами), Представители указанных социальных подгрупп живут и действуют в соответствии с раз и навсегда установленным порядком, не вмешиваясь в чужие дела и обеспечивая общие потребности полиса как совместного поселения.
При этом «каждый из граждан занимается лишь тем делом, которое ему присуще»[467]. «Государство признается справедливым в том случае, если каждое из трех его сословий выполняет в нем свое дело» утверждал Платон[468]. «Закон, – писал философ, – ставит своей целью не благоденствие какого-либо слоя населения, но благо всего государства в целом. То убеждением, то силой обеспечивает он сплоченность всех граждан… Выдающихся людей он включает в государство не для того, чтобы предоставить возможность уклоняться куда кто хочет, но чтобы самому пользоваться ими для укрепления государства»[469]. В представленной модели идеального государства «. даже игры детей должны. соответствовать законам, потому что, если они становятся беспорядочными и дети не соблюдают правил, то в последствии не возможно вырастить из них серьезных законопослушных граждан»[470].
Естественно, что подобное «идеальное» общество, будучи тоталитарным по сути, обречено на застой и последующее разложение и гибель. Однако отрицание эгалитаризма как стремления к фактическому уравнению людей вовсе не является аргументом против формирования определенных стандартов человеческого поведения, а значит и попыток формирования идеального типа личности. Напомним, что право в широком смысле этого понятия рассматривается как принятая всем обществом система общеобязательных нормативов поведения. Принцип равенства всех перед правом в определенном смысле является основанием стандартизации членов общества, позволяет говорить о создании базового типа личности. Характеристика подобного базового типа должна включать критерии, которым должна отвечать личность и которые позволяют с одной стороны максимально использовать индивидуальный потенциал в процессе общественного развития, а с другой способствуют самовыражению личности, достижению индивидуального блага. «Социальная доктрина сегодня конкретно сосредотачивается на человеке, писал Папа Римский Иоан Павел II, – поскольку он вовлечен в сложную сеть отношений современного общества. Гуманитарные науки… позволяют раскрыть центральное положение человека внутри общества, а также помогают ему лучше понять самого себя как «общественное существо»[471].
Рассмотрение теоретико-правового аспекта социализации позволяет говорить о политизации и юридизации личности в процессе трансформирования государственно-правовой системы. Политические отношения характеризуют прежде всего властеотношения между государством, его органами и должностными лицами (представителями государственной власти) и конкретными гражданами, в ряде случаев политические отношения предполагают своей целью не только поддержку власти, но и борьбу с ней. Например, ст. 13 Конституции РФ (1993 г.) закрепляя принцип идеологического плюрализма и политического многообразия, допускает создание и функционирование на территории Российской Федерации политических партий выдвигающих в своих программах требования связанные с изменением (ненасильственным путем) существующего конституционного строя. Политизация осуществляется с помощью политической идеологии и политической науки. Основной задачей политической социализации является создание электората – совокупности граждан активно участвующих в политической деятельности (в основном посредством реализации своего избирательного права).
Политическую социализацию в ряде случаев определяют как «процесс активного усвоения индивидом идеологических и политических ценностей и норм общества и формирование их в осознанную систему социально-политических установок, определяющих позицию и поведение индивида в политической системе общества»[472]. По сути дела, речь идет об уровне политизации или политизированности субъекта, однако, при этом по существу ничего не говорится о самой социализации, рассматриваемой с точки зрения формирования у личности социальной активности. Представляется, что явление политической социализации следует понимать не только как приобщение человека к политической деятельности (политизированность личности), но и как научную категорию предполагающую проявление индивидуальной активности, определенной самостоятельности гражданина в разрешении вопросов связанных с участием в процессе формирования и функционирования государственной власти. Отражая объективно существующие в обществе взаимодействие политических и социальных интересов, политически социализированный человек не просто интересуется политикой. Обладая высоким политическим сознанием, политической культурой, он действует в политической сфере в качестве социально активной личности, руководствуясь при этом не только личными, но и коллективными интересами, принимая на себя ответственность перед обществом и государством.
Правовая социализация предполагает включение личности в правовую систему. С одной стороны данный процесс предполагает законодательное закрепление презумпции правовой информированности населения, в основу которой положен тезис «незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение», предполагающий наличие у каждого индивида определенного минимума знаний о действующем в данный момент праве. С другой стороны правовая социализация личности предполагает создание условий для индивидуального участия в правотворческой, правоисполнительной и правоохранительной деятельности государства.
Непосредственное участие индивидов в правотворческой деятельности получает свое реальное воплощение в проведении референдумов. Участвуя в референдуме каждый гражданин получает возможность непосредственно участвовать в процессе правотворчества. Теоретически, мнение индивида, принимающего участие в голосовании по поводу принятия того или иного документа может оказаться решающим, поскольку система абсолютного большинства в качестве условия принятия нормативно-правового акта устанавливает необходимость сбора в его поддержку 50 % голосов + 1 голос (при условии, что в голосовании приняло участие не менее 50 % потенциальных избирателей). Кроме законотворческой деятельности любой правосубъектный гражданин, может являться правотворцем в сфере частного права, сам факт существования и развития которого непосредственно связан с волеизъявлением конкретного субъекта.
Участие индивида в правоисполнительной деятельности предполагает, что в каждом акте соблюдения, исполнения и применения права неизбежно присутствуют психические переживания во всем их многообразии: от потребности, интереса, мотива, цели, установки – до волеизъявления. Процесс участия личности в правоисполнительной деятельности реализуется путем административного и судебного усмотрения. Принятие решения в каждом конкретном случае зависит от субъективного мнения правоприменителя. Действуя по принципу «разрешено лишь то, что разрешено законом», человек реализующий властные полномочия, пользуется определенной свободой в очерченных законом рамках. По мнению выдающегося российского правоведа Л. И. Петражицкого «специфическая природа права… коренится… в области эмоционального, импульсивного. Не позитивные нормы, а императивно-атрибутивные переживания и нормы интуитивного происхождения ставятся во главу угла»[473]. Характеризуя место и роль личности в правоприменительном процессе П.Сорокин подчеркивал, что в социально-правовом поведении субъекта всегда необходимо различать с одной стороны, психическую и, с другой – внешнюю его сторону, объективирующую первую[474]. Ученый приходит к выводу, согласно которому акты поведения по характеру психических переживаний распадаются на три основные категории:
1. Акты «дозволенно-должные», которыми являются поступки, соответствующие представлениям обязательного поведения и сопровождаемые атрибутивно-императивными переживаниями. Это по существу акты осуществления прав и обязанностей.
2. Акты «рекомендуемые», не противоречащие представлениям о «должном поведении». Они добровольны и поэтому не носят элемента обязанности.
3. Акты «запрещенные» или «недозволенные», которые противоречат представлениям о «должном» поведении и нарушают «должную» норму поведения. Это акты, противоречащие атрибутивно-императивным переживаниям.
Естественно, приведенная классификация не претендует на всеобъемлющий характер. Перечисленные акты-категории (по словам самого Питирима Сорокина) часто формальны, их присутствие в сознании каждого человека еще не обуславливает тождественности каждой категории поведения у различных людей. Сообразно с этим неодинаковыми будут и те акты, которые каждый из них будет считать рекомендуемыми и запрещенными. В реальной жизни мы сталкиваемся с неограниченными вариантами человеческих переживаний, устремлений, поступков не поддающихся учету, обобщенной формализации и сколько-нибудь полной классификации. При этом в ряде случаев, правом «оказывается не только многое такое, что находится вне ведения государства, не пользуется положительным официальным признанием и покровительством, но и многое такое, что со стороны государства встречает прямо враждебное отношение, подвергается преследованию и искоренению, как нечто противоположное и противоречащее праву в официально-государственном смысле»[475].
Процесс социализации в правоохранительной сфере предполагает предоставление личности широких правомочий связанных с возможностью самостоятельной защиты субъективных прав и свобод. В частности ст. 45 действующей Конституции РФ закрепляет, что «каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». В связи с этим, не вызывает сомнения право индивида на необходимую оборону против не законных действий любых лиц (в том числе и сотрудников государственных правоохранительных органов). Представляется, что сотрудник, сознательно превышающий объем полномочий, и тем самым, в свою очередь нарушающий требования закона, должен лишаться права выступать в качестве полномочного представителя государственной власти, т. к. он нарушает основной принцип правового государства: равенство всех (без исключения) граждан перед законом. Выходя за рамки, определенные законом, сотрудник органов внутренних дел тем самым автоматически лишает себя права требовать от гражданина по отношению к себе соответствующих данному закону действий.
5.3. Патриотизм и эгоизм как формы личной свободы
1. Являются ли права и свободы человека и гражданина «общечеловеческой» ценностью
Традиционно права и свободы человека и гражданина рассматриваются в качестве универсальной ценности, с обеспечением в той или иной степени связываются практически все виды и формы социально-политической деятельности. Не пытаясь оспаривать эту точку зрения, следует обратить внимание на следующие обстоятельства:
– Не имеет смысла рассматривать права и свободы в «чистом виде», т. е. в отрыве от социально-правового положения субъекта-носителя. Так, к примеру, закрепляя в качестве естественного права принадлежащего каждому человеку с момента рождения, право на жизнь, законодатель вместе с тем допускает в отношении определенного круга лиц возможность насильственного лишения жизни, в том числе и во внесудебном порядке, объясняя это государственной целесообразностью, сводящейся к сакраментальному выбору «наименьшего из двух и более зол»[476]. Из сказанного следует, что институт прав и свобод человека и гражданина следует рассматривать в неразрывной связи с субъектом-носителем и средой реализации.
– Права и свободы человека и гражданина представляют собой инструменты реализации субъективных интересов личности и с одинаковой вероятностью могут использоваться индивидом, как в правомерной, так и в противоправной деятельности. Подтверждением этому может служить изложенное в п.3 ст. 17 Конституции России положение: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». Таким образом, законодатель допускает возможность использования субъективных прав и свобод в противоправных целях.
Из сказанного можно сделать два вывода: во-первых, права и свободы человека и гражданина объективно не являются «общечеловеческим достоянием» и должны рассматриваться в неразрывной связи с конкретными лицами в конкретных жизненных обстоятельствах; во-вторых, инструментальный характер прав и свобод, позволяет говорить о них как о средствах юридически значимой деятельности, при помощи которых люди могут совершать и правомерные, и противоправные поступки.
2. Отношения между государством и гражданским обществом как среда реализации прав и свобод человека и гражданина
Термин «гражданское общество», часто употребляемый в научной литературе, публицистике и политике, вместе с тем, вплоть до настоящего времени не получил законодательной дефиниции. Отсутствие единства в подходах к пониманию формы и содержания гражданского общества, объясняет множественность концепций, в рамках которых высказываются различные зачастую противоречивые точки зрения. На мой взгляд, гражданское общество представляет собой неформальное социальное объединение в основу создания и функционирования которого положены принципы самоорганизации, самоуправления, самообеспечения. Члены гражданского общества в своей деятельности руководствуются субъективными интересами, которые не вступают в коллизию с интересами государства, но и не совпадают с ними. Отношения между гражданским обществом и государством в идеале должны основываться на двух ключевых началах: автономности и симбиоза. Автономность гражданского общества по отношению к государству заключается, прежде всего, в фактической способности решать собственные интересы за счет собственных ресурсов. Симбиоз означает, что государство для гражданского общества является социально-пространственной средой «обитания», инструментом установления правового режима организации и функционирования образующих гражданское общество социальных групп, органом осуществления контроля за законностью и правопорядком. В свою очередь, гражданское общество выступает по отношению к государству в качестве катализатора экономико-правового развития и, вместе с тем, конкурента в области экономических отношений, а также организации осуществляющей общественный контроль за государственной деятельностью в правотворческой и правореализационной сферах. Взаимодействие государства с гражданским обществом представляет собой своего рода контракт, в рамках которого участвующие стороны оговаривают взаимные права, обязанности, ответственность. При этом контракт, представляя собой совокупность правил «предоставления и оплаты услуг», исключает какие бы то ни было моральные притязания и обязательства сторон по отношению друг к другу. Каждая из сторон вправе разорвать сложившиеся отношения в любой момент, при условии, что это не нарушает условий контракта[477]. Выполнение «контракта» заключенного между государством и гражданским обществом влечет накопление «социального капитала», представляющего собой набор неформальных ценностей и норм, которые разделяются членами группы и которые делают возможным сотрудничество внутри этой группы. Если члены группы смогут рассчитывать на то, что другие будут вести себя честно и на них можно будет положиться, то они смогут доверять друг другу. «Доверие подобно смазке, которая делает работу любой группы или организации более эффективной»[478]. Таким образом, основу взаимодействия государства и гражданского общества составляет определенный запас «социального капитала», обусловливающего доверие сторон-партнеров и, как следствие выполнение ими предусмотренных контрактом обязательств.
При таком подходе права и свободы человека и гражданина могут рассматриваться в двух ракурсах. С одной стороны, «человек, его права и свободы являются высшей ценностью», а «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина представляют обязанность государства» (ст. 2 Конституции России). В подобном понимании права и свободы личности представляют собой объект, задающий направленность взаимодействия государства с гражданским обществом. С другой стороны, сами права и свободы являются инструментами правового поведения, с применением которых могут быть связаны как правомерные, так и противоправные акты. В данном случае следует согласиться с мнением Ф.Фукуямы о том, что социальный капитал и гражданское общество не всегда приносят пользу. Так, мафия и ку-клукс-клан являются составными частями американского гражданского общества; обе организации владеют социальным капиталом, но обе приносят ущерб здоровью общества в целом[479].
Можно сделать следующий вывод: отношения между государством и гражданским обществом представляют собой взаимодействие автономных субъектов, которые могут как сотрудничать, так и конфликтовать друг с другом. В рамках модели «сотрудничества» имеет место контракт государства с гражданским обществом, направленный на достижение взаимовыгодных результатов. В качестве важнейшей составляющей такого контракта выступают права и свободы человека и гражданина на реализацию и защиту которых, по сути, направлены действия как гражданского общества, так и государства. В том случае, если взаимодействие государства с гражданским обществом приобретает конфликтный характер, это приводит с одной стороны к нарушению прав и свобод лиц, вовлекаемых в соответствующие отношения, а с другой стороны, влечет злоупотребление правами и свободами и использование их в противоправных целях.
Патриотизм и эгоизм как формы проявления личной свободы
Инструментальный подход к пониманию прав и свобод человека и гражданина, позволяет говорить о них как о юридических средствах при помощи которых индивид осуществляет реализацию своих субъективных интересов. В зависимости от обстоятельств эти интересы могут либо находиться в контексте общегосударственных либо дистанцироваться от них. По мнению А.Н. Кокотова «права человека – способ обеспечения свободы в рамках общества»[480]. Но человек может понимать свои права и свою свободу по разному, равно как по разному эти права и свободы могут оцениваться со стороны государства. Мы рассмотрим две полярные модели: патриотизм и эгоизм.
Прежде всего, следует разобраться со смысловым значением слов «патриотизм» и «эгоизм».
Практически во всех словарях русского языка содержится указание на то, что слово патриотизм происходит от греческого patris – родина, отечество и означает любовь к родине, преданность своему отечеству, народу[481]. Однако, если сравнить представление о Родине у граждан античного полиса с современным представлением, то нельзя не заметить существенного различия. Для гражданина полиса родина и отечество неразрывным образом связаны с родным городом. Жители других полисов никоим образом не воспринимаются в качестве соотечественников. Поэтому не имеет смысла говорить о любви «древних греков» к Греции, равно как и жителей древней Руси к «древнерусскому государству». Патриотизм в современном понимании формируется в имперском Риме. При этом идеология патриотизма основывалась на вполне рациональном стремлении власти снизить остроту противоречий между «столичными» и «провинциальными» римлянами, объединяемыми общей любовью к своей «большой родине» – res publica (государству – общему делу)[482]. В настоящий период патриотизм представляет собой понятие в большей степени морально-этическое нежели правовое. Много говориться о необходимости патриотического воспитания, вместе с тем, не вполне понятно какие качества должны в реальности отличать «истинного патриота». Если рассматривать патриотизм в правовом аспекте, то на мой взгляд следует исходить из признания публичных интересов государства первичными и в социальном смысле более значимыми по сравнению с правами и свободами отдельного индивида (личности). Человек обязан «служить» государству и при необходимости жертвовать своими личными правами (не исключая права на жизнь).
В противоположность патриотизму эгоизм понимается как «поведение, целиком определяемое мыслью о собственной пользе, выгоде, предпочтение своих интересов интересам других людей»[483].
Традиционно эгоизм воспринимается как негативный антипод патриотизма. Однако, если постараться отойти от привычных штампов носящих скорее не логико-правовой, а эмоциональный характер, то становиться видно, что патриотизм и эгоизм представляют собой не более чем полярные категории, которые могут по разному оцениваться в различных ситуациях. К примеру, стремление «немецко-фашистских патриотов» установить «новый мировой порядок» рассматривается как одно из величайших преступлений в истории человечества. С другой стороны, «согласно Адаму Смиту, благодаря рынку каждый человек, преследующий собственную выгоду, увеличивает общее благо. Когда булочник печет булки, он не думает о всеобщем благе, он думает лишь о собственной выгоде. Но в результате его деятельности всеобщее благо увеличивается»[484]. Итак и патриотизм и эгоизм в равной степени могут способствовать достижению общего блага и вносить деструктивные изменения в процессы общественной жизнедеятельности.
Взаимодействие государства и гражданского общества, как уже отмечалось, может носить и консенсуальный, и конфликтный характер.
В условиях отношений консенсуального типа патриотические и эгоистические устремления личности не только не противоречат друг другу, но напротив выступают в качестве взаимно дополняющих факторов. Гражданин, ощущающий себя самостоятельной частью сильного государства, которое использует свою силу в целях заботы о личных и общественных интересах и их защиты от противоправных посягательств, как правило, согласен добровольно поступиться частью имеющихся у него субъективных прав, если убежден, что это будет способствовать общему благу, которое опосредованно представляется как благо личное.
В случаях же когда призывами к патриотическим чувствам «подданных», по сути, оправдываются стремления «власть имущих» к узурпации властных полномочий и выведению государственной власти из под общественного контроля, неминуемо усиление социальной напряженности и как следствие обострение конфликта между государством (в лице правящей бюрократии) и институтами гражданского общества. При этом эгоистические интересы «властвующей элиты» позиционируются как «истинно патриотические». В свою очередь интересы оппозиции, выраженные в соответствующих правах и свободах оппозиционно настроенных граждан рассматриваются как деструктивные, с последующим применением к ним принудительных мер правоограничивающего характера.
Выводы:
– категории патриотизм и эгоизм представляют собой «социальные полярности» которые следует рассматривать только в контексте конкретных условий политико-правовой реальности;
– консенсуальная модель взаимодействия государства и гражданского общества предполагает отношение к патриотизму и эгоизму как к взаимно дополняющим факторам, одновременно оказывающим позитивное влияние на реализацию публичных интересов государства и частных интересов составляющих его граждан;
– конфликтная модель взаимодействия государства и гражданского общества, представляет собой эклектическое объединение враждебных социальных элементов (бюрократических структур и общественных организаций). При этом государство (в лице властвующей элиты) позиционируя себя в качестве носителя и проповедника патриотизма, одновременно обвиняет в эгоизме любого кто считает возможным отстаивать собственное мнение и позицию, отличающиеся от официально провозглашаемых. На самом деле имеет место противопоставление эгоистических устремлений представителей разнонаправленных социально-политических сил, способное в итоге привести к глобальному кризису и разрушению государственной системы.
5.4. Индивидуальная нормативная система личности
5.4.1. Индивидуализация личных правил
Нормативная система личности – комплекс правил поведения, вырабатываемых человеком в процессе взаимодействия с окружающими людьми и усвоения общепринятых норм: групповой морали, религии, правовой традиции, законодательства и т. д.
Личность – социальные феномен, подразумевающий дееспособного индивида, имеющего стержневые свойства, позволяющие ему самостоятельно вырабатывать правила взаимоотношений с окружающей действительностью. К стержневым свойствам относят, в том числе, интеллект, эмоциональную стабильность, дружественность, ответственность, экстраверсивность.
Нормативная система личности формируется с момента рождения посредством признания существующих норм и создания новых. Конфликт интерпретаций правил поведения, разногласия личности с обществом и государством преодолеваются путем актуализации индивидуальной нормативной системы, которую человек соблюдает даже в случае ее несовпадения с законодательством и правилами социума.
По признакам соотношения личных норм с общепринятыми (законодательство, правовая традиция, религия, мораль и т. п.) можно выделить несколько типов индивидуальных нормативных систем: индифферентный – характеризуется отсутствием собственных принципов и норм, нежеланием их вырабатывать; командный – испытывает потребность в командовании и подчинении, готов как сам выступать лидером, так и принять убедительную нормативную систему другого лидера; социализованный – стремится соблюдать максимум общественных правил, вырабатывает собственные нормы, гармонизированные с социальной группой; отчужденный – соблюдает только собственные нормы даже при их конфликте с общепринятыми. С криминологической точки зрения лидерами преступных сообществ и организаторами преступлений преимущественно становятся личности с командным и отчужденным типами индивидуальных нормативных систем, их сообщниками – представители командного и индифферентного типов. Социализованный тип представляет большинство взрослого населения и способствует стабильности социума.
Человек с момента рождения создает «личные правила», отличающиеся от социальных установлений. Конфликт личных норм человека с условно общепринятыми правилами проявляется через трихотомию конфликта человека и государства, конфликта человека и закона, конфликта человека и права. Государство рассматривается как форма управления населением, основанная на суверенитете, единой территории, легитимированной публичной власти. Закон есть текстуальное требование публичной власти к населению, правило поведения, установленное законодательным органом (субъекта федерации, государства). Закон может являться отражением личных представлений суверена о нормах. Норма – любое правило поведения, в том числе индивидуальное. Право – совокупность результатов и способов жизнедеятельности людей, определяющих права и обязанности. Право включает в себя большое количество источников права, в том числе правовые традиции, юридические практики и т. д. Право является элементом культуры населения, но стратифицированное общество содержит неодинаковые типы правопонимания.
Новый человек появляется в обществе с уже существующими в нем нормами. Культура как предустановленный феномен (результат и способ жизнедеятельности людей) навязывает человеку общественные правила поведения, являющиеся неоднородными. Многоуровневая дифференциация социальных групп заставляет индивидуума классифицировать нормы по признаку признания, например: одни он соблюдает неукоснительно, другие он будет соблюдать или нет в зависимости от конкретной ситуации, а третьи нормы он не планирует соблюдать вообще. Санитарно-гигиенические, технические, моральные, религиозные, правовые и иные нормы к совершеннолетию человека сплавляются в общею нормативную систему, все более усложняющуюся по мере постижения им закономерностей окружающей действительности.
Личные нормы человека всегда будут отличаться от норм социума в пользу индивидуума, поскольку человек склонен расширительно толковать свои права и ограничительно – свои обязанности. Многие люди вырабатывают индивидуальную систему взаимоотношений с социумом, которая не совпадает с общепринятой. «Личные нормы», стратовые «понятия», корпоративные договоренности, цеховая взаимовыручка и т. д. могут на протяжении длительных исторических периодов доминировать над нормами законов, установленных государством. «Конкретный индивидуальный актор никогда не действует только в одной роли, но имеет перед собой множество ролей и ситуаций, сложные сплетения возможностей, вариации ожиданий и состояний напряженности, объектом которых он является. Более того, существует также проблема того отрезка времени, который релевантен для анализа той или иной системы»[485]. У личности не всегда имеется достаточно внутренних способностей и внешних возможностей для корреляции своего намерения ad hoc с комплексом нормативных актов государства о должном поведении при таких обстоятельствах. Нередко человек действует интуитивно, по наитию реализуя личную нормативную систему, не соотнося ее в момент действия с нормативной системой государства.
Человек, устанавливая свои индивидуальные нормы поведения, самостоятельно определяет, в каком случае можно или нельзя присвоить чужое имущество, уклониться от уплаты налога, причинить вред, игнорировать иное мнение, лишить свободы или жизни. Исполняя личную волю в пределах своей индивидуальной нормы, человек осознает наличие общественного запрета и соблюдает его либо игнорирует в угоду собственным интересам. «Человек – это существо, которое в связи со своей природой и с той ситуацией, в которой он размещен, умеет развивать метафизическую интерпретацию собственного мира»[486]. Он способен выводить свою нормативную систему из нормативных систем окружающего его мира. Следует выделять, как минимум, четыре нормативные системы, с которыми человек вынужден считаться: законодательство, правовая традиция, религиозные нормы, мораль социальной группы.
Конфликт интерпретаций нормативных систем личностей неизбежен, законодательство государства может рассматриваться как универсальная процессуально оформленная нормативная система суверена. В качестве суверена могут выступать как все обладающее правом голоса население государства, так и (при определенных историко-политических условиях) диктатор, поддерживаемый группой своих сподвижников. В авторитарных политических режимах индивидуальная нормативная система лидера навязывается большинству как по принципиальным, публичным направлениями жизнедеятельности, так и в частных вопросах (этикет, одежда, сфера искусства). Религия, мораль, правовая традиция в качестве универсальных нормативных систем значительно уступают законодательству, поскольку существуют в разных формах и интерпретациях. Более того, многие жители мегаполисов не признают религиозные нормы, являются носителями релятивистской морали, отрицают существование правовой традиции и обязанность ее соблюдения. При несовпадении индивидуального толкования нормы с официальными и доктринальными толкованиями субъект склонен настаивать на собственной нормативной системе, не всегда онтологически обоснованной, но психологически комфортной для применения. Индивидуальная нормативная система индивидуума регулярно вступает в конфликт с нормативными системами социума.
«Теория систем исходит из единства различия системы и окружающего мира. Окружающий мир есть конститутивный момент данного различия, таким образом, не менее важен для системы, чем она сама, – утверждает Никлас Луман, – при помощи различия системы и окружающего мира возникает возможность понимать человека как часть окружающего мира общества комплекснее и в то же время свободнее, нежели при его понимании как части общества; ибо окружающий мир по сравнению с системой как раз и является областью различения, обнаруживающей более высокую комплексность и меньшую упорядоченность»[487]. Личность присоединяет к сообщенному ему варианту социальной нормы свою интерпретацию, если этого будет достаточно для достижения его цели. Если его цели и поведение не совпадают с общественными нормами, субъект создает индивидуальную норму как для класса отношений, так и в конкретном случае, помещая в собственную аргументативную конструкцию примеры общественной практики: государственный запрет на хищение чужой собственности будет замещен личной нормой, разрешающей конкретную кражу с целью получения источника питания; общий запрет на убийство заменится нормой, разрешающей лишить жизни врага и т. д.
Говоря о противоправных действиях человека, норвежский криминолог Нильс Кристи всегда имеет в виду поступок: «Приняв за основу идею поступка, мы выясним, каким образом можно отличить добрые поступки от дурных. Далее мы проанализируем, на каких основаниях тот или иной поступок считается дурным. Отношение к дурному поступку мы будет классифицировать по таким категориям, как «раздражение», «неловкость», «отвращение», «грех», и, наряду с этим и альтернативами, «преступление». Когда понятие преступления стоит в самом конце списка из разных альтернатив, это облегчает нашу задачу. А она заключается в анализе общественных условий, при которых поступок начинает считаться преступлением. Преступления не существует. Существуют поступки, которые в условиях того или иного общества становятся преступлениями»[488].
Не каждый человек способен к выстраиванию индивидуальной нормативной системы. Для этого он должен сформироваться как личность – получить систематизированные представления об окружающей действительности, о своем месте в ней, о правах и обязанностях. Харизматическая личность способна не только создавать свои нормы, но и заставлять других людей принять ее нормативную систему. Талкотт Парсонс говорит о харизме как эмпирически наблюдаемом качестве людей и вещей, связанном с человеческими действиями и установками. Он утверждает, что «харизма может служить источником законности (узаконения)», что «существует внутреннее согласие между тем, что мы уважаем (будь это люди или абстракции), и моральными правилами, управляющими отношениями и действиями. Различие между законностью и харизмой может быть выражено в самых общих чертах следующим образом: законность – это более узкое понятие, применимое только к нормам порядка, а не к лицам, вещам или «воображаемым» сущностям, и значение его связано с регулированием действия по преимуществу в его внутренних аспектах. Законность, следовательно, – это институциональное применение или воплощение харизмы»[489]. Харизма вождя авторитарного государства, переданная назначенным им представителям в законодательном, исполнительном и судебном органе, легитимирует любые прихоти суверена в данном историческом контексте.
Нормативная система личности находится в непрерывном развитии под воздействием многочисленных внешних факторов, в том числе других нормативных систем. Норма, устанавливаемая субъектом, отражает уже существующую действительность, и, в свою очередь, влияет на формирование новой действительности. Над юридическими фактами истории стоят интересы конкретных людей, объективированные через нормативную систему государства. Постиндустриальное общество демонстрирует нам, как антиномия демократии и тирании прошлого века трансформировалась в конвергенцию демократии и тирании, породив усредненный глобализованный политический режим. В пространстве конкурирующих нормативных систем действительными становятся только те команды, которые человек дает себе. Норма – это, в первую очередь, предписание для себя. Норма другого субъекта обязательна только для него самого, если у окружающих нет внутреннего основания соблюдать ее. Закона и права не существуют в материальной природе, закон и право – это придуманные людьми связи, а любое новое правило отражает, в первую очередь, позицию его создателя. Законодательная деятельность есть установление новой правовой закономерности, то есть экстраполяция личных норм законодателя на нормативные системы других лиц властными способами. Создание новой нормы – это определенное во времени, пространстве и по кругу лиц юридико-техническое действие, являющееся оформлением воли автора. Представление о том, что законодатель – это население, не подтверждается общественной практикой. Суверенитет большинства народов отчужден от них в пользу публичной власти. Публичная власть, в свою очередь, персонифицирована в нескольких лицах (десятках, сотнях лиц).
Общественная практика свидетельствует о том, что законодатели зачастую руководствуются в первую очередь личными и групповыми интересами, устанавливая для большинства населения иррациональные нормы поведения. Постклассическая эпистемология обоснованно отрицает рациональность. «У нас нет способа заставить человека жить разумной жизнью»[490], – утверждает Лон Фулер, ставя мораль стремления выше морали долга, – «Если мораль долга заходит выше надлежащей ей области, железная рука навязанной обязанности может задушить эксперимент, вдохновение и спонтанность. Если мораль стремления вторгается в область долга, люди могут начать взвешивать и оценивать свои обязательства по своим собственным критериям, и дело может дойти до того, что поэт утопит в реке свою жену, будучи уверен (возможно, вполне обоснованно), что без нее он сможет лучше писать стихи»[491]. В перечне признаков права уже не стоит трансцендентный признак – направленность на самосохранение всего общества. Задачей современной публичной власти является выживание группы людей, удерживающих эту власть – через навязывание их консолидированной нормативной системы всему населению. Произвольное конструирование их реальности осуществляется посредством норм языка и силового обеспечения.
Субъективная оценка окружающей действительности всегда осуществляется личностью на основании синтезированных им представлений о сущем и должном. При формулировании «личной нормы» человек выявляет наиболее понятный, имманентный его мировосприятию источник права и преимущественно ориентируется на него. Моральное несовершенство и субъективизм человека в познании общественных закономерностей не снимается систематическим и фундаментальным образованием. Представления одних людей о праве, применении закона и функционировании государства подчас не находят единства с представлениями других людей. Иллюзорность и синкретичность окружающего мира, энтропия хаоса, неудовлетворенность, ощущение несправедливости подчас подталкивают человека к выработке более простых и ясных собственных норм. Проблема несовпадения индивидуальной нормативной системы одного человека с личными нормами другого человека (конфликт интерпретаций окружающей действительности) не устраняется императивными нормами (законами), представляющими собой совокупность личных норм субъектов законодательной деятельности. Оценочные категории справедливости также не в состоянии быть критериями правильности поведения, соответствия одних норм (исследуемых) другим нормам (образцам). «Если общество интерпретируется как система кооперации между равными, тот, кто пострадал от серьезной несправедливости, не обязан подчиняться. Действительно, гражданское неповиновение (как и отказ по убеждениям) – это одно из стабилизирующих средств конституционной системы, хотя и незаконное по определению»[492].
Нормативные системы анархистов, отрицающих позитивные свойства государства, движение абсентеистов, не желающих принимать участия в избирательных процессах, религиозные учения, направленные на подавление желаний и дистанцирование от власти – суть нормативные системы одних личностей, акцептированные и развитые другими. Независимо от количества сформулированных норм и качества их систематизации, нормативная система каждой личности содержит универсальный набор правил для взаимодействия с другими нормативными системами, их сообществами, государством. Несомненно, «личностям всегда легче договориться о том, что действующие нормы есть в сущности неприемлемые требования»[493].
5.4.2. Конфликт личности и общества
Восприятие внешнего мира начинается будущим человеком еще в замкнутом пространстве внутриутробного развития. Эмбрион находится в зависимом от иных лиц состоянии, получает дозированное жизнеобеспечение, обречен на подчинение внешним обстоятельствам. Освободившись от внятных биологических закономерностей материнского чрева, человек попадает в созданный без учета его мнения мир незнакомых людей, непонятных вещей, непознанных правил. Процесс социализации нового человека начинается с запретов («так нельзя делать»), научений («делай так»), наказаний и поощрений. Индивидуальная совокупность комбинаций (запрет – научение – наказание – поощрение) усваивается личностью в контексте достижения своих целей, формируя нормативную систему. Не только отпечатки пальцев, рисунок роговицы глаз и структура ДНК являются способом индивидуализации, «каждый человек уникален, ибо каждый по-своему, свойственным только ему путем, решает возникшие перед ним проблемы»[494].
Предлагаемые обществом разноуровневые правила (человеческие обычаи, государственные нормы, религиозные догмы и др.) каждым индивидуумом усваиваются по-разному, их признание и трансформация в «личные нормы» зависит от многих индивидуальных факторов. «Структура нормативных стандартов любой, даже самой простейшей системы всегда сложна, запутанна и, как правило, далека от полной интеграции…»[495]. Сталкиваясь с непривычными ситуациями человек научается вырабатывать подходы, максимально защищающие его частные права и интересы. Самые убедительные нормы посторонних людей (общества) могут иметь меньшее значение, чем собственное здоровье и благополучие близких. Нередко личные интересы противоречат требованию внешней нормы, субъекту приходится нарушать социальную нормативность либо отказываться от реализации собственного интереса. Так, шаг за шагом человек вырабатывает собственный алгоритм поведения, позволяющий добиться максимального результата при минимизации затрат на конфликты личной нормативной системы с общественными правилами.
«Действия должны следовать друг за другом во времени и стыковаться в других отношениях, так что конфликты могут фокусироваться на временной соотнесенности – установлении времени, а не только на конфликтных требованиях, предъявляемых различным партнерам по различным моделям взаимодействия»[496]. Конфликт нормативных систем объективен, человек вынужден находиться в средоточии социально-политических противоречий, разучивая гармонию своего пути. В какой-то момент он начинает осознавать, что законодательство государства есть процессуально оформленное навязывание личной нормативной системы правителя всем остальным людям. Следует отметить, что большинство жителей мегаполисов незнакомы с текстами законодательных актов, не соблюдают религиозные нормы, являются носителями релятивистской морали, нечасто сталкиваются с международными нормами. Разумный человек, увидев противоречие между собственными представлениями о должном и сообщенными ему извне нормами, вероятно задумается – обязан ли он соблюдать нормативные системы других личностей, не противопоставляя им свою нормативную систему. Возможно, субъект и не найдет никаких аргументов у глашатаев внешних (по отношению к его личной нормативной системе) норм, кроме права силы – от летигимного наличия в управлении вооруженных отрядов людей до преступного беспредела в отстаивании собственных норм.
Склонность к подчинению, равно как к индивидуализму и анархизму формируется в юношеском возрасте. Возраст совершеннолетия связан с завершением формирования базиса индивидуальной нормативной системы личности, в этот период обычно уже завершается формирование собственных подходов к разрешению проблемы трихотомии «личность – внутренняя система (семья, близкие, друзья) – внешний мир (улица, государство, враги)». Окружающий мир представляется начинающему жизнь человеку неисчислимым множеством систем, собственная личность им еще не познана, он обреченно погружается в нормативную систему общества, – и не всегда может найти в общественных нормах, установленных неизвестными лицами, должной внятности и мировоззренческой опоры. Только посредством приобретения знаний, общественной практики, опыта ошибок и достижений человек формирует собственные представления о корпусе признаваемых норм. Личная точка зрения всегда будет преобладать над внешней нормой, поскольку «норма никогда не в состоянии реализовать свое видение реальности; поэтому она предстает в реальности как процесс расщепления, как различие соответствия и отклонения. Все факты в сфере нормативного регулирования сортируются в соответствии с тем, какую возможность они реализуют. И в зависимости от этого происходит выбор других присоединений»[497].
Современный человек зачастую оказывается в состоянии отчуждения от возможности принятия решений, влияющих даже на свой быт и социальное окружение. Неизвестные ему люди могут непредсказуемым образом отключить лифт, свет, воду, изменить направление движения автомобильного транспорта на его улице, запретить интернет, приватизировать его предприятие, изменить правила жизни в обществе, не заплатить причитающиеся ему деньги, отобрать принадлежащее ему имущество и т. д. Человек может прийти к выводу о том, что деятельность государства (субъектов публичной власти) никак не учитывает его личные интересы, и у него нет никаких эффективных способов заставить окружающий мир услышать мольбу о помощи.
Следует учитывать диалогичность демократической и авторитарной идей в нормативных системах современных государств. В большинстве случаев термин демократия носит оценочный характер, свидетельствует лишь об авторском (вкусовом) подходе к масштабу свобод в рассматриваемое время в конкретном государстве. Демократия отличается от авторитаризма, в том числе, возможностью участия в принятии общезначимых для населения решений большего количества субъектов. Тем не менее, законодательство и при идеальной демократии (например, в скандинавских странах) – это воля всего лишь нескольких десятков (сотен) законодателей, личные нормативные системы которых были активированы при принятии конкретных законов.
XXI век – период развития новых форм политических режимов: «демократической тирании», «суверенной демократии» и т. д., – соотношение демократии и авторитарии в каждой форме и отдельно взятом государстве имманентно культурным особенностям населения. Свободолюбие и свободомыслие одних народов, раболепие и подобострастие других приведут к формированию неодинаковых нормативных систем. Формируемая личность не всегда способна адекватно оценить сложившееся в государстве соотношение личность – общество – государство. Средства массовой информации в больших объемах транслируют картины преступлений, насилия, коррупции, политического авантюризма, захвата чужого имущества и власти. «На наших глазах вырастает огромное множество разных новых государств и государствиц. Они являются отражением спонтанных желаний населяющих их народов. Но их основатели представляют собой амбициозных вождей-политиканов. В то время как националистический импульс, стремление к собственному независимому национальному государству есть одно из следствий романтизма, его носители являются политическими практиками власти, которых привлекает перспективное жалованье, которые выкармливают собственное тщеславие привилегиями высоких государственных должностей, куда относятся небывалые почести и удобства, предоставляемые по первому их хотению, неимоверные штаты, чествования, официальные поездки»[498].
Личность в постиндустриальном обществе вынуждена учиться жить в состоянии, независимом как от близкого (семья, друзья), так и от дальнего окружения (государство, враги). Социальное отчуждение современного человека проявляется в каждом мгновении. Человек, выходя из своего жилища, даже в публичном пространстве предпочитает замкнутую на себя коммуникацию. Понаблюдайте за людьми в общественном транспорте, они преимущественно стараются не смотреть друг на друга, непосредственное и личностно значимое общение минимизируется. Концентрация на телефонах, планшетах, играх и других гаджетах препятствует коммуникации «человек-человек». Многие люди практикуют уже не разговоры по телефону, а обмен смс (e-mail, viber, skype и т. п.) сообщениями, кардинально рационализируя и тем самым безвозвратно изменяя тип межличностного общения.
В парадигме отчуждения неудивительно тотальное удаление органов публичной власти от обычного человека: «напишите жалобу письменно», «опустите обращение в ящик у входа», «отправьте прошение электронной почтой». Действительные авторы решений, имеющих нормативный характер, почти всегда скрыты бюрократической тайной. Невозможно достоверно узнать, кто приказал отключить лифт, газ и воду, кто изменил движение транспорта на улице, запретил интернет и митинг, кто сформулировал отправленное вам «приглашение на казнь».
В XXI в. наступает идеальный период для установления тоталитарных режимов, когда обособившаяся от населения публичная власть уже настолько независима, что может казалось бы прожить и без большей части населения. «Лишенный своего рационального основания принцип демократии становится зависимым исключительно от так называемых интересов людей, а эти последние суть функции слепых или слишком сознательно действующих экономических сил. Они не обеспечивают никакой гарантии против тирании. Например, в период системы свободного рынка большинство людей восприняли институты, основанные на идее человеческих прав, как хороший инструмент контроля над правительством и поддержания мира. Но если ситуация меняется и какие-либо могущественные экономические группы находят полезным для себя установить диктатуру и упразднить власть большинства, то против их действий нечего возразить – так, чтобы это возражение было основано на доводах разума. И единственное соображение, которое могло бы удержать тех, кто устанавливает диктатуру, – это опасность, грозящая их собственным интересам, но никак не забота об истине и разуме. Поскольку философский фундамент демократии разрушен, утверждение, что диктатура плоха, обладает рациональной значимостью только для тех, кто оказывается в невыгодном положении, и не существует никаких теоретических препятствий для трансформации этого утверждения в его противоположность»[499].
Социальные системы создают иерархии в виде пирамид и горизонталей. В пирамидах – принцип субординации, исполнение норм вышестоящего начальника, в горизонталях – принцип подчинения индивидуума нормам квазибольшинства. Вертикали стремятся представить себя горизонталями в целях имитации демократии. Имитация демократии необходима для минимизации расходов на насилие. Для борьбы с демоническим государством важно помнить, что закона и права нет в материальной природе, закон и право – это придуманные людьми связи, а любое новое правило отражает, в первую очередь, позицию его создателя. Исследователь права не столько ищет смыслы, сколько создает их, в этом принципиальное отличие философа от грибника, интенция которого направлена на поиск уже физически существующих предметов. Открытие новой правовой закономерности по существу есть экстраполяция своих постулатов на нормативные системы других лиц языковыми способами. Мы можем обнаружить неизвестные нам, но уже существующие ранее законы только в археологическом смысле.
5.4.3. Формирование способности нарушать общие правила
Осознав существование противоречий между личными интересами и общественными нормами, человек развивает способности снятия этих противоречий с максимальной пользой для себя. Упомянутую ранее стадию замкнутого пространства внутриутробного развития, в которой эмбрион (возможно будущая личность) начинает взаимодействовать с окружающим миром, находясь в тотально зависимом состоянии, можно сравнить с идеальной тюрьмой, навыки которой прошел каждый человек. Человек начинает исследовать границы свободы, начиная с первых дней жизни, первыми «подопытными кроликами» становятся его родителя. Выйдя из своей первой комфортной тюрьмы, обретя относительную свободу, юный человек начинает познавать закономерности окружающей его действительности, формируя «пространство борьбы» с внешним (чужим) миром за реализацию своих желаний. Требование получить игрушку для ребенка по существу ничем не отличается от требования взрослого человека предоставить место в парламенте или выдать миллион денежных единиц в банке, – человек настаивает на исполнении другими людьми его индивидуальной воли. Родители на требования малыша (возможно, будущего гангстера) реагируют неодинаково, равно как и члены парламента, и служащие банка – на требование состоявшейся личности.
Следует дифференцировать подходы к формированию способности нарушать общие правила для так называемых «обычных людей» и «специальных субъектов». Под «обычным человеком» подразумевается субъект, не имеющий возможности в силу отчужденности от публичной власти и капитала оказывать целенаправленное влияние на права и обязанности других людей, а также на решения государственных институций. К «специальным субъектам» относятся владельцы капиталов и функционеры публичной власти, действия которых могут изменить права и обязанности неопределенного количества личностей, а также повлиять на решения властных органов. Специальные субъекты в состоянии превращать свои личные нормы в общие правила, обязательные для обычных людей. При этом специальные субъекты обладают набором средств, позволяющих лично им (а также в некоторых случаях близким для них лицам) не соблюдать общие нормы.
Процесс формирования индивидуального нормирования наглядно иллюстрирует позиция водителя транспортного средства по отношению к ограничивающим и запрещающим знакам правил дорожного движения. Не существует ни одного водителя, который когда-нибудь не превышал бы скоростной лимит. Почему мы позволяем себе нарушать норму права, зная об ограничении скорости движения на этом участке дороги. Мы знаем, каким способом можно снизить скорость до указанной на знаке отметки и осознаем, что за наше нарушение предусмотрено наказание. Кроме того, мы предполагаем, что у авторов запрета могло возникнуть разумное обоснование для ограничения скорости: близость школы с выбегающими на проезжую часть детьми, извилистый участок дороги и т. д. Но у нас наличествуют иные, свои собственные представления о необходимости соблюдать (или не соблюдать) нормативное предписание. Например, мы не верим авторам нормы, – а вдруг они установили этот знак в период ремонта дороги, но по окончании ремонта забыли его снять. А может, собственниками знака являются беспринципные «гаишники», которые возят этот знак с собой и устанавливают в самых непредсказуемых местах с целью наживы на рассеянных водителях-дачниках. Или знак установлен рядом с резиденцией важного чиновника, который из вельможной прихоти просто так захотел. Или мы торопимся, или полагаем, что нас никто не видит, или нам не жаль денег на штраф, или у нас есть специальные полномочия на несоблюдение общих норм и т. п. У нас может быть много веских причин для нарушения Правил дорожного движения не только в части ограничения скорости, но и в проезде на красный свет светофора, под «кирпич» и т. п. Важно отметить, что механизм формирования субъективной (индивидуально – правовой) нормы у водителя, нарушающего Правила дорожного движения, принципиально совпадает с формированием правовой установки в правосознании насильника, вора, убийцы, взяточника и т. д. Формирование способности нарушать внешние нормативные системы начинается с осознания того, что у каждого могут возникнуть такие обстоятельства, при которых он будет «иметь право» не соблюдать установленную для всех остальных людей норму.
Человек по своей природе является гедонистом, он стремится получить удовольствие и избежать неприятных ощущений, страданий. Он наделен свободой воли в такой степени, что всегда может выбрать между несколькими вариантами возможного поведения. Субъективная оценка правовой ситуации осуществляется личностью в своих интересах, на основании синтезированных представлений о должном, с учетом индивидуальных прогнозов развития данного правоотношения.
Разумеется, человек принимает во внимание известные правовые нормы, например, налоговое законодательство, однако некоторые предпочитают минимизировать налоговые платежи, утрачивая различие между налоговой оптимизацией и налоговым преступлением. Моральные нормы (представления о надлежащей манере поведения, о добре и зле) как правило, не конфликтуют с юридическими текстами, поскольку сформировавшаяся личность способна приспособить нормы морали для любой правовой ситуации, найдя удобное обоснование своим действиям. Человек научился сепарации морали от права. Хищение чужого имущества можно оправдать благими целями, борьбой за торжество справедливости, хотя действительной целью может быть поиск денег на дозу наркотического средства. Некоторые государства считают возможным изымать собственность у физических и юридических лиц без компенсации, обосновывая это государственными нуждами. Уничтожение и изъятие имущества, насилие и лишение жизни, осуществляемое военнослужащими (за редкими исключениями) не наказываются в военное время. Следователи и дознаватели даже в мирное время могут изымать практически любое имущество у кого угодно, если сочтут в нем доказательственное значение для дела. Современные общества многослойных стандартов дезориентируют человека, публичная власть редко приводит аргументацию своих решений, кулинарные тайны судебной кухни скрыты от обывателя.
Не получив ответов на свои актуальные вопросы, на фоне произвола субъектов публичной власти обычный человек начинает ощущать себя единственным творцом своего права, поскольку никто иной реального субъективного права на что-либо ему не предоставляет. Человек повторяет исследовательский путь в стиле Федора Раскольникова – тварь я дрожащая или право имею[500], и после удачного криминального испытания на некоторое время может чувствовать себя правотворцем, способным создавать нормы по крайней мере для себя и тех правоотношений, которые он инициировал своими действиями. Высокая латентность преступной деятельности позволяет некоторым лицам и целым группам годами заниматься преступной деятельностью, оставаясь безнаказанными. Известно много случаев, когда нормативная система одного человека, поддержанная соучастниками, доминировала на территории города, региона и даже государства. «Лицо имеет право помещать свою волю в каждую вещь, которая благодаря этому становится «моей», получает мою волю как свою субстанциальную цель, поскольку она в себе самой ее не имеет, как свое определение и душу; это абсолютное право человека на присвоение всех вещей»[501]. Человек способен следовать «личному правилу» вопреки внешним нормативным системам, даже если эти внешние нормы являются законом государства и запрещают поступать так, как он хочет.
Противоправное деяние не является преступным само по себе, даже обладая свойствами, отличающими его от других форм поведения. Преступным деяние становится только в результате реакции на него со стороны законодателя, следователя, судьи. Нам известны примеры суровых приговоров за незаконный обмен иностранной валюты, спекуляцию, антисоветскую деятельность. Незаконный обмен валюты утратил запретный шлейф, уголовно наказуемая спекуляция (перепродажа с целью наживы) превратилась в поощряемый государством и обществом бизнес, антисоветской деятельностью в XXI в. можно заниматься открыто, не опасаясь уголовного осуждения. Но и в современном мире в некоторых государствах уголовному наказанию подлежит, например, супружеская измена, а за употребление наркотических средств даже в личных целях может последовать смертная казнь. В других же странах можно легально приобрести марихуану и курить ее вместо табака, а изменой супруги полицию не заинтересовать. Уголовное законодательство меняется, вводятся новые составы преступлений, отменяются устаревшие нормы. Бессмысленно наказанными и обманутыми могут чувствовать себя отбывшие срок осужденные после декриминализации вмененных им составов преступлений.
Человек в процессе социализации перенимает навыки и умения, научаясь нарушению чужих нормативных систем. Преступное поведение подчас становится следствием того, что в окружении индивида оценки, способствующие нарушению нормы, преобладают над оценками, определяющими ее соблюдение. Современное общество потребления движется по пути увеличения разрыва между провозглашенными массовой культурой целями и имеющимися возможностями их достижения. В условиях концентрации капиталов среди узкого круга лиц и монополизацией публичной власти в некоторых государствах такой разрыв становится все более очевидным.
Глава 6 Толкование права и свободы
6.1. Обязательность толкования
Право и свобода не существуют сами по себе, эти феномены актуализируются посредством целенаправленной деятельности людей и нуждаются в непрерывной человеческой интерпретации. Разные субъекты могут связывать с правом и свободой неодинаковые явления и статусы социальной действительности. Окружающий человека мир воспринимается только через его интеллектуальную сферу, сознание, понятийный аппарат. Право и свобода предстают в знаковых формах, которые можно редуцировать к тексту в широком значении термина. По мнению профессора Санкт-Петербургского государственного университета А.В. Полякова «право возникает как интерпретированный текст, т. е. текст, воспринятый сознанием, эмоциями и волей субъектов социального взаимодействия»[502]. В силу значительных различий между людьми постоянно возникают споры о толковании правоположений, интерпретации характера действий сторон, значения юридических фактов и прочих существенных для жизнедеятельности человека обстоятельств. Поскольку «правовой текст предполагает наличие у субъектов логического мышления, т. е. способности понимать и оценивать его смысл, а также сознательно действовать на основе такого понимания»[503], общество сталкивается с неопределенным количеством споров о толковании текстов и юридически значимых фактов. Каждое человеческое сознание выстраивает аргументативную концепцию в обоснование своего собственного толкования права и факта. В судах сталкиваются стороны, каждая из которых убеждена в своей правоте, отстаивает всеми юридико-техническими и даже экстралегальными способами собственную интерпретацию закона и права, добивается решения в свою пользу.
Поль Рикер в «Конфликте интерпретаций» обозначил сознание как «движение, которое постоянно отвергает исходную точку и только в конце обретает веру в себя. Иными словами, сознание – это то, что имеет свой смысл только в последующих фигурах, это новая фигура, которая может обнаружить поздним числом смысл предшествующих фигур»[504]. Человеческое сознание стремится к обретению экономической и политической свободы, а будущие достижения, удовлетворение гедонистических и альтруистических интересов человека прямо зависят от его способности толковать право в свою пользу. Конфликты интерпретаций фактов и правоотношений в бизнесе и политике приводят к непредсказуемым затратам, жертвам, войнам, и, как неумолимый итог, – социальной нестабильности и росту уровня ненависти в обществе.
Государство может благополучно существовать и успешно развиваться только при наличии в нем упорядоченных и одобряемых большинством населения механизмов толкования права и разрешения споров. Судебную систему в теоретическом аспекте можно считать наиболее приспособленной для этих целей упорядоченной структурой, зависимой в большей степени от корпуса права, нежели от сиюминутной воли действующих субъектов исполнительной власти и спорящих сторон. Следует понимать, что законодательное установление не действует само по себе, ибо оно есть всего лишь неодушевленный текст. В социальной и правовой жизни принимают решения и воплощают их в жизнь акторы – люди, социальные группы, институты и иные субъекты, способные осуществлять конкретные действия, имеющие последствия не только для них. Их перформативность способствует применению закона и оживлению права в дискурсе собственного усмотрения. Законодательство, исполнительная и судебная системы для устойчивого функционирования требуют постоянных и интенсивных усилий большого количества профессионалов. Человеческий фактор продолжает иметь важное значение для правопорядка.
Будет ли достаточным для улучшения ситуации в той или иной общественной сфере написать проект закона, проголосовать за него в парламенте, подписать у монарха и опубликовать? Разумеется, реализация идеи и текста требует человеческих усилий, поскольку «нельзя породить институцию и предположить, что она будет сама жить. Она будет сама жить только в той мере, в какой она будет возобновляться усилием человека, направленным на то, чтобы эта институция была. Например, закон нельзя установить, а потом о нем забыть, считая, что он будет продолжать существовать. Существование закона покоится целиком на существовании достаточного числа людей, которые нуждаются в нем как неотъемлемом элементе своего существования и готовы бороться и идти на смерть, для того, чтобы этот закон был»[505].
Законодательные органы навязывают обществу свою интерпретацию должного поведения, судьи вынуждены принимать решение о квалификации юридического деяния согласно правилам о должном, но с учетом сущего – конкретных жизненных обстоятельств субъекта и состоявшихся ранее прецедентов толкования. Только борьба за право делает возможным его существование, субъективные толкования закона правоприменителями делают возможным достижение справедливости исключительно посредством затраты сверхусилий. «Ничто человеческое не может само собой пребывать, оно постоянно должно возобновляться и только так может продолжать жить, а возобновляться оно может только на волне человеческого усилия, а усилия не может быть, если оно не направлено на эти предметы»[506].
Применяя закон к конкретным правоотношениям, судья всегда осуществляет его толкование. Мишель Тропер обозначает толкование как деятельность: «толковать» означает указать либо определить значение чего-либо. Первая дефиниция исходит из предположения о возможности знания смысла и о том, что толкование является познавательной функцией, вторая же – что волеизъявительной. Каждое из приведенных определений соответствует отдельной теории. Таким образом, определение не относится к самому действию, которое выступает объектом теории, оно само по себе выражение этой теории. В свою очередь две упомянутые теории основаны на онтологических и эпистемологических допущениях. Онтологические: если я утверждаю, что толковать – это указывать на значение, значит, я предполагаю существование объективного смысла, поддающегося описанию. И, напротив, я могу предположить, что значения не существует, а, стало быть, его можно только определить. Эпистемологические: каждая теория занимает в мыслительной системе место, которому присуща определенная функция. Можно, таким образом, представить себе эту интеллектуальную систему как практическую дискуссию (например, между судами); четкое определение толкования стало бы замечательным подспорьем в осуществлении судебной деятельности. Как утверждает дуайен Ведель, судья может осуществлять свои функции, реализовать свои полномочия, приводить аргументацию только в том случае, если он осознает, что эта деятельность заключается в определении смысла. И, напротив, можно представить себе эту мыслительную систему в качестве научной системы, и в таком случае следует искать не ту теорию, которая предоставляет наилучшие подспорья, а ту, которая соответствовала бы условиям данной науки»[507].
М. Тропер отмечает взаимосвязанность онтологических и эпистемологических допущений. Обозначая свою концепцию толкования как реалистическую, он уточняет, что исследуемое толкование – это толкование исключительно юридическое, юридическая интерпретация; оно эффективно в юридической системе, в отличие от музыкальной или литературной интерпретации, которую нужно рассматривать иначе[508]. Объектами реалистической теории толкования может быть как поведение судей, т. е. психосоциальный феномен (в этом случае право трактуется как эффективное поведение), так и методика эффективного юридического рассуждения, которая пытается понять «непрямые обязательства», довлеющие над задействованными лицами и границами личных суждений, которыми они располагают, а также непрямые обязательства, которые они производят. Изложенная
М. Тропером реалистическая теория толкования опирается на концецию толкования Г. Кельзена (хотя по многим пунктам расходится с ней) и сводится к трем основным предпосылкам: толкование является актом волеизъявления, а не познания; его объектом служат не нормы, а формулировки или факты; субъекты, осуществляющие толкование, наделены специфической властью. Волеизъявительный характер толкования подтверждается тремя сериями аргументов: не бывает толкования contra legem (интерпретация, противоречащая истинному смыслу закона); не существует независимого от замысла значения, которое следует обнаружить; не существует объективного значения[509].
Не существует по мнению Тропера и значения, которое могло бы быть сведено к замыслу законодателя, поскольку автором большинства законодательных текстов является коллегиальный орган, не являющийся психическим субъектом. Замысел отдельно взятых субъектов не подлежит установлению, юридический автор не всегда является автором в интеллектуальном смысле, например, в том случае, когда принятый парламентом проект закона был разработан коллективным органом.
Поскольку разумные и рациональные люди реализуют через законодательный орган власти свои личные и групповые интересы, всегда можно выразить сомнение относительно равного значения законопроекта для всех граждан государства. Существование политической борьбы за власть в государстве поляризует интересы, мы обязаны отдавать отчет в том, что принятый в интересах одной группы лиц текст законодательного акта в дальнейшем будет применяться ко всему населению, в том числе, к оценке действий лиц, оппозиционно настроенных к правящей партии и ее руководству. В некоторых государствах, например, в Великобритании истеблишмент и население привыкло к смене партий, к коалиционным компромиссам и поражениям неэффективно правящей партии на следующих выборах. Частично не избираемая верхняя палата английского парламента призвана усложнять правящей ad hoc политической партии прохождение законов, чтобы сделать законодательство более сбалансированным. Поскольку палату общин в течение пяти лет может контролировать одна партия, палата лордов выступает своего рода политическим противовесом с осознанием реальности прихода другой правящей партии на очередных парламентских выборах. Регулярная смена консерваторов и лейбористов в качестве правящих партий, а также ротация лидеров партий позволяет судебной системе, в том числе судьям высших судов, не попадать в зависимость от волеизъявления руководства правящей партии.
Пример Англии очень интересен для понимания возможного типа отношений между населением и субъектами публичной власти. При формировании английской судебной системы такие противоречия как противостояние общего права, права справедливости и статутного права существенно повлияли на возникновение доктрины толкования, наиболее точно отвечающей чаяниям людей о свободе от произвола класса чиновников. Общее право развивалось как право судейского усмотрения, внедрение директив лорда-канцлера вызывало у судей нежелание принимать положения права справедливости. Нормативные положения статутного законодательства, востребованного динамичным общественным развитием, также могли противоречить судебной практике. Для рационального и поступательного развития империи требовалась доктрина толкования, понятная не только судьям, юристам-практикам и юристам-ученым, но максимальному количеству подданных.
Судебная реформа конца XIX в. привела к слиянию общего права с правом справедливости, оформившиеся в доктрину каноны толкования давали возможность и обязывали при вынесении судебных решений разумно толковать нормы применяемых статутов и положений прецедентов. Население, понимая алгоритмы судебной аргументации, может предвидеть последствия своих юридически значимых действий. Чиновничий беспредел становится менее возможен, поскольку интерпретирующий нормы и факты судья, действуя в парадигме сменяющейся исполнительной власти, предпочитает основывать свое толкование на более стабильных основаниях, нежели приказ сегодня здравствующего чиновника.
Доктрина толкования права в Великобритании позволяет поддерживать интеллектуальное противостояние прецедентного права статутному праву, способствуя соблюдению баланса интересов гражданского общества в конфликте с публичной властью. Пришедшая на несколько лет в результате тех или иных выборов лет группа лиц (политическая партия) в таких условиях не в состоянии установить авторитарный режим, осуществить свое быстрое обогащение за счет бюджета и подчиненных граждан, приватизировать общее имущество в свою пользу и остаться править на десятилетия. Английская судебная система и судейский корпус, несмотря на свою включенность в структуру публичной власти, оказываются связанными, в том числе, доктриной толкования, препятствующей принимать несправедливые, неразумные, нерациональные решения. Гражданское общество поддерживает судей, последовательно отстаивающих свое право на нормотворчество (создание прецедентных норм), мотивируя это публичным интересом в противостоянии реализации краткосрочных интересов пришедшей в парламент на несколько лет политической партии.
Российская политико-правовая культура за последние почти сто лет привыкла к несменяемости политической (законодательной, исполнительной и судебной) власти. Публичную власть с 1917 г. удерживают группы лиц (вооруженные отряды революционеров, партийно-политические кланы, финансово-олигархические союзы), которые подстраивают под свои интересы все исполнительные иерархии, судебную систему и законодательную концепцию. Поскольку в отечественной политике «кадры решают все», каждый следующий правитель расставляет лично преданных ему людей в ключевые институты публичной власти и в корпорации макробизнеса. Система вассалитета и раздачи должностей своим сподвижникам имеет глубокие корни в российской истории, позволяя талантливому правителю оставаться во власти до конца жизни. Никакие нормативные сроки правления в России не имеют основополагающего значения. Владея политическими и финансовыми ресурсами, несложно законодательно увеличить срок правления (даже путем внесения изменений в Конституцию), затем передать место заранее подготовленному преемнику и находиться всегда рядом. Российское население, чья историческая память о репрессиях находит перманентное подтверждение в современности, всегда будет голосовать за сильного и понятного правителя либо вообще не пойдет на выборы, – в этом случае за него проголосуют технологии самосохранения публичной власти.
Можно утверждать, что в любом законодательном акте всегда доминируют интересы его инициаторов, составителей и лоббистских групп. По мнению М. Тропера, ни в замысле законодателя, ни независимо от него не существует объективного значения. Единственное значение определяется толкованием; можно сказать, что до толкования текст не имеет значения, но он находится в ожидании такового. Из этого следуют важные теоретические выводы: объектом толкования является не норма, содержащая значение, а носитель этого значения, т. е. текст или факт. Текст подлежит толкованию всегда, а не только когда неясен. Толкование – это решение, касающееся определения ясности или неясности текста. Орган, уполномоченный осуществлять подлинное толкование, может объявить текст непонятным для обоснования необходимости своей (собственной) интерпретации; или, напротив, понятным, чтобы таким образом подтвердить его значение, не признавая, что на самом деле осуществляет толкование этого текста[510].
Под «подлинным толкованием» понимается такое толкование, за которым юридическая система закрепляет значимые последствия, оно не подлежит оспариванию в судебном порядке и в случае толкования текста внедряется в этот текст. Очевидно, что речь идет о судебных ведомствах высших инстанций и Конституционном Суде. Толкователь наделяет своими значениями факты окружающей действительности, например, обычай – повторяющуюся практику, сопровождающуюся ощущением ее обязательного характера[511]. В судебном решении могут быть установлены факты, имеющие юридические последствия, составляющие обычай и представляющие в своей совокупности значение нормы, которой следует соответствовать.
Судебное толкование как реализация властного полномочия является актом волеизъявления, относящимся и к фактам, и к формулировкам. Его правильность или ошибочность доказать невозможно, поскольку вступившее в силу решение суда признается законным и обоснованным. Право на критику судебного толкования, процедура обжалования не изменяют правила – вступившее в силу судебное решение изменяет характер прав и обязанностей сторон: наделяет собственностью, обязывает пребывать определенный период в местах лишения свободы, признает незаконным (и не порождающим правовых последствий) акт органа власти. В случае отмены судебное решение de jure не будет существовать, в случае его изменения вышестоящей инстанцией оно продолжит свое действие в новой редакции, оставаясь законным и обоснованным. Какими бы оценками решение не наделяли стороны, оно будет порождать юридические последствия в рассматриваемой нормативной системе. Многие российские судьи считают любое вступившее в законную силу судебное решение справедливым, отождествляя категории законности и справедливости. Опровергнуть доктринальное (как научное, так и обыденное) толкование невозможно, поскольку результат этого спора не приведет к изменению решения, а оценка качества аргументативных совокупностей, представленных оппонентами, будет являться не действительным знаком качества системы доказательств, а вкусовым (научным, практическим, каузальным и т. п.) пристрастием оценивающего субъекта.
В.В. Волков выделяет в поведении судей при принятии решений две модели: нормативную и эмпирическую. Нормативная модель оставляет судью один на один с текстом закона, представленными доказательствами и собственным внутренним убеждением. Конечно, кроме текста закона в распоряжении судей имеются решения и постановления высших судов, готовые решения по аналогичным делам и другие сходные документы, содержащие толкование законов и облегчающие их применение. Но они не содержат решения о виновности подсудимого или правоте сторон[512]. Эмпирическая модель принятия судебных решений наделяет судью материальными и карьерными интересами, статусными амбициями, полом, биографией, предшествующим опытом, включенностью в социальную среду, контекстом иерархической организации и подчиненностью властным воздействиям в этой организации, нахождением в институциональной среде, где его действия оцениваются и эта оценка имеет ощутимые последствия.
Российскую правовую действительность можно охарактеризовать доминированием эмпирического подхода к принятию судебного решения, при котором процесс принятия решений задается не только кодексами, законами и юридическими обстоятельствами конкретного дела, а множеством экстралегальных факторов, которые переплетаются с легальными, а также тем, что этот процесс не локализован в голове отдельного судьи, а распределен по одной или нескольким организациям и коллективам с подвижными границами, хотя номинальное авторство решения и принадлежит конкретному судье или коллегии судей[513]. Английскую модель поведения судей при принятии решения следует преимущественно отнести к нормативной.
Существенным отличием английского судебного нормотворчества являются признанная компетенция судьи для составления казуального текста, отражающего судейское видение права в норме закона, прецедента, обычая, применительно к конкретным правоотношениям. Судья имеет полномочия, обязанность и способность дать оценку фактам и действиям субъекта не только с точки зрения одного статута, но в совокупности естественно-правовых и формально-юридических взаимодействий. Право является одним из элементов культуры этноса, а стороны судебного процесса, правоохранительные органы, защищающиеся и нападающие – суть равнозначные части ойкумены[514].
При планировании законодательного процесса, составлении проектов законов и их прохождении через парламент у акторов означенных процедур доминируют политические и финансовые составляющие, связанные со стремлением конкретной группы лиц, партии, кабинета сохранять свое влияние на политико-правовые и финансово-экономические процессы. Судьи, сталкиваясь с необходимостью принимать сегодняшние решения в рамках предложенных материалами судебного дела обстоятельств, в целях наилучшего обоснования принимаемого вновь решения обратятся к предшествующим, устоявшимся и исполненным решениям своих коллег. Несомненно, являясь людьми прогосударственного мировоззрения, судьи учитывают точку зрения исполнительной власти, но в процессе правоприменения они оперируют скорее понятиями общего права и его принципами, не обращая особого внимания на политические взгляды правительства[515]. Общее право предоставляет судьям полномочия толковать закон, что означает ущемление превосходства парламента. Парламент, с позитивистской точки зрения, «создает» право в первичном смысле – он производит его, прокламирует. Суд же не производит право, а находит право среди законов, прецедентов и обычаев. Таким образом, можно сказать, что компетенция нахождения права принадлежит суду[516].
Российская судебная система может рассматриваться как продолжение административной деятельности исполнительной власти. Выработанные в период социалистического реализма судейские подходы были направлены на беспрекословное исполнение воли политической партии, смена одной партии на другую принципиально не отразилась на базисном судейском правопонимании. Действие права рассматривается как инициируемый правителем единый процесс законодательствования, исполнения своей воли подданными и жесткого принуждения к тем, кто нарушил веление. Судебная доктрина толкования ориентирует судей в большей степени следовать приказам и установкам вышестоящих инстанций, нежели тексту и смыслу закона.
6.2. Структура толкования
6.2.1. Понятия и определения
Словарь русского языка предлагает четыре значения слова «толкование»: 1) действие по глаголу «толковать» в значении определять смысл, значение чего-либо, понимать и объяснять что-либо каким-либо образом, истолковывать; то или иное понимание, освещение чего-либо, трактовка, интерпретация; 2) текст, содержащий объяснение чего-либо; 3) то, что объясняет что-либо, указывает на причину чего-либо; 4) разговоры, рассуждения. Толкователь (истолкователь) определяется как тот, кто занимается толкованием, объяснением, трактовкой чего-либо[517].
Интерпретация (interpretatio) – заимствованное из латинского языка слово применительно к нормам права означает толкование, объяснение, раскрытие смысла чего-либо либо. Интерпретировать – давать интерпретацию, объяснять, истолковывать что-либо. Интерпретатор – тот, кто интерпретирует что-либо; истолкователь[518]. В российской юридической терминологии принято рассматривать термины «интерпретация» и «толкование», «интерпретатор» и «толкователь» как равные по значению.
П. Рикер определяет интерпретацию как высказывание, овладевающее реальностью с помощью значащих выражений, а также как работу мышления, которая состоит в расшифровке смысла, стоящего за очевидным смыслом[519]. А.В. Поляков рассматривает интерпретацию (толкование) как «индивидуальный интеллектуальный процесс, направленный, во-первых, на установление смысла правовых тестов применительно к поведению правовых субъектов, а во-вторых, на разъяснение этого смысла другим субъектам правовой коммуникации»[520]. По мнению Х.И. Гаджиева интерпретация – это «специальное познание, имеющее научную основу при исследовании нормативного предписания»[521]. Научное познание процесса интерпретации включает в себя как изучение интерпретационной деятельности, так и ее результатов. Интерпретационная деятельность заключается в интеллектуальном процессе уяснения и разъяснения смысла и содержания нормативного предписания[522]. Результатом толкования может быть как нормативный образ, нормативная конструкция, образовавшиеся в сознании интерпретатора после уяснения, так и устное разъяснение, письменное разъяснение, разъяснение в акте применения нормы права.
Значение интерпретационного акта для субъектов правоотношений (юридическая сила толкования) зависит от статуса интерпретатора и его полномочий на интерпретационную деятельность. Предметом толкования могут становиться как нормы закона, так и иные источники права. В объект интерпретации также могут входить юридические факты и правоотношения. Юридическая сила официального толкования предполагает обязательность даваемых разъяснений при последующем применении интерпретированных норм судебными и иными правоприменительными органами.
Правоприменительная деятельность без толкования действующих норм невозможна. Исследование юридических фактов, выявление значимых правоотношений, оценка доказательств, избрание вида и размера наказания основываются на интерпретации материальных и процессуальных норм, на толковании всех применимых к рассматриваемому казусу источников права.
В истории социалистического правового реализма существовали различные мнения на соотношение интерпретационной и правоприменительной деятельности. С одной стороны существовало мнение, что толкование является «предпосылкой правоприменения, оно не совпадает с правоприменением, не является его стадией»[523], с другой стороны деятельность по толкованию права связывалась с правоприменением и представляла его неразрывную часть[524]. С одной стороны под толкованием понималась такая стадия правоприменения, «когда уже известны факты, требующие правового решения, выбрана соответствующая норма, проверена ее истинность и обязательность, выяснены пределы ее действия, остается только установить ее полное и точное содержание, чтобы сделать окончательные и безошибочные выводы»[525], с другой стороны утверждалось, что «толкование не является операцией самой по себе, проводимой абстрактно, оно есть активная деятельность, представляющая собой составную часть, элемент правоприменения»[526].
Интерпретацию права можно назвать интеллектуальным минным полем, поскольку эта деятельность связана с «раздачей радости и боли», с защитой и утратой права. Разница между интерпретационными оппозициями подчас лежит не в плоскости аргументативных конструкций, но зависит от вкусовых предпочтений интерпретатора и правоприменителя (иногда сосуществующих в одном лице). Интерпретационная деятельность сопровождает весь период существования права. Применительно к нормативным актам можно сказать, что их толкование начинается еще до издания: осознается необходимость принятия нового установления, формируется обоснование, вносится законодательная инициатива, доказывается завершенность проекта и т. д. Законодатель пропагандирует новый акт, убеждает население признать его, а некоторые неодобряемые обществом законы публичная власть внедряет в действие через насилие. Даже после отмены закон продолжают интерпретировать в ходе исторического или систематического толкования, его оценивают, ссылаются на значение и скрытые смыслы. Например, по настоящее время продолжается интерпретация так называемого «закона о трех колосках»[527], предусматривавшего в качестве меры судебной репрессии за хищение (воровство) колхозного и кооперативного имущества применение высшей меры социальной защиты – расстрела с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах на лишение свободы сроком не ниже 10 лет с конфискацией всего имущества. Тех, кто “проповедуют применение насилия и угроз к колхозникам с целью заставить последних выйти из колхоза, с целью насильственного разрушения колхоза” приравняли к государственным преступлениям и в качестве меры судебной репрессии предусмотрели лишение свободы от 5 до 10 лет с заключением в концентрационный лагерь[528].
Следует обратить особое внимание на то, что ни законодательство, ни право в целом не действует само по себе, его реализуют люди, воспринимающие нормативные предписания через свое индивидуальное правосознание. Одни и те же законодательные установления могут интерпретироваться неодинаково, степень их признания и соблюдения зависит от человеческих особенностей. В правовой действительности мы имеем дело не с нормой права, а с вариантами ее интерпретации. Вспомните, как за одно и то же нарушение Правил дорожного движения в разных случаях у вас и ваших знакомых получались неодинаковых результаты.
Уяснение содержания и смысла любого правового текста актуализируется в фокусе конкретной правовой ситуации, когда необходимо оценить правомерность действий, найти оптимальный путь разрешения юридических противоречий. Каждый спор в суде – это конфликт интерпретаций правовой действительности. По мнению П. Рикера интерпретационная деятельность связана с преодолением дистанции, отделяющей читателя от чуждого ему текста, работа по интерпретации связана с включением смысла интерпретируемого текста в нынешнее понимание, которым обладает читатель[529].
Процесс толкование права принято классифицировать по стадиям толкования, по формам толкования, по субъектам толкования и по объему толкования.
6.2.2. Стадии толкования: уяснение, разъяснение, применение
Деление стадий толкования на уяснение и разъяснение достаточно распространено. Например, Ю.И. Гревцов отмечает: «Известны два основных аспекта толкования. В первом случае это раскрытие, уяснение содержания нормативно-правового акта как бы для себя. Такое толкование служит важным этапом использования или применения права тем или иным субъектом права. Во втором случае под толкованием понимают разъяснение смысла и нормативноправового акта для других. Разъяснение имеет место тогда, когда содержание нормативно-правового не только уясняется самим субъектом, но и разъясняется всем заинтересованным в этом лицам и организациям»[530]. По мнению А.И. Бойцова, «с одной стороны, толкование представляет собой познавательный процесс, направленный на установление содержания закона (уяснение), а с другой – результат данного процесса, объективированный в той или иной форме (разъяснение)»[531]. А.В. Слесарев полагает, что «разъяснение правовых норм является следующим за толкованием элементом механизма применения, имеющим свое содержание и форму, для которого характерным является доведение информации о результатах интерпретации до неопределенного круга лиц»[532].
Для развития методологии толкования следует дополнить классификацию еще одной стадией, своего рода разъяснением при применении нормы права, толкованием-применением. Очевидно, что каждой стадии толкования соответствуют вполне определенные цели. Человек в процессе своей жизнедеятельности прибегает к толкованию нормативных предписаний в различных целях: для собственного познания закона, его оценки на предмет возможности соблюдения и применения (толкование-уяснение); для разъяснения своего понимания нормы иным лицам (толкование-разъяснение); для обоснования правильности применения нормы в конкретных случаях (толкование-применение). С точки зрения целей, функций и компетенций интерпретатора эти стадии толкования существенно различаются.
Современные исследования свидетельствуют о более подробном отношении интерпретаторов как к стадии уяснения, зависящей от индивидуальных особенностей субъекта, так и к стадии разъяснения, и, особенно к стадии применения, в которой интерпретация нормы, факта, правоотношения, обоснованного вида и размера наказания приобретают чрезвычайную актуальность как для правоприменителя, так и для адресата возможного наказания. В пользу относительной самостоятельности каждой из рассматриваемых трех стадий толкования говорит большое количество завершенных актов интерпретации на каждой стадии. Например, акт уяснения водителем транспортного средства запрета на дальнейшее движение по этой улице может быть применен им в форме изменения маршрута движения. Дальнейшее разъяснение его когнитивного толкования иным лицам может отсутствовать. Акты разъяснения нормативного предписания, существующие в правовой природе, могут в дальнейшем не использоваться в правоприменительной практике. Например, разъяснение свидетелю норм уголовного права об уголовной ответственности за заведомо ложные показания может возыметь свое действие, свидетель даст правдивые показания и стадия толкования-применения ст. 307 УК РФ не наступит.
Толкование-уяснение, являясь самостоятельной стадией толкования, всегда предшествует последующим стадиям. Толкование-уяснение как стадия и цель толкования нормы закона представляет собой интеллектуальную деятельность, направленную на индивидуальное познание смысла и содержания текста или сведений о тексте. Уяснение как цель толкования предполагает процесс ознакомления с правовым предписаниям, его субъективное восприятие, оценку, выявление соотношения с практикуемой субъектом индивидуальной нормативной системой. Уяснение не влечет за собой с обязательностью дальнейшее разъяснение или применение, уяснение – самодостаточный процесс, итоги которого могут удовлетворить познающего субъекта. Несомненно, разъяснение и применение правовых норм невозможно без предварительного уяснения, – от того, насколько правильно уяснен смысл и содержание правовой нормы, зависит ее дальнейшее адекватное разъяснение и применение.
Презумпция знания закона («незнание закона не освобождает от ответственности») обязывает каждого человека осуществлять толкование-уяснение тех норм, несоблюдение которые предположительно может отрицательно отразиться на различных сферах его жизнедеятельности. Эта презумпция конфликтует с презумпцией невиновности и некоторыми другими правами и свободами граждан. В жизни обычного человека действие многих законодательных установлений не всегда легко проверить практически (например, входит ли в список запрещенных приобретаемая курительная смесь), однако dura lex sed lex.
На стадии толкования-разъяснения происходит раскрытие смысла и содержания нормативного предписания иным лицам. Разъяснение предполагает предшествующую интеллектуальную деятельность по уяснению нормы, в том числе осведомленность о ее содержании и собственное понимание ее смысла. Адекватность уяснения нормы толкователем, способность ее компетентного разъяснения зависят от интеллектуальных и профессиональных качеств интерпретатора.
Норма закона может уясняться как для личных целей, так и для ее разъяснения иным лицам. Следует дифференцировать разъяснение, осуществленное в собственно интерпретационном акте (например, Постановлении Пленума Верховного Суда РФ), и разъяснение, являющееся частью правоприменительного акта (например, приговора суда по конкретному уголовному делу). В акте применения толкование становится частью обоснования решения правоприменителя, в нем «выражаются… поиск и обоснование юридических мотивов для аргументации своего отношения к правовой ситуации или объяснения правовой позиции»[533]. В мотивировочной части судебного решения «отчетливо видна специфика юридического толкования в отличие от любой другой деятельности по уяснению смысла каких-либо знаков, заключающаяся в обусловленности познания значения правовых предписаний потребностям их реализации»[534].
Толкование-разъяснение может осуществляться субъектом, не уполномоченным применять нормы права к рассматриваемым правоотношениям. Например, прокурор, являясь стороной процесса, в обвинительной речи, в апелляционном представлении на приговор суда представляет официальное толкование-разъяснение закона, однако он не имеет полномочий на применение интерпретируемого закона к подсудимому.
Толкование, даваемое судьями в приговоре, апелляционном постановлении и иных решениях по существу дела, имеет особое качество и правовые последствия как для процессуальных сторон, так и для общества. Это толкование рассматривается как толкование-применение. Общественный интерес заключается в общедоступной ясности нравственных мотивов и юридико-технических обоснований, составивших основу судейского усмотрения при формулировании текста толкования-применения закона в отношении поступка конкретного лица. Этап толкования, осуществляемого судьей при непосредственном применения правовой нормы является ключевым для понимания права как длящегося процесса интерпретаций.
Толкование-применение как стадия толкования характеризуется тем, что оценке подлежат не только правовые нормы, но и юридические факты, и исключаемые из спектра юридически значимых действия / бездействия, и правоотношения, требующие оценки и квалификации. Толкователь в этой стадии обязан интерпретировать не только норму права, но и квалифицировать действия субъекта с точки зрения соблюдения интерпретируемой нормы, дать оценку конкретным правоотношениям. При толковании-уяснении и толковании-разъяснении права толкователь не обязан исследовать действие норм на конкретные поведенческие акты субъектов. Если акт толкования-уяснения находится в когнитивной сфере человека, а акт толкования-разъяснения (даже письменный) не может быть прямо исполнен методами государственного принуждения, то акт толкования-применения является основанием непосредственного возникновения, утраты или изменения прав человека (собственности, свободы, семейного состояния и т. д.). Толкованию-применению обязательно предшествует стадия уяснения, в резолютивную часть акта применения включается мотивировочная часть, разъясняющая основания применения именно этих норм закона. Акт толкования – применения, являясь волевым актом, должен содержать такие формулировки изменения прав и обязанностей субъекта, которые могут быть реально исполнены существующими государственно-властными органами (служба судебных приставов, служба исполнения наказаний, кадастровая служба и т. п.).
6.2.3. Формы выражения толкования: когнитивная, устная, письменная, правоприменительная
По форме выражения толкование можно разделить на когнитивное, устное, письменное и правоприменительное. Форма выражения есть «внешнее выражение чего-нибудь, обусловленное определенным содержанием»[535]. Интерпретационные акты могут существовать не только как письменные разъяснения и акты применения, но и в нематериальной, а также устной форме. Мыслительный акт, акт молчаливого неповиновения законному требованию представителя власти, устное заявление интерпретационного свойства – суть формы интерпретационной деятельности субъектов толкования.
Когнитивное толкование (от лат. cognitio – познание) связано с процессом познания новых правовых закономерностей, изложенных в тексте закона или в сообщениях об этом законе. Большинство населения узнает о законодательных новациях из средств массовой информации, не прибегая к анализу собственно текстов. В таком режиме восприятия юридически значимой информации толкование закона значительно зависит от интеллектуальных особенностей интерпретатора и его социальных коммуникаций. В структуру когнитивного опыта включаются накопленные знания о правовых предписаниях, способы декодирования информации, понятийные, архетипичные и семантические структуры[536]. Внимание слушающих и читающих должно быть сосредоточено на таких единицах речи, которые обладают статусом принудительности. В своей когнитивной функции язык в минимальной степени зависит от грамматической структуры. Субъект при восприятии информации об интерпретируемой норме осуществляет металингвистическую операцию – перевод нормы внешнего по отношению к нему закона в понятийный аппарат своего индивидуального опыта[537].
Например, после разъяснения свидетелю перед допросом его прав и обязанностей, следователь или судья обязаны удостовериться в том, что ему понятны нормативные предписания закона. Свидетель осуществляет акт толкования – уяснения, формой (результатом) которого будет когнитивная конструкция (нормативный образ), отражающая в сознании субъекта его представления о смысле и содержании интерпретируемой нормы закона. После акта интерпретации свидетель расписывается в протоколе допроса (судебной расписке) о том, что ему понятна норма закона. Аналогичный интеллектуальный процесс осуществляет, например, эксперт перед началом производства судебной экспертизы. В процессе когнитивного толкования уяснение не объективируется в письменных актах, что не лишает его самостоятельности. Универсальная презумпция «незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение» вменяет каждому субъекту обязанность осуществлять когнитивное толкование – уяснение по всем нормативным предписаниям, действующим в государстве пребывания субъекта. Результатом этого толкования будет нематериализованный когнитивный образ.
Например, распространение курительной смеси, содержащей наркотические средства или психотропные вещества в различных государствах квалифицируется и наказывается неодинаково: от полного отсутствия наказания до наказания в виде смертной казни. Перечень изъятых из гражданского оборота наркотических средств и психотропных веществ, устанавливается, как правило, подзаконными актами. Состав преступления содержит, среди прочих, субъективную сторону, включающую мотив, умысел, вину. Следственный орган обязан доказать имманентными уголовному процессу средствами наличие умысла, мотива и вины субъекта в инкриминируемом преступлении. Но умысел, мотив и вина суть когнитивные феномены, наличие которых в сознании субъекта должно быть установлено на момент совершения инкриминируемого преступления. Из этого с необходимостью следует, что акт когнитивного толкования имеет крименообразующее значение, его самостоятельная форма требует дальнейших исследований.
Устная форма толкования выражается в произнесенных вслух разъяснениях нормы права. В этой форме обвинители, защитники, истцы, ответчики, третьи лица и иные участники интерпретируют применимые статьи законов в ходе устных судебных процессов. Некоторые правила судопроизводства предписывают только письменную форму обращений, исключая устное толкование из совокупности интерпретационных актов. В устной форме могут даваться юридические советы и рекомендации должностными лицами различных уровней и юристами при приеме граждан. Особенностью устного разъяснения является недостаточная формализация, невозможность предметно ссылаться на него и использовать в полной мере во взаимоотношениях с иными лицами.
Письменные акты толкования излагаются в текстуальной форме на бумажных и электронных носителях, составляют значительную часть всех интерпретационных актов. Именно в этой форме осуществляются разъяснения Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ (до реформирования), Конституционного Суда РФ, министерств, комитетов, служб и иных ведомств. Особенностью письменной формы разъяснения является его фиксированность, а, следовательно, возможность (в ряде случаев – обязанность) использовать текст во взаимоотношениях с иными лицами, ссылаться на него.
Выделение правоприменительной формы толкования в самостоятельный класс обосновано необходимостью разделить толкование как общий процесс оценки норм закона от толкования при применении закона к конкретным правоотношениям (казуального толкования). Подобное разделение методологически давно признано, например, Верховный Суд РФ отделяет толкование в форме текстов Пленумов ВС РФ от формы обобщения судебной практики. Прецедент, являясь судебным решением по конкретному делу, относится именно к правоприменительной форме толкования закона. Перспективы российской интерпретационной концепции характеризуются дальнейшим развитием феномена прецедента толкования и обсуждением возможностей его трансформации в прецедент. Дискурс прецедентного права предоставляет возможность судье ссылаться на ratio decidendi предшествующего решения по аналогичному делу. Важным различием этой формы толкования является его нормативное значение (общеобязательность) в английской доктрине толкования права и декларирование ограниченного воздействия (только на конкретных лиц в установленных случаях) в российской концепции толкования.
6.2.4. Субъекты и объем толкования
Классификация по субъектам толкования занимает значительное место в научной и учебной литературе. Несомненно, толкование норм закона осуществляют все правоспособные лица: физические лица, исполнительные органы юридических лиц, государственные и муниципальные органы публичной власти и т. д. Но значение толкование, его обязательность для иных лиц, зависит в первую очередь от статуса и компетенции толкователя. Таким образом статус интерпретатора детерминирует юридическую силу его толкования.
По субъектам (юридической силе) толкование закона подразделяется на официальное и неофициальное. Официальное толкование осуществляется уполномоченными государственными органами и должностными лицами. Особенностью официального толкования является обязательность применения данного вида толкования для значительного круга лиц. При изучении актов официального толкования следует уделять внимание компетенции органа, дающего толкование – имеет ли этот орган право толкования, является ли его толкование обязательным, а также выявлению круга лиц, для которого это толкование будет обязательным.
Официальное толкование подразделяется на нормативное и казуальное. Нормативное толкование дается специально на то уполномоченными органами государства, оно распространяется на неопределенный круг лиц и имеет обязательное значение для правоприменителей. К нормативному толкованию относят акты толкования Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, министерств, комитетов, ведомств, разъяснения Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ (1992–2014 гг.), акты Конституционного Суда РФ и некоторых иных органов. Акты нормативного толкования имеют специфические формы документов, на которые вправе ссылаться субъект, чье правоотношение регулируется разъясняемой нормой закона. Все акты нормативного толкования носят обязательный характер для тех, кто применяет интерпретированные нормы.
Нормативное толкование подразделяется на аутентическое и делегированное. Аутентическое толкование нормы закона осуществляется властным органом, установившим эту норму. Например, издав Постановление «Об объявлении амнистии», Государственная Дума дает аутентическое толкование указанного нормативного акта в Постановлении «О порядке применения постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии». Делегированное толкование осуществляется государственными органами и должностными лицами, наделенными полномочиями в части толкования нормативных актов, изданных другими органами. Например, Конституция РФ делегирует право нормативного толкования Верховному Суду РФ.
Казуальное толкование – разновидность официального толкования норм закона, осуществляемое правоприменительными органами в конкретных случаях. Все мотивировочные части правоприменительных актов содержат казуальное толкование. Например, приговор суда (в котором обосновывается квалификация содеянного, определяется мера наказания в отношении осужденного, указываются отягчающие и смягчающие вину обстоятельства), решение суда по гражданскому делу, правоприменительный акт министерства, решение административной комиссии и т. д. Казуальное толкование, помимо интерпретации нормы права, также оценивает юридические факты и конкретные правоотношения, содержит обоснование определенного волевого результата (приговора, решения, приказа и т. п.). He следует отождествлять казуальное толкование с судебным: несмотря на большое значение и количество актов казуального толкования, выносимых судами разных уровней, казуальным толкованием будет являться также толкование, осуществляемое инспектором дорожной полиции и следователем при квалификации содеянного, различными министерствами, госкомитетами, службами, ведомствами, уполномоченными на применение нормативных актов в отношении физических и юридических лиц.
Правоприменительные акты казуального толкования формируют юридическую практику, которая после систематизации позволяет сделать выводы об интерпретационных тенденциях в правовой системе. Акты официального толкования в некоторых случаях создают так называемый «прецедент толкования», имеющий сходные черты с прецедентом в английском праве. Но если английская доктрина толкования дает возможность обосновывать новое решение ранее вынесенными решениями по схожим обстоятельствам, то российская доктрина обязывает правоприменителей ссылать непосредственно на законодательные акты. Прецедент в Российской Федерации не признается в качестве источника права, акты официального казуального толкования имеют обязательное значение для ограниченного круга лиц (например, для органов, ранее рассмотревших дело). Тем не менее, правоприменительные органы учитывают акты казуального толкования при разрешении аналогичных дел.
Неофициальное толкование – разъяснение смысла и содержания норм права, не имеющее обязательного значения. Субъектами неофициального толкования являются все физические и юридические лица. Обоснованным можно считать разделение неофициального толкования на доктринальное (профессиональное) и обыденное (текущее). Под доктринальным толкованием принято понимать разъяснение норм закона, осуществляемое юристами на основе системы правовых взглядов на предмет толкования и юридическую практику. Обыденное толкование – разновидность неофициального толкования, представляющее собой разъяснение нормы закона, даваемое в повседневной жизни и практике лицами, не имеющими специального юридического образования и системы правовых обоснований.
Мнения некоторых исследователей, разделяющих неофициальное толкование на обыденное (текущее), профессиональное и доктринальное включают в себя аксиологический аспект, требующий оценки профессионализма и научного статуса толкователей.
Обоснованно ли считать субъектами профессионального толкования только лиц с высшим юридическим образованием и опытом деятельности по специальности, а субъектами доктринального толкования – только ученых-юристов, имеющих ученую степень и ученое звание (предположительно – системное понимание права и навыки научных исследований в интерпретируемой сфере). Оценочные признаки «системного понимания» права, неравноценность научных навыков и практического опыта делают довольно спорным вопрос отнесения того или иного интерпретатора в разряд уже доктринальных или еще только профессиональных толкователей. В условиях плюрализма правовых оценок, несогласованности и противоречивости юридической практики, доступности публикаций своих взглядов будет более корректным объединение доктринального и профессионального толкования в один класс.
По объему толкования (соотношению результатов с замыслом законодателя) выделяют адекватное (буквальное), расширительное и ограничительное. Адекватным толкованием называют такую интерпретацию текста законодательного акта, которая буквально соответствует воле суверена. Ограничительным является толкование, которым норме придается более узкий смысл, нежели тот, который указан в тексте закона. Расширительным будет такое толкование, которое расширяет значение слов и словосочетаний, использованных в нормативном акте.
Дискуссионным является вопрос: чему отдавать предпочтение при толковании нормативного акта – уяснению воли законодателя, которую он хотел выразить, либо тексту нормативного акта. Воля законодателя лишь настолько составляет закон, насколько она выражена в нормативном акте, поскольку существуют единообразные на территории государства требования к актам, устанавливающим права и обязанности. Если законодатель выразил в законе свою волю уже ее действительного содержания, законной она делается только в том объеме, в каком она выражена. С другой стороны, закон служит настолько источником права, насколько он выражает волю законодателя. Поэтому, если выражения закона окажутся шире действительной воли законодателя, нормой должно рассматриваться только то, что составило действительную волю законодателя. Ошибка или неправильность языка не могут служить источником права, поэтому задачу толкования норм закона составляет выяснение воли законодателя, адекватно выраженной в тексте нормативного акте.
Следует отметить большое внимание социалистической науки к вопросам классификации феноменов толкования. Однако основное смысловое содержание современной российской доктрины толкования заключается не в классификациях, а в способах толкования закона и подходах к толкованию права.
6.3. Способы толкования закона и подходы к толкованию права
В предыдущем параграфе было уделено значительное внимание классификации феноменов толкования. Однако основное смысловое содержание современной интерпретационной концепции заключается не столько в классификациях процесса толкования, сколько в способах этого действа. В российской парадигме интерпретации права трудно выявить общезначимые правила, презумпции и лингвистические максимы, как, например, в английской доктрине толкования. Содержащиеся в отечественной концепции толкования принципы, презумпции и нормы носят преимущественно декларативный характер, которые не подтверждаются судебной практикой. Г.Ф. Шершеневич определил сущность толкования права в «совокупности приемов, направленных к раскрытию тех представлений, которые соединял создатель с внешними законами выражения своей мысли и воли»[538]. По каким внешним законам выражается воля и мысли законодателя? Какую «совокупность приемов» (методов, инструментов, средств, способов, подходов и т. д.) следует применять для адекватного раскрытия «представлений создателя»?
В российской науке не существует единства в понятии способа интерпретации закона и количестве практикуемых способов. Например, Н.И. Матузов выделяет семь способов толкования[539], В. В. Лазарев – шесть[540], а А.Б. Венгеров – всего четыре[541]. Не закончены начавшиеся в XIX в. дискуссии об обоснованности использования отдельных способов интерпретации, например, критику Е. Н. Трубецким логического анализа как самостоятельного способа толкования поддерживает А.С. Пиголкин[542]. Следует отметить, что логический анализ текста предпочтительнее рассматривать как универсальный общенаучный подход, и не как самостоятельный юридический метод. С.С. Алексеев и В.В. Лазарев выделяют специально-юридический способ толкования[543]. Не существует единого мнения о статусе функционального, социологического, исторического и некоторых других способах толкования закона.
Каждый способ толкования имеет самостоятельное значение, обусловленное как целями его применения, так и имманентными способу приемами и методами. Под способом толкования следует понимать совокупность приемов и методов познания, используемых для понимания смысла и содержания закона. Понятия «инструменты» и «средства» можно рассматривать как синонимы соответственно «приемам» и «методам». «Если определять способ толкования только как прием, возникает понятийная неясность, так как способ толкования является более широким понятием, чем прием толкования, и включает в себя ряд технических форм и средств познания. Прием – конкретное познавательное действие, движение мысли»[544].
При известной самостоятельности способов толкования они выполняют свои функциональные задачи только во взаимосвязи с другими способами в общей парадигме толкования. Обосновывая самостоятельность целевого способа толкования, Т.Я. Насырова отмечает, что если точно определять границы каждого из способов толкования и не придавать им всеобъемлющего значения, то обнаруживается их самостоятельность и обособленность. Из этого и следует исходить при соотношении способов толкования друг с другом[545].
В качестве самостоятельных способов толкования можно рассматривать грамматический (буквальный), систематический (контекстуальный), телеологический (целевой), субъективно-индивидуальный и прецедентный.
Грамматический (филологический, лексический, языковой, лингвистический, буквальный) способ толкования основан на грамматической логике языка, языковом мышлении, культурно-исторических словарных контекстах[546]. При грамматическом толковании анализируются структуры предложений, содержащих нормативные предписания, оценивается употребление различных форм существительных, глаголов, причастий, знаков препинания, соединительных и разделительных союзов и т. п. В грамматическом толковании «для уяснения смысла правовой нормы важную роль играют служебные слова, знаки препинания. Так, в зависимости от значения союза гипотеза, диспозиция, санкция в правовой норме могут быть простыми или альтернативными»[547].
Некоторыми исследователями данный способ толкования именуется лексическим, заключающимся в «уяснении словарных значений отдельных слов, содержащихся в правовых актах, и их терминологического смысла»[548]. Выработанные правила лексического толкования запрещают без достаточных оснований придавать разным терминам одинаковое значение, а также, если законодателем определены значения терминов, то именно так их следует интерпретировать.
Ю.С. Ващенко выделяет грамматическую и лексическую интерпретацию в самостоятельный способ толкования – филологический, в соответствии со спецификой применяемых средств, с особенностями установления смысла неясных норм путем обращения к целям данного толкования. По его мнению, специфика филологического способа заключается в том, что «любой объект интерпретации выражен с помощью материала соответствующего языка, смысл объясняется самим языком при помощи лингвистических средств языковой нормы. Чем правильнее, с точки зрения языка, правовая норма будет соответствовать языковой, тем понятнее и доступнее будет сам правовой текст, тем легче его интерпретировать. Особенность филологического способа интерпретации состоит в том, что юридическое содержание нормы права не должно выходить за пределы установлений, содержащихся в языковой норме»[549].
Грамматический способ предшествует остальным способам толкования, поскольку именно этим способом раскрывается значение минимальных единиц языковой системы, посредством которых законодатель сформулировал свои нормативные требования.
Систематический (контекстуальный) способ толкования основан на сопоставлении нормы с другими законодательными установлениями и определении места интерпретируемого акта в законодательстве государства. Этому российскому способу вполне соответствует английский контекстуальный подход (contextual approach). Смысл и содержание нормы раскрывается с учетом занимаемого ею места в структуре законодательства и права. С.В. Сарбаш говорит о двухступенчатой системе толкования, отдавая приоритет грамматическому и систематическому способам толкования[550]. Например, уголовным законодательством России похищение не всех предметов рассматривается как кража: норма, предусматривающая наказание за похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа (ч.2 ст. 325 УК РФ) расположена законодателем в главе 32 УК РФ «Преступления против порядка управления». Из этого следует, что указанная норма не приравнивается по своему значению к нормам о преступлениях против собственности, не рассматривается как их разновидность. Следовательно, не имеет квалифицирующего значения способы осуществления хищения: тайное, открытое хищение, злоупотребление доверием и т. п.
Систематический способ толкования способствует восприятию законодательства как целостной и беспробельной системы, каждый элемент которой имеет как самостоятельное, так и системное значение.
Телеологический (целевой) способ толкования направлен на выяснение целей принятия нормативного акта. Он может быть сравнен с целевым подходом в английской доктрине толкования закона и с правилом вреда (mischief rule): какой вред законодатель намеревался устранить введением нового закона, какое нормативное требование сформулировано для реализации этой цели в тексте. Целеполагание может быть прямо указано в преамбуле, в статьях нормативного акта, либо установлено историческими и логическими приемами толкования.
Х.И Гаджиев, Т.Я. Насырова обоснованно указывают, что цель нормативного акта предшествует его тексту, поэтому она должна быть признана отправной точкой при толковании закона[551]. Установление того вреда, который хотел устранить законодатель с помощью нормативного предписания, существенно помогает интерпретатору и правоприменителю. Выяснение цели закона способствует не только уточнению смысла и содержания текста, но и его более справедливому, обоснованному применению к конкретными правоотношениям. Телеологический способ интерпретации может восполнить результаты других способов (в частности, систематического), так как он «позволяет преодолеть ограниченность средств интерпретации права, проникнуть не только в формальное содержание закона, но и познать социальную природу законодательной воли»[552]. Телеологический способ толкования позволяет проверить истинность результатов других способов и может выступать критерием толкования текстов, оставшихся неясными после применения всех известных способов интерпретации. «Цель является идеальным мыслительным предвосхищением результата деятельности, которое в качестве непосредственного мотива направляет и регулирует человеческую деятельность»[553]. Адекватное представление интерпретаторов и правоприменителей о целях закона способствует его эффективной реализации.
Субъективно-индивидуальный способ проявляет волюнтаристкую черту деятельности субъекта, основывается на представлении о самостоятельной роли нормативной системы личности интерпретатора. Ценностные установки и уровень квалификации толкователя оказывают существенное воздействие его индивидуальные интерпретационные возможности, особенно в ходе толкования-применения. Основную роль в толковании права исполняет личность интерпретатора, его признание интерпретируемой нормы как обоснованного, необходимого установления. Толкование закона – одна из основных функций профессионального правосознания. Субъект толкования, оценив и систематизировав правовую действительность (сущее), целенаправленно воздействует на ее отдельные стороны посредством разъяснения правил должного поведения и применения интерпретированных им норм (должное) к конкретным юридическим фактам и правоотношениям. Несомненно, «мера ясности закона не может быть одинакова для разных субъектов»[554], – правовое мышление и индивидуальное правосознание, обладая высокой степенью субъективности, неодинаково воздействуют на интерпретацию нормативных предписаний должного.
В основе толкования и правореализации заложены субъективные цели интерпретатора и правоприменителя. Для реализации собственных задач в контексте индивидуальной иерархии ценностей интерпретатор вынужден гармонизировать результаты своего толкования с мнением референтного сообщества. Субъект интерпретации вынужден согласовывать свои интересы с интересами других участников интерпретационного и правоприменительного процессов, вырабатывая оптимальную, с точки зрения личной установки и служебной иерархии, позицию толкования. Российская правоприменительная система функционирует в режиме прагматического самосохранения ее субъектов. Это означает, что каждым решением (индивидуальным либо в отношении неопределенного круга лиц) правоприменитель укрепляет свое институциональное состояние. Существующими стандартами правоприменители не мотивированы на урегулирование спора, восстановление прав, установление справедливости. Судья выносит то решение, которое ему легче обосновать как в текстуальном, так и в понятийном смысле. Обычно это решение, лежащее на поверхности, не вызывающее спор с коллегами по цеху, с исполнительной и законодательной властью.
Суд осуществляет толкование процессуальных норм, находясь сам под воздействием интерпретируемых норм, являясь субъектом правоприменительного процесса и стороной оцениваемых правоотношений. Судья как интерпретатор обладает субъективными правами и несет юридические обязанности участника процесса[555], он заинтересован не в любом обусловленном законом и фактическими обстоятельствами результате по делу, а только в том, который принесет ему личное и профессиональное удовлетворение. Принцип «нельзя быть судьей в своем деле» не действует применительно к процессуальным нормам, к критике стороной судебного разбирательства действий председательствующего. Мнение о том, что «весь нормативный материал объективно реален и не зависит от конкретных субъектов, познающих их смысл»[556], не учитывает значение человеческого фактора в правореализации.
Процесс толкования закона следует рассматривать в совокупности объективных и субъективных аспектов, материальных и процессуальных сторон процесса интерпретации. Несомненно, интерпретация есть «специальное познание, имеющее научную основу при исследовании нормативного предписания»[557], но в интерпретационном акте правовая действительность всегда отражается через субъективное, практическое восприятие. В советской и постсоциалистической науке переоценено значение академических трудов для конкретной интерпретационной деятельности правоприменителей. Толкование административного права в значительной степени осуществляется субъектами без высшего юридического образования (например, инспектором ГИБДД), без попыток получить научное знание толкуемого феномена и выработать доктринальное представление о сущности, содержании и функции интерпретируемого нормативного предписания. Субъективно-индивидуальный способ актуализирует влияние личностных, подчас эмоциональных и крайне необъективных факторов на процесс толкования закона, позволяя выявить закономерности и взаимообусловленности объективного и субъективного.
Прецедентный способ толкования основан на использовании официальных интерпретационных актов, содержащих так называемый прецедент толкования. Следует отличать прецедент толкования от прецедента в строгом значении термина. Прецедент толкования – акт толкования норм закона, имеющий обязательную либо рекомендательную силу для правоприменителей. К субъектам формирования прецедентов толкования принято относить законодательные и некоторые исполнительные органы публичной власти, а также высшие суды государства: Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ (1992–2014 гг.).
Прецедент в строгом значении (судебный прецедент) – акт применения норм права, разрешающий конкретный казус, содержащий толкование нормативных актов применительно к рассматриваемым правоотношениям, имеющий обязательную либо рекомендательную силу в аналогичных случаях. Прецедент в строгом значении отрицается российским законодательством и концепцией толкования. Несмотря на то, что научно-практические дискуссии подчас обсуждают перспективы развития прецедента, в действительности речь в большей степени идет о развитии не прецедента, а прецедента толкования. Дискуссия о перспективах прецедента в России не может быть конструктивной без разделения предмета исследования на два вышеуказанных класса официальных интерпретационных актов. Существует также деление на правоустанавливающие и прецедентные, на нормативные и ненормативные интерпретационные акты. В упомянутых классификациях правоустанавливающие (нормативные) интерпретационные акты рассматриваются как источники права, к ним можно отнести акты аутентического и делегированного толкования, содержащие уточнения и конкретизацию законодательного установления.
По мнению А.М. Эрделевского официальное аутентическое толкование само по себе является законом[558]. В.Н. Хропанюк в качестве примера аутентического толкования приводит «разъяснение Президентом Российской Федерации изданных им указов»[559]. Е.Б. Абдрасулов считает, что «правотолковательная функция становится для парламента насущной необходимостью… Толковать законы должна та ветвь власти, которая их принимает. Если исходить из определения официального толкования, то аутентичное толкование, которое, безусловно, является официальным, никаких специальных полномочий не требует. Парламент может и должен осуществлять толкование принятых им законов без какого-либо законодательного подтверждения, и это толкование будет являться официальным. Следует лишь выработать процедуру толкования с учетом того, что Парламент РФ является двухпалатным»[560].
Формой выражения и закрепления прецедентов толкования могут быть акты, содержащие мнения, рекомендации, заключения, разъяснения, решения и т. п. Примерами являются интерпретационные акты высших судебных органов: КС РФ, ВС РФ, ВАС РФ. Л.Н. Гранат, О.М. Колесникова, М.С. Тимофеев понимают под актами официального толкования вспомогательные правовые акты, выражающие содержание уже существующей нормы права в целях ее эффективной реализации[561]. По мнению В.В. Тарасовой, акт официального толкования права – это вспомогательный правовой акт, существующий наряду с общенормативными и индивидуальными нормативными актами, что связано со спецификой осуществляемых им функций[562].
Прецеденты толкования направлены на уточнение, конкретизацию, разъяснение действующего законодательства, способствуют его адекватной реализации. В российской науке и практике не существует единообразия в мнениях о формах, названиях и структуре актов прецедентного толкования. Это приводит к необоснованному разнообразию интерпретационных актов рассматриваемого типа. С.В. Бошно обращает внимание на существование в научной литературе разнообразных наименований таковых: Постановления Пленума, решения по принципиальным делам, любое судебное решение и т. д.[563].
Природа прецедентов толкования требует дальнейшего изучения, выработки классификации видов прецедентных интерпретационных актов по субъектам, установления соотношения с нормативными правовыми актами, правоприменительными актами, прецедентами. Прецедентное толкование является наиболее перспективным способом толкования нормативных актов в Российской Федерации.
В российской науке рассматриваются и другие способы толкования закона. Следует обратить внимание на достаточную условность как классификации российских способов толкования, так и английских подходов к толкованию. В ходе интерпретации закона при определенных условиях могут применяться одновременно либо последовательно несколько способов толкования. Толкование – это, в первую очередь, мыслительный, познавательный процесс, способы толкования для разных нормативных предписаний могут иметь неодинаковое значение. В английской доктрине толкования принято начинать интерпретацию с буквального подхода, в российской концепции – с грамматического, после которого не существует очередности способов интерпретации закона, «происходит использование способов по спирали»[564]. При высоком качестве законодательной техники грамматического толкования может оказаться вполне достаточно для адекватного толкования. В этом случае другие способы интерпретации права будут лишь уточнять результаты и проверять полученные выводы.
Логический способ толкования многие исследователи выделяют в качестве самостоятельного. Л.В. Соцуро считает, что логический способ толкования права «как специфический инструментарий открывает сущность и ясность толкуемой нормы… То, что другие способы толкования права содержат логику действий и операций, не является основанием для растворения логического способа толкования в других способах. Он самостоятельно решает уяснение и разъяснение смысла толкуемой нормы при помощи логических приемов, обеспечивающих его автономность»[565]. Х.И. Гаджиев, являясь сторонником самостоятельного значения логического способа, указывает на необходимость учета специфики изложения «мысли законодателя в тексте закона, содержащем образные выражения, адресованные массовому правосознанию…»[566]. По мнению А.М. Эрделевского, «только в случае невозможности или недостаточности применения грамматического и логического способов толкования, применяется систематический способ толкования»[567]. А.В. Поляков определяет логический способ толкования как использование логических приемов (логическое преобразование, сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, индукция, дедукция, аналогия) и логических законов (тождества, непротиворечия, исключенного третьего, достаточного основания) для уяснения смысла правовой нормы[568].
Выделение логических правил и приемов в самостоятельный способ не должно исключать эти инструменты из познавательного процесса интерпретатора при использовании грамматического, систематического, целевого, интерпретативного и прецедентного способов толкования. Если приемы логики используются при всяком толковании нормативного акта, то теряется смысл выделения логических правил в самостоятельный способ толкования и обособление его от остальных. Юридическое мышление, в рамках какого бы способа толкования оно ни производилось, есть всегда логическое мышление, использующее весь спектр логических и аргументативных практик. С.И. Вильнянский определяет логическое толкование как совокупность систематического и телеологического способов интерпретации[569]. М.Д. Шаргородский считает логический способ совокупностью систематического и исторического способов[570].
Любая классификация способов толкования закона предусматривает, что может быть использован только один из способов и не использованы остальные. Значит, сторонники самостоятельности логического способа толкования предполагают, что законы, правила, приемы логики могут не использоваться интерпретатором в случае выбора им другого способа толкования.
Исторический способ толкования заключается в необходимости выяснения истории возникновения и определения цели введения в систему правового регулирования нового законодательного акта. Объект толкования рассматривается «с учетом той историкополитической обстановки, в которой он принимался… Происходит сопоставление нормы с существующей политико-правовой ситуацией…»[571]. В процессе осуществления исторического толкования интерпретатор по существу использует целевой (телеологический) и систематический способы толкования. Нередко ссылаются на исторический способ толкования при анализе деяний, находящихся на грани административных правонарушений и уголовных преступлений, однако здесь налицо применение именно систематического способа толкования, позволяющего провести разграничение между уголовно-правовыми и административно-правовыми системами отношениями. По мнению А.В. Полякова, исторический способ толкования не устанавливает, а «помогает установить смысл правовой нормы…»[572], что подтверждает несамостоятельность исторического приема толкования.
Функциональному, специально-юридическому и социологическому способам толкования закона иногда придают самостоятельное значение, однако вряд ли это можно признать обоснованным. Некоторые исследователи полагают, что функциональный прием толкования основан на знании отраслевой специфики применения интерпретируемой нормы. Однако он подчас смешивается с аксиологическим подходом, используемым при выявлении содержания некоторых терминов («необходимая оборона», «добросовестность», «уважительная причина», «производственная необходимость», «интересы детей» и т. п.). По мнению С.Н. Кожевникова, «функциональное толкование для уяснения смысла объекта толкования учитывает не только его формальный анализ, но и факторы, при которых толкование реализуется»[573]. В.И. Наумов полагает, «что правовые и моральные взгляды, сложившиеся в обществе, могут служить: 1) средством раскрытия содержания отдельных терминов и выражений; 2) критерием оценки результатов толкования. Во всех остальных случаях использование правосознания и морали… относится к другим этапам правоприменения (оценки доказательств и фактических обстоятельств дела, вынесения решения)»[574].
Весьма сложно выявить соотношение между функциональным и специально-юридическим толкованием, значение которого пытается определить А.В. Слесарев: «по мнению одних, специально-юридическое толкование не является самостоятельным видом толкования, так как его отдельные примеры являются той или иной разновидностью общепризнанных способов толкования; с точки зрения других – специально-юридический способ толкования использует приемы осмысления и учета регулятивно-правового значения. юридических понятий, используемых в праве. Более широкой является позиция, согласно которой специально-юридическое толкование – это уяснение содержания и действия правовых норм с использованием юридических-знаний., историческое и систематическое толкование продолжают специально-юридическое толкование…»[575]. Самостоятельное существование специальноюридического способа интерпретации обосновывается необходимостью анализа юридической терминологии. Н.И. Матузов полагает что специально-юридическим способом толкования интерпретируются юридические понятия и институты, а филологическим – отдельные слова и выражения[576]. Тем не менее, своеобразие юридической терминологии вполне может быть учтено при использовании грамматического и систематического способов толкования[577].
Социологические методы в изучении правовых явлений подчас необоснованно рассматривают как самостоятельные способы толкования. Выводы социологов, сделанные на основе совокупности результатов опроса общественного мнения, имеют слабую связь с текстом нормативного акта, требующим интерпретации. Н. И. Хабибулина полагает, что «проблема толкования имеет. социальный аспект: отражая определенную сферу общественных отношений, закон может соответствовать объективным условиям жизни, может отражать их или отставать (что происходит в последнее время). И пока устаревший закон не отменен, соответствие устаревших правовых предписаний может быть обеспечено с помощью толкования, которое путем принятия определенных компромиссных решений направлено на согласование интересов общества, государства и личности»[578]. С точки зрения В.Н. Карташова, «суть социологического подхода заключается в необходимости учета… реальных фактических обстоятельств в конкретной социально-правовой ситуации… Под социологическим толкованием понимается использование социологических наблюдений, сравнений, выборочных опросов, тестирования и других социологических методов и средств»[579].
Несомненно, социологические исследования необходимы для поиска пробелов в праве и анализа состояния правопорядка, они важны для подготовки законопроекта, оценки признания закона обществом и мониторинга исполнения закона, но вряд ли могут быть применены в интерпретационных актах.
Подходы к толкованию права включает в себя совокупность способов, методов и приемов толкования, в них означенные возможности постижения смысла и содержания источников права уже «переплавлены» и возведены в особую методологическую форму познания. Использование термина «подход» позволяет снять характерные для российской концепции толкования терминологические споры о соотношении способов, методов и приемов толкования закона, сфокусировавшись на поиске рациональных возможностей процесса интерпретации.
Каждый подход к толкованию имеет самостоятельное значение, обусловленное как целями его применения, так и имманентными приемами и методами. При известной самостоятельности подходов к толкованию они выполняют свои функциональные задачи только во взаимосвязи с другими подходами в общей парадигме толкования. Интерпретаторам предоставлена достаточная свобода для толкования самих текстов и скрытых за ними юридических ценностей, которые вмешиваются в процесс толкования. Подходы к интерпретации закона и права, практикуемые в российском правопорядке, мало изучены и требуют дальнейшего пристального внимания. Именно в них можно найти прогноз развития российского права на десятилетия вперед. Можно выделить пять явно выраженных подходов к толкованию права, применяемых как автономно, так и в смешении с другими подходами:
Буквальный подход основан на буквальном толковании текста закона. Применительно к российской доктрине толкования права он является недостаточным в силу значительного количества аксиологических категорий и большой вариативности санкций. Судья при рассмотрении большинства дел вынужден выходить за его пределы и обращаться к другим подходам.
Иерархический подход. Судьи при оценке доказательств и принятии решения руководствуется указаниями вышестоящего руководства. Это осуществляется как в следовании разъяснениям пленумов верховных судов, так и в широко практикуемых советах с вышестоящей инстанцией по конкретному делу. Если совет, полученный от «старшего товарища», будет реализован, это укрепляет гарантию того, что в случае обжаловании решения оно будет одобрено вышестоящей инстанцией и останется в силе. Не говоря уже о возможно состоявшихся результатах принятого в иерархическом дискурсе решения.
Психоэмоциональный подход. Законодательной основой этого подхода является обязанность и право судьи при оценке доказательств и вынесении решения руководствоваться не только законом, но и совестью. Совесть в прагматическом действии правоприменителя связана с его представлениями о правомерности / неправомерности того или иного действия. Никаких критериев, характеризующих судейскую совесть, в законодательстве не предусмотрено. Тот факт, что большая часть российских судей уголовной юрисдикции являются выходцами из органов милиции и прокуратуры, позволяет обобщать совесть судьи с совестью милиционера и прокурора. Из этого прямо следует обвинительный уклон, неприязнь (скрытая либо демонстративная) к стороне защиты и корпоративное содружество со следователем. Судейское усмотрение стало легальной категорией, которая в современном судопроизводстве уже и не требует обоснования (как «экспертное мнение», «царь так решил» и т. п.). Психоэмоциональный подход осуществляется в рамках «резиновых» уголовно-материальных и уголовно-процессуальных норм, позволяющих правоприменителю реализовать свои эмоциональные симпатии и антипатии в интерпретационной практике.
Коррупционый подход. Коррупция – это не только принятие решений за деньги вопреки тексту закона и фактическим обстоятельствам, коррупция в первую очередь подразумевает моральное растление, правовой нигилизм, доходящий до цинизма. Современный коррупционный подход сродни лоббированию (прямому или косвенному) и не всегда сопровождается передачей денежных знаков. Удовлетворение материального интереса правоприменителя может быть осуществлено в иных, нежели передача денег, формах. Весьма непросто установить грань коррупционым подходом и иерархическим подходом, основанном на следовании совету «старших товарищей», который может быть основан как на осторожном совете, так и на прямом указании. Граница между этими двумя подходами определяется с учетом морального выбора судьи: он принимает такое решение, потому что получит иерархическую выгоду, которая не может быть количественно оценена, – либо он принимает такое решение, потому что получит коррупционную выгоду, прямо конвертируемую в материальное значение. Несмотря на практическую близость этих подходов, каждый из них может использоватся в самостоятельном варианте.
Экстралегальный подход можно проиллюстрировать типическим примером из кинофильма «Место встречи изменить нельзя»[580], где Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий) незаметно подсовывает в карман вору-карманнику Косте Сапрыкину (Станислав Садальский) похищенный, а затем «сброшенный» на пол кошелек. Благородный Владимир Шарапов (Владимир Конкин) демонстративно возмущается использованным экстралегальным подходом, но сам осознает его действенность в жестких условиях борьбы с преступностью. Замечательная игра актеров и наглядность примера убеждают большую часть зрителей в обоснованности действий Жеглова.
Многие современные оперативные уполномоченные, инспекторы ГИБДД, следователи, судьи и другие правоприменители рассматривают использование различных незаконных юридико-технических приемов как часть своей повседневной профессиональной деятельности. Большая часть из них, вероятно, руководствуется «жегловскими» целями борьбы с преступностью, но статья 303 Уголовного кодекса Российской Федерации прямо запрещает фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. Практикующие юристы почти в каждом уголовном деле сталкиваются с большим количеством технических и смысловых подделок; «несуществующие» понятые, искажение дат, подмена процессуальных документов и прочие фальсификации становятся нормой российского уголовного процесса.
Практикующий юрист (следователь, судья, прокурор, адвокат) может достаточно отчетливо понять, каким из вышеизложенных подходов будет в рассматриваемом деле руководствоваться правоприменитель. Активно применяемые для официального толкования права подходы следует сделать достоянием всего общества, поскольку их особенности имеют публичный интерес. Не только для тяжущихся сторон, но и для всего гражданского общества является важным раскрытие тайных механизмов принятия судебных решений.
Очевидно, что в ближайшие десятилетия будет нарастать значение иерархического подхода, в рамках которого судьи будут стараться в первую очередь удовлетворить пожелания вышестоящих товарищей по цеху и субъектов исполнительной власти. Правоприменитель как образованный и интеллектуальный человек, имеющий некоторую степень профессионального выгорания, отделяет судьбы адресатов его воли от своей судьбы. Поэтому он старается минимизировать интеллектуальные и психические затраты на каждое дело: судьи в современном технократическом мире реже размышляют (киногенично) ночами – как бы вынести (наиболее) справедливый приговор по делу Х или (самое) обоснованное решение по спору между Y и Z. Современный правоприменитель выносит то решение, которое наиболее выгодно ему, – как бы это ни звучало странно для читателя.
Судья при вынесении решения в первую очередь старается укрепить или даже возвысить свой институциональный уровень, не впасть в опалу у руководства, не совершить процессуальной ошибки, не произвести впечатление заинтересованности от стороны защиты. Многие российские судьи считают своим долгом регулярно манифестировать свою солидарность со стороной обвинения, подчас нарочито демонстративно стараются публично оскорбить защитников, одернуть их, попенять на что-нибудь, сделать замечание.
Недавно перед заседанием апелляционной инстанции суда субъекта Российской Федерации одна из судей, обведя взглядом присутствующих, мрачно и достаточно громко произнесла: «Адвокатов собралось как грязи». Присутствующие на заседании адвокаты (включая меня) уставились взглядами в стол, поскольку считается, что любое возмущение в таких случаях может негативно отразиться на подзащитных. Это было дело о мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, – сложная история многолетнего строительства многофункционального здания. Возможно, шесть адвокатов на троих реально осужденных лиц и много, но совершенно очевидно, что эта судья считает себя вправе вслух и публично называть адвокатов «грязью». Можно только догадываться, что она говорит в совещательной комнате, защищенная «тайной» обсуждения решения.
Недоумевающая жена одного из осужденных после заседания спросила, почему судья считает себя вправе делать такие заявления и почему адвокаты «проглатывают» это унижение. Существует много вариантов ответов на этот обоснованный дихотомичный вопрос – от философских и политических до юридико-технических и психиатрических, но причины критически увеличивающегося уровня правового цинизма невозможно объяснить рационально мыслящему нормальному человеку, не имеющему профессиональной деформации. Такая устойчиво сформировавшаяся за последние двадцать лет новая российская традиция судейского поведения в уголовном процессе прокламирует реалистическую концепцию, согласно которой судья есть часть исполнительной власти. Современная исполнительная власть не зависит от мнений и оценок людей, также как и судебная, и законодательная. Некоторые судьи прямо говорят, что они люди зависимые от мнения вышестоящего начальства и не могут вынести иное, нежели рекомендованное «сверху» решение. Но те, кто следует воле старшего по существу, может в мелочах вести себя «как попало».
Принимая то или иное решение российский правоприменитель думает в первую очередь о себе и своей дальнейшей профессиональной и личной судьбе. Он выносит всегда такое решение, которое в предложенных обстоятельствах будет именно ему наиболее выгодно. Под выгодой подразумеваются все ее атрибуты: профессиональный статус не должен пострадать, психологически это не должно претить ему, материально это должно быть оплачено. Под материальной оплатой подразумевается в первую очередь заработная плата – чем больше правоприменитель от нее зависит, тем дисциплинированнее он становится и все чаще использует иерархический подход, поскольку соблюдение указаний вышестоящих начальников способствует и дальнейшему регулярному получению заработной платы.
6.4. Толкователи свободы: идеальный судья Геркулес versus неидеальный судья Велес
Судебное право принято рассматривать как способ разумного обеспечения баланса интересов государства, гражданского общества и индивида. В его теоретическом обсуждении недостаточно внимания уделяется архетипу современного российского судьи. Закон и сложившиеся за последний век типы отношений судьи с исполнительной властью, судьи с гражданским обществом, судьи с ординарными людьми требуют переосмысления, свободного от социалистических штампов и англо-американских иллюзий.
Рональд Дворкин в развитие теории интерпретации сконструировал фигуру “идеального судьи Геркулеса” с исчерпывающими знаниями норм права, наивысшими профессиональными навыками и неограниченным временем для принятия решений[581]. Дворкин обратился к этой юридической фикции с целью возвысить значение судьи в регулировании общественной жизни. Он считал, что существует единственное правильное решение, которое может принять идеальный судья Геркулес, полноценно разбирающийся во всех хитросплетениях существующих законов и практик.
Критики Дворкина обращали внимание на порочность презумпции идеального судьи, поскольку его уровню не соответствуют судьи из плоти и крови, окруженные свитой юристов, семейными дрязгами и проблемами со здоровьем. Тем не менее, обращение к юридическим фикциям в философии права способствует всесторонности познания объекта исследования. Но идеальный судья как фикция позволяет актуализировать проблемы интерпретатора закона только в том случае, если рядом с ним в такой же мантии действует «неидеальный судья». Они оба могут использовать во многом схожие подходы к толкованию закона и права, но у граждан и организаций возникает равная возможность попасть как к идеальному, так и к неидеальному судье. Каждый из них будет прислушиваться к своему чувству восприятия политической истории, включая окружающую их правовую ситуацию. Можно предположить, как в России будет расти поток желающих попасть именно к неидеальному судье, чтобы попытаться «решить вопрос» экстра-легальными способами.
По Дворкину, идеальный судья Геркулес старается найти лучшее обоснование законодательному событию прошлого. Судебное решение всегда является интерпретацией правовой, моральной и политической структуры общества в целом, от наиболее фундаментальных конституционных законов до деталей морального долга. В каждом конкретном толковании судья оправдывает интерпретационную практику всего судебного сообщества – он чувствует потребность «сходиться» с коллегами по духу. Его неразрывная связь с существующим в судебном дискурсе правовым материалом в известной степени формирует доктрину толкования. Поскольку каждая его интерпретация обеспечивает моральное оправдание всей судебной доктрины, она должна представлять судейское сообщество в наилучше возможном моральном свете.
В этой интенции идеальный и неидеальный судьи схожи: обращает внимание их трогательная забота о себе, заинтересованность в поддержке своей корпорации и стремление распространить индивидуальную (как часть корпоративной) доктрину толкования права на все человечество. Принципы и правила, которыми они руководствуются в процессе интерпретации, будут основаны на личном представлении о правильном толковании сплетения политических и экономических интересов их цехового сообщества.
Итак, если в дискурсе теории права и государства существует идеальный судья Геркулес, то рано или поздно должен появиться «неидеальный судья». За последние годы мы вполне убедились, что правовые феномены и юридические фикции зарубежных правопо-рядков мало применимы к российской действительности. Более того, некритичное заимствование юридических концептов из других политических культур дезориентирует доверчивое гражданское общество. Достаточно вспомнить некоторые публичные телевизионные шоу на тему «суд идет», в которых каждого третьего подсудимого легко оправдывают под овации телезрителей. Увы, отечественная правовая реальность идет в другом направлении: обвинительный уклон, инквизиционный процесс, диктатура правоохранительных органов.
У подавляющего большинства из населяющих современную Россию людей образ стандартного судьи не принято идеализировать. Количество рассматриваемых судами дел растет год от года, а механизмы принятия судейских решений становятся все туманнее. В феномене общественного правового сознания до сих пор пустует место теоретической модели типического судьи, поэтому с методологической и эвристической точек зрения в научный оборот необходимо ввести юридическую фикцию «неидеальный судья Велес».
Это добропорядочный судья средних лет (гендерные различия в юриспруденции, как и в медицине максимально нивелированы), который в прошлом преимущественно был милиционером или прокурором, он – государственник, позитивист и сторонник инквизиционного процесса. Его бывшие коллеги по правоохранительным органам («силовому блоку») апеллируют к цеховой солидарности, он им почти всегда помогает («строго по закону»), поскольку считает себя связаным общей корпоративной этикой. Иногда он «перегибает палку» в своей жесткости, но «лучше арестовать и жалеть, что арестовал, чем не арестовать и жалеть, что не арестовал». Он уверен, что его друзья по правоохранительной корпорации на стадии оперативной и следственной работы уже правильно определили виновность человека и собрали достаточно доказательств для этого. Он требует от следователей копии обвинительных заключений в электронном виде для удобства их трансформации в обвинительные приговоры. Административные дела для него также просты, поскольку в споре «государство vs человек / должностное лицо / организация» государство действует всегда убедительнее. Когда неидеального судью Велеса направляют на гражданскую юрисдикцию, он ищет применение карательным навыкам и там. Его задача в гражданском судопроизводстве упрощается, если кто-то из сторон оказывается позитивно связан с публичной властью. Являясь частью государственного механизма, неидеальный судья Велес при прочих равных условиях всегда поддержит субъекта, прикосновенного к публичной власти.
При выборе корректного наименования этой юридической фикции учитывалась необходимость следовать уже заданному дискурсу – противопоставить идеальному судье Геркулесу неидеального судью Имярек. Следует отметить, что образ Геркулеса для идеального судьи подходит с большими оговорками. Этот мифический герой в припадке безумия убил своих трех сыновей от Мегары (дочери фиванского царя Креона), а заодно и детей своего брата Ификла. Когда припадок прошел, он продолжил борьбу за свой миропорядок: в приписываемых ему двенадцати подвигах Геркулес проявил чудеса жестокости и неосмотрительности, например, нечаянно убил мальчика Эвнома, за что был осужден. Он оказался неразборчив в половых связях, да еще периодически носил женскую одежду лидийской царицы Омфалы. Геркулес покончил жизнь самоубийсвом методом сжигания себя на костре, после чего вознесся на Олимп и стал супругом Гебы. Разве можно было назвать идеального судью таким именем?
Наш судья Велес, несмотря на свою неидеальность, по сравнению с Геркулесом выглядит более пристойно. Термин «неидеальный судья Велес» наиболее точно подходит для инструментальных целей юридической фикции с предустановленными параметрами. Хотя этимология имени Велес точно не выяснена, можно с определенностью сказать, что это одно из центральных божеств в славянской мифологии, покровитель сказителей и поэзии, бог мудрости и обрядовой песни. Ему подчинялись волхвы, – древнерусские языческие жрецы, осуществлявшие богослужения и жертвоприношения, прорицавшие будущее, которые после принятия христианства на Руси участвовали в восстаниях и поддерживали оппозиционные киевскому князю силы.
Велес оппонировал Перуну, идол которого в Киеве стоял на горе и входил в пантеон князя Владимира (978 г.), тогда как идол Велеса был расположен в нижней, торгово-ремесленной части города. Перун рассматривается как покровитель княжеской дружины, а Велес – как покровитель гражданского ополчения и всей Руси. Историки сходятся во мнении, что Велес был противником Перуна-громовержца и соответствовал богу скандинавской мифологии Одину (Вотану).
Важным обстоятельством корректности предлагаемой юридической фикции является то, что мифологические характеристики имени Велес не придают феномену предустановленного негативизма. Неидеальный судья Велес – это в целом позитивный образ, его «не-идеальность» связана лишь с несовершенством каждого человека, со свойственными любому субъекту правоотношений слабостями и пороками.
Закон и право не действуют сами по себе, их «оживляют» интерпретаторы и правоприменители. Судья наполняет абстрактные правовые нормы конкретным содержанием дела и собственным усмотрением, в котором проявляются его личностные качества. Результаты судейского толкования, выраженные в текстах решений, предоставляют блага одним субъектам, отнимая их у других, лишают свободы и даже жизни. Противостояние идеального судьи Геркулеса и неидеального судьи Велеса имеет важное перформативное значение. Следует учитывать, что при толковании права и свободы каждый из нас столкнется с большим количеством правоприменителей, которые при рассмотрении наших доводов и аргументов будут руководствоваться в первую очередь своими корпоративными интересами и каждое их решение будет направлено не на помощь нам, а на укрепление их институциональных статусов.
Глава 7 Юридическое образование – школа свободы
7.1. К генезису юридического образования в России
В отличие от Запада, где университеты изначально представляли собой организационные формы взаимодействия студенчества и профессуры, опирающиеся в своей деятельности на принципы академической свободы, российские университеты возникали (и возникают) как следствие и результат «высшей воли» государства, определяющей и форму, и содержание системы высшего образования. Сам факт появления в России высших учебных заведений непосредственным образом связывается с государственным абсолютизмом, на определенном этапе «пришедшим к осознанию необходимости покровительства наукам и устройству сферы образования. Образовательно-научную систему Российской империи (как, впрочем, и всех последующих форм российского государства. – Р. Р.) можно в полной мере назвать государственным детищем, плодом государственно-властных усилий»[582].
Создавая университетскую систему, государственная власть руководствовалась двумя целями: геополитической и прагматической. В рамках проводимой петровской Россией геополитики очевидно стремление позиционирования России в качестве государства европейского типа. С этим стремлением связаны: самопровозглашение царства Всея Русь Российской империей (1721 г.), что в формальном смысле уравнивало Российскую и Священную Римскую империи; замена традиционной российской сословной системы западноевропейской и, наконец, внедрение западной системы университетского образования, призванной доказать приверженность России к восприятию и внедрению в национальную идеологию западных ценностных приоритетов, в том числе в правовой сфере.
Прагматическая цель была не менее очевидна: растущему (как в территориальном, так и в бюрократическом смыслах) российскому государству были необходимы чиновники, обладающие определенным объемом профессиональной компетенции, дать которую и были призваны императорские университеты. «С помощью образования государство решало (а точнее, стремилось решать) сложные вопросы сословной структуры и социальной мобильности, государственной службы и т. п…»[583].
Рассмотрение российских университетов в качестве форпостов «европеизации» России обусловило, с одной стороны, привлечение как к управлению ими, так и к осуществлению образовательной деятельности иностранцев, имевших достаточно поверхностные сведения о формах и содержании политико-правовой жизни российского государства и общества, а с другой – построение самого образовательного процесса по «европейскому» образцу, без учета того, насколько этот образец совместим с российскими реалиями. «Адаптация западных подходов к осмыслению права познанию российской правовой действительности без глубокого анализа особенностей отечественного политико-правового опыта… была доминирующей стороной преподавателей иностранцев в области обеспечения учебного процесса. Преподавание права постепенно становилось одновременно “полуевропейским” и “полуроссийским”. Юридическое образование выполняло трансляционную функцию – рецепцию европейского права и положений европейской юридической науки в Россию»[584]. Вполне естественно, что при таком подходе обучение праву «вообще» и преподавание теоретической его составляющей (первоначально представленной курсами «Юридических институций», «Права натуры и публичного совокупно с политикою и этикой» и т. п.)[585] осуществлялись в форме абстрагированной (и в силу этого «оторванной») от сложившейся в исторической реальности российской правовой традиции.
Достижение прагматической цели юридического образования потребовало создания специализированных юридических вузов. Основной задачей профильных учебных заведений являлась подготовка юристов прикладного профиля, обладающих профессиональными компетенциями, необходимыми и достаточными для выполнения должностных обязанностей в государственных структурах, занимающихся правоприменительной (судебно-следственной и административной) деятельностью.
В Российской империи специализированными юридическими вузами являлись Аудиторская школа (училище), Военно-юридическое училище, Военно-юридическая академия, Высшее училище правоведения при Комиссии составления законов и др. Следует оговориться, что набор в специализированные вузы был крайне незначителен. Основное место в отечественной системе высшего юридического образования дореволюционного периода, безусловно, занимали юридические факультеты императорских (государственных) университетов, ориентированные в своей деятельности на научное (абстрагированное от утилитарной юридической техники)познание юриспруденции[586].
Следствием победы Октябрьской социалистической революции 1917 г. стало разрушение государственно-правовой системы Российской империи[587]. На смену имперским законам на начальном этапе социалистического политико-правового строительства пришло революционное правосознание восставших народных масс. Естественно, что в такой ситуации классическая (университетская) юридическая наука и юридическое образование, «обслуживавшие» канувшее в небытие «эксплуататорское» государство, воспринимались представителями новой власти не только как ненужные, но и как вредные, контрреволюционные направления, с вытекающими из этого последствиями. В 1918 г. принимается решение о закрытии юридических факультетов университетов «ввиду совершенной устарелости учебных планов… а также полного несоответствия этих планов требованиям научной методологии и потребностям советских учреждений в высококвалифицированных кадрах»[588]. М.Н. Покровский, один из реформаторов высшей школы, заявлял, что «профессора юридических факультетов даже без намерения бороться против социалистического строя, тем не менее, борются и ведут пропаганду, большевистское правотворчество игнорируется профессорами-юристами и научно не разрабатывается»[589]. Задачу подготовки кадров для государственного аппарата, суда и прокуратуры на этапе становления советской власти стали решать институты советского строительства и советского права. Выведение юридического образования из университетов и создание специализированных учебных заведений обусловливались как объективной тенденцией дифференциации профилизированного юридического образования и юридической науки, так и обстоятельствами, вытекающими из политического признания в качестве более эффективной утилитарной образовательной модели. Узкой специализации вузов было отдано предпочтение перед широкой наукоемкой подготовкой[590]. В ситуации противопоставления двух общественно-экономических формаций – буржуазной (империалистической) и социалистической (переходной на пути к коммунистической) – разграничивались и противопоставлялись две системы права и законности: «истинная» социалистическая и «ложная» буржуазная. «Появление марксистско-ленинского учения означало революцию во взглядах на государство и право. Марксизм вскрыл подлинную сущность как буржуазной, и добуржуазной «науки» о государстве и праве, так и антинаучной идеологии эксплуататорского класса»[591]. Естественно, что при таком подходе ни о каком юридическом плюрализме, равно как и об интегральной (основанной на диалоге различных правовых систем и культур) юриспруденции речь идти просто не могла. Изучение советского государства и права осуществлялось исключительно с марксистско-ленинских позиций, в рамках догматического нормативизма[592]. Также не следует забывать о том, что в условиях переходного периода общий уровень подготовки как обучающихся, так и преподавателей был очень низок[593], что также обусловливало пропедевтический характер юридического образования и не позволяло осуществлять широкое внедрение научных представлений о праве в образовательную деятельность.
Стабилизация советского государственно-правового строительства повлекла частичный отход от ортодоксального утилитаризма в сфере юридического образования и возврат к университетской модели научно-образовательной деятельности. В Советском Союзе сложилась двуединая система юридического образования и науки, сохранившаяся вплоть до настоящего времени как в России, так и в постсоветских государствах – бывших союзных республиках. Общеюридическое (наукоориентированное) образование осуществляют юридические факультеты (институты), входящие в состав университетов, а также юридические академии, созданные на базе бывших самостоятельных юридических институтов (Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА), Саратовская государственная юридическая академия,
Уральская государственная юридическая академия). Профильное (практикоориентированное) юридическое образование дают ведомственные вузы (институты, академии, университеты), осуществляющие подготовку специалистов для конкретных государственных органов, служб и подразделений, действующих в сфере административной и правоохранительной деятельности и обладающих в силу своего функционально-правового статуса как общепрофессиональными, так и специальными компетенциями. В качестве проблемы, обусловленной сосуществованием в рамках единого российского образовательного пространства двух самостоятельных систем юридического образования, следует назвать низкий уровень межвузовского и межкафедрального взаимодействия, а также отсутствие единого подхода к соотношению моделей общего и специального (профильного) юридического образования. Вплоть до настоящего времени сохраняется своего рода противопоставление государственных («классических, больших») университетов и ведомственных вузов, для которых первоочередной задачей является подготовка практических сотрудников (полиции, прокуратуры, системы исполнения наказаний и др.) и лишь затем – юристов обладающих наукоемкими знаниями о праве. В таких условиях плюралистический подход к пониманию права, закона, государственно-правового регулирования обусловливает, скорее, не формирование объединенной интегральными связями юриспруденции, а «размывание» предметной сферы юридической науки и юридического образования. Следствием такого состояния является усиление тенденции локализации областей теоретического, отраслевого и прикладного правового знания.
7.2. Юриспруденция XXI века: концепция конвейера
В современном мире уживаются три относительно самостоятельных сферы осознанной человеческой деятельности образовательной, научной и производственной.
Осуществление образовательной деятельности предполагает профилированный процесс социализации, посредством которого образуемый субъект по идее должен получать знания, умения и навыки необходимые для быстрой адаптации в той или иной социальной среде (профессиональной, образовательной, национальной, религиозной и т. п.). Образовательный процесс по сути своей традиционен и консервативен. Субъекты – образователи учат тому, что знают и умеют сами.
Научная деятельность направлена на систематизацию и обобщение имеющихся представлений о предмете научного исследования, синтезирование на этой основе нового знания, проверку его истинности, а также на построение гипотез предполагаемого перспективного развития предметной сферы познания.
Производственная деятельность предполагает сочетание результатов образовательной и научной деятельности. Подготовленные в сфере образования специалисты используя модели и технологии разработанные учеными производят материальные блага и осуществляют услуги в комплексе составляющие основу социальной жизнедеятельности и являющиеся показателем социокультурного развития той или иной общественной группы.
С точки зрения формальной логики названные сегменты должны быть тесно взаимосвязаны, поскольку их замкнутость на себя и «в себе», делает сам факт их существования абсурдным. К сожалению, история дает немало примеров подобной абсурдности когда истинной задачей образования становиться получение оценок, дипломов и медалей и связанного с их обладанием статуса образованного человека; научная деятельность сводится к защите кандидатских и докторских диссертаций и, соответственно обретения вожделенного звания ученого; производственная деятельность направлена на «защиту интересов отечественного производителя», при игнорировании интересов потребителя производимой продукции.
Конечно показанная ситуация является гротеском, однако, как говориться, в любой шутке, есть только доля шутки. Та же самая история дает примеры, когда, казалось бы, стабильные и благополучные государственные режимы буквально рассыпались, демонстрируя фактическую незащищенность от деструктивных воздействий (Октябрьская революция 1917 г., начальный период Великой отечественной войны, распад СССР в 1991 г., «цветочные и цветные» революции в Грузии, Украине и др.). Причина подобных катаклизмов достаточно очевидна – внешние формы, не наполненные реальным функциональным содержанием функционировать, естественно не могут. Поэтому возникновение реальной проблемной ситуации, к решению которой данные формальные образования фактически не готовы оборачивается для них трагическими, а зачастую гибельными последствиями.
Модель, позволяющая связать воедино перечисленные сегменты с тем, что бы обеспечить их системную функциональность может быть условно названа конвейером.
В качестве конвейера мы предлагаем рассматривать технологическую, циклическую систему, организация и функционирование отдельных сегментов которой подчинены единой общей цели – получению конечного продукта.
Конвейер представляет собой совокупность обособленных циклов. Структуру цикла образуют взаимосвязанные составляющие: работник-операция-продукт. Таким образом, каждый цикл связан с получением конечного (для цикла) и, вместе с тем, промежуточного (для конвейера в целом) продукта. Продукт, полученный в результате предшествующего цикла, трансформируется в каждом последующем цикле и приобретает законченный вид при прохождении заключительного цикла.
В качестве основных принципов организации конвейера следует выделить:
– непрерывность функционирования технологической цепочки;
– узко профильную функциональность работников и операционных систем;
– полицикличность;
– причинно-следственную детерминированность циклов;
– результативность.
Современная юриспруденция может быть представлена в качестве трех сегментов: юридического образования, юридической практики и юридической науки. В настоящий момент в России данные сегменты носят обособленный характер и в основном «замкнуты на себя», что приводит к возникновению ситуации описанной в рамках первого тезиса.
Реализация концепции конвейера обеспечивает включение юридического образования, науки и практики в единую функциональную систему целью организации и деятельности которой является осуществление правового сервиса публичных и частных интересов субъектов юридически значимых общественных отношений.
Юриспруденция как конвейер предполагает рассмотрение в качестве первичного цикла системы юридического образования. Данная система обеспечивает подготовку юристов двух категорий: юриста-практика (специалиста обладающего знаниями и навыками в области юридического ремесла) и юриста-исследователя (научного сотрудника – потенциального ученого). Соответственно, образование дает начало двум производным циклам – производственному и научному.
Производственный цикл связан с осуществлением практической юридической деятельности. К таковой следует отнести правовое нормотворчество, правовое обеспечение законных интересов субъектов, разрешение споров о праве, осуществление уголовного правосудия.
Научный цикл предполагает осуществление системных исследований связанных с выявлением наиболее важных проблем в сфере юриспруденции, моделированием механизмов их решения, а также построением вероятностных гипотез развития правовой реальности.
В условиях конвейера вышеназванные циклы являются взаимообусловливающими. От эффективности юридического образования зависит эффективность, как производственной деятельности, так и научных исследований в юридической сфере. В свою очередь практикующие юристы и юристы – исследователи пополняют контингент «образователей» и передают свои теоретические знания и практический опыт «образуемым». Таким образом, юриспруденция – конвейер представляет замкнутую систему, функционирующую по принципу «круговорота».
Важнейшим фактором, определяющим содержание юриспруденции как конвейера, является сущность правового регулирования. Правовое регулирование следует рассматривать в двух сущностных контекстах: управленческом и упорядочивающем. Управленческое воздействие права на общественные отношения предполагает восприятие права в качестве инструмента при помощи которого аппарат власти управляет обществом. При этом сам аппарат выступает в качестве «надправовой структуры» использующей право по своему усмотрению и, в свою очередь, находящейся вне сферы правового контроля и юридической ответственности.
Упорядочивающее воздействие права связано с восприятием права в качестве общего для всех субъектов порядка отношений. Аппарат управления формируется по принципу наемных и подотчетных обществу работников. В подобном понимании право приобретает двухсторонний представительно – обязывающий характер и рассматривается в качестве системы норм и отношений, объединяющих общество по принципу компромисса публичных и частных интересов.
В качестве фактора обусловливающего глобальный правовой нигилизм современного постсоветского общества (являющегося социальным основанием юриспруденции – конвейера) следует рассматривать несоответствие формально-юридической догмы и социально-правовой реальности. Большинством граждан вне зависимости от их социального и профессионального статуса, юридическая догма воспринимается как лишенная реальной юридической значимости декларация. При этом в качестве общезначимой регулятивно-охранительной системы воспринимается конструкция, в рамках которой разрешение правовой проблемы осуществляется не в соответствии с юридической догмой выражающейся в материальных и процессуальных нормах закрепленных в соответствующих формальных источниках, а в соответствии с субъективным пониманием права (квазиправовым понятием).
Основной проблемой современного юридического образования следует считать его переориентирование на подготовку мыслящих юристов, воспринимающих право не как возведенную в закон волю стоящего над правом и использующего право по собственному усмотрению центра публичности (государства, государя, государственного аппарата), а как общезначимый (в том числе и для представителей государственных структур) нормативный порядок отношений. Иными словами в качестве основной задачи юридического образования на современном этапе социально-политического развития следует рассматривать задачу, связанную с подготовкой юриста – гражданина, действующего в соответствии с догмой права и подчиняющегося исключительно правовым положениям и принципам. Подобный тип юриста должен постепенно вытеснить из системы юриспруденции – конвейера, юриста – подданного, выполняющего роль разумного, но полностью зависимого придатка аппарата публичной власти, исполняющего сервисную (обслуживающую) функцию в отношении наделенного властными полномочиями «заказчика».
7.3. О современном образе высшего юридического образования
В середине 90-х гг. ХХ века канадский ученый Билл Ридингс выпустил книгу под названием «Университет в руинах». Основные выводы, которые содержатся в этой работе, начинают подтверждаться в России чуть позже, чем на Западе. Одна из характеристик состояния университетского образования, которую выделяет Ридингс – кризис целеполагания: и высшее образование в целом, и юридическое образование, в частности, забывает, зачем оно существует, поскольку его прежняя основная миссия, а именно служение национальному государству, по всей видимости, уже необратимо утрачивает свою значимость[594]. Необходим поиск новых целей и соответствующих им средств. Но вместе с тем бытует иллюзия, будто бы прежние модели актуальны и ими можно руководствоваться.
Критерий выделения образовательной модели – не поверхностный, не декоративный, а определяющий суть образования – состоит вовсе не в том, что говорят преподаватели студентам, и даже не в том, что делают преподаватели, а в том, что в процессе образования делают студенты. Образование есть только там, где ведется деятельность. Поэтому основной вопрос, на который следует ответить, – чем в основном заняты студенты в современных юридических вузах, какова их роль в образовательной практике?
Наиболее распространенными видами занятости студентов в рамках господствующей модели являются два – пассивное присутствие и пересказ чужих слов. Две основных формы учебного процесса – это лекция (как правило, монолог с редкими и очень случайными вкраплениями диалога), и семинарское занятие, где студенты повторяют то, что прочитали или услышали.
Если говорить об этом господствующем принципе организации учебного процесса, то в его основании лежит вполне определенное представление о том, как устроена правовая система. Причем вовсе не обязательно это представление разделяется всеми преподавателями или даже большинством – они могут мыслить совсем по-другому, иметь иные взгляды или вообще не задумываться о сущности права, и тем не менее их практика объективно предопределяется этой моделью, поскольку, за редким исключением, преподаватели сами не изобретают содержания и форм образования, а используют в готовом виде то, что уже существует в практике.
Этот доминирующий образ права можно свести к следующим основным характеристикам.
1. Статичность. В юридическом образовании продолжает господствовать идея о приоритете знаний перед навыками. Что же это за «знания»? С точки зрения практики, это в основном сведения о положениях действующего законодательства с редкими вкраплениями международного права и доктрины. Что касается судебной практики, даже отечественной, не говоря уже о практике Европейского Суда, то она чаще всего остается на периферии: обычно, не отрицая значимости этого материала, преподаватели ссылаются на то, что на это нет времени.
Такой отбор приоритетов опирается, видимо, на предположение, что знания законодательства к концу обучения и к началу профессиональной деятельности останутся актуальными, т. е. эта система обучения не предполагает, что закон может измениться, в то время это практически неизбежно. Право преподается как нечто застывшее. Это создает одну из самых травмирующих для студента ситуаций – когда изучали один закон, а экзамен принимается уже по новому закону. Ни о каком изучении закономерностей, тенденций, трендов в развитии права чаще всего речи не идет.
2. Монологизм. В современном юридическом образовании очень мало внимания уделяется развитию таких компетенций, как риторика, аргументация, критика, аналитика и т. п., хотя они предусмотрены государственными стандартами. Есть преподаватели, которые искренне считают, что такие компетенции как аргументация и анализ правовых проблем, просто не нужны юристу. Возможно, это так, поскольку правовая система предполагается как явление монологическое – не то, на что можно повлиять своей собственной речью, что можно видоизменить, преобразовать, а то, что нужно просто принять к сведению и исполнять.
Можно сказать, что юридические дисциплины часто преподаются так, как будто не существует ни Конституционного Суда, ни Европейского Суда по правам человека. Ведь именно эти органы являются примером того, как любой практикующий юрист может внести своими действиями реальные изменения в существующую правовую систему. Но при этом преподавание продолжает вестись так, как будто риторика и аргументация не нужны.
3. Разрозненность. Право преподается, как правило, в виде совокупности плохо связанных между собой областей. Отрасли права в практике обучения почти никак между собой не соотнесены. Преподаватель может, конечно, при желании включить в программу рассмотрение коллизий норм разных отраслей или других межотраслевых проблем. Но в целом расписание занятий на юридическом факультете – это перечень отраслей права, причем отбор этих отраслей порой не всегда ясен, потому что часто определяется такими случайными в общем-то факторами, как наличие преподавателей и их интересы.
Самыми сложными и каверзными на государственных экзаменах являются вопросы о связи разных дисциплин и отраслей права между собой, а по теории государства и права – о примерах из какой-либо отрасли права (например, просьба назвать хотя бы одну правовую норму, состоящую из трех элементов). Теория права, которая могла бы объединять разные дисциплины и выступать интегрирующей по отношению к ним, воспринимается студентами как еще один блок непонятной информации, который надо запомнить, но который не помогает в понимании других курсов. Получается, что право преподается не системно, а как набор более или менее случайных компонентов.
4. Самоценность. Кризис мотивации студентов вызван тем, что ценность знаний о праве напрямую связано с ценностью самого права. В рамках образования вопрос о том, в чем заключается эта ценность, допускает две основные версии ответа. Первая – право как инструмент профессиональной деятельности. Вторая – право как общесоциальное благо. Со вторым гораздо сложнее, потому что показать студенту, в чем общесоциальная ценность права, практически невозможно. Скорее всего, в своей обыденной жизни он эту ценность никак не ощущает. Было бы проще сформировать мотивацию за счет практического компонента самого образования. Если бы содержание образования составляли бы в основном активные практические действия, то тогда право потребовалось бы как инструмент этих действий. Но в условиях высокой теоретизации и господства информационной парадигмы по отношению к компетентностной, ценность этих знаний далеко не очевидна. Поэтому право преподается как нечто самоценное, как будто бы его ценность говорит сама за себя, что соответствует позиции преподавателя, как сложившегося юриста, которые уже социализировался в профессиональном сообществе и так или иначе испытал на себе социальные возможности права, но остается непонятным для студента.
Альтернативные модели юридического образования в России только зарождаются.
Первая – условно ее можно называть игровой моделью – это тот способ организации учебного процесса, в основе которого лежит моделирование различных видов юридической деятельности, в первую очередь судебной. К ней относятся, например, учебные суды. В этом направлении много работал, в частности, Санкт-Петербургский институт права им. Принца П.Г. Ольденбургского. В качестве другого примера можнопривести Российский университет дружбы народов, где достаточно активно ведутся соответствующие программы и разработаны добротные методические пособия о том, как проводить учебные игровые судебные процессы по самым разным отраслям права. Другим вариантом является использование методики организационно-деятельностных игр по Щедровицкому, которая, как известно, практикуется в Высшей школе экономики.
Вторая модель – дискуссионная, которая построена в основном на методе сократического диалога. В основе этой модели лежит выдача так называемых проблемных заданий с последующим их коллективным анализом и рефлексией. В этом случае также происходит моделирование, но, как правило, не судебного процесса, а диалога, полемики или мозгового штурма по различным правовым проблемам.
Общим для этих двух моделей является то, что они обе основаны на другом понимании права, нежели первая описанная модель, а именно на понимании права как деятельности. Различие между этими двумя альтернативными моделями, в первую очередь, то, что в первой концепции присутствует ориентация в основном на профессиональные навыки, а во втором случае – на общекультурные компетенции. В случае дискуссионной, или сократической модели предполагается, что существуют базовые интеллектуальные навыки сравнения, анализа, синтеза, критики, аргументации и т. п., и эти навыки применимы в сфере юридической практики; иначе говоря, никаких собственно профессиональных юридических компетенций нет, а есть общие мыслительные компетенции, применяемые к специфическому материалу.
Наступает пора локальных практик образовательного проектирования. С глобальными проектами реформирования юридического образования, видимо, пора проститься, они не реализуемы. Но в рамках каждого вуза или даже преподавательского коллектива возможно создание новых образовательных проектов.
Первый вариант – проектирование новых курсов в рамках официального юридического образования, не в смысле новых названий курсов (они могут быть и старыми – гражданское право, теория права…); необходимо новое наполнение этих курсов, исходя из нового представления о праве, т. е. практическая ориентация всех без исключения курсов, с переносом акцента на деятельность учащихся. 90 % такого курса должны составлять действия студентов, а не рассказы преподавателей.
Вторым вариантом является неформальное образовательное проектирование. Здесь, конечно, огромная нагрузка ложится на учреждения дополнительного образования, позволяющие юристам добрать те компетенции, которые остались недополученными в вузе.
Таковы возможные способы, при помощи которых совместными усилиями можно добиться, чтобы состояние юридического образования отвечало состоянию правовой реальности.
Заключение
Свобода – одна из древнейших тем философско-правового мышления, и исчерпать ее пока никому не удалось. Возможно лишь двигаться по пути понятийно-концептуального уточнения ее смысла и многообразия ее наблюдаемых форм.
Одна из неизбежных особенностей познания в эпоху постмодерна состоит в том, что на месте явления, казавшегося ранее целостным и неделимым, все чаще приходится видеть множественность, набор различных явлений, которые лишь иллюзорно предстают в качестве чего-то единого. Так происходит и со свободой – анализируя ее проявления в сфере права, мы обнаруживаем, что под именем «свобода» могут фигурировать феномены, если и не различающиеся радикально, то все же не совпадающие по своим важным свойствам.
Во-первых, свобода может пониматься как определенная уже существующая и достигнутая, освоенная и используемая человеком сфера самореализации, жизненное пространство, совокупность доступных ему благ, возможностей поведения. Ее можно называть «свобода реальная» (свобода как данность). Она представляет собой неустранимое, присущее каждому человеку свойство, которое он сохраняет даже перед лицом объективной закономерности и необходимости. Факт существования такой свободы неоспорим, однако ее объем у разных людей, в зависимости от социального положения и исторических условий, безусловно, изменчив.
В этом смысле выражение «несвобода» является парадоксальным, поскольку полного отсутствия свободы человек не знает. Вероятно, под несвободой имеются в виду случаи, когда ощущается непреодолимое препятствие на пути достижения какой-либо жизненной цели, что порождает иллюзию, будто бы жизненного пространства нет вовсе.
Во-вторых, свобода – это предмет человеческого устремления, усилий и борьбы («свобода желаемая», свобода как ценность). Она возникает там, где начинает чувствоваться нехватка свободы реальной. В сознании появляется образ будущего, в котором нет тех препятствий, что мешают человеку в действительности. Часто свобода мыслится вовсе без всяких ограничений, что придает ей несбыточный (утопический) характер, поскольку жизнь человека невозможна вне коллектива, сообщества, где неизбежно приходится считаться со свободой окружающих.
В-третьих, свобода существует как определенное требование или правило («свобода должная», свобода как нормативность). Она выступает как способ согласования свободы реальной и свободы желаемой, как своеобразное вторжение фантазии в действительность. Именно к этому типу относится свобода в юридическом значении (например, в словосочетании «права и свободы человека»). Она представляет собой социально признанные и с относительной точностью зафиксированные представления не о той свободе, которой люди обладают фактически, а о той, которая считается допустимой и приемлемой. Именно в этой связи возникает проблемы языка свободы – таких способов словесного описания границ дозволенного, которые были бы не только понятны, но и убедительны для человеческого сознания.
Состояние свободы в конкретном обществе можно представить как постоянные конфликты и временные примирения между этими вариантами свободы. Именно этим можно объяснить, в частности, вполне привычную для российского права, хотя и по-своему удивительную концепцию «лишения свободы». В данном случае налицо очевидный пример экспансии «свободы должной» в область свободы реальной. Язык уголовного законодательства, отражающий в данном случае не эмоциональную нейтральность, а наоборот, высокую эмоциональную вовлеченность автора, самим названием этого вида наказания декларирует, что лицо, преступившее основы правопорядка, вообще недостойно быть свободным. Однако фактически эту идею осуществить невозможно, поэтому в описании наказания появляется уже более сдержанная формулировка «изоляция от общества». Разумеется, реальная свобода у лица, подвергнутого этому наказанию, сохраняется: меняются путем сужения лишь ее границы, однако свобода мысли и чувства остается незатронутой, и даже полной изоляции от общества, как правило, не происходит. Язык права как «свободы должной» не способен в данном случае отразить фактической свободы.
Натиск «свободы желаемой» порождает феномены революций и войн. Революция происходит там, где рамки должного, в первую очередь юридически заданные, не способны ни вместить, ни сдержать потребность в свободе. Однако слом этих рамок всегда оказывается кратковременным, поскольку революционная власть всегда вынуждена искать новые формы для практического воплощения новых идеалов свободы и неизбежно выстраивает взамен старых другие нормативные конструкции, которые могут отличаться от прежних во всем, кроме одного: они не предполагают безудержной свободы. Именно этим вызвано столь распространенное разочарование народа итогами революции.
Война, будь то внешняя или внутренняя, – это эффект столкновения двух и более желаемых свобод. Когда сила явно преобладает на одной из сторон, такое столкновение может остаться незамеченным, поскольку сразу уступает место подавлению и порабощению. Но если силы сопоставимы, к тому же от борьбы вырабатывается агрессивная энергия взаимного отрицания, то начинается саморазрушительный процесс, в котором свобода реализуется в форме агрессивного порыва.
При всем своем архаизме, война как способ проявления свободы не вполне отрицается современным правопорядком, а занимает в нем двусмысленное место между «свободой должной» и «свободой реальной»: с одной стороны, война запрещены принципами международного права; с другой стороны, существует «право вооруженных конфликтов» как своего рода уступка фактической социальной реальности.
Развитие права – это всегда процесс поиска и закрепления должной меры свободы как баланса между желаемым и действительным, с учетом множества других социальных факторов – требований нормативной определенности, социального признания (легитимности) и реализации других базовых ценностей, к которым относятся, помимо свободы, мир и солидарность, справедливость и равенство.
Список источников
Абдрасулов Е.Б. Толкование закона и норм Конституции: теория, опыт, процедуры. Автореф. дис… докт. юрид. наук. Алматы, 2003.
Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб., 1999.
Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М., 1966.
Алексеев С.С. Общая теория права. В 2 т. Т. 1. М., 1981.
Алексеев С.С. Общая теория права. В 2 т. Т. 2. М., 1982.
Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования. М., 1999.
Алексеев С.С. Частное право. М., 1999.
Алекси Р. Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивизму). М., 2011.
Ансель М. Новая социальная защита. М., 1970.
Антология мировой правовой мысли: В 5 т. Т. IV: Россия XI–XIX вв. / Нац. обществ. – науч. фонд; Руководитель науч. проекта Г.Ю. Семигин. М.: Мысль, 1999.
Антонов М.В. Скандинавская школа правового реализма // Российский ежегодник теории права / под ред. А. В. Полякова. 2008. № 1.
Антонов М.В. Социологические мотивы учения о праве Ганса Кельзена // Юридический позитивизм и конкуренция теорий права: история и современность (к 100-летию со дня смерти Г.Ф. Шершеневича). Иваново, 2012. Ч.1.
Арбузкин А.М. Опыт разработки конституционно-правовой типологии государств // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2000 – № 4. 2001. № 1.
Аристотель. Политика // Сочинения. Т. 4. М., 1983.
Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. СПб., 2004.
Архипов С.И Субъект права в центре правовой системы // Государство и право. 2005. № 7.
Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004.
Афонасин Е.В., Дидикин А.Б. Философия права. Новосибирск, 2006.
Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб., 1993.
Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопони-мание на грани двух веков). Изд. 2-е, доп., М., 2005.
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989.
Батурина Ю.Б. Правовая форма и правовое средство в системе понятий теории права. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. М., 2001.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1987.
Бачинин В.А. Синергетическая методология и социология права // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века. Материалы международной научной конференции. СПб., 2001.
Бачинин В.А. Основы социологии права и преступности. СПб., 2001.
Бенда-Бекманн К. фон. Правовой плюрализм // Человек и право. Книга о Летней школе по юридической антропологии. М., 1999.
Бибихин В.В. Форма римского права // Новая правовая мысль. 2002. № 1.
Бибихин В.В. Введение в философию права. М., 2005.
Библия. Книги священного писания. Ветхого и Нового Завета. Ветхий Завет. Пятая книга Моисеева. Второзаконие. Гл. 10–14.
Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. М., 1998.
Бойцов А.И. Уголовное право России: Общая часть: Учебник. СПб., 2006.
Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М, 1999.
Большой юридический словарь / Под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. М., 2001.
Большой энциклопедический словарь. Т. 2. М., 1991.
Бошно С. В. Судебная практика: способы выражения // Государство и право. 2003. № 3.
Бурдье П. Власть права. Основы социологии юридического поля // Социальное пространство: поля и практики. М. – СПб., 2005
Васильев А.М. Правовые категории. М., 1975.
Ващенко Ю.С. Филологическое толкование норм права. Тольятти, 2002.
Величко А.М. История Византийских императоров в пяти томах. Том I. М.: Издательство «ФИВ», 2009.
Венгеров А.Б. Теория права. Т. 1. М., 1996.
Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2000.
Вернадский Г.В. История права. СПб.: Изд-во «Лань», 1999.
Вернан Ж.П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988.
Веселовский С.Б. Из старых тетрадей. М., 2004.
Ветютнев Ю.Ю. Государственно-правовые закономерности. (Введение в теорию). Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2006.
Ветютнев Ю.Ю. Аксиология правовой формы: монография. М.: Юрлитинформ,2013.
Вигнер Е. Этюды о симметрии. М., 1971.
Вильнянский С.И. Толкование и применение гражданско-правовых норм. / Методические материалы ВЮЗИ. Вып.2., М., 1948.
Виндельбанд В. Нормы и законы природы // Избранное. Дух и история. М., 1995.
Виндельбанд В. О свободе воли//Избранное. Дух и история. М., 1995.
Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. М., 1979.
Витрук Н.В. Правовой статус личности в СССР. М., 1985.
Витрук Н.В. Правовой статус личности // Демократия и правовой статус личности в социалистическом обществе / Отв. ред. В. М. Чхиквадзе. М., 1987.
Витрук Н.В. Социальный статус личности и его виды // Демократия и правовой статус личности в социалистическом обществе / Отв. ред. В. М. Чхиквадзе. М., 1987.
Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М., 2008.
Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М., 1997.
Вопленко Н.Н. Следственная деятельность и толкование права. Волгоград, 1978.
Вопленко Н.Н. Законность в условиях формирования социалистического правового государства // Советская правовая система в период перестройки. Сборник научных трудов. Волгоград, 1990.
Вопленко Н.Н. Идея независимости в праве // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия «Политика. Социология. Право». 1998.
Вопленко Н.Н. Сущность, принципы и функции права. Волгоград, 1998.
Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. М., 1994.
Вышинский А. Я. Революционная законность и наши задачи // Правда. 1932. 28 июня.
Гаджиев Х.И. Толкование права и закона. М., 2000.
Гаджиев Х.И. Толкование норм Конституции и законов Конституционными судами (на примере Азербайджанской Республики и РФ). Автореф. дис… докт. юрид. наук. М., 2001.
Гайденко П.П., Ионин Л.Г., Йоас Х. и др. История социологии в Западной Европе и США. М., 1993.
Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990.
Герцен А.И. Собрание сочинений. Т. 2. М., 1975.
Гете И.В. Размышления о морфологии вообще // Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957.
Гидденс Э. Социология. М., 1999.
Глезерман Г.Е. Законы общественного развития: их характер и использование. М., 1979.
Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Сочинения: Т. 2. М., 1991.
Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права человека. М., 2006.
Гончарук С.И. Объективные законы и их отражение в философии и в конкретных науках//Философия и общество. 1999. № 3.
Гранат Л.Н., Колесникова О.М., Тимофеев М.С. Толкование норм права в правоприменительной деятельности ОВД. М., 1991.
Графский В.Г. Интегральное правопонимание в историко-философской перспективе // Философия права в России.
Гревцов Ю.И., Козлихин И.Ю. Энциклопедия права. Учебное пособие. СПб., 2008.
Гречко П.К. О предмете социальной философии // Вестник МГУ. Серия 7 «Философия». 1995. № 1.
Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. Концепции современного естествознания. М., 1998.
Грякалов Н.А. Фигуры террора. СПб., 2007.
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.
Гурвич Г. Юридический опыт и плюралистическая философия права // Философия и социология права. Избранные сочинения. СПб., 2004.
Гуссерль Э. Картезианские медитации. М., 2010.
Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.
Данте Алигьери. Монархия. М., 1999.
Дворкин Р. О правах всерьез. М., 2004.
Декреты Советской власти. Т. I. М.: Гос. изд-во полит. литературы, 1957.
Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопросы языкознания, № 4. 1994.
Денисов С.А. Административизация правовой системы: Влияние обособленных управленческих групп на правовую систему общества. Екатеринбург, 2005.
Дикарев И.С. Парижский революционный трибунал. Очерк организации и деятельности (1793–1795 гг.). Волгоград, 2006.
Достоевский Ф.М. Записки из мертвого дома // Собрание сочинений в 15 томах. Т. 3., Л., 1988.
Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. М.: АСТ, 2008. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. М., 2007.
Друянов Л.А. Место закона в системе категорий материалистической диалектики. М., 1981.
Дюги Л. Социальное право, индивидуальное право и преобразование государства. М., 1909.
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1996.
Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000.
За Согласие! За Порядок! За Созидание! Самара, 2014.
Загайнова С. К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. М., 2002.
Законодательство периода расцвета абсолютизма. М.: Юрид. лит., 1987.
Захариев В. Толкование права. М., 1960.
Зипунникова Н. Н. Правовое регулирование юридического образования в Российской империи // «Изучать юриспруденцию яко прав искусство». Очерки истории юридического образования в России (конец XVII в. – XX в.) / под общ. ред. В. В. Захарова, Н. Н. Зипунниковой. Курск, 2008.
Ивин А.А. Основания логики оценок. М., 1970.
Иеринг Р. фон. Борьба за право // Избранные труды. В 2-х т. Т. 1. СПб., 2006.
Ильин В.В. Особенности законов гуманитарных наук // Проблема закона в общественных науках. М., 1989.
Иоан Павел II. Мысли о земном. М.,1992.
Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М., 1961. Исаев И.А. Солидарность как воображаемое политико-правовое состояние. М., 2009.
История Ленинградского университета / под ред. В. В. Мавродина. Л., 1969.
Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека. Т. 1. М., 2001.
Каган М.С. Философская теория ценности // Избранные труды в VII томах. Т.П. СПб., 2006.
Каган М.С. Эстетика как философская наука: Университетский курс лекций. СПб, 1997.
Казанский П.Е. Введение в курс международного права. Одесса, 1901.
Как судьи принимают решения: эмпирические исследования права / Под ред. В.В. Волкова. М., 2012.
Калинин М.И. О социалистической законности. М.: Госюриздат, 1959.
Калинина Т.М. Российская и европейская правозащитные системы: соотношение и проблемы согласования. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2002.
Кант И. Метафизика нравов // Сочинения в 6 томах. Т. 4. Ч.2. М., 1965.
Кант И. Критика чистого разума. Симферополь, 1998.
Карнап Р. Философские основания физики. М., 1971.
Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. Ч.4: Интерпретационная юридическая практика. Ярославль, 1998.
Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социология права. Ростов н/Д, 2001.
Керимов Д.А. Философские проблемы права. М., 1972.
Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). М., 2000.
Кистяковский Б.А. Методологическая природа науки о праве // Философия и социология права. СПб., 1998.
Кистяковский Б.А. Реальность объективного права//Философия и социология права. СПб., 1998.
Ковалев А.М. Еще раз о формационном и цивилизационном подходах // Общественные науки и современность. 1996. № 1.
Ковлер А.И. Антропология права. М., 2002.
Кодан С.В. Формирование и становление юридического образования в России: от законоискусства к правоведению (XVII – первая половина XIX вв.) // «Изучать юриспруденцию яко прав искусство».
Козлов В.А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. Л., 1989.
Козловский В.В., Уткин А.И., Федотова В.Г. Модернизация: от равенства к свободе. СПб., 1995.
Кожевников С.Н. Реализация права, юридическое толкование, законность. Н. Новгород, 2002.
Козюк М.Н. Правовое равенство в механизме правового регулирования. Волгоград, 1998.
Колюшин Е.И. Конституционное право России. М., 2006.
Комлев Н.Г. Закон, правило и норма в языке // Проблема закона в общественных науках / Под ред. П.А. Рачкова, В.С. Манешина. М.: Изд-во МГУ, 1989.
Коммуникативная концепция права: вопросы теории. СПб., 2003.
Кохановский В.П. Философия и методология науки. Ростов-на-Дону, 1999.
Крижанич Юрий. Политика. М., 1997.
Кристи Н. Приемлемое количество преступлений. СПб., 2011.
Кропоткин П.А. Великая французская революция 1789–1793. М., 1979.
Кропоткин П.А. Речи бунтовщика / Кропоткин П.А. Анархия: Сборник. М., 2002.
Кропоткин П.А. Взаимопомощь как фактор эволюции. М., 2011.
Кудрявцев В.Н. Правовые грани свободы // Советское государство и право. 1989. № 11.
Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. М., 1986.
Куницын А.П. Энциклопедия права // Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т. IV. Россия XI–XIX вв. М., 1999.
Кучинский В.А. Личность, свобода, право. М., 1978.
Лазарев В.В. Применение советского права. Казань, 1972.
Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М., 1998.;
Лазарев Л.В., Марышева Н.И., Пантелеева И.В. Иностранные граждане: правовое положение. М., 1992.
Лапаева В.В. Анализ правовой формы экономических отношений в «Капитале» К. Маркса. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. М., 1978.
Лапаева В.В. Вопросы права в «Капитале» К. Маркса. М., 1980.
Лапаева В.В. Владик Сумбатович Нерсесянц. Ереван: «Нжар», 2009.
Лапин Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян // Социологические исследования. 1996. № 5.
Ларионов В. В., Антонов Н.А., Выродов И.Я. и др. Эволюция военного искусства: Этапы, тенденции, принципы / Под ред. Ф. Ф. Гайворонского. М.: Воениздат, 1987.
Латкин В.М. Учебник истории русского права периода империи (XVIII–XIX вв.) / Под ред. и с предисловием В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2004.
Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995.
Леви-Строс К. Мифологики: Сырое и приготовленное. М., 2006.
Лешкевич Т.Г. Философия науки: традиции и новации. М., 2001.
Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы / Форма. Стиль. Выражение. М., 1995.
Лосский Н.О. Ценность и бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей. Париж, 1931.
Лосский Н.О. Свобода воли / Избранное. М., 1991.
Лукашева Е.А. Права человека и глобальные проблемы современности // Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Под общ. ред. Е. А. Лукашевой. М., 2002.
Лукашева Е.А. Правовой статус человека и гражданина / Права человека / Отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 2000.
Лукач Д. Конец двадцатого века и конец эпохи модерна. СПб., 2003.
Луковская Д.И. Права человека и права гражданина. Правовой статус человека и гражданина // История государства и права. 2007. № 13.
Луман Н. Власть. М.: Праксис, 2001.
Луман Н. Социальные системы: очерк общей теории. СПб., 2007.
Малахов В.П. Философия права.
Малинова И.П. Философия права (от метафизики к герменевтике). Екатеринбург, 1995.
Малиновский Б. Научная теория культуры. М., 2005.
Малько А.В. Субъективное право и законный интерес // Правоведение. 1998. № 4.
Малько А.В., Суменков С.Ю. Привилегии и иммунитеты как особые правовые исключения. Пенза, 2005.
Мамардашвили М.К. Опыт физической метафизики (Вильнюсские лекции по социальной философии). М., 2008.
Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Сочинения. Т. 3. М., 1955.
Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн.1: Процесс производства капитала // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. М., 1960.
Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 2. Кн. П: Процесс обращения капитала // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 24. М., 1961.
Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 3. Кн. Ш: Процесс капиталистического производства, взятый в целом // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25. Ч.1. М., 1961.
Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 3. Кн. Ш: Процесс капиталистического производства, взятый в целом // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25. Ч.2. М., 1962.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. М., 1972.
Марксистско-ленинская философия. М., 1964.
Мартышин О.В. Проблема ценностей в теории государства и права// Государство и право. 2004. № 10.
Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. Саратов, 1972.
Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2001.
Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2002.
Матузов Н.И. Правовой статус личности: понятие, структура, виды // Теория государства и права / Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. М., 2001.
Медушевский А.Н. Теория конституционных циклов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005.
Междисциплинарные исследования. Словарь справочник. М., 1991.
Мицкевич Л.А. Синергетические основы государственного управления//Новая правовая мысль. 2004. № 2.
Момджян К.Х. Введение в социальную философию. М., 1997.
Монтескье Ш. – Л. О духе законов // Избранные произведения М., 1955.
Монтескье Ш. – Л. Избранные произведения. М., 1955.
Мосс М. Очерк о даре // Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии. М., 1996.
Назаров Б.Л. Понятие прав человека // Права человека. История, теория и практика / Отв. ред. Б. Л. Назаров. М., 1995.
Насырова Т.Я. Телеологическое (целевое) толкование советского закона. Казань, 1988.
Наумов В. Толкование норм права. М., 1998.
Нашиц А. Необходимость и свобода в области соблюдения права // Правоведение. 1962. № 4.
Неволин К.А. Энциклопедия законоведения. История философии законодательства. СПб., 1997;
Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. М., 1960.
Немытина М.В. Право России как интеграционное пространство. 2-е изд., перераб. Саратов, 2008.
Неновски Н. Единство и взаимодействие государства и права. М., 1982.
Нерсесянц В.С. Право – математика свободы: опыт прошлого и перспективы. М.: Юристъ, 1996.
Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997.
Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1998;
Нерсесянц В.С. Либертарно-юридическая концепция правопонимания и юриспруденция // Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. М., 1999.
Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1999.
Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. М., 2001.
Нерсесянц В.С. Основные концепции правопонимания//Проблемы теории права и гсоударства / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. М., 2004.
Нерсесянц В.С. Теория права и государства. М., 2007.
Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991.
Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 1995.
Общая теория права и государства / под ред. Лазарева В.В. М., 1996.
Овчинников С.Н. Закономерности развития и функционирования права. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. Л., 1979.
Ожегов С.И. Словарь русского языка / под общ. ред. Л.И. Скворцова. М., 2002.
Оливекрона К. Право как факт // Российский ежегодник теории права / под ред. А.В. Полякова. 2008. № 1.
Оль П.А. Обоснование идеи публичного интереса в западной и отечественной политико-правовой мысли: некоторые аспекты правопо-нимания // Публичное, корпоративное, личное право: проблемы конфликтности и перспективы консенсуальности: Материалы V международной научно-теоретической конференции. Санкт-Петербург, 2–3 декабря 2005 г. / Под общ. ред. В.П. Сальникова, Р.А. Ромашова, Н.С. Нижник: В 2 ч. Ч.2. СПб.: СПбУ МВД России, 2005.
Ольшанский Д.А. О роли дискурсивного мышления в общественных науках // Посреднические функции интеллигенции в формировании гражданского общества. Екатеринбург, 2000.
Орзих М.Ф. Личность и право. М., 1975.
Основы советского государства и права / Под ред. проф. М.П. Каревой и доц. Г.И. Федькина. М.: Государственное издательство юридической литературы. 1956.
Остин Дж. Как совершать действия при помощи слов? // Избранное. М., 1999.
Остроух А.Н. Учение Бентама о праве. Краснодар, 2002.
Павлов И.П. Рефлекс свободы. СПб., 2001.
Папаян Р.А. Христианские корни современного права. М., 2002.
Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000.
Парсонс Т. О социальных системах. М., 2002.
Пашуканис Е.Б. Общая теория права и марксизм // Избранные произведения по общей теории права и государства. М., 1980.
Перевалов В.Д. Правовой статус личности // Теория государства и права / Под ред. В. М. Корельского, В. Д. Перевалова. М., 2002.
Пермяков Ю.Е. Правовые суждения. Самара, 2005.
Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Т. 1., СПб., 1909.
Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., 2000.
Петражицкий Л.И. Теория и политика права. Избранные труды / науч. ред. Е.В. Тимошина. СПб., 2010.
Пигалев А.И. Культура как целостность (Методологические аспекты). Волгоград, 2001.
Пиголкин А.С. Толкование нормативных актов в СССР. М., 1962.
Платон. Государство. IV.423 d.
Познер Р. Экономический анализ права. Т. 1. СПб., 2004.
Поленина С.В. Права женщин в системе прав человека: международный и национальный аспект. М., 2000.
Половова Л.В. Функции интерпретационной практики. Ульяновск, 2002.
Поляков А.В. Общая теория права. Курс лекций. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.
Поляков А.В. Коммуникативная концепция права (проблемы генезиса и теоретико-правового обоснования). Дисс… докт. юрид. наук в форме научного доклада. СПб., 2002.
Поляков А.В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода: Курс лекций. СПб, 2004.
Поляков А.В. Коммуникативный подход в общей теории права // Проблемы понимания права. Сб. науч. статей. Серия: Право России: новые подходы. Вып. 3. Саратов, 2007.
Поляков А.В. Язык нормотворчества и вопросы юридической техники // Поляков А.В. Коммуникативное правопонимание: Избранные труды. СПб.: ООО Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2014.
Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. Т. 1. Чары Платона. М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992.
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 2000.
Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству и зарубежному праву // Государство и право. 1998. № 8.
Пуздрач Ю.В. История российского конституционализма IX–XX веков. СПБ.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004
Рабинович П.М. Борьба за советскую социалистическую законность в РСФСР (1917–1920 гг.) // Правоведение. № 5. 1967.
Рабинович П.М. Упрочение законности – закономерность социализма. Львов, 1975.
Радбрух Г. Философия права. М., 2004.
Раймон А. Демократия и тоталитаризм. М.: Текст, 1993.
Рассказов Л.П., Упоров И.В. Философско-правовые аспекты категории «свобода» // Философия права. 2000. № 2.
Рачков П.А. Главная задача научного исследования // Проблема закона в общественных науках. М., 1989.
Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденции). М., 2003.
Ридингс Б. Университет в руинах. М., 2010.
Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995.
Рикер П. Справедливое. М., 2005.
Риккерт Г. Философия жизни. М., 2000.
Рождественский Н. Энциклопедия законоведения. СПб., 1863.
Розеншток-Хюсси О. Великие революции. Автобиография западного человека. М., 2002.
Ролз Д. Теория справедливости. М., 2010.
Ромашов Р.А. Конституционное государство (история, современность, перспективы развития). Красноярск, 1997.
Ромашов Р.А., Тонков Е.Н. Тюрьма как «Град земной». СПб., 2014.
Ромашов Р.А. Юридический позитивизм и социологический тип право-понимания: проблема совместимости // Теоретико-правовая наука и юридическая практика: проблемы соотношения и взаимодействия. Сб. избранных статей. СПб., 2004.
Ромашов Р.А. Публичное, корпоративное, личное право: некоторые проблемные аспекты соотношения // Публичное, корпоративное, личное право: проблемы конфликтности и перспективы консенсуальности: Материалы V международной научно-теоретической конференции. Санкт-Петербург, 2–3 декабря 2005 г. / Под общ. ред. В.П. Сальникова, Р.А. Ромашова, Н.С. Нижник: В 2 ч. Ч. 1. СПб.: СПбУ МВД России, 2005.
Ромашов Р.А. Русское право: закон, правда, указ (из истории отечественного правоосознания) // Наш трудный путь к праву: Материалы философско-правовых чтений памяти академика В.С. Нерсесянца / Сост. В.Г. Графский. М.: Норма, 2006.
Ромашов Р.А. Соотношение понятий «право» и «закон»: юридико-лингвистический анализ // Проблемы понимания права: Сборник научных статей. Серия: Право России: новые подходы. Выпуск 3. Саратов: Научная книга, 2007.
Ромашов Р.А., Тищенко А.Г. Политико-правовая природа и структурно-функциональные особенности государственной власти в СССР в условиях Великой Отечественной Войны // Государство. Право. Война: 60-летие Великой Победы / Под общ. ред. В. П. Сальникова, Р. А. Ромашова, Н. С. Нижник. СПб.: СПб университет МВД России, 2005.
Ромашов Р.А. Реалистический позитивизм: интегративный тип современного правопонимания // Концепции современного право-понимания: мат-лы «круглого стола». Санкт-Петербург, 21 декабря 2004 г. / под общ. ред. Р. А. Ромашова, Н. С. Нижник. СПб., 2005.
Российская цивилизация: учеб. Пособие / А.В. Скоробогатов, Б.Г. Кадыров, О.Д. Агапов и др.; под ред. В.Г. Тимирясова. Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2012.
Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре: трактаты. М., 2000.
Рыженков А.Я. Товарно-денежные отношения в советском гражданском праве. Саратов, 1989.
Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функция в примитивном обществе. Очерки и лекции. М., 2001.
Рябов П.В. Флософия классического анархизма (проблема личности). М., 2007.
Сабо И. Социалистическое право. М., 1964.
Салическая правда // Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып.2. Тольятти, 1997.
Сарбаш С.В. Некоторые тенденции развития института толкования договора в гражданском праве // Государство и право. 1997. № 2.
Саратовский проект Конституции России. М., 2006.
Сапельников А.Б., Честнов И.Л. Теория государства и права. Учебник для вузов. СПб., 2006.
Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права / Под ред. и с предисловием В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2004.
Свердлов М.Б. От Закона Русского к Русской Правде. М.: Юрид. лит., 1988.
Слесарев А.В. Специально-юридическое толкование норм гражданского права. Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2003.
Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.: Под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. Т. 1. М., 1981.
Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.: Под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. Т. 4. М., 1984.
Современный толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: «Норинт», 2004.
Солдатские военные песни Великой Отечественной Войны 1914–1915 гг. Собрал В. Крылов. Харбин, 1915.
Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. М., 1991.
Соловьев В.С. Право и нравственность. М. – Минск, 2001.
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.,1992.
Соцуро Л.В. Толкование норм права: теория и практика: монография. Самара., 2001.
Спасов Б.П. Закон и его толкование / пер. с болгарского. М., 1986.
Спенсер Г. О законах вообще и о порядке их открытия // Опыты научные, политические и философские. Минск, 1999.
Спиридонов Л.И. Марксистско-ленинская интерпретация социальной формы // Избранные произведения. СПб., 2002.
Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиологии М., 1994.
Структура тюремной индустрии / под общ. ред. Е.Н. Тонкова. СПб.: Алетейя, 2012.
Супрун В.И. Ценности и социальная динамика // Наука и ценности. Новосибирск, 1987.
Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т. 1. М., 2000.
Таганцев Н.С. Курс уголовного права. Вып. 1. СПб., 1874.
Таджер В. Гражданское право в НРБ / сокр. пер. с болгарского. М., 1972.
Тарасова В.В. Акты судебного толкования правовых норм. Саратов, 2002.
Тимошина Е.В. Как возможна теория права? Эпистемологические основания теории права в интерпретации Л.И. Петражицкого: монография. М., 2012.
Тимошина Е.В. Л.И. Петражицкий vs Е. Эрлих: два проекта социологии права // Правоведение. 2013. № 5.
Тиунова Л.Б. Плюрализм интересов и правопонимания // Правоведение. 1991. № 1.
Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М.: Издательство «Библиотека Сербского Креста», 2004.
Тихомиров Ю.А. Теория закона. М.: Изд-во «Наука», 1982.
Токарев Б.Я. Логический и исторический методы в теоретическом исследовании права.
Толченкин Д.А. Юридическая свобода. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. Владимир,2006.
Тонков Е.Н. Истории одной тюрьмы. СПб.: Издательство «Лема», 2006.
Тонков Е.Н. Толкование закона в Англии: монография. СПб.: Алетейя (Pax Britannica), 2013.
Тонков Е.Н. Нормативная система личности / Философия права и ответственность государства: коллективная монография / под ред. С.И. Дудника, И.Д. Осипова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012.
Тонков Е.Н. Тюрьма как «Град земной» / Ромашов Р.А., Тонков. Н. Тюрьма как «Град земной». СПб.: Алетейя, 2014.
Тревиньо А.Х. Актуальность классиков для современной социологии права: американский контекст // Правоведение. 2013. № 5.
Тропер М. Реалистическая теория толкования // Российский юридический журнал. 2006. № 1.
Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. СПб., 1998.
Тугаринов В.П. Законы объективного мира, их познание и использование. Л., 1954.
Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. М.: НОРМА, 1998.
Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2-х томах. Т. 1. Общая часть / Отв. ред. А.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков. М.: «НОРМА», 1998.
Уледов А.К. Социологические законы. М., 1975.
Уолд Дж. Детерминизм, индивидуальность и проблема свободной воли // Наука и жизнь. 1967. № 2.
Фиге Э. Либерализм. В кн.: О свободе. Антология мировой либеральной мысли (I половина XX века). М.: Прогресс-Традиция, 2000.
Фиттипальди Э. Наука на службе у принципа законности: критическая защита концепции юридической догматики Льва Петражицкого // Правоведение. 2013. № 5.
Фома Аквинский. Сумма теологии. Ч. I. Вопросы 1-64. М., 2006.
Фромм Э. Человек для самого себя. М., 2011.
Фукуяма Ф. Сильное государство. М., 2009.
Фулер Лон Л. Мораль права. М., 2007.
Хабибулина Н.И. Язык закона и его толкование. Уфа, 1996.
Хабибуллина Н.И. Юридическая техника и язык закона. СПб., 2000.
Хабибуллина Н.И. Толкование права: новые подходы к методологии исследования. СПб., 2001.
Хайдеггер М. Письмо о гуманизме.
Халфина Р.О. Право как средство социального управления. М., 1988.
Халфина Р.О. О закономерностях права // Право и правотворчество: вопросы теории. М., 1982.
Хаски Ю. Российская адвокатура и советское государство. М., 1993.
Хоркхаймер М. Затмение разума. К критике инструментального разума. М., 2011.
Храбрейший герой Великой Отечественной войны, первый георгиевский кавалер, славный казак Тихого Дона Кузьма Крючков и 12-ти-летний мальчик герой георгиевский кавалер Андрюша Мироненко. Москва: тип. П. В. Бельцова, 1914.
Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 2001.
Хук М. ван. Право и коммуникация. СПб., 2012.
Чельцов-Бебутов М.А. Социалистическое правосознание и уголовное право революции. Харьков, 1924.
Чепурнов А.А. Правовой статус личности в Российской Федерации: конституционные основы гарантирования. Ростов н/Д., 2006.
Чердаков О.И. Формирование правоохранительной системы советского государства в 1917–1936 гг. (историко-правовое исследование) / Под ред. А.В. Малько. Саратов, 2001.
Честнов И.Л. Актуальные проблемы теории государства и права. Эпистемология государства и права. СПб., 2004.
Честнов И.Л. Частное, публичное и запретительное право в связи с личным правом // Публичное, корпоративное, личное право: проблемы конфликтности и перспективы консенсуальности: Материалы V международной научно-теоретической конференции. Санкт-Петербург, 2–3 декабря 2005 г. / Под общ. ред. В.П. Сальникова, Р.А. Ромашова, Н.С. Нижник: В 2 ч. Ч. 1. СПб.: СПбУ МВД России, 2005.
Честнов И.Л. Истоки права // Истоки и источники права: очерки / Под ред. Р.А. Ромашова, Н.С. Нижник. СПб., 2006.
Честнов И.Л. Критерии современности правопонимания: современна ли интегративная концепция права? // Философия права в России: история и современность. Мат-лы третьих философско-правовых чтений памяти акад. В. С. Нерсесянца / отв. ред. В.Г. Графский. М., 2009.
Честнов И.Л. Знаково-символическое бытие права после прагматического поворота // Знаково-символическое бытие права. 11-е Спиридоновские чтения: мат. междунар. науч. – теор. конф. / под ред. д. ю. н., проф. И.Л. Честнова. СПб., 2013.
Честнов И.Л. Антропологическая онтология права // Проблемы понимания права. Вып. 3. Сборник научных статей: Право России: новые подходы. Саратов: Научная книга, 2007.
Четвернин В.А. Понятия права и государства. М., 1997.
Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства. М., 2003.
Чудаков Н.М. Цели межличностных отношений: эгоизм и альтруизм // Вопросы права и социологии. Вып. 5. Волгоград, 2002. Шабалин В.А. Методологические вопросы правоведения. Саратов, 1972.
Шафиров В.М. Естественно-позитивное право: Введение в теорию. Красноярск, 2004.
Шахрай С.М. О Конституции: Основной закон как инструмент правовых и социально-политических преобразований. М.: Наука, 2013. Шебанов А.Ф. Форма советского права. М., 1968.
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1910.
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. 2. М., 1995.
Шершеневич Г.Ф. История философии права. СПб., 2001.
Шлаг П. Эстетика американского права // Российский ежегодник теории права. 2010. № 3. СПб., 2011.
Шмитт К. Римский католицизм и политическая форма // Философия права. 2000. № 2.
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Гений пессимизма. СПб., 2009.
Эльцбахер П. Сущность анархизма. М., 2001.
Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 20. М., 1961.
Эрделевский А.М. О проблемах толкования гражданского законодательства // Государство и право. 2002. № 2.
Яворский Д.Р. Природа как символ единства: Становление натуралистической парадигмы социокультурного универсализма в западноевропейской философии. Волгоград, 2007.
Ямпольский М. Физиология символического. Кн. 1. Возвращение Левиафана: Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима. М., 2004.
Ящук Т.Ф. Советское юридическое образование (1917– 1930-е гг.) // Изучать юриспруденцию яко прав искусство: Очерки истории юридического образования в России (конец XVII в.-XX в.). Монография. Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2008.
* * *
Blomstedt Y. Laamannin Ja Kihlakunnantuomarinvirkojen Laanit– Taminen Ja Hoito Suomessa 1500 – Ja 1600-Luvuilla (1523–1680): Oikeushal-Lintohistoriallinen Tutkimus, 1958.
Cohen F.S. Transcendental Nonsense and the Functional Approach // Columbia Law Review. 1935. Vol.35. № 6.
Dawson J.P. A History of Lay Judges. Cambridge: Harvard University Press, 1960.
Dworkin R. Law’s Empire. Cambridge: Harvard University Press, 1986. Dworkin R. Justice in Robes. London, 2006.
Freeman M.D.A. Lloyd’s Introduction to Jurisprudence. 5th ed. London, 1985.
Hägerström A. Der römische Obligationsbegriff im Lichte der Allgemeinen römischen Rechtsanschauung. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1941 Vol. II, Appendix 5.
Holmes O.W. The Path of the Law // Harvard Law Review. 1897. Vol. 10. № 8.
Leiter B. Rethinking Legal Realism: Toward a Naturalized Jurisprudence // Texas Law Review. 1997. Vol. 76. № 2.
Leiter B. Legal Realism and Legal Positivism Reconsidered // Ethics. 2001. Vol. 111. Part 2.
Llewellyn K.N. A Realistic Jurisprudence – The Next Step // Columbia Law Review. 1930. Vol. 30. № 4.
Llewellyn K.N. Some Realism about Realism: Responding to Dean Pound // Harvard Law Review. 1931. Vol. 44. № 8.
Llewellyn K.N. On Reading and Using the Newer Jurisprudence // Columbia Law Review. 1940. Vol. 40.
Lundstedt V.A. Legal Thinking Revised: My Views on Law. Stockholm, 1956.
Metcalfe O.K. General principles of English Law. London, 1956. Olivecrona K. Law as Fact. 2nd ed. London, 1971.
Pattaro E. Lineamenti per una teoria del diritto. Bologna: CLUEB, 1990. Perelman C. Justice, law, and argument: Essays on Moral and Legal Reasoning. Dordrecht: London, 1980.
Pihlajamäki H. Against Metaphysics in Law: The Historical Background of American and Scandinavian Legal Realism Compared // The American Journal of Comparative Law. American Society of Comparive Law. 2004. Vol. 52. № 2.
Pound R. Law in Books and Law in Action // Am. Law Rev. 1910. № 44. Ross A. Towards a Realistic Jurisprudence: A Criticism of the Dualosm in Law. Copenhagen, 1946.
Ross A. Towards a Realistic Jurisprudence. Copenhagen: E. Munksgaard, 1946.
Ross A. On Law and Justice. Berkeley, 1959.
Ross A. Directives and Norms. London, 1968.
Twining W., Miers D. How To Do Things With Rules – A Primer of Interpretation. London, 1996.
Value // Encyclopaedia Britannica. 11th ed. Vol. XXVII.
Zamboni M. Legal Realisms and the Dilemma of the Relationship of Contemporary Law and Politics // Perspectives on Jurisprudence: Essays in Honor of Jes Bjarup. 2005. Vol. 48.
* * *
Закон РФ «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 № 62-ФЗ // Российская газета. 2002. 05 июня.
Закон РФ «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ // Российская газета. 1998. 02 июня.
Закон РФ «О статусе судей в РФ» от 26.06.1992 № 3132-1 // Российская газета. 1992. 29 июля.
Закон РФ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ» от 08.05.1994 № 3-ФЗ // Российская газета. 1999. 08 июля.
Постановление ЦИК и СНК СССР от 7.08.1932 г. “Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации”.
Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «О Концепции судебной реформы в РСФСР».
Российское законодательство X–XX веков. Т. 4: Законодательство периода становления абсолютизма. М.: Юрид. лит., 1986.
Российское законодательство X–XX веков. Т. 5: Законодательство периода расцвета абсолютизма. М.: Юрид. лит., 1987.
Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 5. Законодательство периода расцвета абсолютизма / под общей редакцией О.И. Чистякова. М.: Юридическая литература, 1987.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М., 2012.
Конвенция о правах ребенка // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1990. № 45. Ст. 955.
Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 2. Ст. 198.
СЗ СССР. 1932. № 62. ст. 360. «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». № 218. 08.08.1932.
Федеральный закон от 21.07.2014 N 258-ФЗ.
Федеральный закон от 29.06.2013 № 136-ФЗ.
* * *
Беляев А. Кто убил Робин Гуда революции? http: // / family / children / kotovskiy.
Дмитрий Медведев рассказал, почему население не любит госслужащих // Российская газета. 30.05.2013; http: // / 2013 / 05 / 30 / slujba.html.
Зорькин В.Д. Конституция против криминала. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин о борьбе с организованной преступностью // Российская газета. 10.12.2010; / 2010 / 12 / 10 / zorkin.
Карнаухов С. Северная война. Провозглашение империи // http: // mytutor.spb.ru / history_material / 212.html.
Указ Правительствующему Сенату. Царское Село, 20 ноября 1864 г. / constitution.garant.ru / history / act 1600–1918 / 3300.
Шишкин С.П. От Руси Древней до Империи Российской // http: // / voyny-rossiyskoy-imperii / otechestvennaya-voyna-1812-goda.html.
https: // ru.wikipedia.org / wiki / Исламское_государство_Ирака_и_ Леванта.
Примечания
1
Нерсесянц В.С. Право – математика свободы. Опыт прошлого и перспективы. М.: Юристъ, 1996. С. 6.
(обратно)2
Там же. С. 11–12.
(обратно)3
Соответственно, в качестве «правотворческих центров» будут рассматриваться «Град небесный» и «Град земной».
(обратно)4
Естественно, что в качестве судей в такой ситуации выступают представители победившей стороны, что заведомо исключает объективность и состязательность судебного процесса, превращая его из правосудия в суд по праву победителя.
(обратно)5
Кистяковский Б.А. Методологическая природа науки о праве//Философия и социология права. СПб., 1998. С.221.
(обратно)6
Гурвич Г. Юридический опыт и плюралистическая философия права//Философия и социология права. Избранные сочинения. СПб., 2004. С.262.
(обратно)7
См., например: Тиунова Л.Б. Плюрализм интересов и правопонимания//Правоведение. 1991. № 1. С. 24–32.
(обратно)8
Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). М., 2005. С. 23.
(обратно)9
Вопленко Н.Н. Сущность, принципы и функции права. Волгоград, 1998. С. 3.
(обратно)10
См.: Алекси Р. Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивизму). М., 2011. С. 29.
(обратно)11
См: Антонов М.В. Социологические мотивы учения о праве Ганса Кельзена// Юридический позитивизм и конкуренция теорий права: история и современность (к 100-летию со дня смерти Г.Ф. Шершеневича). Иваново, 2012. Ч.1. С.185.
(обратно)12
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1910. С.355. Кельзен Г. Указ. соч. С.431.
(обратно)13
Кельзен Г. Указ. соч. С.431.
(обратно)14
.: Алекси Р. Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивизму). М., 2011. С.29.
(обратно)15
Кельзен Г. Указ. соч. С.432.
(обратно)16
Там же. С.434.
(обратно)17
См., например: Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1999. С. 36–38 и др.; Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства. М., 2003. С. 18–19 и др.
(обратно)18
Денисов С.А. Административизация правовой системы: Влияние обособленных управленческих групп на правовую систему общества. Екатеринбург, 2005. С. 144.
(обратно)19
Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденции). М., 2003.
(обратно)20
Поляков А.В. Коммуникативная концепция права (проблемы генезиса и теоретико-правового обоснования). Дисс… докт. юрид. наук в форме научного доклада. СПб., 2002. С. 60.
(обратно)21
Там же. С. 64.
(обратно)22
Байтин М.И. Указ. соч. С. 97.
(обратно)23
См.: Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорий нравственности. СПб., 2000. С. 206–258 и др.
(обратно)24
Четвернин В.А. Понятия права и государства. М., 1997. С. 30, 40, 104.
(обратно)25
Шафиров В.М. Естественно-позитивное право: Введение в теорию. Красноярск, 2004. С. 43, 45.
(обратно)26
Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства. С. 13.
(обратно)27
Нерсесянц В.С. Философия права. С. 67.
(обратно)28
Цит. по: Остроух А.Н. Учение Бентама о праве. Краснодар, 2002. С. 15.
(обратно)29
Там же. С. 17.
(обратно)30
См.: Честнов И.Л. Актуальные проблемы теории государства и права. Эпистемология государства и права. СПб., 2004. С. 14.
(обратно)31
См.: Сырых В.М. Указ. соч. С. 257.
(обратно)32
Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). Изд. 2-е, доп. М., 2005. С. 85.
(обратно)33
Там же. С. 86, 96.
(обратно)34
Там же. С. 97. Ср. аналогичное противопоставление «кристалла» и «желе» у М.К. Мамардашвили: «Желе пронзаемо для любого произвольного социального действия. Представьте себе тарелку, наполненную студнем. Движение, вызванное толчком в тарелку, пройдет через всю тарелку. Почему? Оно пройдет все общественное тело, если общественное тело такое мягкое, желеподобное, оно нигде не встретит кристаллических решеток» (Мамардашвили М.К. Опыт физической метафизики (Вильнюсские лекции по социальной философии). М., 2008. С.179).
(обратно)35
Байтин М.И. Указ. соч. С. 147.
(обратно)36
Нерсесянц В.С. Основные концепции правопонимания//Проблемы теории права и гсоударства/Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. М., 2004. С. 137.
(обратно)37
Там же. С. 142.
(обратно)38
Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1999. С. 55.
(обратно)39
Там же. С. 58.
(обратно)40
Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека. Т. 1. М., 2001. С. 12.
(обратно)41
Шершеневич Г.Ф. История философии права. СПб., 2001. С. 17.
(обратно)42
Там же. С. 21.
(обратно)43
Кстати в данной норме называются три вида источников: «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры». Вместе с тем, предполагая возможность коллизии между международным и национальным правом, законодатель определяет лишь один источник о приоритете которого по отношению к национальному законодательству идет речь это международные договоры России, условием вступления которых в юридическую силу является ратификация, т. е. признание договора соответствующим Российскому законодательству.
(обратно)44
Blomstedt Y. Laamannin Ja Kihlakunnantuomarinvirkojen Laanit-Taminen Ja Hoito Suomessa 1500 – Ja 1600 – Luvuilla (1523–1680): Oikeushal-Lintohistoriallinen Tutkimus, 1958. Цит. по: Pihlajamäki H. Against Metaphysics in Law. P. 485.
(обратно)45
Dawson J.P. A History of Lay Judges. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1960. P. 82.
(обратно)46
Pihlajamäki H. Against Metaphysics in Law. P. 486.
(обратно)47
Рабинович П.М. Борьба за советскую социалистическую законность в РСФСР (1917–1920 гг.) // Правоведение. № 5. 1967. С. 123–124.
(обратно)48
Калинин М.И. О социалистической законности. М.: Госюриздат, 1959. С. 116.
(обратно)49
Llewellyn K.N. On Reading and Using the Newer Jurisprudence. P. 589; Ross A. Towards a Realistic Jurisprudence: A Criticism of the Dualosm in Law. Copenhagen, 1946. P. 72.
(обратно)50
Freeman M.D.A. Lloyd’s Introduction to Jurisprudence. P. 810–811.
(обратно)51
Ross A. Towards a Realistic Jurisprudence. P. 49.
(обратно)52
См.: Pattaro E. Lineamenti per una teoria del diritto. CLUEB, Bologna, 1990. P. 163–165. Цит. по: Zamboni M. Legal Realisms and the Dilemma of the Relationship of Contemporary Law and Politics. P. 601–602.
(обратно)53
Leiter B. Rethinking Legal Realism: Toward a Naturalized Jurisprudence. Texas Law Review. 1997. Vol. 76. № 2. P. 278.
(обратно)54
См.: Llewellyn K.N. Some Realism about Realism: Responding to Dean Pound. Harvard Law Review. 1931. Vol. 44. № 8. P. 1237; Pound R. Law in Books and Law in Action. Am. Law Rev. 1910. № 44. P. 35–36.
(обратно)55
Тревиньо А.Х. Актуальность классиков для современной социологии права: американский контекст // Правоведение. 2013. № 5. С. 28.
(обратно)56
Афонасин Е.В., Дидикин А.Б. Философия права. Новосибирск, 2006. С. 47.
(обратно)57
Zamboni M. Legal Realisms and the Dilemma of the Relationship of Contemporary Law and Politics. Perspectives on Jurisprudence: Essays in Honor of Jes Bjarup, 2005. Vol. 48. P. 584.
(обратно)58
Llewellyn K.N. A Realistic Jurisprudence – The Next Step. Columbia Law Review, 1930. Vol. 30. № 4. P. 431.
(обратно)59
Holmes O.W. The Path of the Law. Harvard Law Review, 1897. Vol. 10. № 8. P. 459–460.
(обратно)60
Dworkin R.M. Law’s Empire. Cambridge: Harvard University Press, 1986. P. 36.
(обратно)61
Llewellyn K.N. A Realistic Jurisprudence. P. 453.
(обратно)62
Cohen F.S. Transcendental Nonsense and the Functional Approach. Columbia Law Review, 1935. Vol.35. № 6. P. 839.
(обратно)63
Freeman M.D.A. Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, 5th ed. London, 1985. P. 810.; Leiter B. Legal Realism and Legal Positivism Reconsidered. Ethics, 2001. Vol. 111, Part 2. P. 285.
(обратно)64
Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социология права. Ростов н/Д, 2001. С. 65.
(обратно)65
См.: Антонов М.В. Скандинавская школа правового реализма // Российский ежегодник теории права / под ред. А.В. Полякова. 2008. № 1; Оливекрона К. Право как факт // Российский ежегодник теории права / под ред. А.В. Полякова. 2008. № 1.
(обратно)66
Ross A. On Law and Justice. P. 18.
(обратно)67
Ross A. On Law and Justice. Berkeley, 1959. P. 8.; Lundstedt V.A. Legal Thinking Revised: My Views on Law. Stockholm, 1956. P. 34, 133; Olivecrona K. Law as Fact, 2nd ed. London, 1971. P. 135.
(обратно)68
Hägerström A. Der römische Obligationsbegriff im Lichte der Allgemeinen römischen Rechtsanschauung. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1941. Vol. II, Appendix 5. Цит. по: Zamboni M. Legal Realisms and the Dilemma of the Relationship of Contemporary Law and Politics. P. 596.
(обратно)69
Ross A. On Law and Justice. P. 18.
(обратно)70
См.: Декреты Советской власти. Т. I. М.: Гос. изд-во полит. литературы, 1957.
(обратно)71
См.: Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. – М., 1991.
(обратно)72
Таганцев Н. С. Курс уголовного права. Вып. 1. СПб., 1874. С. 171.
(обратно)73
ФЗ № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан».
(обратно)74
См.: Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801–1 «О Концепции судебной реформы в РСФСР».
(обратно)75
См.: Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801–1 «О Концепции судебной реформы в РСФСР».
(обратно)76
Честнов И.Л. Знаково-символическое бытие права после прагматического поворота / / Знаково-символическое бытие права. 11-е Спиридоновские чтения: мат. междунар. науч. – теор. конф. / под ред. д. ю. н., проф. И.Л. Честнова. СПб., 2013. С. 66.
(обратно)77
Ветютнев Ю.Ю. Аксиология правовой формы: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 4.
(обратно)78
Дмитрий Медведев рассказал, почему население не любит госслужащих // Российская газета. – 30.05.2013; .
(обратно)79
Отмечается, что исследователи рассматривают Русскую Правду, как свод княжеских законов, источниками которых являлись нормы обычного права, княжеские уставы и отдельные постановления. – См.: Свердлов М. Б. От Закона Русского к Русской Правде. М.: Юрид. лит., 1988. С. 4.
(обратно)80
Здесь и далее использованы материалы опубликованной статьи: Ромашов Р. А. Русское право: закон, правда, указ (из истории отечественного правоосознания) // Наш трудный путь к праву: Материалы философско-правовых чтений памяти академика В. С. Нерсесянца / Сост. В. Г. Графский. М.: Норма, 2006. С. 347–354.
(обратно)81
Сергеевич В. И. Лекции и исследования по древней истории русского права / Под ред. и с предисловием В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2004. С. 10.
(обратно)82
Там же. С. 2.
(обратно)83
Там же. С. 6.
(обратно)84
Крижанич Юрий. Политика. М., 1997. Цит по кн. Антология мировой правовой мысли: В 5 т. Т. IV: Россия XI–XIX вв. / Нац. обществ. – науч. фонд; Руководитель науч. проекта Г. Ю. Семигин. М.: Мысль, 1999. С. 265.
(обратно)85
См. Сергеевич В. И. Указ. соч. С. 11; Комлев Н. Г. Закон, правило и норма в языке // Проблема закона в общественных науках / Под ред. П. А. Рачкова, В. С. Манешина. М.: Изд-во МГУ, 1989. С. 140.
(обратно)86
Высказываемая нами точка зрения качественным образом отличается от позиции В. И. Сергеевича полагающего, что «закон и покон есть порядок, которому человек должен (курсив наш – Р. Р.) подчиняться в своих действиях». Чертами обязательности обладает лишь закон, в то время как покон характеризуется побудительными (управомочивающими) свойствами и в силу этого не порождает у субъекта обязанности исполнения и связанного с отказом от исполнения наказания.
(обратно)87
См.: Комлев Н. Г. Указ. соч. С. 140.
(обратно)88
Отсюда и определение права как возведенной в закон воли государства (а точнее, государя).
(обратно)89
Интересная деталь, решение Сената практически означало признание божественности Императора, в лице которого чудесным образом объединились Отец отечества и его сын – капитан-бомбардир Петр Михайлов.
(обратно)90
Латкин В. М. Учебник истории русского права периода империи (XVIII–XIX вв.) / Под ред. и с предисловием В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2004. С. 3.
(обратно)91
Тихомиров Ю. А. Теория закона. М.: Изд-во «Наука», 1982. С. 14.
(обратно)92
Подобная точка зрения является в достаточной степени традиционной. Впервые вопрос о разделении законов на виды был поднят в Наказе Екатерины II Уложенной комиссии («Наказ управе благочиния»), вошедшем в качестве структурного раздела в Устав благочиния. В Наказе содержится статья «О записании в управе благочиния и обнародовании в городе самодержавной власти изданных узаконений, учреждений и указов». – Российское законодательство X–XX веков: В 9 т. Т. 5: Законодательство периода расцвета абсолютизма. М.: Юрид. лит., 1987. С. 336.
(обратно)93
См.: Вернадский Г. В. История права. СПб.: Изд-во «Лань», 1999. С. 107.; Российское законодательство X–XX веков. Т. 4: Законодательство периода становления абсолютизма. М.: Юрид. лит., 1986; Т. 5: Законодательство периода расцвета абсолютизма. М.: Юрид. лит., 1987.
(обратно)94
См.: Ельчанинова О.Ю., Оспенников Ю.В., Ромашов Р.А., Ютяева Л.Е. Система источников русского права X–XVIII вв.: монография /Под общ. ред. Ю.В. Оспенникова. Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 2014. С. 369.
(обратно)95
Российское законодательство X–XX веков. Т. 5. С. 67.
(обратно)96
Там же. С. 336.
(обратно)97
См.: Латкин В. Н. Указ. соч. С. 4.
(обратно)98
Цит. по кн.: Латкин В.Н. Указ. соч. С. 5–6.
(обратно)99
Там же. С. 16.
(обратно)100
См.: Хаски Ю. Российская адвокатура и советское государство. М., 1993. С. 32
(обратно)101
Чельцов-Бебутов М. А. Социалистическое правосознание и уголовное право революции. Харьков, 1924. С. 67–68.
(обратно)102
См.: Неновски Н. Единство и взаимодействие государства и права. М., 1982. С. 108.
(обратно)103
Вышинский А.Я. Революционная законность и наши задачи // Правда. 1932. 28 июня.
(обратно)104
Слово «закон» начинает использоваться для названия нормативно-правовых актов начиная с 1938 г.
(обратно)105
В частности, традиционно порядок введения в действие законов СССР устанавливался соответствующими указами, вместе с тем порядок введения в действие Закона СССР «О всеобщей воинской обязанности» 1967 г. устанавливался постановлением.
(обратно)106
См.: Ромашов Р. А., Тищенко А. Г. Политико-правовая природа и структурнофункциональные особенности государственной власти в СССР в условиях Великой Отечественной Войны // Государство. Право. Война: 60-летие Великой Победы / Под общ. ред. В. П. Сальникова, Р. А. Ромашова, Н. С. Нижник. СПб.: СПб университет МВД России, 2005. С. 255–268.
(обратно)107
За четыре военных года состоялось всего три сессии ВС СССР: в июне 1942 г., в феврале 1944 г. и апреле 1945 г.
(обратно)108
В контексте подобного понимания вполне допустимо существование взаимоисключающих позиций. Нарушение законов государства – преступление, влекущее наказание за нарушение конкретного закона. Исполнение закона государства в том случае, если этот закон является неправовым (несправедливым, бесчеловечным и т. п.) – преступление, влекущее наказание за законопослушное, но противоправное поведение. Второй вариант возможен только в том случае, если перестала существовать система законодательства объявленного неправовым. Фашистских преступников судили не потому, что они нарушали законы своего государства, а потому, что государство, которому они служили, проиграло войну. В противном случае, ситуация бы повторилась зеркально, с той лишь разницей, что места обвиняемых заняли бы представители антигитлеровской коалиции.
(обратно)109
В данном случае следует помнить значение слова «право» как направления движения. Это направление может быть задано в приказном порядке («Кто там шагает правой? Левой! Левой! Левой!» – Маяковский В. В. Левый марш //Сочинения в двух томах. Т. 1. М.: Изд-во «Правда», 1987. С.107), либо избрано самостоятельно («Каждый свой выбирает путь, прав, быть может, а может, неправ». – Ромашов Р. А. Я уйду как проходит дождь //Околесица. СПб.: Изд. дом «Сентябрь», 2003, С. 8). Если право выбора принадлежит субъекту, то он реализует его так, как видится правильным ему, при этом права других, следовательно, и другие правила (в смысле направления деятельности), воспринимаются как опосредованные собственной правотой категории.
(обратно)110
Если рассматривать закон как объективное право, то он должен обладать следующими качествами:
– закон является общеобязательным не зависимо от участия в его разработке и принятии конкретного субъекта;
– закон считается истинным (правильным, правовым), не зависимо от субъективной оценки его положений отдельными лицами;
– закон получает реализацию как в случае законопослушного, так и в случае противозаконного поведения субъекта.
(обратно)111
Думается, что изначально слова «устав» и «указ» носили практически тождественный характер и выступали как персонифицированные волеизъявления суверена (государев указ) с той лишь разницей, что устав (от слова установленный – окончательно закрепленный) носил однозначно императивный характер, а указ (указание вариантов возможного, должного, недопустимого поведения) содержал в себе некоторую диспозитивность, связанную с выбором возможных средств и методов реализации властного предписания. Не более чем версией является и другая точка зрения, в соответствии с которой устав (от слов «уста», «устье» прежде всего символизирует некоторое первоначало, исходную точку рождения соответствующей информации). В свою очередь, «указ» в содержательном смысле в большей степени ориентирован на метод доведения необходимой информации до адресата.
(обратно)112
Указ (устав) может иметь статус закона как обладающего наибольшей юридической значимостью документа. К примеру, силой закона в сфере военной службы обладает Воинский устав, основным законом для большинства субъектов Российской Федерации является Устав субъекта, Указы Президента Российской Федерации при определенных обстоятельствах наделяются юридической силой федеральных конституционных и федеральных законов.
(обратно)113
Достаточно образно пренебрежение к восприятию закона в российской социально-правовой традиции отражено в известной пословице «Закон что дышло, куда повернул, то и вышло».
(обратно)114
То, что переводится на русский язык как статутное право, точнее было бы назвать уставным нормотворчеством.
(обратно)115
Так, за основу понимания и законодательного определения административного правонарушения взята уголовно-правовая концепция преступления. При этом механический перенос четырехэлементного состава преступления на конструкцию административного деликта привел к парадоксу, заключающемуся в признании наличия вины как психологического отношения к совершенному противоправному деянию, в том числе у коллективных субъектов административных правонарушений.
(обратно)116
Коммуникативная концепция права: вопросы теории. СПб., 2003. С. 9.
(обратно)117
Куницын А.П. Энциклопедия прав // Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т. IV. Россия XI–XIX вв. М., 1999. С. 457–463.
(обратно)118
Немытина М.В. Право России как интеграционное пространство. 2-е изд., перераб. Саратов, 2008. С. 23–24.
(обратно)119
Нерсесянц В.С. Либертарно-юридическая концепция правопонимания и юриспруденция // Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. М., 1999. С. 40–50; Поляков А. В. Общая теория права. СПб., 2001. С. 125–127; Ромашов Р. А. Реалистический позитивизм: интегративный тип современного правопонимания // Концепции современного правопонимания: мат-лы «круглого стола». Санкт-Петербург, 21 декабря 2004 г. / под общ. ред. Р. А. Ромашова, Н. С. Нижник. СПб., 2005. С. 8–23; и др.
(обратно)120
Так, И. Л. Честнов, осуществляя характеристику интегративной теории права, рассматривает ее как категорию, тождественную интегративной юриспруденции (Сапельников, А. Б., Честнов И. Л. Теория государства и права. Учебник для вузов. СПб., 2006. С. 169).
(обратно)121
Кодан С. В. Формирование и становление юридического образования в России: от законоисскусства к правоведению (XVII – первая половина XIX вв.) // «Изучать юриспруденцию яко прав искусство»: Очерки истории юридического образования в России (конец XVII в. – XX в.) /Под общ. ред. В.В. Захарова, Н.Н. Зипунниковой. Курск: Изд-во Курского гос. ун-та, 2008. С. 57; Неволин К. А. Энциклопедия законоведения. История философии законодательства. СПб., 1997; Рождественский Н. Энциклопедия законоведения. СПб., 1863; Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. СПб., 1998; и др.
(обратно)122
Кодан С. В. Указ. соч. С. 57.
(обратно)123
Там же. С. 63.
(обратно)124
Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., 2000; Алексеев Н. Н. Основы философии права. СПб., 1999; Шершеневич Г. Ф. История философии права. СПб., 2001; и др.
(обратно)125
Теория противоправного поведения и юридической ответственности, как правило, излагается в одном тематическом блоке «Правонарушение и юридическая ответственность».
(обратно)126
В рамках подготовленной профессорами СПбГУ Ю. И. Гревцовым и И. Ю. Козлихиным «Энциклопедии права» авторы попытались представить общую теорию права в виде трех самостоятельных и относительно обособившихся друг от друга научных направлений (дисциплин): теории (догмы) права, социологии права и философии права (Гревцов Ю. И., Козлихин И. Ю. Энциклопедия права. СПб., 2008).
(обратно)127
Энциклопедия (новолат. encyclopaedia (не ранее XVI в.) от др. – греч. укикУю:; таal5e^a – «обучение в полном круге», кокУо^ – круг и таal5e^a – обучение/пайдейя) – приведенное в систему обозрение всех отраслей человеческого знания или круга дисциплин, в совокупности составляющих отдельную отрасль знания. Энциклопедией называют также научное справочное пособие, содержащее обозрение наук или дисциплин (преимущественно в форме словаря).
(обратно)128
Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 140.
(обратно)129
Современный толковый словарь русского языка /Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: «Норинт», 2004. С. 91.
(обратно)130
Даль В.И. Указ. соч. С. 581.
(обратно)131
Современный толковый словарь русского языка. С. 726.
(обратно)132
Value//Encyclopaedia Britannica. 11th ed. Vol. XXVII. P.867.
(обратно)133
Ивин А.А. Основания логики оценок. М., 1970. С.12.
(обратно)134
Супрун В.И. Ценности и социальная динамика//Наука и ценности. Новосибирск, 1987. С.162.
(обратно)135
См.: Лапин Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян//Социологические исследования. 1996. № 5. С.5.
(обратно)136
См. подробнее: Лосский Н. Ценность и бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей. Париж, 1931. С.6—15.
(обратно)137
Радбрух Г. Философия права. М., 2004. С.11.
(обратно)138
См.: Каган М.С. Философская теория ценности//Избранные труды в VII томах. Т.11. СПб., 2006. С.335.
(обратно)139
См.: Гуссерль Э. Картезианские медитации. М., 2010. С.65.
(обратно)140
Хайдеггер М. Письмо о гуманизме.
(обратно)141
См.: Честнов И.Л. Истоки права//Истоки и источники права: очерки/Под ред. Р.А. Ромашова, Н.С. Нижник. Сб., 2006. С. 62–64.
(обратно)142
См., например: Мартышин О.В. Проблема ценностей в теории государства и права//Государство и право. 2004. № 10. С.5.
(обратно)143
Мосс М. Очерк о даре//Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии. М., 1996. С.99.
(обратно)144
Соловьев В.С. Право и нравственность. М. – Минск, 2001. С. 42.
(обратно)145
Познер Р. Экономический анализ права. СПб., 2004. Т.1. С. 340.
(обратно)146
Там же. С. 342–343.
(обратно)147
Там же. С. 356.
(обратно)148
См.: Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиологии М., 1994. С. 95, 97.
(обратно)149
Каган М.С. Эстетика как философская наука: Университетский курс лекций. СПб, 1997. С. 35.
(обратно)150
См.: Там же. С. 36.
(обратно)151
Кистяковский Б.А. Реальность объективного права//Философия и социология права. СПб., 1998. С. 200.
(обратно)152
См. подробнее: Шлаг П. Эстетика американского права//Российский ежегодник теории права. 2010. № 3. СПб., 2011. С. 112–180.
(обратно)153
См. подробнее: Пигалев А.И. Культура как целостность (методологические аспекты). Волгоград, 2001. С. 34–38.
(обратно)154
Там же. С.42.
(обратно)155
См.: Малиновский Б. Научная теория культуры. М., 2005. С. 103–111.
(обратно)156
См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 2000. С. 140.
(обратно)157
См.: Мицкевич Л.А. Синергетические основы государственного управления// Новая правовая мысль. 2004. № 2. С. 13–18.
(обратно)158
Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функция в примитивном обществе. Очерки и лекции. М., 2001. С.237.
(обратно)159
Там же. С.238.
(обратно)160
Радбрух Г. Философия права. М., 2004. С.20.
(обратно)161
См. подробнее: Поляков А.В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода. СПб., 2004. С.335.
(обратно)162
Монтескье Ш.Л. О духе законов//Избранные произведения М., 1955. С.288.
(обратно)163
Кант И. Метафизика нравов//Сочинения в 6 томах. Т. 4. Ч.2. М., 1965. С. 119—120
(обратно)164
Там же. С.147.
(обратно)165
См., например: Нашиц А. Необходимость и свобода в области соблюдения права//Правоведение. 1962. № 4. С.28.
(обратно)166
Толченкин Д.А. Юридическая свобода. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. Владимир, 2006. С.17.
(обратно)167
Энгельс Ф. Анти-Дюринг//Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 20. М., 1961. С. 116.
(обратно)168
Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству и зарубежному праву//Государство и право. 1998. № 8. С.43.
(обратно)169
См.: Рассказов Л.П., Упоров И.В. Философско-правовые аспекты категории «свобода»//Философия права. 2000. № 2. С. 71–72.
(обратно)170
См.: Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. СПб., 2004. С.66.
(обратно)171
Риккерт Г. Философия жизни. М., 2000. С.150.
(обратно)172
См., например: Рыженков А.Я. Товарно-денежные отношения в советском гражданском праве. Саратов, 1989. С.10.
(обратно)173
Павлов И.П. Рефлекс свободы. СПб., 2001. С.78.
(обратно)174
См.: Бачинин В.А. Синергетическая методология и социология права//Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века. Материалы международной научной конференции. СПб., 2001. C.15–20; Он же. Основы социологии права и преступности. СПб., 2001. С. 34–45.
(обратно)175
Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 73.
(обратно)176
Лосский Н.О. Свобода воли//Избранное. М., 1991. С.554.
(обратно)177
См., напр.: Пигалев А.И. Культура как целостность (Методологические аспекты). Волгоград, 2001. С. 419.
(обратно)178
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология//Сочинения. Т. 3. М., 1955. С. 32.
(обратно)179
Достоевский Ф.М. Записки из мертвого дома//Собрание сочинений в 15 томах. Л., 1988. Т. 3.
(обратно)180
См.: Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., 2000. С. 157.
(обратно)181
Зорькин В.Д. Конституция и права человека в XXI веке. К 15-летию Конституции Российской Федерации и 60-летию Всеобщей декларации прав человека. М.: Норма, 2008. С. 26–27
(обратно)182
Кстати, в ряде национальных субъектов России, День Конституции (естественно своей, национальной), продолжает оставаться государственным (на уровне региональной государственности) праздником и, соответственно, выходным днем. В частности, такая ситуация имеет место в Республике Татарстан, где 6 ноября объявлено республиканским праздником – Днем Конституции. Вполне естественно, что для народа Татарстана, подобное отношение поднимает ценность собственной Конституции на более высокую планку, по сравнению с общефедеральной.
(обратно)183
В частности, Д.И. Медведев, находясь на посту главы государства отмечал, что «не видит ничего страшного в корректировке положений основного закона, касающихся политической системы России». См.: Медведев о внесении поправок в конституцию задумался несколько лет назад // Вести. Информационный канал. 18.11.2008.
(обратно)184
Зорькин В.Д. Указ. соч. С. 28.
(обратно)185
См.: Трагедия на «Нерпе»: приговор ///
russia/3043Юр
(обратно)186
См.: Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995. С. 9–11.
(обратно)187
Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997. С. 22.
(обратно)188
Козюк М.Н. Правовое равенство в механизме правового регулирования. Волгоград, 1998. С. 7.
(обратно)189
См.: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1996. С. 1141.
(обратно)190
См.: Вернан Ж.П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988. С. 66.
(обратно)191
См.: Аристотель. Политика//Сочинения. Т.4. М., 1983. С. 444–450.
(обратно)192
См.: Папаян Р.А. Христианские корни современного права. М., 2002. С. 310.
(обратно)193
Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского//Сочинения: Т. 2. М., 1991. С. 94.
(обратно)194
Козловский В.В., Уткин А.И., Федотова В.Г. Модернизация: от равенства к свободе. СПб., 1995. С.204.
(обратно)195
Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре: Трактаты. М., 2000. С.241
(обратно)196
Гидденс Э. Социология. М., 1999. С. 150.
(обратно)197
См.: Пермяков Ю.Е. Правовые суждения. Самара, 2005. С. 63.
(обратно)198
См.: Малько А.В., Суменков С.Ю. Привилегии и иммунитеты как особые правовые исключения. Пенза, 2005. С. 70.
(обратно)199
См.: Там же. С. 107.
(обратно)200
См.: Дворкин Р. О правах всерьез. М., 2004. С. 305–320.
(обратно)201
Конвенция о правах ребенка//Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1990. № 45. Ст. 955.
(обратно)202
Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
(обратно)203
Авторы в данном случае придерживаются позиции, в соответствие с которой, говорить о России как о самостоятельном суверенном государстве, в современном понимании этого феномена, следует с появления Русского царства (XVI в.), с момента своего образования представлявшего государство имперского типа.
(обратно)204
Боханов А.Н. Последний царь. М.: Вече, 2006. С. 148.
(обратно)205
Решетников Л.П. Вернуться в Россию. Третий путь или тупики безнадежности. М.: Издательство «ФИВ», 2013. С. 25, 27.
(обратно)206
Дмитриев М.В. Конфессиональный фактор в формировании представлений о «русском» в культуре Московской Руси //Религиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. Средние века – Новое время. М.: Индрик, 2008. С. 218–224.
(обратно)207
Идея о делении «русских россиян» на державных и имперских высказана видным российским ученым, священнослужителем Архимандритом Георгием (Шестуном) и позитивно воспринята авторами, поскольку, позволяет говорить о возможности выработки единой «общерусской» национальной государственной идеологии России на современном этапе ее исторического развития.
(обратно)208
Справедливости ради, следует отметить, что приветствуя переход иноверцев в Православие, логично объясняемое правом на свободу вероисповедания, государство и РПЦ крайне отрицательно относились к обратному процессу. Вплоть до 1905 г. выход из православия «совращение из православия» считался преступлением и наказывался каторгой на срок до 10 лет.
(обратно)209
Кшесинская М. Ф. Воспоминания. М.: АРТ, 1992. С. 38.
(обратно)210
Такая классификация была впервые установлена в 1842 году постановлением Особого временного комитета по делам раскольников по согласованию со Святейшим Синодом.
(обратно)211
В данном случае, мы просто придерживаемся логической последовательности в соответствие с которой наименование жителя того или иного региона, определяется его названием. В Москве живут москвичи, в Самарской области – самарчане, В Красноярском крае – красноярцы и т. д.
(обратно)212
В преамбуле Конституции Чеченской Республике (принята на референдуме Чеченской Республики 23 марта 2003 года), говорится об исторической общности многонационального народа Чеченской Республики и многонационального народа России, тем самым подчеркивается наличие у чеченского народа (уточнение «многонационального» в данном случае существенной роли не играет), самостоятельного статуса, тем более, что далее подчеркивается различие в «лучших традициях народов Чеченской Республики и всей Российской Федерации». Статья 1 Конституции ЧР определяет ее как демократическое правовое государство в составе Российской Федерации, а статья 6 (п.1) закрепляет положение в соответствие с которым «По предметам ведения Чеченской Республики Конституция, конституционные законы и законы Чеченской Республики имеют прямое действие на всей территории Чеченской Республики и обладают высшей юридической силой. В случае противоречия между федеральным законом и законом Чеченской Республики, изданным по предметам ведения Чеченской Республики, действует закон Чеченской Республики». Еще большая степень национальной автономии закреплена в Конституции Республики Татарстан (принята 6 ноября 1992 г.). Преамбула Конституции гласит, что «настоящая Конституция, выражает волю многонационального народа Республики Татарстан и татарского народа, реализует приоритет прав и свобод человека и гражданина, исходит из общепризнанного права народов на самоопределение…». Статья1 определяет статус Республики как «демократического правового государства, объединенного с Российской Федерацией Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан и Договором Российской Федерации и Республики Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан». и являющееся субъектом Российской Федерации. Суверенитет Республики Татарстан выражается в обладании всей полнотой государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики Татарстан и является неотъемлемым качественным состоянием Республики Татарстан». По сути следуя логике Конституции Татарстана речь следует вести о договорном федеративном союзном государстве, в котором Татарстан, сохраняет свой государственный суверенитет.
(обратно)213
Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954..
(обратно)214
Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 2. Ст. 198.
(обратно)215
См.: Глава 23 КоАП РФ.
(обратно)216
Поляков А.В. Общая теория права. Курс лекций. СПб., 2001. С. 189.
(обратно)217
Там же. С. 201.
(обратно)218
Указ Правительствующему Сенату. Царское Село, 20 ноября 1864 г. / constitution.garant.ru / history / act1600-1918 / 3300
(обратно)219
См.: Поляков А.В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода: Курс лекций. СПб, 2004. С. 282–294.
(обратно)220
«Морфология должна содержать учение о форме, об образовании и преобразовании органических тел…» (Гете И.В. Размышления о морфологии вообще//Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957. С. 104).
(обратно)221
Фома Аквинский. Сумма теологии. Ч.1. Вопросы 1-64. М., 2006. С. 215.
(обратно)222
См.: Там же. С. 216.
(обратно)223
Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы//Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С. 14.
(обратно)224
Там же. С. 15.
(обратно)225
См.: Спиридонов Л.И. Марксистско-ленинская интерпретация социальной формы//Избранные произведения. СПб., 2002. С. 106–111.
(обратно)226
См.: Бибихин В.В. Форма римского права//Новая правовая мысль. 2002. № 1. С. 61, 64.
(обратно)227
Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн.1: Процесс производства капитала//Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. М., 1960. С. 47.
(обратно)228
См.: Там же. С. 94.
(обратно)229
См.: Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 2. Кн. II: Процесс обращения капитала// Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 24. М., 1961. С. 147.
(обратно)230
См.: Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 3. Кн. Ш: Процесс капиталистического производства, взятый в целом//Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25. Ч.1. М., 1961. С. 373.
(обратно)231
См.: Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 3. Кн. Ш: Процесс капиталистического производства, взятый в целом//Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25. Ч.2. М., 1962. С. 166.
(обратно)232
Пашуканис Е.Б. Общая теория права и марксизм//Избранные произведения по общей теории права и государства. М., 1980. С. 41.
(обратно)233
Там же. С. 39.
(обратно)234
См.: Там же. С. 50.
(обратно)235
См.: Там же. С. 94–95, 113.
(обратно)236
См.: Лапаева В.В. Анализ правовой формы экономических отношений в «Капитале» К. Маркса. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. М., 1978. С.9; Она же. Вопросы права в «Капитале» К. Маркса. М., 1980. С. 41, 43.
(обратно)237
Халфина Р.О. Право как средство социального управления. М., 1988. С.174. Этому созвучно определение А.Ф. Шебанова, который полагал, что форма советского права – это «установившаяся на основе Конституции СССР система нормативноправовых актов…» (Шебанов А.Ф. Форма советского права. М., 1968. С. 63).
(обратно)238
Батурина Ю.Б. Правовая форма и правовое средство в системе понятий теории права. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. М., 2001. С. 12.
(обратно)239
Perelman C. Justice, law, and argument: Essays on Moral and Legal Reasoning. Dordrecht: London, 1980. P. 122–123.
(обратно)240
См.: Бибихин В.В. Введение в философию права. М., 2005. С. 4–7.
(обратно)241
См.: Хук М. ван. Право и коммуникация. СПб., 2012. С. 133–136.
(обратно)242
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1987. С. 285.
(обратно)243
Там же. С. 286.
(обратно)244
См. подробнее: Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 519–540.
(обратно)245
Там же. С. 533.
(обратно)246
Малинова И.П. Философия права (от метафизики к герменевтике). Екатеринбург, 1995. С. 87.
(обратно)247
Там же. С. 87.
(обратно)248
См., например: Леви-Строс К. Мифологики: Сырое и приготовленное. М., 2006. С. 132–133.
(обратно)249
См.: Остин Дж. Как совершать действия при помощи слов?//Избранное. М., 1999. С. 18–19.
(обратно)250
Представьте себе следующие названия субъектов России: «московская Россия», «татарская Россия», «еврейская Россия», «свердловская Россия». Любой здравомыслящий человек тут же скажет, что подобный подход абсурден. Вместе с тем ни у кого не вызывает возражений, что структурными элементами права выступают государственное право, гражданское право, уголовное право, каноническое право, право прав человека и т. д.
(обратно)251
См.: Ромашов Р.А. Публичное, корпоративное, личное право: некоторые проблемные аспекты соотношения //Публичное, корпоративное, личное право: проблемы конфликтности и перспективы консенсуальности: Материалы V международной научно-теоретической конференции. Санкт-Петербург, 2–3 декабря 2005 г. / Под общ. ред. В.П. Сальникова, Р.А. Ромашова, Н.С. Нижник: В 2 ч. Ч. 1. СПб.: СПбУ МВД России, 2005. С. 3–4.
(обратно)252
См, Поляков А,В, Общая теория права, Курс лекций, СПб, Издательство «Юридический центр Пресс», 2001, С, 489,
(обратно)253
См, Большой юридический словарь /Под ред, А,Я, Сухарева, В,Д, Зорькина, В,Е, Крутских, М, ИНФРА-М, 1999, С, 570,
(обратно)254
Оль П,А, Обоснование идеи публичного интереса в западной и отечественной политико-правовой мысли: некоторые аспекты правопонимания //Публичное, корпоративное, личное право: проблемы конфликтности и перспективы консенсуальности: Материалы V международной научно-теоретической конференции, Санкт-Петербург, 2–3 декабря 2005 г, /Под общ, ред, В,П, Сальникова, Р,А, Ромашова, Н, С, Нижник: В 2 ч, Ч, 2, СПб, СПбУ МВД России, 2005,С, 147,
(обратно)255
Кстати, зачастую возможности публичного права используются для обеспечения индивидуальных и корпоративных интересов субъектов, приближенных к центру публичности. В качестве примера может быть назван Федеральный закон «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и его семье», практически полностью повторяющий текст одноименного Указа № 1 Президента России В. В. Путина.
(обратно)256
В данном случае закон понимается в широком смысле и означает любой нормативный правовой акт, принимаемый наделенным соответствующей компетенцией субъектом (центром публичности) от имени всего государственно-организованного сообщества, обладающий высшей по сравнению с другими документами юридической силой и действующий в пределах пространственной и социальной юрисдикции государства. См. Ромашов Р.А. Соотношение понятий «право» и «закон»: юридико-лингвистический анализ / /Проблемы понимания права: Сборник научных статей. Серия: Право России: новые подходы. Выпуск 3. Саратов: Научная книга, 2007. С. 52.
(обратно)257
Данное положение является продолжением п.2 ст. 4, в котором говорится: «Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации».
(обратно)258
Фиге Э. Либерализм. В кн.: О свободе. Антология мировой либеральной мысли (I половина XX века). М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 33.
(обратно)259
Там же. С. 53.
(обратно)260
Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. Т. 1. Чары Платона. М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. С. 141.
(обратно)261
А. В. Поляков наряду с корпоративным правом выделяет спортивное право и игорное право, имеющие, по сравнению с корпоративным, более открытый и универсальный характер. – См.: Поляков А. В. Общая теория права: Курс лекций. СПб., 2001. С. 349.
(обратно)262
Честнов И.Л. Частное, публичное и запретительное право в связи с личным правом //Публичное, корпоративное, личное право: проблемы конфликтности и перспективы консенсуальности: Материалы V международной научно-теоретической конференции. Санкт-Петербург, 2–3 декабря 2005 г. /Под общ. ред. В.П. Сальникова, Р.А. Ромашова, Н.С. Нижник: В 2 ч. Ч. 1. СПб.: СПбУ МВД России, 2005. С. 11.
(обратно)263
В частности в учебнике по общей части Уголовного права под редакцией докторов юридических наук, профессоров И.Я. Козаченко и З.А. Незнамовой выпущенном московским издательством «НОРМА» в 1998 г. отмечается, что «Отношения урегулированные уголовно-правовыми нормами, органично распадаются на две неоднозначные в социально-ценностном восприятии группы: на отношения необходимые, позитивные, а потому и социально-полезные и отношения отклоняющиеся, негативные и в силу этого социально-вредные…Указанные группы в результате их юридического оформления приобретают статус правоотношений, в том числе и уголовных». Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов/ Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. М.: НОРМА, 1998. С. 14. В этом же издательстве и в том же году вышел учебник под редакцией докторов юридических наук, профессоров А.Н. Игнатова и Ю.А. Красикова, в котором в частности отмечается, что «Уголовное правоотношение возникает в момент совершения преступления. Оно заключается в обязанности государства раскрыть преступление, установить виновного и применить к нему уголовно-правовые меры, предусмотренные законом» (в данном случае интересно то, что осуществление правовосстановительных функций по отношению к фактическим жертвам преступления, авторами в качестве содержательного элемента уголовно-правового отношения не рассматривается – прим. Р.Р.). Кроме того в этом же учебнике отмечается, что ряд отечественных авторов (И.Я. Козаченко, А.С. Молодцов, Е.Ф. Мотовиловкер) отождествляют уголовную ответственность с уголовным правоотношением, считают, что она возникает в момент совершения преступления, так как в этот момент возникает уголовно-правовое отношение между лицом, совершившим преступление, и государством». Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2-х томах. Т.1. Общая часть. / Отв. ред. А.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков. М.: «НОРМА», 1998. С. 74–75.
(обратно)264
В данном случае, нет ничего удивительного в том, что те же российские граждане, отвечая в рамках социологических опросов на вопрос о том, с какой из государственных структур они связывают наибольшее нарушение своих прав, называют органы внутренних дел, которые в нормативном плане как раз и должны те самые права граждан охранять.
(обратно)265
Так, в советской России, факт насильственного захвата власти партией большевиков рассматривался не как особо тяжкое преступление (к таковым данная категория преступлений относится в действующем УК России), а как революционное восстание масс, «открывающее новую страницу отечественной политической истории». Соответственно действия профессиональных революционеров по экспроприации денежных средств, квалифицируемые в уголовном праве Российской Империи как грабеж и разбой, рассматривались в «новой российской истории» как проявление революционной героики профессиональных революционеров, таких как С.Камо, И. Джугашвили, Г. Котовский и др. Пример подобной интерпретации. На вопрос о том относится ли разбойничья деятельность Г. Котовского к уголовной, его сын Г.Г. Котовский, кстати, крупный советский ученый индолог, со всей убежденностью отвечает отрицательно: «Предположим, отец и в самом деле был просто уголовником. Но как тогда объяснить такой факт: после того как он бежал с каторги из Сибири в Россию, он устроился управляющим крупного имения по подложным документам. Казалось бы, получил хорошее место с хорошим жалованьем. Блестяще справлялся со своими обязанностями. Что еще нужно? Но отец вновь начинает грабить богатых. Почему? Что, он уголовник по своему психофизическому состоянию? Конечно, рядом с ним были настоящие одесские бандюги, которые после грабежа получали свою часть (попробовал бы отец с ними не поделиться!). Но свою часть награбленного раздавал окрестным жителям и часть средств переправлял в Бессарабию. Значит, он действительно грабил по идейным соображениям и был своего рода Робин Гудом XX столетия». Беляев А. Кто убил Робин Гуда революции? http:// /
(обратно)266
См.: Раймон А. Демократия и тоталитаризм. М.: Текст, 1993.
(обратно)267
Кропоткин П.А. Речи бунтовщика / Кропоткин П.А. Анархия: Сборник. М.,
(обратно)268
Эльцбахер П. Сущность анархизма. М., 2001. С. 13.
(обратно)269
Рябов П.В. Философия классического анархизма (проблема личности). М., 2007. С. 308.
(обратно)270
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Гений пессимизма. СПб., 2009. С. 20.
(обратно)271
Зорькин В.Д. Конституция против криминала. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин о борьбе с организованной преступностью // Российская газета. – 10.12.2010; .
(обратно)272
Там же.
(обратно)273
Фукуяма Ф. Сильное государство. М., 2009. С. 199.
(обратно)274
Ансель М. Новая социальная защита. М., 1970. С. 25.
(обратно)275
Зорькин В.Д. Конституция против криминала. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин о борьбе с организованной преступностью // Российская газета. – 10.12.2010; .
(обратно)276
Грякалов Н.А. Фигуры террора. СПб., 2007. С. 70.
(обратно)277
Там же. С. 74.
(обратно)278
/Исламское_государство_Ирака_и_Леванта
(обратно)279
Там же.
(обратно)280
Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 625.
(обратно)281
Кропоткин П.А. Взаимопомощь как фактор эволюции. М., 2011. С. 187.
(обратно)282
Там же. С. 189–190.
(обратно)283
Введена Федеральным законом от 21.07.2014 № 258-ФЗ.
(обратно)284
Кропоткин П.А. Великая французская революция 1789–1793. М., 1979. С. 449.
(обратно)285
Данте Алигьери. Монархия. М., 1999. С. 27–28.
(обратно)286
Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского//Сочинения: Т. 2. М., 1991. С.96.
(обратно)287
Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000. С. 64.
(обратно)288
См.: Исаев И.А. Солидарность как воображаемое политико-правовое состояние. М., 2009. С. 3.
(обратно)289
Дюги Л. Социальное право, индивидуальное право и преобразование государства. М., 1909. С. 22.
(обратно)290
Там же. С. 25.
(обратно)291
См.: Исаев И.А. Указ. соч. С. 58–59.
(обратно)292
Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб., 1993. С. 11.
(обратно)293
См. подробнее: Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. М., 1998. С. 136–163 и др.
(обратно)294
См.: Ямпольский М. Физиология символического. Кн.1. Возвращение Левиафана: Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима. М., 2004. С. 45–48.
(обратно)295
Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004. С. 160.
(обратно)296
См. подробнее: Ямпольский М. Указ. соч. С. 74–92.
(обратно)297
Ассман Я. Указ. соч. С. 240.
(обратно)298
Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. М., 1994. С. 39.
(обратно)299
Шмитт К. Римский католицизм и политическая форма//Философия права. 2000. № 2. С. 83.
(обратно)300
Яворский Д.Р. Природа как символ единства: Становление натуралистической парадигмы социокультурного универсализма в западноевропейской философии. Волгоград, 2007. С. 15.
(обратно)301
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 157.
(обратно)302
Цит. по: Салическая правда//Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып.2. Тольятти, 1997. С. 5.
(обратно)303
Договор о соблюдении мира государей Хильдеберта и Хлотаря – королей франков//Там же. С.25.
(обратно)304
Саратовский проект Конституции России. М., 2006. С. 9.
(обратно)305
Рикер П. Справедливое. М., 2005. С. 264, 265–266.
(обратно)306
Цит по: Казанский П.Е. Введение в курс международного права. Одесса, 1901. С. 185–186.
(обратно)307
Козлов В.А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. Л., 1989. С. 7.
(обратно)308
Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т. 1. М., 2000. С. 40.
(обратно)309
См.: Марксистско-ленинская философия. М., 1964. С.143; Уледов А.К. Социологические законы. М., 1975. С.59; Тугаринов В.П. Законы объективного мира, их познание и использование. Л., 1954. С. 25 и др.
(обратно)310
Глезерман Г.Е. Законы общественного развития: их характер и использование. М., 1979. С. 20.
(обратно)311
Друянов Л.А. Место закона в системе категорий материалистической диалектики. М., 1981. С.10.
(обратно)312
Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. Концепции современного естествознания. М., 1998. С. 34.
(обратно)313
См.: Гречко П.К. О предмете социальной философии//Вестник МГУ. Серия 7 «Философия». 1995. № 1.
(обратно)314
Ольшанский Д.А. О роли дискурсивного мышления в общественных науках// Посреднические функции интеллигенции в формировании гражданского общества. Екатеринбург, 2000. С. 72.
(обратно)315
Керимов Д.А. Философские проблемы права. М., 1972. С. 412.
(обратно)316
См., например: Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1998; Четвернин В.А. Понятия права и государства. М., 1997 и др.
(обратно)317
См.: Петражицкий Л.И. Теория права и государства с связи с теорией нравственности. СПб., 2000. С. 124.
(обратно)318
См.: Овчинников С.Н. Закономерности развития и функционирования права. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. Л., 1979. С.12; Козлов В.А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. Л., 1989. С.30; Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М., 1998. С.8; Рабинович П.М. Упрочение законности – закономерность социализма. Львов, 1975. С.33; Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. М., 1981. С. 123–124; Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т. 1. С. 49–50 и др.
(обратно)319
См.: Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М., 1966. С. 184–186.
(обратно)320
См.: Шабалин В.А. Методологические вопросы правоведения. Саратов, 1972. С. 169.
(обратно)321
См.: Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 52–53.
(обратно)322
Друянов Л.А. Указ. соч. С. 24.
(обратно)323
См., например: Вигнер Е. Этюды о симметрии. М., 1971. С.49; Карнап Р. Философские основания физики. М., 1971. С. 278.
(обратно)324
См. подробнее: Алексеев С.С. Частное право. М., 1999.
(обратно)325
Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 240.
(обратно)326
См.: Момджян К.Х. Введение в социальную философию. М., 1997. С. 65–68.
(обратно)327
Гончарук С.И. Объективные законы и их отражение в философии и в конкретных науках//Философия и общество. 1999. № 3. С. 171.
(обратно)328
Ковалев А.М. Еще раз о формационном и цивилизационном подходах//Общественные науки и современность. 1996. № 1. С. 97.
(обратно)329
Монтескье Ш.-Л. Избранные произведения. М., 1955. С. 163.
(обратно)330
Спенсер Г. О законах вообще и о порядке их открытия//Опыты научные, политические и философские. Минск, 1999. С. 624.
(обратно)331
См., например: Арбузкин А. Опыт разработки конституционно-правовой типологии государств//Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2000. № 4-2001. № 1. С. 28.
(обратно)332
Венгеров А.Б. Теория права. Т. 1. М., 1996. С. 7.
(обратно)333
См. подробно: Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., 2000.
(обратно)334
Кант И. Критика чистого разума. Симферополь, 1998. С. 298.
(обратно)335
См., например: Друянов Л.А. Указ. соч. С. 30.
(обратно)336
Рабинович П.М. Упрочение законности – закономерность социализма. Львов, 1975. С. 52–53.
(обратно)337
См., напр.: Лешкевич Т.Г. Философия науки: традиции и новации. М., 2001. С. 286.
(обратно)338
См.: Петражицкий Л.И. Указ соч.
(обратно)339
Ильин В.В. Особенности законов гуманитарных наук//Проблема закона в общественных науках. М., 1989. С.19.
(обратно)340
Васильев А.М. Правовые категории. М., 1975. С. 122.
(обратно)341
Рабинович П.М. Упрочение законности – закономерность социализма. С. 57.
(обратно)342
См., напр.: Виндельбанд В. Нормы и законы природы//Избранное. Дух и история. М., 1995. С. 184–208.
(обратно)343
Кохановский В.П. Философия и методология науки. Ростов-на-Дону, 1999. С. 154.
(обратно)344
Рабинвич П.М. Упрочение законности – закономерность социализма. С. 11.
(обратно)345
См.: Вопленко Н.Н. Законность в условиях формирования социалистического правового государства//Советская правовая система в период перестройки. Сборник научных трудов. Волгоград, 1990. С. 21.
(обратно)346
Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). М., 2000. С. 160.
(обратно)347
Гончарук С.И. Объективные законы и их отражение в философии и в конкретных науках. С. 171.
(обратно)348
См. об этом: Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. СПб., 2004. С. 244–260; Он же. Субъект права в центре правовой системы//Государство и право. 2005. № 7. С. 13–23; и др.
(обратно)349
Рачков П.А. Главная задача научного исследования//Проблема закона в общественных науках. М., 1989. С. 9.
(обратно)350
См., напр.: Керимов Д.А. Философские проблемы права. С. 424–425.
(обратно)351
Токарев Б.Я. Логический и исторический методы в теоретическом исследовании права. С. 28.
(обратно)352
Халфина Р.О. О закономерностях права//Право и правотворчество: вопросы теории. М., 1982. С.29.
(обратно)353
Классические обзоры проблемы см.: Лосский Н.О. Свобода воли//Избранное. М., 1991. С. 484–597; Виндельбанд В. О свободе воли//Избранное. Дух и история. М., 1995. С. 508–656.
(обратно)354
См., например: Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1998. С. 22–28.
(обратно)355
Пигалев А.И. Культура как целостность (Методологические аспекты). Волгоград, 2001. С. 13.
(обратно)356
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. С. 516.
(обратно)357
Риккерт Г. Философия жизни. М., 2000. С. 150.
(обратно)358
См., например: Рыженков А.Я. Товарно-денежные отношения в советском гражданском праве. Саратов, 1989. С. 10.
(обратно)359
Лосский Н.О. Свобода воли//Избранное. С. 554.
(обратно)360
См.: Зиновьев А.А. Указ. соч. С. 138.
(обратно)361
См., напр.: Чудаков Н.М. Цели межличностных отношений: эгоизм и альтруизм//Вопросы права и социологии. Вып.5. Волгоград, 2002. С. 84–88.
(обратно)362
См.: Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. М., 1986. С. 191.
(обратно)363
Уолд Дж. Детерминизм, индивидуальность и проблема свободной воли//Наука и жизнь. 1967. № 2. С. 75.
(обратно)364
См. об этом: Кудрявцев В.Н. Правовые грани свободы//Советское государство и право. 1989. № 11. С. 3.
(обратно)365
Вопленко Н.Н. Идея независимости в праве//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия «Политика. Социология. Право». 1998. С. 60; Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству и зарубежному праву//Государство и право. 1998. № 8. С. 43.
(обратно)366
Герцен А.И. Собрание сочинений. Т. 2. М., 1975. С. 364.
(обратно)367
См., напр.: Калинина Т.М. Российская и европейская правозащитные системы: соотношение и проблемы согласования. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2002.
(обратно)368
См.: Рассказов Л.П., Упоров И.В. Философско-правовые аспекты категории «свобода»//Философия права. 2000. № 2. С. 71–72.
(обратно)369
Лосский Н.О. Указ. соч. С. 554.
(обратно)370
См., напр.: Ковлер А.И. Антропология права. М., 2002. С. 4 и др.
(обратно)371
Малахов В.П. Философия права. С. 273.
(обратно)372
Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. М., 1994. С. 184.
(обратно)373
См., напр.: Пигалев А.И. Культура как целостность (Методологические аспекты). С. 419.
(обратно)374
Гурвич Г. Юридический опыт и плюралистическая философия права//Философия и социология права. Избранные сочинения. СПб., 2004. С. 264.
(обратно)375
Розеншток-Хюсси О. Великие революции. Автобиография западного человека. М., 2002. С. 22.
(обратно)376
См.: Иеринг Р. фон. Борьба за право//Избранные труды. В 2-х т. Т. 1. СПб., 2006. С. 24–70.
(обратно)377
Гурвич Г. Указ. соч. С. 262.
(обратно)378
Бурдье П. Власть права. Основы социологии юридического поля//Социальное пространство: поля и практики. М. – СПб., 2005. С. 112.
(обратно)379
Розеншток-Хюсси О. Указ. соч. С. 60.
(обратно)380
Радбрух Г. Философия права. М., 2004. С. 20.
(обратно)381
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. М., 1972. С. 162.
(обратно)382
См. подробнее: Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1999. С. 130–180 и др.
(обратно)383
См.: Бачинин В.А. Синергетическая методология и социология права//Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века. Материалы международной научной конференции. СПб., 2001. C.15–20; Он же. Основы социологии права и преступности. СПб., 2001. С. 34–45.
(обратно)384
Розеншток-Хюсси О. Указ. соч. С. 202.
(обратно)385
См., например: Бенда-Бекманн К. фон. Правовой плюрализм//Человек и право. Книга о Летней школе по юридической антропологии. М., 1999. С. 8–23.
(обратно)386
См., например: Дикарев И.С. Парижский революционный трибунал. Очерк организации и деятельности (1793–1795 гг.). Волгоград, 2006.
(обратно)387
Чердаков О.И. Формирование правоохранительной системы советского государства в 1917–1936 гг. (историко-правовое исследование) /Под ред. А.В. Малько. Саратов, 2001. С.92.
(обратно)388
Гуляя по нижнему парку в Петергофе обратил внимание на интересный памятник – «классический» Петр I с младенцем одетым в камзол и треуголку на руках. Думаю, что «патриот» скульптор, таким образом в лице младенца изобразил «Россию молодую» и таким образом противопоставил заботливого отца государя, жестокому тирану на вздыбленном скакуне установленному на дворцовой набережной Петербурга.
(обратно)389
Современный толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: «Норинт», 2004. С. 233.
(обратно)390
Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М.: Изд-во «Библиотека Сербского Креста», 2004. С. 315.
(обратно)391
Вот как описывает Л.А. Тихомиров функциональные качества монарха: «Монарх стоит вне частных интересов; для него все классы, сословия партии совершенно одинаковы. Он в отношении народа есть не личность, а идея…Монарх есть наиболее справедливый третейский судья социальных столкновений». Там же. С. 316. Если заменить в приведенной цитате слово «монарх» словом «президент», то она удивительным образом напомнит современные характеристики даваемые политической рекламой относительно «лидера нации».
(обратно)392
Медушевский А.Н. Теория конституционных циклов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. С. 287.
(обратно)393
Именно в таком представлении заключается смысл русских пословиц: «На миру и смерть красна»; «С миру по нитке голому рубаха» и т. п.
(обратно)394
См.: Поленина С. В. Права женщин в системе прав человека: международный и национальный аспект. М., 2000. С. 7.
(обратно)395
Цит. по: Лукашева Е. А. Права человека и глобальные проблемы современности // Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Под общ. ред. Е. А. Лукашевой. М., 2002. С. 1.
(обратно)396
Там же. С. 2.
(обратно)397
Щербакова Н. В., Москвитина Т. А. К проблеме защищенности личности в правовом государстве // Государственно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав граждан: Сборник научных трудов / Отв. ред. В. Д. Ломовский. Тверь, 1992. С. 25.
(обратно)398
Лукашева Е. А. Правовой статус человека и гражданина // Права человека / Отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 2000. С. 91.
(обратно)399
Общая теория государства и права. Академический курс. В 2-х т. Т. 1. Теория государства / Отв. ред. М. Н. Марченко. М., 1998. С. 263.
(обратно)400
Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1991. С. 762.
(обратно)401
Витрук Н. В. Правовой статус личности в СССР. М., 1985. С. 9.
(обратно)402
Витрук Н. В. Правовой статус личности // Демократия и правовой статус личности в социалистическом обществе / Отв. ред. В. М. Чхиквадзе. М., 1987. С. 73.
(обратно)403
См.: Матузов Н. И. Правовой статус личности: понятие, структура, виды // Теория государства и права / Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. М., 2001. С. 263.
(обратно)404
Головистикова А. Н., Грудцына Л. Ю. Права человека. М., 2006. С. 97.
(обратно)405
Орзих М. Ф. Личность и право. М., 1975. С. 37.
(обратно)406
См.: Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. М., 1979. С. 24.
(обратно)407
См., например: Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. Саратов, 1972. С. 190.
(обратно)408
Большой юридический словарь / Под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. М., 2001. С. 466.
(обратно)409
Колюшин Е. И. Конституционное право России. М., 2006. С. 115.
(обратно)410
Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России. М., 1997. С. 14.
(обратно)411
Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. Саратов, 1972. С. 191, 192.
(обратно)412
Матузов Н. И. Правовой статус личности: понятие, структура, виды // Теория государства и права / Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. М., 2001. С. 269.
(обратно)413
Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. М., 1979. С. 27.
(обратно)414
См.: Там же. С. 28–34.
(обратно)415
См.: Кучинский В. А. Личность, свобода, право. М., 1978. С. 115, 133.
(обратно)416
Луковская Д. И. Права человека и права гражданина. Правовой статус человека и гражданина // История государства и права. 2007. № 13. С. 35.
(обратно)417
См.: Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. Саратов, 1972. С. 193.
(обратно)418
Цит. по: Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. М., 1979. С. 27.
(обратно)419
Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М., 2008. С. 26.
(обратно)420
Речь идет об элементах правового статуса именно как модели, поскольку, как справедливо отмечает Н. И. Матузов, в строгом смысле слова «в правовой статус ничего «не входит», ибо он не сосуд который можно наполнить»: статус «есть положение, состояние, а эти качества, определяются, а не «заполняются» (См.: Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. Саратов, 1972. С. 197).
(обратно)421
См.: Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. М., 1979. С. 25.
(обратно)422
Витрук Н. В. Правовой статус личности в СССР. М., 1985. С. 9.
(обратно)423
Там же.
(обратно)424
Назаров Б. Л. Понятие прав человека // Права человека. История, теория и практика / Отв. ред. Б. Л. Назаров. М., 1995. С. 33.
(обратно)425
Витрук Н. В. Социальный статус личности и его виды // Демократия и правовой статус личности в социалистическом обществе / Отв. ред. В. М. Чхиквадзе. М., 1987. С. 64.
(обратно)426
Витрук Н. В. Правовой статус личности в СССР. М., 1985. С. 11.
(обратно)427
Малько А. В. Субъективное право и законный интерес // Правоведение. 1998. № 4. С. 62.
(обратно)428
Там же.
(обратно)429
См.: Там же. С. 63–64.
(обратно)430
Лукашева Е. А. Правовой статус человека и гражданина // Права человека / Отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 2000. С. 92–93.
(обратно)431
Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. М., 1979. С. 32.
(обратно)432
Закон РФ «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 № 62-ФЗ // Российская газета. 2002. 05 июня.
(обратно)433
См.: Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М., 2008. С. 131–136.
(обратно)434
Там же. С. 136
(обратно)435
Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М., 2008. С. 185.
(обратно)436
Лукашева Е. А. Правовой статус человека и гражданина // Права человека / Отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 2000. С. 91–92.
(обратно)437
Чепурнов А. А. Правовой статус личности в Российской Федерации: конституционные основы гарантирования. Ростов н/Д., 2006. С. 26.
(обратно)438
Поэтому, видимо, некоторые ученые и сами правовые состояния включают в правовой статус. См., например: Головистикова А. Н., Грудцына Л. Ю. Права человека. М., 2006. С. 99, 103.
(обратно)439
Назаров Б. Л. Понятие прав человека // Права человека. История, теория и практика / Отв. ред. Б. Л. Назаров. М., 1995. С. 38–39.
(обратно)440
Вопрос о понятии, структуре и видах правосубъектности носит дискуссионный характер, но поскольку он не входит в непосредственный предмет данного исследования, мы ограничиваемся констатацией собственного понимания данной категории.
(обратно)441
См.: Кучинский В. А. Личность, свобода, право. М., 1978. С. 111; Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. Саратов, 1972. С. 204.
(обратно)442
Цит. по: Кучинский В. А. Личность, свобода, право. М., 1978. С. 105.
(обратно)443
Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. Саратов, 1972. С. 192.
(обратно)444
См., например: Головистикова А. Н., Грудцына Л. Ю. Права человека. М., 2006. С. 99, 102.
(обратно)445
Вопрос о понятии юридической ответственности носит дискуссионный характер, но поскольку он не входит в предмет данного исследования, мы будем исходить из наиболее распространенного понимания ответственности – в ретроспективном
аспекте.
(обратно)446
Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. М., 1979. С. 33.
(обратно)447
Там же. С. 31.
(обратно)448
Хотя существует точка зрения, что субъективные права и обязанности могут реализовываться и вне правоотношений, мы поддерживаем позицию тех ученых, которые считают правоотношения единственной, или по крайней мере основной формой реализации норм права. См. об этом, например: Кучинский В. А. Личность, свобода, право. М., 1978. С. 136–154.
(обратно)449
Аналогичную терминологическую ситуацию мы можем наблюдать, например, в теории правового отношения: содержание правового отношения (включающее субъективные права и юридические обязанности) выступает лишь одним из элементов структуры правового отношения, наряду с субъектами и объектом правового
отношения.
(обратно)450
Закон РФ «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ // Российская газета. 1998. 02 июня.
(обратно)451
Там же.
(обратно)452
Там же.
(обратно)453
См., например: Закон РФ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ» от 08.05.1994 № 3-ФЗ // Российская газета. 1999. 08 июля; Закон РФ «О статусе судей в РФ» от 26.06.1992 № 3132-1 // Российская газета. 1992. 29 июля.
(обратно)454
Закон РФ «О статусе судей в РФ» от 26.06.1992 № 3132-1 // Российская газета. 1992. 29 июля.
(обратно)455
Закон РФ «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ // Российская газета. 1998. 02 июня.
(обратно)456
Перевалов В. Д. Правовой статус личности // Теория государства и права / Под ред. В. М. Корельского, В. Д. Перевалова. М., 2002. С. 549–550.
(обратно)457
Более подробно данный вопрос будет рассмотрен при анализе видов экономико-правового статуса.
(обратно)458
Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М., 2008. С. 256.
(обратно)459
См.: Лазарев Л. В., Марышева Н. И., Пантелеева И. В. Иностранные граждане: правовое положение. М., 1992. С. 37.
(обратно)460
Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М., 2008. С. 255.
(обратно)461
Там же.
(обратно)462
Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М., 2008. С. 281–283.
(обратно)463
См.: Нерсесянц В.С. Философия права. М.,1997. С. 42–43.
(обратно)464
Междисциплинарные исследования. Словарь справочник. М.,1991.С.190.
(обратно)465
См.: Ромашов Р.А. Конституционное государство (история, современность, перспективы развития). Красноярск, 1997.
(обратно)466
Цит по кн: Гайденко П.П., Ионин Л.Г., Йоас Х. и др. История социологии в Западной Европе и США. М., 1993. С. 343.
(обратно)467
Платон. Государство. IV.423 d.
(обратно)468
Там же. 442 е.
(обратно)469
Платон. Указ. соч. VII. 520 е.
(обратно)470
Там же. IV. 425 е.
(обратно)471
Иоан Павел II. Мысли о земном. М.,1992. С. 169.
(обратно)472
Междисциплинарные исследования. Словарь-справочник. С. 193.
(обратно)473
Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Т. 1. СПб., С. 257–258.
(обратно)474
Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992. С. 51.
(обратно)475
Петражицкий Л.И.Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб.,1909. Т.1. С. 267.
(обратно)476
В частности ст. 22 Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», закрепляет положение в соответствие с которым: «Лишение жизни лица, совершающего террористический акт, а также причинение вреда здоровью или имуществу такого лица либо иным охраняемым законом интересам личности, общества или государства при пресечении террористического акта либо осуществлении иных мероприятий по борьбе с терроризмом действиями, предписываемыми или разрешенными законодательством Российской Федерации, являются правомерными». П. 3 ст. 7 этого же закона определяет, что «В случае, если имеется достоверная информация о возможном использовании воздушного судна для совершения террористического акта или о захвате воздушного судна и при этом были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его посадки, и существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику для пресечения полета указанного воздушного судна путем его уничтожения». Таким образом, на практике, вполне возможна ситуация, когда в условиях действия чрезвычайного режима правового регулирования (режима контртеррористической операции), может быть отдан приказ об уничтожении воздушного судна с мирными людьми на борту. Наконец, в качестве подтверждения утверждения о том, что не всякая человеческая жизнь представляет собой «общечеловеческую» ценность, можно привести слова Д.А. Медведева о том, что лица, виновные в совершении террористических актов в московском метро 29.03.2010 г. «за чудовищные злодеяния ответят жизнью, даже не смотря на отсутствие смертной казни». См.: Кузьмин В. Без снисхождения. Дмитрий Медведев: Организаторы терактов ответят за содеянное своими жизнями / /Российская газета, 5 апреля 2010 г. № 70 (5149). С. 2.
(обратно)477
См.: Фукуяма Ф. Великий разрыв. М.:ООО «Издательство АСТ», 2004. С. 20
(обратно)478
Там же. С. 30.
(обратно)479
Там же. С. 33.
(обратно)480
Кокотов А.Н. Доверие. Недоверие. Право. М.: Юристъ, 2004. С. 89.
(обратно)481
См.: Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. М.: Изд-во ЭКСМО-пресс, 2001; Словарь иностранных слов и выражений. Минск: Современный литератор, 1999; Современный толковый словарь русского языка. СПб.: Изд-во «НОРИНТ», 2004.
(обратно)482
По образному выражению Ф. Тенниса «к общности крови – отчасти как заменяющая, отчасти как дополняющая ее – примыкает общность страны, родины, по новому воздействующая на нравы людей… Как женщина-родительница, добавляющая в цепь жизни новое звено, чувственным образом воплощает в себе временную взаимосвязь человеческих тел, так страна знаменует взаимосвязь множества живущих в одно и то же время людей, руководствующихся одними и теми же правилами, которые как бы воплощены в ней». Теннис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2002. С. 327.
(обратно)483
Современный толковый словарь русского языка. СПб.: Изд-во «НОРИНТ», 2004. С. 946.
(обратно)484
Латынина Ю. Рой и булочник. Как на самом деле устроена современная Россия // /2-1-0-539
(обратно)485
Парсонс Т. О социальных системах. М., 2002. С. 362.
(обратно)486
Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000. С. 190.
(обратно)487
Луман Н. Социальные системы: очерк общей теории. СПб., 2007. С. 285.
(обратно)488
Кристи Н. Приемлемое количество преступлений. СПб., 2011. С. 18.
(обратно)489
Парсонс Т. Указ. соч. С. 191.
(обратно)490
Фулер Лон Л. Мораль права. М., 2007. С. 20.
(обратно)491
Там же. С. 40.
(обратно)492
Ролз Д. Теория справедливости. М., 2010. С. 336.
(обратно)493
Луман Н. Указ. соч. С. 307.
(обратно)494
Фромм Э. Человек для самого себя. М., 2011. С. 65.
(обратно)495
Парсонс Т. О социальных системах. М., 2002. С. 362.
(обратно)496
Там же.
(обратно)497
Луман Н. Социальные системы: очерк общей теории. СПб., 2007. С. 306.
(обратно)498
Лукач Д. Конец двадцатого века и конец эпохи модерна. СПб., 2003. С. 65–66.
(обратно)499
Хоркхаймер М. Затмение разума. К критике инструментального разума. М., 2011. С. 35–36
(обратно)500
См.: Достоевский Ф.М. Преступление и наказание.
(обратно)501
Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 103.
(обратно)502
Поляков А.В. Язык нормотворчества и вопросы юридической техники // Поляков А.В. Коммуникативное правопонимание: Избранные труды. СПб.: ООО Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2014. С. 363.
(обратно)503
Там же.
(обратно)504
Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995. С. 174.
(обратно)505
Мамардашвили М.К. Опыт физической метафизики. М., 2008. С. 19.
(обратно)506
Там же.
(обратно)507
Тропер М. Реалистическая теория толкования // Российский юридический журнал. 2006. № 1. С. 7.
(обратно)508
Там же. С. 8.
(обратно)509
Там же.
(обратно)510
Там же. С. 11.
(обратно)511
Там же. С. 14.
(обратно)512
Как судьи принимают решения: эмпирические исследования права / Под ред. В.В. Волкова. М., 2012. С. 3.
(обратно)513
Там же. С. 5.
(обратно)514
Тонков Е.Н. Толкование закона в Англии: монография. СПб.: Алетейя (Pax Britannica), 2013. С. 74.
(обратно)515
Twining W., Miers D. How To Do Things With Rules – A Primer of Interpretation. London, 1996. P. 321.
(обратно)516
Metcalfe O.K. General principles of English Law. London, 1956. P. 12.
(обратно)517
Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.: Под ред. А.П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. Т. 4. М., 1984. С. 374–375.
(обратно)518
Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.: Под ред. А.П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. Т. 1. М., 1981. С. 673.
(обратно)519
Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995. С. 5, 18.
(обратно)520
Поляков А.В. Общая теория права. Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода: курс лекций. СПб, 2004. С. 804.
(обратно)521
Гаджиев Х.И. Толкование права и закона. М., 2000. С. 37.
(обратно)522
См. напр.: Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 1995. С. 283; Спасов Б.П. Закон и его толкование / пер. с болгарского. М., 1986. С. 143, 177.
(обратно)523
Таджер В. Гражданское право в НРБ / сокр. пер. с болгарского. М., 1972. С. 115–116.
(обратно)524
Захариев В. Толкование права. М., 1960. С. 13.
(обратно)525
Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. М., 1960. С. 125.
(обратно)526
Сабо И. Социалистическое право. М., 1964. С. 28.
(обратно)527
Постановление ЦИК и СНК СССР от 7.08.1932 г. “Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации”.
(обратно)528
СЗ СССР. 1932. № 62. Ст. 360; «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». № 218. 08.08.1932.
(обратно)529
Рикер П. Указ. соч. С. 4.
(обратно)530
Гревцов Ю.И., Козлихин И.Ю. Энциклопедия права. Учебное пособие. СПб., 2008. С. 111.
(обратно)531
Бойцов А.И. Уголовное право России: Общая часть: Учебник. СПб., 2006. C. 312.
(обратно)532
Слесарев А.В. Специально-юридическое толкование норм гражданского права. Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2003. С. 15.
(обратно)533
Соцуро Л. В. Толкование норм права: теория и практика: монография. Самара., 2001. С. 44.
(обратно)534
Половова Л. В. Функции интерпретационной практики. Ульяновск, 2002. С. 149.
(обратно)535
Ожегов С.И. Словарь русского языка / под общ. ред. Л.И. Скворцова. М., 2002. С. 1120.
(обратно)536
См.: Дружинин В.Н. Психология общих способностей». М., 2007.
(обратно)537
См.: Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопросы языкознания. № 4. 1994. С. 29.
(обратно)538
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. 2. М., 1995. С. 296.
(обратно)539
Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 2002. С. 352–355.
(обратно)540
Общая теория права и государства / под ред. Лазарев В.В. М., 1996. С. 215–216.
(обратно)541
Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2000. С. 452–453.
(обратно)542
Пиголкин А.С. Толкование нормативных актов в СССР. М., 1962. С. 64.
(обратно)543
См.: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2. М., 1982. С. 290; Лазарев В.В. Применение советского права. Казань, 1972. С. 70.
(обратно)544
Гаджиев Х.И. Толкование норм Конституции и законов Конституционными судами (на примере Азербайджанской Республики и РФ). Автореф. дис… докт. юрид. наук. М., 2001. С. 22.
(обратно)545
Насырова Т.Я. Телеологическое (целевое) толкование советского закона. Казань, 1988. С. 68.
(обратно)546
См., напр.: Соцуро Л.В. Толкование норм права: теория и практика. Самара, 2001. С. 36; Наумов В. Толкование норм права. М., 1998. С. 21; Хабибуллина Н.И. Юридическая техника и язык закона. СПб., 2000. С. 75–76.
(обратно)547
Хабибуллина Н.И. Толкование права: новые подходы к методологии исследования. СПб., 2001. С. 25.
(обратно)548
Поляков А.В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода. СПб., 2004. С. 810.
(обратно)549
Ващенко Ю.С. Филологическое толкование норм права. Тольятти, 2002. С. 4
(обратно)550
Сарбаш С.В. Некоторые тенденции развития института толкования договора в гражданском праве // Государство и право. 1997. № 2. С. 42
(обратно)551
См., например: Гаджиев Х.И. Толкование права и закона. М., 2000. С. 75–76; Насырова Т.Л. Телеологическое (целевое) толкование советского закона. Казань, 1988. С. 67.
(обратно)552
Насырова Т.Я. Указ соч. С. 67.
(обратно)553
Большой энциклопедический словарь. Т. 2. М., 1991. С. 613.
(обратно)554
Лазарев В.В. Применение советского права. Казань, 1972. С. 70.
(обратно)555
Загайнова С.К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. М., 2002. С. 63.
(обратно)556
Наумов В.И. Толкование норм права. М., 1998. С. 15.
(обратно)557
Гаджиев Х.И. Толкование права и закона. М., 2000. С. 37.
(обратно)558
Эрделевский А.М. О проблемах толкования гражданского законодательства // Государство и право. 2002. № 2. С. 27
(обратно)559
Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 2001. С. 281.
(обратно)560
Абдрасулов Е.Б. Толкование закона и норм Конституции: теория, опыт, процедуры. Автореф. дис… докт. юрид. наук. Алматы, 2003. С. 37.
(обратно)561
Гранат Л.Н., Колесникова О.М., Тимофеев М.С. Толкование норм права в правоприменительной деятельности ОВД. М., 1991. С. 62.
(обратно)562
Тарасова В.В. Акты судебного толкования правовых норм. Саратов, 2002. С. 48, 50.
(обратно)563
Бошно С.В. Судебная практика: способы выражения // Государство и право. 2003. № 3. С. 20.
(обратно)564
Хабибулина Н.И. Юридическая техника и язык закона. СПб, 2000. С. 80.
(обратно)565
Соцуро Л.В. Толкование норм права: теория и практика. Самара, 2001. С. 36.
(обратно)566
Гаджиев Х.И. Толкование норм Конституции и законов Конституционными судами (на примере Азербайджанской Республики и РФ). Автореф. дис… докт. юрид. наук. М., 2001. С. 23.
(обратно)567
Эрделевский А.М. О проблемах толкования гражданского законодательства // Государство и право. 2002. № 2. С. 21.
(обратно)568
Поляков А.В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода. СПб, 2004. С. 812.
(обратно)569
Вильнянский С.И. Толкование и применение гражданско-правовых норм. / Методические материалы ВЮЗИ. Вып. 2. М., 1948. С. 42.
(обратно)570
Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М., 1961. С. 230.
(обратно)571
Кожевников С.Н. Реализация права, юридическое толкование, законность. Н. Новгород, 2002. С. 53–54.
(обратно)572
Поляков А.В. Указ. соч. С. 812.
(обратно)573
Кожевников С. Н. Указ. соч. С. 55.
(обратно)574
Наумов В.И. Толкование норм права. М., 1998. С. 17.
(обратно)575
Слесарев А.В. Специально-юридическое толкование норм гражданского права. Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2003. С. 17.
(обратно)576
Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 2001. С. 352–355.
(обратно)577
См., напр.: Вопленко Н.Н. Следственная деятельность и толкование права. Волгоград, 1978; Гаджиев Х.И. Указ. соч. С. 23.
(обратно)578
Хабибулина Н.И. Язык закона и его толкование. Уфа, 1996. С. 85.
(обратно)579
Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. Ч. 4: Интерпретационная юридическая практика. Ярославль, 1998. С. 57.
(обратно)580
«Место встречи изменить нельзя» – телефильм. Режиссёр Говорухин С.С. По роману Вайнера А.А., Вайнера Г.А. «Эра милосердия». Премьера состоялась в 1979 г.
(обратно)581
См., напр.: Дворкин Р. О правах всерьез. М., 2004; Dworkin R. Law’s Empire. Oxford, 1998; Dworkin R. Justice in Robes. London, 2006.
(обратно)582
Зипунникова Н.Н. Правовое регулирование юридического образования в Российской империи // «Изучать юриспруденцию яко прав искусство». Очерки истории юридического образования в России (конец XVII в. – XX в.) / под общ. ред. В.В. Захарова, Н.Н. Зипунниковой. Курск, 2008. С. 8.
(обратно)583
Там же.
(обратно)584
Кодан С. В. Формирование и становление юридического образования в России: от законоискусства к правоведению (XVII – первая половина XIX вв.) // «Изучать юриспруденцию яко прав искусство». С. 39.
(обратно)585
Там же.
(обратно)586
Октябрьская революция 1917 г. обусловила разрушение системы государства и права Российской империи. Логическим следствием захвата политической власти партией большевиков была глобальная трансформация основных институтов новой российской государственности. Естественно, что система юридического образования подлежала переделке в числе одной из первых.
(обратно)587
Данный процесс был начат в феврале 1917 г., когда российский император Николай II отрекся от престола и в России была провозглашена республиканская форма правления.
(обратно)588
История Ленинградского университета / под ред. В.В. Мавродина. Л., 1969. С. 210–211.
(обратно)589
Цит. по: Веселовский С.Б. Из старых тетрадей. М., 2004. С. 40; Ящук Т.Ф. Советское юридическое образование (1917-1930-е гг.) // «Изучать юриспруденцию яко прав искусство». С. 98.
(обратно)590
Ящук Т.Ф. Советское юридическое образование (1917-1930-е гг.) // «Изучать юриспруденцию яко прав искусство». С. 106.
(обратно)591
Основы советского государства и права. 3-е изд. / под ред. М.П. Каревой и Г.И. Федькина. М., 1956. С. 9.
(обратно)592
Показательно, что в самом названии науки и учебной дисциплины «Общая теория советского государства и права» закреплялся идеологический принцип объективной истины исключительно советского государства и права. Отмечалось, что «подлинно научная теория государства и права появляется лишь со времени возникновения марксизма», и что «только марксистско-ленинская наука смогла раскрыть сущность государства и права» (Там же).
(обратно)593
Так, в Казанском институте советского строительства в начале 1930-х гг. около 40 % студентов не имели законченного среднего образования. В 1936 г. численность профессорско-преподавательского состава, занятого в сфере высшего правового образования, по всей стране составляла около 220 чел. Из них только 4 чел. имели ученую степень доктора наук и 4 – кандидата. 40 преподавателей вообще не имели высшего образования (Ящук Т.Ф. Советское юридическое образование (1917– 1930– е гг.). С. 106, 109).
(обратно)594
См.: Ридингс Б. Университет в руинах. М., 2010.
(обратно)


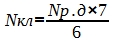


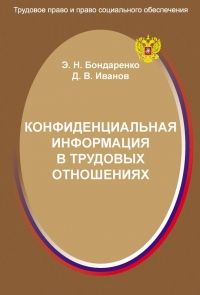
Комментарии к книге «Право – язык и масштаб свободы», Роман Анатольевич Ромашов
Всего 0 комментариев