Андрей Зорин Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения
Памяти Бориса (Баруха) Бермана
От автора
Эта книга представляет собой переработанную версию английской биографии Толстого, написанной для серии «Critical Lives» издательства «Reaktion Books». Предлагая книгу вниманию российского читателя, я иcходил прежде всего из двух соображений. Толстому исключительно везло на биографов, посвятивших его насыщенной трудами и днями жизни, подробные и глубокие исследования. Мне представлялось важным уместить этот объемный и разнообразный материал в сжатый текст, попытавшись одновременно сохранить основные линии судьбы героя. Кроме того, русская биографическая традиция часто разделяет жизнь и творчество, выводя анализ художественного или философского наследия за пределы биографического жанра. Между тем произведения великих писателей и мыслителей не столько «отражают» жизнь их создателей, сколько составляют ее. «Война и мир», «В чем моя вера?» или «Круг чтения» не менее важные факты биографии Толстого, чем его военный опыт, крестьянский труд или семейная трагедия. На мой взгляд, такой интегративный подход позволяет говорить о Толстом вне набивших оскомину рассуждений о «противоречиях» и яснее разглядеть уникальные последовательность и цельность его жизненного пути. Насколько эта книга помогает приблизиться к этой цели, судить, разумеется, не автору.
Английская версия биографии не могла бы быть написана без постоянной дружеской помощи Алекса Уилбрэма и Аркадия Островского. Я благодарен Михаилу Долбилову, взявшему на себя труд прочитать рукопись и сделать ценные замечания, и всем рецензентам. Подготовка русской версии была осуществлена по инициативе Ирины Прохоровой, которой я искренне признателен. Большую помощь в моей работе оказали сотрудники Музея Толстого в Москве и Ясной Поляне. Как всегда, я многим обязан поддержке и критическим замечаниям моей жены Ирины Зориной.
В молодости мне доводилось много говорить о Толстом со своим близким другом Борисом Берманом (1957–1992). Новые интересы отвлекли его от толстовских занятий, его книга о Толстом не была завершена, а статьи появились в печати только после его трагической гибели. Я сомневаюсь, что он согласился бы со всем, что я здесь пишу. Но память о наших разговорах, а еще больше обаяние его личности и страстность его интеллектуального поиска были для меня важной опорой в работе. С искренней благодарностью я посвящаю эту книгу его памяти.
Глава первая Честолюбивый сирота
В мае 1878 года, завершая работу над «Анной Карениной» и уже находясь на раннем этапе самого глубокого духовного кризиса, который ему доводилось переживать, Толстой начал набрасывать мемуары, предварительно озаглавленные «Моя жизнь». В течение одного дня он написал несколько разрозненных фрагментов, содержащих воспоминания о годах его раннего детства. Дальше работа не пошла. В первом из этих отрывков Толстой писал:
Вот первые мои воспоминания <такие, которые я не умею поставить по порядку, не зная, что было прежде, что после. О некоторых даже не знаю, было ли то во сне, или наяву. Вот они.> Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мною стоят нагнувшись кто-то, я не помню кто, и всё это в полутьме, но я помню, что двое, и крик мой действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (т. е. то, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком противным для самого меня, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы и жалость над самим собою. Я не знаю и никогда не узнаю, что такое это было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирал руки, или это пеленали меня, уже когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи, собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное мое впечатление жизни. И памятно мне не крик мой, не страданье, но сложность, противуречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и меня мучают. Им меня жалко, и они завязывают меня, и я, кому всё нужно, я слаб, а они сильны. (ПСС, XXIII, 469–470)[1]
Нет смысла искать здесь материал для психоаналитических упражнений. «Первое и самое сильное» впечатление жизни мемуариста не было извлечено из глубин его подсознания на кушетке психоаналитика, но представляет собой вполне сознательную и отрефлектированную (ре)конструкцию, сделанную пятидесятилетним писателем. Толстой видит себя младенцем, но ему «памятны» сложность и противоречивость его переживания, сутью которого оказывается чувство связанности и несвободы. Он специально обращает внимание на то, что стоящие рядом люди любят и жалеют его, их жестокость – это жестокость заботы. Маленький Лев пытается вырваться из тисков этого ласкового деспотизма, но он слишком слаб, чтобы освободить себя от власти тех, кто, желая ему добра, не позволяет ему шелохнуться. Эта мучительная борьба будет пронизывать всю его жизнь вплоть до самых последних мгновений.
* * *
Традиционную биографию принято начинать с рассказа о семье, в которой родился герой. В случае с Львом Николаевичем Толстым такой рассказ оказывается столь же необходимым, сколь и избыточным. С одной стороны, семья писателя описана в «Войне и мире» с такой выразительностью, что любая реальность обречена померкнуть на этом фоне. С другой, генеалогия Толстого важна для понимания его великого романа и во многом определила его собственную судьбу. В своем повествовании Толстой характерным для него образом затушевал границу между вымыслом и историей, слегка изменив фамилии героев. Так, Волконские, предки писателя с материнской стороны, стали Болконскими, а Толстые – сначала Простыми (Простовыми), а потом Ростовыми. Вероятно, фамилия Простой слишком отдавала моралистической комедией XVIII века. Отбросив первую букву, Толстой связал отцовскую линию своей семьи с названием древнерусского города, как бы подчеркнув свои национальные корни.
Для современного читателя графский титул плохо вяжется с идеей простоты. Однако в России его стали жаловать только с петровских времен. Рядом с Рюриковичами Волконскими Толстые выглядели как парвеню. Недаром в романе старый князь Николай Сергеевич Болконский рассматривает намерение сына жениться на «графинюшке» как мезальянс.
В сущности, брак родителей Толстого и был мезальянсом. Кроме всего прочего, княжна Мария Николаевна Волконская была богатой наследницей, в то время как ее муж, граф Николай Ильич Толстой, был из-за расточительного образа жизни своего отца полностью разорен и обременен долгами. Их свадьба состоялась в 1822-м, через год после смерти отца невесты. Марии Николаевне было 32 года, в ту эпоху она уже вполне могла считаться старой девой, к тому же, как вспоминал Толстой, она была «нехороша собой». Николай Ильич был на четыре года моложе невесты.
В «Войне и мире» Толстой не скрывает от читателей прагматическую сторону брака героев, что, однако, ни в малейшей мере не противоречит любви и согласию в этом заключенном на небесах союзе. Неизвестно, в какой мере семейная жизнь родителей Толстого походила на идиллическую картину, описанную в эпилоге романа. Даже если слухи о любовных похождениях графа не соответствуют действительности, мы знаем, что он проводил очень много времени вдали от дома, охотясь или занимаясь своими бесчисленными тяжбами в судебных присутствиях. Его жена построила в фамильном парке специальную беседку, где по заведенной привычке дожидалась возвращения мужа.
Толстой писал, что его мать была идеальной женой, которая на самом деле не любила мужа. Ее сердце безраздельно принадлежало детям, особенно старшему Николаю и Льву, ее четвертому и младшему сыну. Льву, родившемуся 28 августа 1828 года, было всего два, когда умерла его мать – через несколько месяцев после появления на свет единственной дочери Марии.
Эта утрата произвела неизгладимое впечатление на Толстого. Он поклонялся памяти матери и любил проводить время в ее любимом уголке родового парка. Позже он настаивал на том, чтобы его жена рожала на том же диване, на котором появился на свет он сам, а главное, бесконечно тосковал по материнской любви, которой был лишен. Он не помнил матери и радовался тому, что в доме не сохранилось ее портретов за исключением вырезанного из черной бумаги силуэта. Образ самого дорогого человека, который он хранил в душе, не нуждался в материальных подтверждениях. Толстой вспоминал: «…в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала мне» (ПСС, XXXIV, 354).
В 1906 году, 77-летним стариком, Толстой записал в дневнике:
Целый день тупое, тоскливое состояние. К вечеру состояние это перешло в умиление – желание ласки – любви. Хотелось, как в детстве, прильнуть к любящему, жалеющему существу и умиленно плакать и быть утешаемым. Но кто такое существо, к к[оторому] бы я мог прильнуть так? Перебираю всех любимых мною людей – ни один не годится. К кому же прильнуть? Сделаться маленьким и к матери, как я представляю ее себе.
Да, да, маменька, к[отор]ую я никогда не называл еще, не умея говорить. Да, она, высшее мое представление о чистой любви, но не холодной божеской, а земной, теплой, материнской. К этой тянулась моя лучшая, уставшая душа. Ты, маменька, ты приласкай меня. – Все это безумно, но все это правда. (ПСС, LV, 374)
Сознание сиротства не оставляло Толстого. По его словам, когда он стал помнить себя, «уже смерть матери наложила свою печать на жизнь» семьи (ПСС, XXXIV, 354). К этому ощущению добавилась и ранняя смерть отца. В июне 1837 года, когда Льву еще не исполнилось девяти лет, граф внезапно умер от удара во время своего пребывания в Туле. Были подозрения, что Николая Ильича отравили сопровождавшие его в город крестьяне. Позднее Толстой говорил, что никогда не верил этим слухам, но знал о них, – можно себе представить, какое воздействие должны были оказать подобные разговоры на впечатлительного мальчика.
Вероятно, эти потери способствовали тому, что юный Лев рос застенчивым и чувствительным ребенком, родственники называли его «Лёва-рёва». Кроме того, он отставал от братьев в учебе и исключительно тяжело переживал свою физическую непривлекательность. Эти переживания преследовали его всю молодость; вплоть до женитьбы Толстой не мог поверить, что какая-нибудь женщина может увлечься столь некрасивым человеком, как он.
Идиллический мир первых лет его жизни, описанный в «Детстве», был порожден не столько реальным опытом, сколько литературным воображением писателя. Это изысканное и трогательное повествование о мыслях и чувствах дворянского мальчика переполнено автобиографическими деталями и до сих пор во многом определяет наши представления о среде, в которой рос Толстой в яснополянском имении князей Волконских.
Идиллия обрывается внезапной смертью матери рассказчика. «Отрочество» и «Юность», две следующие части автобиографической трилогии Толстого, посвящены истории психологических проблем и мучительных сомнений, обуревающих героя.
В «Детстве» Толстой перенес первую и главную утрату своей жизни с двух на одиннадцать лет, и это хронологическое смещение позволило ему изобразить радостное детство героя, не осложненное чувствами одиночества и сиротства, которые он сам испытывал ребенком. Идиллический мир «Детства» – такой же семейный миф, как и идиллическая семья, возникающая на страницах «Войны и мира».
Ясная Поляна была связана для Толстого и с мечтой о всеобщем счастье. Ни один биограф писателя не пропускает знаменитую историю зеленой палочки, сыгравшую столь важную роль в его жизни. Во время их детских игр Николай, старший из братьев Толстых, как-то рассказал младшим, что где-то в их имении зарыта зеленая палочка и тот, кому посчастливится ее найти, сможет принести счастье всему человечеству. Маленький Лев был глубоко потрясен. Вера в существование зеленой палочки и стремление отыскать ее руководили им всю жизнь. За несколько лет до смерти он дал статье, посвященной изложению его религиозных взглядов, название «Зеленая палочка» и завещал похоронить себя около того места, где он мальчиком искал этот клад. В своих воспоминаниях Толстой писал:
И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить всё зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает. (ПСС, XXXIV, 386)
Осиротевшие дети остались на попечении многочисленных тетушек. Одна из них, Татьяна Александровна Ергольская, которую Лев называл Туанет, стала для него душой Ясной Поляны. Выросшая на положении бедной родственницы в семье деда Толстого, Туанет была влюблена в своего троюродного брата Николая, отца писателя. Принеся в жертву собственные чувства, она предоставила возможность возлюбленному жениться на богатой наследнице. В 1836 году, стремясь дать детям любящую мачеху, которая никогда их не оставит, овдовевший граф сделал ей предложение. Ергольская отказала, но с готовностью приняла на себя заботы о детях. Лев был ее любимцем. Двусмысленный статус Туанет в семействе Толстых отразился в «Войне и мире» – в весьма нелестном описании положения, которое занимает Соня в доме Николая Ростова и княжны Марьи. Ергольская прожила достаточно долго, чтобы прочесть роман, но сведений о ее реакции не сохранилось.
Отказавшись от возможности стать мачехой младшим Толстым, Ергольская потеряла также право быть их опекуном. Сестры покойного Николая Ильича были признаны более близкими родственниками. Когда в 1841 году умерла одна из них, Александра Ильинична Остен-Сакен, детей передали под надзор другой сестры, Пелагеи Ильиничны Юшковой, которая жила с мужем в Казани. Город, где находился один из шести существовавших тогда в Российской империи университетов, казался вполне подходящим местом для братьев, которым настало время получать образование. В силу своего местоположения Казанский университет был естественным центром для исследований Востока. После первой неудачной попытки Лев в 1844 году со второго захода поступил на факультет восточных языков.
На пять с половиной лет, которые он провел в Казани, пришелся весь тинейджерский период жизни Толстого. Самой главной проблемой, с которой он здесь столкнулся, стал конфликт между обуревавшими его сексуальными влечениями и мечтой о физической и моральной чистоте. Он очень хорошо помнил, что именно первородный грех стал причиной изгнания человечества из рая. В «Детстве» Толстой с нежной снисходительностью умудренного жизнью человека изобразил детский эротизм, пробуждающийся в десятилетнем мальчике, неожиданно для себя целующем ровесницу в обнаженное плечо. Покинув яснополянский Эдем, он вынужден был теперь иметь дело с куда менее тонкими чувствами.
Казанские родственники не особенно строго следили за Толстым-подростком. Он был совсем не богат, но кое-какие деньги у него водились. В то же время он отличался крайней застенчивостью и неуверенностью в себе, особенно в присутствии женщин своего социального круга. Почти неизбежно это сочетание обстоятельств должно было сделать из него посетителя публичных домов. Позднее Толстой вспоминал, как, в пятнадцать лет посвященный старшим братом в тайны платного секса, он, потеряв невинность, плакал у кровати незнакомой проститутки. Столкновение невыносимой похоти и отвращения к собственной животной природе стало темой, к которой Толстой регулярно возвращался сначала в дневниках, а потом и в прозе. Герой его раннего рассказа «Записки маркера» после первого похода в бордель кончает с собой от ужаса и омерзения.
Именно лечась в университетской клинике от гонореи, Толстой начал свой дневник, который с перерывами вел на протяжении более чем шестидесяти лет. Самый большой интервал пришелся на те годы, когда он писал два своих главных романа. В дневнике автор подвергал суровому суду не только свои поступки, но и самые тайные мысли и желания. Пытаясь жить в согласии с высочайшими моральными критериями, которые он сам себе задает, Толстой вновь и вновь осуждает себя за неспособность им соответствовать. Читая этот документ, имеет смысл вспомнить предостережение Филиппа Лежёна: «…дневник очень редко может быть автопортретом, а те, кто его там ищет, обычно обнаруживают карикатуру»[2].
В дневнике Толстого мы не встретим того веселого, насмешливого, щедрого и великодушного человека, которого знаем по его письмам и по воспоминаниям родных и друзей. На современного читателя дневник может порой производить неприятное впечатление – не столько своим содержанием (ничего особенно компрометирующего Толстой о себе не рассказывает), сколько почти маниакальной погруженностью в себя и непрекращающимся самоистязанием. В первой же записи мы можем увидеть примерную схему борьбы с собой, которую Толстой будет вести всю свою жизнь:
Я ясно усмотрел, что беспорядочная жизнь, которую большая часть светских людей принимают за следствие молодости, есть ничто иное, как следствие раннего разврата души. – Уединение равно полезно для человека, живущего в обществе, как общественность для человека, не живущего в оном. Отделись человек от общества, взойди он сам в себя, и как скоро скинет с него рассудок очки, которые показывали ему все в превратном виде, и как уяснится взгляд его на вещи, так что даже непонятно будет ему, как не видал он всего того прежде. Оставь действовать разум, он укажет тебе на твое назначение, он даст тебе правила, с которыми смело иди в общество. Все, что сообразно с первенствующею способностью человека – разумом, будет равно сообразно со всем, что существует; разум отдельного человека есть часть всего существующего, а часть не может расстроить порядок целого. Целое же может убить часть. – Для этого образуй твой разум так, чтобы он был сообразен с целым, с источником всего, а не с частью, с обществом людей; тогда твой разум сольется в одно с этим целым, и тогда общество, как часть, не будет иметь влияния на тебя. – Легче написать 10 томов Философии, чем приложить какое-нибудь одно начало к практике. (ПСС, XLVI, 3–4)
Эти наивные и даже несколько комические размышления показывают Толстого в миниатюре: из любых обстоятельств, сколь угодно ничтожных самих по себе, он стремится вывести общие заключения обо всем человечестве. По его мнению, внимательный и беспристрастный анализ собственной души может служить ключом к пониманию человека, поскольку каждая отдельная личность представляет собой лишь малую частицу единого целого, и одного непредвзятого рассудка достаточно, чтобы справиться с этой задачей. Он убежден, что для человека, который сумеет освободиться от искажающего воздействия общественных условий, истина самоочевидна. В то же время юный Толстой хочет жить в обществе и изменять его в соответствии с собственными представлениями. Он также не сомневается, что философия имеет смысл только тогда, когда она формирует моральную жизнь человека и определяет его поступки.
Следующие записи выдержаны в том же ключе. В одной из них девятнадцатилетний Толстой ставит себе задачу овладеть почти всеми существующими областями науки и искусства: правом, медициной, агрономией (теоретической и практической), историей, географией, статистикой, математикой, естественными науками, музыкой и живописью. Чтобы придать этим намерениям оттенок относительного реализма, Толстой оговаривается, что намерен погрузиться в эти сферы с разной степенью глубины: так, в музыке и живописи он рассчитывает достигнуть только «среднего уровня совершенства» (ПСС, XLVI, 31).
Одна из самых важных задач, которые Толстой ставил перед собой, состояла в том, чтобы «написать правила». В течение нескольких месяцев он действительно составил правила, чтобы развивать «телесную волю», «чувственную волю», «разумную волю», память, разумную деятельность и т. п. Прежде всего он предписал себе «не зависеть ни от каких посторонних обстоятельств» и «смотреть на общество женщин, как на необходимую неприятность жизни общественной, и, сколько можно», удаляться от них (ПСС, XLVI, 31–32, 262–272). Вполне предсказуемо, ему не удалось соблюсти ни то ни другое правило.
В университете Толстой хорошо успевал в языках. Он получал отличные оценки по татаро-турецкому (так этот язык назывался в программе) и арабскому, хотя скоро совершенно забыл оба. Языки вообще давались ему легко, четверть века спустя он освоил древнегреческий со скоростью, приведшей в изумление филологов-классиков. С другими предметами дело обстояло намного хуже. Особенно мучительны были для Толстого занятия русской историей, его терзала необходимость заучивать бессмысленные, как ему казалось, даты и факты. Чтобы избежать переэкзаменовок, Толстой перевелся на юридический факультет, но не задержался и там. В 1847 году он достиг совершеннолетия и вступил в права наследства. Льву повезло: по разделу имущества с братьями и сестрой он получил Ясную Поляну. Бросив университет, он немедленно отправился домой, к любимой тетушке Туанет.
Все эти порывы, надежды и разочарования безошибочно выдают влияние Руссо. Толстой боготворил женевского мыслителя и даже хотел носить на груди медальон с его портретом. Он глубоко усвоил и свойственный Руссо культ природы; и убежденность, что природная чистота человеческой натуры была искажена развращающим воздействием цивилизации и общественных условностей; и идеал абсолютно прозрачной души и вытекающую из него практику самонаблюдения и самоанализа. Подобно своему кумиру Толстой был одержим постоянным беспокойством и готовностью бежать от всего, что составляло его достояние. В то же время в отличие от Руссо он никогда не был бездомным странником. Ясная Поляна с ее ландшафтами, семейной историей, укладом жизни и крестьянским миром, множеством нитей связанным с барской усадьбой, всегда давала ему чувство дома и родины. Блудным сыновьям свойственно убегать из домашнего рая, и Толстой не раз покидал Ясную Поляну, но неизменно возвращался. После последнего ухода его тело привезли домой, чтобы похоронить в родной земле.
На протяжении нескольких лет Толстой попеременно жил в Ясной Поляне, Туле (где ему, неожиданно для такого прирожденного анархиста, удалось получить синекуру в гражданской службе), Петербурге и Москве. В обеих столицах он рассчитывал приобрести манеры и лоск, необходимый для того, чтобы занять причитающееся ему положение в обществе. Дневники Толстого этого времени отражают характерное сочетание завороженности светом и отвращения к нему. Много позже, описывая моральное разложение своей среды, Толстой вспоминал:
Добрая тетушка моя, чистейшее существо, с которой я жил [Т.А. Ергольская], всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтоб я имел связь с замужнею женщиной: «rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut»[3]; еще другого счастия она желала мне, – того, чтоб я был адъютантом, и лучше всего у государя; и самого большого счастья – того, чтоб я женился на очень богатой девушке и чтоб у меня, вследствие этой женитьбы, было как можно больше рабов. (ПСС, XXIII, 4–5)
По словам Толстого, как только он «предавался гадким страстям», общество «хвалило и поощряло» его. Тем не менее бóльшая часть сомнительных привычек, которыми он обзавелся, вроде склонности к выпивке, пирушкам и карточной игре, принадлежала скорее гусарскому, нежели аристократическому обиходу. «Образующие молодого человека» связи с великосветскими дамами Толстому не давались, больше десятилетия ему приходилось удовлетворять свои сексуальные потребности по большей части со служанками, проститутками, крестьянками, цыганками, казачками и т. п. По «Юности» – последней части его автобиографической трилогии – мы можем заключить, что мужчины comme il faut интересовали его больше, чем женщины comme il faut. В ноябре 1851 года он записал в дневнике:
Я никогда не был влюблен в женщин. ‹…› Я влюблялся в м[ужчин], прежде чем имел понятие о возможности педерастии; но и узнавши, никогда мысль о возможности соития не входила мне в голову. ‹…› Любовь моя к Ис[лавину] испортила для меня целые 8 м[есяцев] жизни в Петерб[урге]. – Хотя и бессознательно, я ни о чем др[угом] не заботился, как о том, чтобы понравиться ему. ‹…› Я всегда любил таких людей, кот[орые] ко мне были хладнокровны, и только ценили меня. ‹…› Красота всегда имела много влияния в выборе; впрочем, пример Д[ьякова]; но я никогда не забуду ночи, когда мы с ним ехали из П[ирогова?], и мне хотелось, увернувшись под полостью, его целовать и плакать. – Было в этом чувстве и сладостр[астие], но зачем оно сюда попало, решить невозможно; потому что, как я говорил, никогда воображение не рисовало мне любрические картины, напротив, я имею страшное отвращение. (ПСС, XVI, 237–238)
Как обычно, полезнее внимательно прислушаться к Толстому, чем пытаться подвергать его слова психоанализу. Мужчины, столь отличающиеся по социальному кругу от женщин, возбуждавших вожделение автора дневника, представляют собой в его глазах идеал, которому он мечтал бы соответствовать. В центре обоих великих романов Толстого находятся пары протагонистов, представляющих собой разные стороны alter ego автора: добродушные, страстные, неловкие в обхождении и несколько нелепые Пьер и Левин противопоставлены безукоризненным аристократам Андрею Болконскому и Алексею Вронскому. Как было принято в этом кругу, Болконский и Вронский – офицеры. На военной службе находился также старший и любимый брат Толстого – Николай. Было практически предрешено, что Лев попытается пойти по тому же пути.
Армейская жизнь Толстого распадается на два периода – кавказский и крымский. В апреле 1851 года, проиграв за карточным столом больше, чем он был в состоянии себе позволить, Толстой отправился на Кавказ с братом Николаем. Более двух лет он прожил в казачьей станице Старогладковская, сначала как своего рода интерн, прикомандированный к полку, а потом как артиллерийский офицер. К этому времени война между Российской империей и непокорными племенами продолжалась уже более тридцати лет. В начале XIX века Россия после многолетних конфликтов смогла наконец взять верх над Оттоманской и Персидской империями и закрепиться на южном Кавказе. Однако необходимые коммуникации с вновь присоединенными территориями постоянно прерывались из-за восстаний мятежных горцев.
Учитывая особый характер местности, расквартированным вдоль границы гарнизонам приходилось опираться на поддержку казачьих общин, в которых на протяжении столетий находили убежище преступники, беглые крепостные, уходившие от религиозных преследований старообрядцы и другие переселенцы. Ревностно хранившие свой особый образ жизни казаки были гораздо зажиточней крестьян большинства центральных губерний. Мужчины занимались по преимуществу войной и охотой, оставляя многие традиционно мужские хозяйственные обязанности женщинам – сильным, независимым и пользовавшимся сексуальной свободой, неслыханной для низших сословий российского общества.
Многие романтические авторы первой половины XIX века с восхищением описывали простую и воинственную жизнь, общую для казаков и горцев, с которыми казаки сражались. Толстой с его мятежным духом и любовью ко всему дикому и естественному был очарован открывшимся ему миром и впоследствии много и охотно писал о нем. Новая жизнь принесла с собой также и еще более важный для него опыт ежедневного соприкосновения со смертью.
Смерть волновала воображение Толстого не меньше, чем сексуальность. Столкнувшись со смертью на заре жизни, он не мог перестать думать о ней, непрерывно ожидать ее, испытывая одновременно и страх, и влечение. Для солдат, горцев и казаков, которых он встретил на Кавказе, смерть была частью повседневного опыта. Толстой мог теперь наблюдать, как люди вокруг него умирают и, что было для него еще более существенным, живут в постоянном соприкосновении со смертью, бросая ей вызов, игнорируя ее, привыкая терять тех, кто был рядом днем, часом, несколькими минутами раньше.
Почти через десять лет после своего пребывания на Кавказе Толстой написал рассказ «Три смерти», где сравнил, как умирают барыня, исполненная зависти и злобы к остающимся на земле, крестьянин, принимающий неизбежность своего ухода, и дерево, с готовностью освобождающее место для новой поросли. По Толстому, способность живого существа принять смерть и примириться с ней находится в обратной пропорции к его осознанию своей уникальности и неповторимости. Ему страстно хотелось научиться крестьянскому, если не растительному отношению к неизбежному и раствориться в жизни природы, не различающей индивидуальных существ. В то же время он не был способен отделаться от привычки к изнурительному копанию в себе, от потребности в самоутверждении и от неутолимого честолюбия.
Меня мучит мелочность моей жизни – я чувствую, что это потому, что я сам мелочен; а все-таки имею силу презирать и себя и свою жизнь. – Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть таким, как все. – Но от чего это происходит? Несогласие ли – отсутствие гармонии в моих способностях, или действительно я чем-нибудь стою выше людей обыкновенных? – Я стар – пора развития или прошла, или проходит; а все меня мучат жажды… не славы – славы я не хочу и презираю ее; а принимать большое влияние в счастии и пользе людей. – Неужели я-таки и сгасну с этим безнадежным желанием? (ПСС, XLVI, 102) –
написал он 29 марта 1852 года в Старогладковской, когда ему еще не было двадцати четырех. Его упреки в собственный адрес были неотделимы от самых честолюбивых мечтаний. В кавказских дневниках Толстого эта связь проявляется с особой силой, поскольку ему стало казаться, что он набрел наконец на заветную зеленую палочку. Еще до отъезда в армию он начал втайне набрасывать свой первый рассказ. Недоучившийся студент, помещик, ведущий рассеянный образ жизни, и младший офицер начинал ощущать себя писателем.
В отличие от Западной Европы, где аристократы-литераторы вроде лорда Байрона были скорее исключением, в России граф, взявшийся за перо, никого не мог удивить. Петровские реформы вынудили высшее сословие не только поменять одежду и бытовые привычки, но и образовать себя на европейский манер. Появление в 1762 году Манифеста о вольности дворянства примерно совпало с бурным развитием европейского Просвещения. Освобожденные от служебной повинности российские дворяне не только смогли сформировать офицерский корпус, сокрушивший наполеоновскую армию, но и создали уникальную культуру русского Золотого века.
И все же в основе этих феноменальных достижений лежало крепостное право. Со времени возникновения первых декабристских обществ моральный конфликт между новыми европейскими идеями и российской реальностью стал для части образованного дворянства невыносимым. Среди высшего сословия заговорщики составляли ничтожное меньшинство, но отпрыски самых знатных и богатых семейств оказались представлены в их рядах непропорционально широко. Самопожертвование людей, принадлежащих к привилегированной элите, произвело огромное впечатление на зарождавшееся в России общественное мнение и повлияло на формирование национального самосознания. Своего наивысшего выражения это самосознание достигло в литературе. В 1820–1830-х годах романтические представления о поэте как выразителе духа народа, призванного говорить от его имени с властью, стали, по существу, общепринятыми.
Первая половина 1850-х была столь же трудным, сколь и заманчивым временем для начала литературной карьеры. В «мрачное семилетие» после европейских революций 1848 года цензурные репрессии достигли невиданного масштаба. «Скажите мне: зачем они тратят время на литературу? Ведь мы положили ничего не пропускать, из чего же им биться?»[4] – сказал как-то один из членов Цензурного комитета, пораженный упорством авторов, не оставляющих попыток протащить что-то в печать. И все же и литераторы, и читатели понимали «из чего биться». Предчувствие перемен носилось в воздухе. Именно в эти годы начинается слава Тургенева, Гончарова, Островского, Салтыкова-Щедрина. Первый литературный опыт Толстого, повесть «Детство», был напечатан в «Современнике» летом 1852 года, через несколько месяцев после смерти Гоголя и ареста Тургенева, посаженного под арест и высланного в деревню за некролог автору «Мертвых душ». Трудно представить себе более яркий символ перемен и преемственности одновременно.
Выбрав детство темой для своего дебютного произведения, Толстой сделал ход блистательный – и в художественном, и в тактическом отношении. В романтической культуре, охваченной ностальгией по потерянному раю, детские годы служили идеальным символом Золотого века – времени невинности и единства с природой. В социальном ландшафте Европы XVIII–XIX веков трудно было представить себе более удачную декорацию для воплощения этого переживания, чем дворянская усадьба. Именно в такой усадьбе вечный скиталец Руссо разместил описанную им в «Новой Элоизе» кларанскую утопию. Докторский сын Шиллер сделал благородного разбойника Карла Моора наследником родового замка, куда он мечтает, но не может вернуться. Толстому, родившемуся и выросшему в наследном поместье, не было нужды воображать себе потерянный рай. Он мог насытить популярный миф множеством деталей и подробностей собственной жизни.
Россия готовилась проститься со своим Золотым веком и была заранее охвачена ностальгией. Детские воспоминания могли служить относительно безопасным пристанищем при любом цензурном режиме. В то же время они не должны были вызвать раздражения у либеральных и даже радикальных читателей. Первоначально Толстой планировал придать повести форму мемуаров, однако в середине XIX столетия взрослый мемуарист не мог не видеть, на какой чудовищной социальной почве выросла эта идиллия. Толстому удалось найти новаторский подход к традиционной теме. Очень быстро он перешел к воссозданию мыслей, чувств и впечатлений десятилетнего ребенка – во всей мировой литературе это был один из первых опытов такого рода. Расположив повествование на тонкой грани между вымыслом и автобиографией, он сумел придать личному опыту универсальный характер, не поступившись при этом эффектом подлинности. Эта техника на долгие десятилетия станет безошибочно узнаваемым маркером толстовской прозы.
Сомнения в собственных дарованиях не оставляли его на всем протяжении работы над первым шедевром. «Ничего не делаю и подумываю о хозяйке, – записал он в дневнике 30 мая 1852 года. – Есть ли у меня талант сравнительно с новыми Р[усскими] лит[ераторами]? – Положительно нету». Через два дня его самооценка несколько изменилась:
Хотя в Д[етстве] будут орфогр[афические] ошибки – оно еще будет сносно. Все, что я про него думаю, это – то, что есть повести хуже; однако, я еще не убежден, что у меня нет таланта. У меня, мне кажется, нет терпения, навыка и отчетливости, тоже нет ничего великого ни в слоге, ни в чувствах, ни в мыслях. – В последнем я еще сомневаюсь, однако. (ПСС, XLVI, 119–120)
Закончив повесть, Толстой отослал ее Некрасову, главному редактору «Современника», и сопроводил посылку письмом, характерно сочетающим застенчивость с едва прикрытым высокомерием. Он вложил в конверт деньги на отправку рукописи назад в случае отказа, а в случае положительного решения попросил печатать ее под инициалами вместо полного имени. Толстой был заранее согласен с любыми сокращениями, которые может предложить Некрасов, но настаивал на том, чтобы рукопись публиковалась «без прибавлений и перемен». Он писал, что решение издателя или побудит его к «продолжению любимых занятий», или заставит «сжечь все начатое» (ПСС, LIX, 192–193).
Реакция Некрасова была более чем благожелательной. Он немедленно напечатал «Историю моего детства», как он сам предпочел озаглавить повесть, в ближайшем номере «Современника», выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с начинающим автором и высоко оценил книгу в письме Тургеневу, который также был восхищен новым талантом. Поначалу вмешательство издателя и цензоров вызвало у Толстого раздражение, граничащее с яростью. В неотправленном письме он упрекал Некрасова в изменениях и уродующих текст ошибках, особенно сетуя на перемену названия: «Заглавие Детство и несколько слов предисловия объясняли мысль сочинения; заглавие-же История моего детства противоречит с мыслью сочинения. Кому какое дело до истории моего детства…» (ПСС, LIX, 192–193). Произвольное исправление побуждало читать текст как автобиографический, что нарушало тщательно выдержанный автором баланс.
Тем не менее и читатели, и критика встретили появление повести единодушным одобрением. Читая рецензии в крестьянской избе, Толстой, как он потом рассказывал жене, «упивался наслаждением похвал» и задыхался от «слез восторга»[5]. В его дневниках помимо бесконечных покаянных признаний в праздности, пристрастии к картам и «сладострастии», которое не дает ему «ни минуты покоя», появляется уверенность в том, что ему открыто «блестящее литературное поприще», если он будет в состоянии «трудиться и воздерживаться» (ПСС, XLVI, 159–160). Сексуальное воздержание оставалось для него недоступной добродетелью, но в остальном он оказался совершенно прав.
Над «Отрочеством», которое должно было служить продолжением «Детства», Толстой работал с таким же напряжением, но это не спасало его от «безнадежного отвращения» к собственной работе и к себе самому. Ему казалось, что повесть «бесполезна и никуда не годна» (ПСС, XLVI, 180). Тем не менее напечатанное в «Современнике» в октябре 1854 года «Отрочество» было принято почти с тем же энтузиазмом, что и «Детство». Публика с нетерпением ждала новых произведений автора, уже сумевшего стать знаменитым. Толстой оправдал эти ожидания. В следующем году он начал публикацию цикла рассказов, который упрочил его славу и превратил подающего надежды дебютанта в одного из ведущих русских писателей. Для этого ему потребовалось стать непосредственным участником событий, резко изменивших ход истории.
В 1853 году стареющий Николай I начал войну с Турцией, рассчитывая осуществить одушевлявшую многих русских монархов мечту установить контроль над европейской частью Оттоманской империи, ее православным населением и средиземноморскими проливами. Император недооценил силу европейской оппозиции этим планам. Страх перед российской экспансией позволил Великобритании и Франции преодолеть давнее соперничество и совместно выступить на стороне Турции. Англо-французская эскадра высадилась в Крыму и осадила Севастополь, главный военный порт России на Черном море.
Дряхлеющие автократы часто склонны развязывать войны, чтобы отвлечь население страны от внутренних проблем. Как правило, на ранних этапах эта стратегия оказывается эффективной. Россия середины 1850-х годов не была исключением. Волна патриотического одушевления охватила и Толстого. Находясь на Кавказе, вдали от главных полей боевых действий, он подал заявление о переводе и был отправлен в армию, сражавшуюся в Румынии. Однако, почувствовав, что судьба войны решается не здесь, он вновь попросил о переводе, и в ноябре 1854 года прибыл в расположение русской армии в Крыму. Его первые впечатления были благоприятными. Он восхищался героизмом простых солдат и младших офицеров и не сомневался, что им удастся отстоять Севастополь. Потребовалось меньше двух недель, чтобы он изменил свою точку зрения и пришел к выводу, «что Россия или должна пасть, или совершенно преобразоваться» (ПСС, XLVII, 30).
Новый военный опыт Толстого сильно отличался от предшествующего. На Кавказе, где русская армия превосходила мятежников и численностью, и вооружением, ему приходилось принимать участие только в спорадических походах и стычках. Опасность гибели была более чем реальной, но ее можно было если не избежать, то по крайней мере уменьшить с помощью разумных мер предосторожности. Уровень смертности там был относительно невысоким.
В Севастополе русским офицерам, солдатам и мирному населению приходилось выдерживать постоянный артиллерийский обстрел противника, обладавшего самым мощным оружием, какое существовало в ту пору. Смерти и ранения были каждодневной рутиной и делом случая. Тем, кто уцелел сегодня, просто повезло больше, чем их погибшим и искалеченным товарищам, но на следующий день им предстояло принимать участие в той же кровавой лотерее. В Севастополе Толстой начал обдумывать проект далеко идущих военных реформ, но потом вернулся к более привычному для него роду занятий. В июне 1855 года первый из «Севастопольских рассказов», «Севастополь в декабре», был опубликован в «Современнике».
К этому времени в России сменился император. Место Николая, сломленного военными неудачами (в Петербурге даже ходили слухи о самоубийстве государя), занял Александр II. Не желая начинать царствование с капитуляции, новый монарх продолжил войну, но исход ее был уже очевиден. До подписания мира в марте 1856 года Толстой успел опубликовать в «Современнике» еще «Севастополь в мае» и «Севастополь в августе».
Во всех трех рассказах автор описывает город, где, несмотря на смерть и разрушения, продолжается обычная жизнь. Крестьянки продают булочки в толпе на набережной, находящейся в зоне обстрела французской артиллерии. Девушка, стараясь не замочить розовое платье, прыгает через лужи рядом со зданием Дворянского собрания, превращенным в госпиталь для раненых. Офицеры ухаживают за хорошенькими барышнями и рассказывают друг другу сальные истории, зная, что через час им надо идти на бастион, откуда любой из них может не вернуться. Толстой показывает, что чувство долга и готовность отдать жизнь за свое отечество оказываются вполне совместимы – а на деле и неразделимы – с самоутверждением, мелким тщеславием, желанием продвинуться по службе или похвалиться перед товарищами.
Развивая приемы, впервые примененные им в «Детстве», Толстой ведет рассказ о вымышленных персонажах от лица автобиографического повествователя, соединяя журналистский репортаж с моралистическими комментариями, психологическими наблюдениями и философскими выводами. Это позволяет ему представить анализ внутренних мотивов и побуждений героев, включая последние мысли умирающих, как документальные свидетельства.
Читателю, знакомому с «Войной и миром» или с почти любым описанием войны в литературе ХХ века, будет непросто почувствовать радикальное новаторство этого подхода, но публика середины XIX столетия ни в России, ни в Европе еще не видела ничего подобного. В «Детстве» Толстой нашел новый способ повествования об уходящей цивилизации, в «Севастопольских рассказах» он применил его к описанию современной войны с ее тотальным, стирающим грань между полем боя и повседневной жизнью разрушением и полным безразличием к судьбе отдельного человека, превращающегося в малую каплю в океане всеобщей гибели.
В художественном отношении цикл представлял собой единое целое, но взгляды Толстого на происходящее претерпевали заметные изменения. В «Севастополе в декабре» речь шла о непритязательном повседневном героизме защитников города. Александр II, плакавший над страницами «Детства», прочитав рассказ, приказал перевести автора в более безопасное место. Он был убежден, что «умственная слава» страны требует «следить за жизнью этого молодого человека»[6]. Вероятно, продолжение должно было произвести на него менее благоприятное впечатление.
В изуродованном цензорами «Севастополе в мае» впервые проявились и яростный пацифизм, который через много лет станет одной из основ мировоззрения Толстого, и ясное понимание того, что принесенные жертвы оказались напрасными. Рассказ завершался признанием автора: герой, которого он «любит всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его, и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда» (ПСС, IV, 59). В «Севастополе в августе» описано решающее наступление французских войск и смерть очаровательного, молодого и наивно патриотичного унтер-офицера, который геройски и безрассудно отказывается уходить из окопа во время штурма. «Что-то в шинели ничком лежало на том месте, где стоял Володя» (ПСС, IV, 59), – мрачно констатирует повествователь. В финале цикла описана бессильная ярость солдат, оставляющих город, который они защищали одиннадцать месяцев.
Толстой был храбрым и толковым, но не слишком дисциплинированным офицером. Один из сослуживцев вспоминал, что в спокойные дни он мог без разрешения оставить свою часть, чтобы принять участие в боевых действиях в другом месте. Кроме того, он постоянно препирался с командирами и сочинил возмутительную песню, вызвавшую гнев высокого начальства. После сдачи Севастополя он твердо решил, что военная карьера не для него. Его «единственным, главным и преобладающим над всеми другими наклонностями и занятиями» призванием должна была стать литература.
Он думал о «добре, которое может сделать своими сочиненьями», но не стеснялся признаться себе, что его «цель – литературная слава» (ПСС, XLVII, 59). Подобно Теккерею, которого он ценил, Толстой считал тщеславие мощным рычагом, определяющим поведение «даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения» (ПСС, IV, 24), но относился к этой человеческой слабости без негодования, свойственного английскому сатирику. Теперь у него было достаточно возможностей удовлетворить собственное тщеславие.
Осенью 1855 года Толстой получил отпуск и оставил полк, чтобы больше никогда в него не возвращаться. Перед отъездом в Петербург он каялся в дневнике «в сладострастии» и в том, что проиграл в карты немыслимую сумму. Чтобы расплатиться хотя бы частично, ему пришлось просить брата продать яснополянский дом, в котором он родился. Дом разобрали и перевезли в чужое имение, находившееся по соседству. Оставшиеся пятьдесят пять лет жизни Толстой прожил в одном из двух флигелей семейной усадьбы.
Пришедшая слава одновременно радовала и раздражала молодого писателя. В столице Толстой был желанным гостем и в избранном литературном кругу, и в салонах высшей знати. Тургенев, признанный лидер русской литературы, пригласил его остановиться в своем доме и выражал намерение приехать в Ясную Поляну – познакомиться. По знаменитой модели, установленной в русской литературе Жуковским, он был готов признать превосходство молодого гения, но полагал, что тот, как необработанный алмаз, нуждается в огранке, и хотел направлять его на путь истинный. Толстой, однако, менее всего был склонен принимать чье бы то ни было покровительство. Он был всегда готов оспаривать общепринятую точку зрения, особенно если ее выражали авторитетные люди, уверенные, что окружающие почтительно отнесутся к их мнению.
В кругу «Современника» было принято восхищаться романами Жорж Санд, в которых выдвигалась идея равноправия женщин. На одном из обедов Толстой сказал, что героинь Жорж Санд, если бы они и правда существовали в действительности, надо было бы водить напоказ по улицам Петербурга. В другой раз он заявил, «что удивляться Шекспиру и Гомеру может лишь человек, пропитанный фразой»[7]. Но все эти провокационные высказывания выглядели лишь проявлениями легкой эксцентричности на фоне заявления, что у его собеседников «нет убеждений».
Через двадцать лет в письме к Толстому Фет вспоминал «невообразимое негодование былого тургеневского кружка», когда Толстой «напрямик» заявил, «что их убежденье только фразы, а что убежденье правоты пошло бы сейчас в Зимний дворец с своей проповедью, как сделал Лютер: Ich kann nicht anders, Gott hilf mir»[8]. В опубликованных в последние годы жизни воспоминаниях Фет подверг слова Толстого цензурной переделке, но зато живо описал реакцию собравшихся:
– Зачем же вы к нам ходите? – задыхаясь и голосом, переходящим в тонкий фальцет (при горячих спорах это постоянно бывало), – говорил Тургенев. – Здесь не ваше знамя! Ступайте к княгине Б<елосельско>й-Б<елозерско>й!
– Зачем мне спрашивать у вас, куда мне ходить! И праздные разговоры ни от каких моих приходов не превратятся в убеждения[9].
Авторы «Современника» не сомневались не только в твердости собственных убеждений, но и в том, что от этих убеждений зависит будущее России. Для Толстого, однако, убеждения были не предметом интеллектуальных споров или политических статей, но делом жизни и смерти, за которое человек должен быть готов в любой момент умереть. Он стремился продемонстрировать своим новым друзьям, что предпочитает литературным беседам не только аристократические салоны, но и самый грубый разврат. Как всегда, потом он упрекал себя, что глупо и бесполезно проводит жизнь:
Поехали в Павловск. Отвратительно. Девки, глупая музыка, девки, искусственный соловей, девки, жара, папиросный дым, девки, водка, сыр, неистовые крики, девки, девки, девки! Все стараются притвориться, что им весело и что девки им нравятся, но неудачно. (ПСС, XLVII, 70–71)
Какое-то время петербургские писатели терпели выходки Толстого из уважения к его таланту. Его отношения с Тургеневым с самого начала оказались довольно напряженными и были дополнительно осложнены намечавшимся романом Тургенева с замужней сестрой Толстого. В 1861 году в доме у Фета Тургенев с гордостью рассказывал друзьям, что его незаконная дочь, воспитанием которой он занимался сам, штопает одежду нищим. Толстой не стал скрывать, что находит такое поведение отталкивающим и театральным. В результате последовавшей ссоры Тургенев обещал «дать Толстому в рожу». Последовал вызов на дуэль, которая, к счастью для русской литературы, не состоялась. В январе 1862 года Толстой писал Фету: «Тургенев – подлец, которого надобно бить» (ПСС, LX, 406, 412). В том же письме он просил самого Фета никогда ему больше не писать и пообещал не распечатывать полученных писем. Его ссора с Тургеневым длилась семнадцать лет и завершилась только в 1878 году трогательным, хотя и неполным примирением. С Фетом же Толстой восстановил отношения очень быстро – их близкая дружба продолжалась потом долгие десятилетия.
Как и Толстой, Фет с трудом вписывался в литературную среду. В 1820 году его отец, орловский помещик Афанасий Шеншин, в порыве страсти увез от мужа его мать Шарлотту Фет, беременную будущим поэтом. Обойдя все законы, Шеншин сумел жениться на Шарлотте, но через четырнадцать лет обман раскрылся и ничего не подозревавший мальчик разом оказался лишен дворянского статуса, права на наследование и даже имени. С той поры Фет был одержим идеей вернуть утраченное положение: сначала с помощью военной службы, а потом – брака по расчету и умелого управления имениями. Ради этого он расстался с Марией Лазич, которую всю жизнь считал единственной любовью. Вскоре после их разрыва Мария погибла – был ли это несчастный случай или самоубийство, мы никогда не узнаем. При этом Фет писал стихи, исполненные восхищенной любви к красоте мироздания и острой тоски по иному миру.
Толстой мог оценить это прихотливое сочетание поэтического безумия и воинствующей рациональности как мало кто другой. В то же время в отличие от Фета он никогда не умел и не хотел разделять две эти грани собственной личности и отводить для них различные сферы жизни. Еще в Петербурге он наметил для себя совершенно новую социальную роль.
В марте 1856 года, через несколько дней после заключения мира Александр II сообщил представителям московского дворянства, что отмена крепостного права неизбежна и должна быть осуществлена сверху, прежде чем крестьяне начнут освобождать себя сами. Предстоящая реформа была делом немыслимой сложности. Освободить крестьян с землей значило пойти на беспрецедентное изъятие дворянской собственности, освобождение без земли привело бы к одновременной пролетаризации миллионов крестьян. Император создал секретный комитет для подготовки реформы и одновременно призвал дворян самим освобождать крестьян в собственных имениях.
В мае Толстой, которому в равной мере надоели литераторы, аристократы и девки, уехал в Ясную Поляну заниматься освобождением крепостных. Он составил план действий, который должен был стать образцом для других помещиков. Крестьяне, однако, сомневались в добрых намерениях барина и ожидали настоящего освобождения от царя. Толстой, уверенный, что его проект куда выгоднее для мужиков, чем все, что когда-либо смогут предложить им придворные бюрократы, был оскорблен и растерян. Этот горький опыт взаимного непонимания отразился в его повести «Утро помещика», герой которой, проведя день в тщетных попытках облегчить жизнь крестьян, возвращается домой со «смешанным чувством усталости, стыда, бессилия и раскаяния» (ПСС, IV, 167).
10 января 1857 года Толстой получил паспорт и в первый раз в жизни, если не считать краткой военной службы в Румынии, отправился за границу. Его путь лежал в Париж, культурную столицу Европы и мира, где его уже ждал Тургенев. Пробыв там два месяца, он почувствовал, что Париж ему «опротивел», и отправился в Швейцарию – наслаждаться горными пейзажами, прославленными Руссо.
В Париже Толстой с удовольствием посещал спектакли и концерты, но общее впечатление было отрицательным. Особенно потрясла его публичная казнь – в России подобные зрелища были отменены задолго до его рождения. Парижские нравы также произвели на него отталкивающее впечатление. По словам его двоюродной тетушки Александры Андреевны Толстой, которая жила тогда в Женеве, племянник первым делом сообщил ей, что из тридцати шести пар, проживавших в его пансионе, девятнадцать (то есть чуть больше половины) были неженаты. Точность цифр может вызвать сомнения – вряд ли у Толстого была возможность провести такое исчерпывающее социологическое исследование, но подлинность эмоции вполне очевидна. Эти реакции требуют объяснения. Чем могла так ошеломить офицера, видевшего своими глазами сотни смертей на поле боя, казнь серийного убийцы? Почему постоянный посетитель публичных домов был так скандализован совместным проживанием невенчанных пар?
Оба чувства имели общий источник. Толстой писал Василию Боткину из Парижа:
Я имел глупость и жестокость ездить нынче утром смотреть на казнь ‹…› это зрелище мне сделало такое впечатление, от которого я долго не опомнюсь. Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, но ежели бы при мне изорвали в куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека. (ПСС, LX, 167)
Именно формальный, процедурный характер убийства делал его столь невыносимым. Точно так же Толстой привык бороться с собственной сексуальностью. Ему случалось поддаваться похоти, причинявшей ему «физические страдания», но он не мог примириться с тем, что выглядело в его глазах торжеством нормализованного, самодовольного порока. Он наблюдал зарождение безличного современного государства, так не похожего на царство произвола и деспотизма, к которому он привык в России, но и то, что он видел, ему тоже не нравилось. Именно в Париже его стихийный анархизм принял оформленный характер. В том же письме Боткину он писал, «что государство есть заговор не только для эксплуатаций, но главное – для развращения граждан»:
…я понимаю законы нравственные, законы морали и религии, необязательные ни для кого, ведущие вперед и обещающие гармоническую будущность, я чувствую законы искусства, дающие счастие всегда; но политические законы для меня такая ужасная ложь, что я не вижу в них ни лучшего, ни худшего. (ПСС, LX, 168–169)
Речь шла о полном отрицании современности. В письме Тургеневу из Швейцарии Толстой советовал ему не пользоваться железной дорогой, которая относится к путешествию в карете так же, как «бардель к любви – так же удобно, но так же нечеловечески машинально и убийственно однообразно» (ПСС, LX, 170). Он с удовольствием бродил по швейцарским Альпам и намеревался продолжить свой гранд-тур в Германии и Италии, однако, просадив в июле в казино Баден-Бадена все деньги, которые у него были, он оказался вынужден прервать путешествие и вернуться в «прелестную Ясную» и «противную Россию» с ее «грубой, лживой жизнью» (ПСС, XLVII, 149). В письме Александре Толстой он пожаловался на «патриархальное варварство, воровство и беззаконие» (ПСС, LX, 222), царящие на его родине.
В таком положении дел Толстой винил правительство. Долгие столетия оно не обращало внимания на подавляющее большинство населения, а теперь безответственно и цинично сулило ему благодеяния, которых не могло оказать. В 1858 году в одной из своих речей император обвинил помещиков в нежелании проводить реформы. В ответ Толстой написал меморандум, где доказывал, что освобождение крестьян было вековой мечтой дворянства, единственного в стране сословия, которое
посылало в 25 и 48 годах, и во все царствование Николая, за осуществление этой мысли своих мучеников в ссылки и на виселицы, и не смотря на все противодействие Правительства, поддержало эту мысль в обществе и дало ей созреть так, что нынешнее слабое правительство не нашло возможным более подавлять ее.
В заключение он написал, что «ежели бы к несчастью Правительство довело нас до освобождения снизу, а не сверху, по остроумному выражению Государя Императора, то меньше[е] из зол было бы уничтожен[ие] Правительст[ва]» (ПСС, V, 268–270). С несвойственным ему обычно благоразумием Толстой сжег меморандум, «никому не показывая» его (ПСС, XLVIII, 19).
Толстой искал способы вывести Россию из патриархального варварства, не отдавая ее на растерзание «нечеловечески машинальным» силам современной цивилизации. Он все еще надеялся достигнуть этого, установив отношения взаимопонимания и сотрудничества между образованным дворянством и крестьянством, двумя сословиями российского общества, которые жили непосредственно на земле. Он приступил к освобождению крестьян, но главные свои надежды связывал с подрастающими поколениями.
В одном из двух оставшихся флигелей своего дома Толстой основал крестьянскую школу, которая призвана была стать моделью для развития образования в России. Он чувствовал, что должен ближе познакомиться с лучшими образцами мировой педагогической практики, и поэтому летом 1860 года, оставив школу на попечение помощников, вновь отправился в Европу – изучать проходившие там эксперименты в области начального образования.
Стремительные социальные изменения XIX века резко увеличили спрос на формальное образование. Молодой человек больше не мог рассчитывать на то, что его жизнь будет подобна той, какую вели его родители. Для детей из низших слоев общества это означало, что навыки, полученные в родном доме, окажутся недостаточными или вовсе не пригодными для будущей жизни. По всей Европе создавались школы нового типа и испытывались свежие педагогические идеи. Толстому, решившему посвятить себя педагогике, требовалось познакомиться с этим опытом из первых рук. То, что он увидел, его глубоко разочаровало. Все европейские школы, которые ему довелось посетить, использовали те же самые дисциплинарные практики, которые он успел возненавидеть в России.
Педагогическая система Толстого в равной мере основывалась на идеях, изложенных в «Эмиле» Руссо, и на его собственных представлениях о природе человека и потребностях крестьянских детей. Он отказался от строгой дисциплины, принятой в школах XIX века, и не требовал от учеников заучивать тексты, заниматься каллиграфией или зубрить сложные правила. В его школе вообще не было почти никакой программы, вместо нее он полагался на свободное общение между учителями и учениками, втягивал детей в беседы, совместно с ними занимался физической работой и гимнастикой.
Толстой хотел учить детей только тому, что имело для них практическое или моральное значение. Он читал им книги, рассказывал о событиях русской истории, включая историю наполеоновских войн, а также о собственном богатом и разнообразном опыте. Естественные науки чаще всего изучались на прогулках в непосредственном наблюдении за природой. Крестьянские дети должны были помогать родителям в домашней работе, и им разрешалось уходить из школы по собственному усмотрению. Телесные наказания, являвшиеся в то время общепринятой практикой, были категорически запрещены. Школа также была открыта для девочек.
В 1862 году Толстой опубликовал знаменитую статью «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?». Его восхищали творческие способности учеников и их готовность и желание узнавать новое. Заголовок статьи как бы предлагал читателю выбрать один из двух вариантов, но в действительности процесс обучения был взаимным. Чтобы создать произведение, которое бы вызвало зависть прославленного писателя своей безыскусной простотой, юным ученикам яснополянской школы нужно было сначала приобрести в общении с ним не только базовую грамотность, но и силу воображения, интеллектуальное любопытство и потребность в самовыражении.
В ходе одной из бесед с детьми Толстой полушутя сказал, что хотел бы отказаться от положения землевладельца и начать работать на земле. Сначала дети с недоверием отнеслись к этому признанию, но потом поверили, что учитель серьезно относится к тому, что говорит. Представив себе такое чудесное превращение барина в мужика, ученики посоветовали Толстому жениться на крестьянке. Они понимали, что подобное социальное преображение требует соответствующего семейного устройства. Толстой с готовностью втянулся в это странное обсуждение. Он «посматривал на всех, улыбался, некоторых переспрашивал и что-то записывал в тетрадку»[10] – и очевидным образом учился у крестьянских детей писать. История, которую они вместе сочиняли, была очень похожа на некоторые его литературные замыслы.
С 1853 года Толстой постоянно возвращался к повести, которая получила затем название «Казаки» и должна была быть посвящена части его жизни, еще не отраженной в художественных произведениях. Сюжет повести типичен для «колониальной» литературы романтической поры: молодой аристократ, имя которого Толстой много раз менял, влюблялся в прекрасную казачку, которую с первого наброска до окончательной редакции звали Марьяной. Толстой изображал эту сильную и откровенно плотскую страсть как проявление стремления героя полностью поменять судьбу и зажить естественной и воинственной жизнью простого казака. Развязка повести автору никак не давалась: в некоторых набросках герой соблазнял и бросал Марьяну, в других – счастливо женился на ней. Толстой также экспериментировал с языком, сталкивая изысканный, психологически нюансированный стиль писем героя друзьям в Петербург с грубой сочностью разговоров казаков.
Параллельно с этой работой Толстой писал идиллический эпос из крестьянской жизни, в центре которого также находилась сильная и сексуально привлекательная крестьянка. Язык этих незаконченных фрагментов, предварительно называвшихся «Идиллия» и «Тихон и Маланья», более однообразен, чем в «Казаках», поскольку Толстому не надо было заботиться о достоверной передаче слов и мыслей раскаявшегося дворянина; но обуревающая автора жажда влиться в чуждую ему народную жизнь заметна по любованию и идеализации, с которыми эта жизнь описана.
За всеми перечисленными набросками угадывается одна из самых сильных по эротическому накалу страстей в жизни Толстого – его связь с замужней крестьянкой Аксиньей Базыкиной. Аксинья постоянно упоминается в дневниках за 1858–1860 годы все с тем же характерным сочетанием неистового вожделения и почти физиологического отвращения. Куда менее обычным для автора образом все эти записи обнаруживают поглощенность одной и той же женщиной. Через тридцать лет, в совершенно иной период жизни Толстой вернулся к своим воспоминаниям в рассказе с показательным названием «Дьявол». Эта эмоциональная окраска с самого начала присутствовала в его отношениях с Аксиньей, но в то же время дневники отразили и совсем иные чувства:
Видел мельком А[ксинью]. Очень хороша. Все эти дни ждал тщетно. Нынче в большом старом лесу, сноха, я дурак. Скотина. Красный загар шеи. ‹…› Я влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли. Мучаюсь. ‹…› Имел А[ксинью]; но она мне постыла.‹…› О А[ксинье] вспоминаю только с отвращением, о плечах.‹…› А[ксинью] продолжаю видать исключительно ‹…› Ее нигде нет – искал. Уж не чувство оленя, а мужа к жене. Странно, стараюсь возобновить бывшее чувство пресыщенья и не могу. (ПСС, XLVIII, 15–25)
В ранней прозе Толстого героини, навеянные романом с Аксиньей, вовсе лишены сатанинского начала. И Маланья, и Марьяна внутренне чисты, несмотря на эротическую притягательность, игривость и жизненную силу. Их соблазнительность морально оправданна, поскольку укоренена в первобытной простоте мира, с которым автор тщетно мечтает слиться.
Толстому не удалось завершить эти опыты. Стремление брать уроки письма у крестьянских детей выдает его глубокую неудовлетворенность ходом своих литературных занятий. Все его новые повести (например, «Альберт» и «Люцерн», где рассказывается о неизбежной нищете и одиночестве, ожидающих настоящего художника, моралистическая притча «Три смерти» или «Семейное счастье», где молодая женщина вспоминает свою влюбленность, ссору и примирение с мужем), казались ему полными провалами и даже «постыдной мерзостью» (ПСС, XLVIII, 21); он вынужден был посылать их в печать только из-за постоянного безденежья. После публикации в 1859 году «Семейного счастья» Толстой прекратил печататься и старался скрывать от своих приятелей литераторов, что вообще что-то пишет.
Друзья, издатели и критики были в отчаянии. И Тургенев, и Фет уговаривали его вернуться в литературу. Некрасов пытался убедить его, что у него есть все, чтобы писать «хорошие – простые, спокойные и ясные повести»[11], не понимая, что именно этого Толстой делать категорически не хотел. Когда критик Александр Дружинин, издававший журнал «Библиотека для чтения», попросил дать ему какое-нибудь новое произведение, Толстой ответил, ему, что
жизнь коротка, и тратить ее в взрослых летах на писанье таких повестей ‹…› – совестно. Можно и должно и хочется заниматься делом. Добро бы было содержание такое, которое томило бы, просилось наружу, давало бы дерзость, гордость и силу – тогда бы так. А писать повести очень милые и приятные для чтения в 31 год, ей-Богу руки не поднимаются. (ПСС, LX, 308)
Он отправился за границу в 1860 году, уверяя всех, что оставил литературу и единственное, что его интересует, – это новые методы преподавания в народных школах. В то же время именно в этой поездке он начал подозревать, что наконец-то нашел нужное ему содержание.
Для этого путешествия у него имелись также личные причины. Его старший брат Николай, с детства бывший для него наставником и примером, медленно умирал от чахотки. Доктора настаивали на перемене климата. Первоначально Толстой приехал к брату на немецкий курорт Бад-Зоден, потом они вместе отправились на юг Франции. Их сопровождала младшая сестра Мария, на чью долю выпали свои горести. Ее семья окончательно распалась, а отношения с Тургеневым ни к чему не привели.
Толстой уже бывал свидетелем того, как умирали люди, и уже терял близких, но на сей раз ему предстояло пережить и то и другое одновременно. Его брат Дмитрий также умер от чахотки в 1856 году, но Лев при этом не присутствовал, а кроме того, он никогда не был с ним так близок, как с Николаем. Через три недели после смерти Николая Толстой писал Фету, что все окружающие поражались тому, как «спокойно, тихо» его брат ушел из жизни, тогда как он сам, неотступно находясь при умирающем, так, что «ни одно чувство не ускользнуло» от него, видел, насколько «страшной, мучительной была его кончина»:
Он не говорил, что чувствует приближение смерти, но я знаю, что он за каждым шагом ее следил и верно знал, что еще остается. За несколько минут перед смертью он задремал и вдруг очнулся и с ужасом прошептал: «да что ж это такое?» – Это он ее увидел – это поглощение себя в ничто. А уж ежели он ничего не нашел, за что ухватиться, что же я найду? Еще меньше. (ПСС, LX, 357–358)
Присутствие смерти превращало жизнь в агонию ожидания. Как, может быть, никогда прежде, Толстой ощущал бессмысленность существования. В то же время таинство смерти завораживало его. В письме Сергею, единственному его брату, остававшемуся в живых, он описал свое впечатление от «весёлого и спокойного выражения ‹…› прелестного лица» (ПСС, LX, 354) умершего брата, наконец освободившегося от невыносимых страданий.
Из Франции Толстой отправился в Рим и Флоренцию. Италия входила в предполагавшийся маршрут его путешествия в 1857 году, но он не сумел туда попасть, проигравшись в рулетку. На этот раз его притягивали прежде всего не туристические достопримечательности, а возможность поговорить с Сергеем Волконским, дальним родственником и бывшим декабристом. «Мученики 1825 года», пожертвовавшие положением, состоянием и семьями ради освобождения крестьян, всегда волновали его воображение. В 1895 году Репин попросил Толстого подсказать сюжет для исторической картины. Толстой немедленно посоветовал художнику написать пятерых декабристов, которых ведут на виселицу. После того как Александр II в 1856 году объявил об амнистии для заговорщиков, Толстой начал обдумывать повесть или роман на эту тему.
Трудно представить себе историческое лицо, более соответствующее интересам Толстого, чем Волконский. Богатый аристократ, владевший более чем двумя тысячами душ крепостных, полный генерал и герой наполеоновских войн, Волконский оставил великосветский и достаточно вольный образ жизни, вступив в масонскую ложу и «Союз благоденствия». Дополнительный романтический ореол его образу придавала поздняя женитьба на Марии Раевской, юной красавице, воспетой Пушкиным. Проведя почти десять лет на каторге, Волконский поселился в отдаленной деревне, где превратился в чрезвычайно успешного фермера. Впоследствии, получив разрешение жить в Иркутске, он всех удивлял тем, что предпочитал компанию купцов и крестьян местному высшему обществу. До конца своих дней он отличался эксцентрическим поведением и пылкой мистической религиозностью.
Пытаясь справиться с депрессией, охватившей его после смерти Николая, Толстой начал писать «Декабристов», роман, посвященный возвращению из Сибири в Москву помилованного заговорщика с женой и двумя детьми. Он хотел противопоставить нравственную твердость старого человека, прошедшего через ужасные лишения, суете либеральных московских салонов с их пустыми разговорами на злобу дня. Его интересовали люди, жизнью доказавшие верность убеждениям. И в психологическом, и в языковом отношении ему было легче перевоплотиться в чудаковатого аристократа, чем в крестьянина или казака. 16 октября 1860 года он записал в дневнике: «одно средство жить – работать» (ПСС, XLVIII, 30). Через месяц или два после этого он встретился с Волконским, а в феврале следующего года в Париже уже читал три главы из романа Тургеневу.
Тургеневу, который с нетерпением ждал возвращения Толстого в литературу, главы понравились. Скорее всего, он не почувствовал, что замысел Толстого направлен прямо против него и его литературного окружения. До полного разрыва между писателями оставалось несколько месяцев. Перед тем как вернуться в Россию, Толстой отправился в Лондон и Брюссель. В Лондоне он общался с Герценом, который считал себя наследником декабристов и опубликовал множество посвященных им материалов в своем журнале «Полярная звезда».
Политические взгляды Толстого и Герцена и их отношение к декабристам были очень различны, но преклонение перед самопожертвованием заговорщиков роднило их между собой. Толстой рассчитывал обсудить с Герценом будущий роман, но по неизвестным причинам не сделал этого и лишь написал о нем в письме из Брюсселя 14 марта 1861 года. В том же письме Толстой спрашивал Герцена, читал ли он манифест об освобождении крестьян, изданный в России 19 февраля. Этот документ стал итогом пятилетних дискуссий и столкновений придворных и бюрократических кланов, партий и групп интересов и представлял собой довольно запутанный компромисс. Герцен в целом был доволен – не столько содержанием документа, сколько долгожданным освобождением крестьян. Толстой же был предсказуемо разочарован. «Я его читал нынче по-русски, – заметил он, – и не понимаю, для кого он написан. Мужики ни слова не поймут, а мы ни слову не поверим» (ПСС, LX, 145). Тем не менее он отдавал себе отчет, что мир, в котором он жил, изменился раз и навсегда.
По пути домой Толстой получил письмо от своего близкого друга, видного историка и правоведа Бориса Чичерина. Чичерин был едва ли не самым сильным умом среди многочисленных литераторов и интеллектуалов, которые брались наставлять Толстого на путь истинный. На этот раз он упрекнул друга в том, что тот укрылся в школе от великих проблем своего времени, и сообщил, что заканчивает статью об освобождении крестьян. В ответном письме из Дрездена Толстой практически объявил о разрыве отношений:
Тебе кажется увлечением самолюбия и бедностью мысли те убежденья, которые приобретены не следованием курса и аккуратностью, а страданиями жизни и всей возможной для человека страстью к отысканию правды, мне кажутся сведения и классификации, запомненные из школы, детской игрушкой, неудовлетворяющей моей любви к правде ‹…› Тебе странно, как учить грязных ребят. Мне непонятно, как, уважая себя, можно писать о освобождении – статью. – Разве можно сказать в статье одну мильонную долю того, что знаешь и что нужно бы сказать, и хоть что-нибудь новое и хоть одну мысль справедливую, истинно справедливую. А посадить дерево можно и выучить плести лапти наверно можно. (ПСС, LX, 380)
Как бы ни относиться к педагогической теории Толстого, очевидно, что его практическая деятельность была успешной. В стране, где крестьяне были почти поголовно неграмотны, родители его учеников не имели особого выбора. Предчувствуя надвигающиеся перемены, они были готовы отправлять детей в школу. Студенты и выпускники университетов, число которых быстро росло, стремились преподавать в его школах, ученики были в совершенном восторге от странного графа и его уроков.
Толстой вложил в дело свойственные ему расторопность и энергию. Его методы едва ли поддавались тиражированию, но в непосредственном общении с детьми такой страстный, харизматический и преданный делу учитель и непосредственно им подготовленные ассистенты могли добиваться выдающихся результатов.
По возвращении из-за границы Толстой открыл еще двадцать школ в ближайших деревнях, начал издавать педагогический журнал «Ясная поляна» и попытался основать Общество народного образования. Выпустив первый номер «Ясной Поляны», он написал письмо Чернышевскому, попросив поместить обзор журнала в «Современнике», чтобы сделать его идеи доступными читателям гораздо более популярного издания.
Когда-то в начале своей карьеры критика Чернышевский приветствовал появление «Детства» и «Отрочества», отметив тонкость психологического анализа и введя в оборот формулу «диалектика души», которой суждено было стать ходовым обозначением особенностей манеры Толстого. Однако в его отношении к Толстому всегда проглядывало снисходительное высокомерие профессионального интеллектуала, живущего своим пером, к аристократу-дилетанту. Толстой платил ему сходным, хотя и гораздо более эмоциональным отношением. Однажды в письме к Некрасову он назвал Чернышевского «клоповоняющим господином» (ПСС, LX, 74).
Чернышевский откликнулся на появление «Ясной Поляны» статьей, исполненной обычного для него сознания собственной папской непогрешимости. Он похвалил Толстого за добрые намерения, но с глубочайшим скептицизмом отнесся к предложенному им несистематическому методу образования. Толстой утверждал, что образованные люди не понимают настоящих потребностей крестьян и потому не могут заранее знать, чему тех следует учить. В ответ Чернышевский посоветовал ему сначала поступить в университет и там освоить все, что необходимо знать учителю.
Консерваторы не меньше радикалов были раздражены стремлением Толстого вывести миллионы людей из-под государственного контроля в столь сложный для России момент истории. Многие статьи из «Ясной Поляны» запрещала цензура. Толстой и сам мог убедиться, насколько непримиримые конфликты возникали в ходе реализации реформ: несколько месяцев он прослужил мировым судьей, пытаясь примирять споры между помещиками и крестьянами. Эта деятельность удавалась ему хуже учительской. Крестьяне упрямо отказывались выслушивать его доводы, которых, скорее всего, просто не были способны понять, а дворяне страстно его ненавидели. В апреле 1862 года Толстой оставил эту должность, сославшись на нездоровье. Примерно тогда же он начал чувствовать, что ему все труднее всецело отдавать себя учительскому труду.
В процитированном письме к Чичерину видно, что Толстого волновало не только преподавание. Он задавался вопросом о том, что можно и чего нельзя выразить в словах и как «сказать что-нибудь новое и хоть одну мысль справедливую, истинно справедливую». На страницах журнала Толстой пересказывал свои разговоры с крестьянскими детьми о назначении искусства, о природе государства и законодательства, о русской истории и наполеоновских войнах. Его описания того, как детские умы открываются для понимания сложности мира, рассказы о восприимчивости и любознательности учеников, о несходстве их характеров и меняющемся отношении к знаниям принадлежат к лучшим страницам его прозы, по крайней мере написанной в годы, предшествовавшие созданию великих романов. Если принять во внимание характерное для стиля Толстого сочетание документальности с поэтической идеализацией, можно лишь вообразить, что в действительности происходило на его уроках.
Его вновь переполняли литературные планы. Еще за границей он написал «Поликушку» – мрачную историю о рекрутском наборе в деревне, о разрушительной силе денег и чудовищном зле, которое исходит от сентиментальной помещицы, уверенной в своем праве воспитывать крестьян. Толстой также снова работал над «Казаками», «Декабристами» и «Тихоном и Маланьей». Он чувствовал прилив литературного вдохновения, черновики рвались наружу из ящиков стола, в голову приходили новые замыслы. В то же время ему приходилось учить детей, нанимать учителей, издавать журнал и пропагандировать новые подходы к образованию. Он уже успел убедить всех кругом и прежде всего себя самого, что учительство и есть подлинное его призвание. Перед Толстым стоял выбор исключительной сложности. Как это часто бывает, история решила подыграть победителю.
Первые годы после отмены крепостного права были исключительно бурными. Во многих деревнях по всей России происходили разрозненные, но жестокие бунты крестьян, убежденных, что господа скрыли от них настоящую царскую волю. Атмосфера в столицах также накалялась. В мае 1862 года в Петербурге начались пожары, в которых многие видели результат поджогов. Правительство ответило началом расследования и серией арестов. В июне по обвинению в подстрекательстве к крестьянским волнениям арестовали Чернышевского, а издание «Современника» было приостановлено.
6 июля в Ясной Поляне прошли обыски, вызванные совершенно безосновательными доносами, что у Толстого якобы хранится нелегальный печатный станок. Ничего сколько-нибудь подозрительного жандармы так и не нашли, но в процессе досмотра перевернули вверх дном всю усадьбу, залезли в амбар и в пруд, до смерти напугали старую тетушку Туанет и сестру Толстого Марию, а главное, прочли его дневники и переписку, которые он никогда никому не показывал.
Во время обыска Толстого не было дома. Потеряв двух умерших от чахотки братьев, он стал беспокоиться о собственном здоровье и отправился на Волгу пить кумыс, считавшийся целебным для легких. Новости застали его на обратном пути. Толстой чувствовал себя оскорбленным как аристократ, как анархист, как патриот, посвятивший жизнь примирению сословий, а не разжиганию вражды между ними, и более всего – как человек. «Я часто говорю себе, какое огромное счастье, что меня не было. Ежели бы я был, то верно бы уже судился, как убийца» (ПСС, LX, 438), – написал он Александре Толстой.
Занятия в школе не могли продолжаться. Некоторое время Толстой всерьез обдумывал идею «экспатриироваться». В том же письме он успокаивал тетушку и уверял ее, что не станет присоединяться к Герцену и заниматься противоправительственной деятельностью:
К Герцену я не поеду. Герцен сам по себе, я сам по себе. Я и прятаться не стану, я громко объявлю, что продаю именья, чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой вперед, что меня, и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут, – я уеду. (ПСС, LX, 436)
Он не отправился в это добровольное изгнание и вообще никогда больше не выезжал из России даже на время. Катастрофа освободила его от обязательств по школе и позволила сосредоточиться на деле, которое он снова стал считать своим главным призванием. В то же время Толстой чувствовал: чтобы создать произведения, которые наконец удовлетворят его самого, ему надо полностью переменить образ жизни. Он также знал, что существует только один способ достигнуть этой благодетельной перемены: ему было необходимо жениться.
Глава вторая Женатый гений
Мысль о женитьбе не была новой для Толстого. Строить планы семейной жизни он начал, едва перешагнув порог двадцатилетия. Еще в 1851 году он писал в «Дневнике», что приехал в Москву «с тремя целями. 1) Играть. 2) Жениться. 3) Получить место». Удалось ему только первое, хотя он и заключил потом, что это было «скверно и низко». Матримониальные планы он, «благодаря умным советам брата Ник[олиньки]», решил временно оставить, «до тех пор, пока принудит к тому или любовь, или рассудок, или даже судьба, которой нельзя во всем противудействовать» (ПСС, XLVI, 52–53).
Через восемь лет, 1 января 1859, года он пришел к выводу, что «надо жениться в нынешнем году – или никогда» (ПСС, XLVIII, 19). В его дневниках и письмах упоминается около десятка молодых женщин, к которым он присматривался как к потенциальным невестам, но практические шаги в этом направлении Толстой сделал только однажды. В 1856 году он собирался жениться на Валерии Арсеньевой, опекуном которой стал после смерти ее отца.
Разумеется, такое решение давалось ему тяжело. В дневнике Толстой постоянно задавался вопросом, любит ли он Валерию и способна ли она сама на настоящую любовь, находил ее то прелестной, то фальшивой и глупой. Он засыпал девушку назидательными письмами, в которых объяснял, как ей следует одеваться, чувствовать и вести себя, чтобы стать хорошей женой. Вне всякого сомнения, их частые беседы развивались по тому же сценарию. В конце концов эти своеобразные отношения утомили обоих. В начале следующего года Толстой внезапно отправился за границу, послав Валерии письмо с формальными извинениями. Двумя годами позже идеализированный образ Валерии – такой, как она представлялась ему в разгар этого навязанного им самому себе увлечения, – возник в его романе «Семейное счастье», где он воображал себе их несостоявшуюся совместную жизнь.
«Воспитание есть возведенное в принцип стремление к нравственному деспотизму, – писал Толстой в начале 1860-х годов в статье «Воспитание и образование», – ‹…› воспитание, как умышленное формирование людей по известным образцам, – не плодотворно, не законно и не возможно. ‹…› Права воспитания не существует. Я не признаю его, не признает, не признавало и не будет признавать его все воспитываемое молодое поколение, всегда и везде возмущающееся против насилия воспитания» (ПСС, VIII, 215–216). Между тем именно такой «нравственный деспотизм» Толстой практиковал в отношении бедной Валерии, которая не решалась протестовать из страха потерять столь завидного жениха.
Дело в том, что Толстой считал семью не столько союзом двух отдельных людей, сколько единой симбиотической личностью. В «Анне Карениной» Левин, самый автобиографический из персонажей прозы Толстого, с удивлением замечает после женитьбы, что его жена «не только близка ему, но что он теперь не знает, где кончается она и начинается он» (ПСС, XIX, 50). Представления Толстого о браке были такими же максималистскими и бескомпромиссными, как и требования к литературному тексту. Разница, однако, состояла в том, что он понимал: если он неправильно выберет себе спутницу жизни, следующей попытки у него уже не будет.
Прежде чем влюбиться в свою будущую жену, Левин часто бывал в доме Щербацких и влюбился в дом Щербацких. Как это ни странно может показаться, но Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербацких. Сам Левин не помнил своей матери, и единственная сестра его была старше его, так что в доме Щербацких он в первый раз увидал ту самую среду старого дворянского, образованного и честного семейства, которой он был лишен смертью отца и матери. Все члены этой семьи, в особенности женская половина, представлялись ему покрытыми какою-то таинственною, поэтическою завесой, и он не только не видел в них никаких недостатков, но под этою поэтическою, покрывавшею их, завесой предполагал самые возвышенные чувства и всевозможные совершенства. (ПСС, XVIII, 24–25)
Замужество двух старших сестер Щербацких избавило Левина от необходимости выбирать. Положение Толстого в доме доктора Андрея Евстафьевича Берса было отчасти сходным, но более сложным. Как друг и частый гость Берсов, Толстой был заворожен жизнью счастливой семьи, которой сам он в детстве был лишен. Сама эта семья была связана с его детскими воспоминаниями – жена Берса Любовь Александровна, урожденная Иславина, с ранних лет была подругой Толстого. По семейной легенде, десятилетний Лев однажды столкнул ее с балкона из ревности. Как-то Толстой сказал сестре, что если когда-нибудь женится, то это будет только в семье Берсов[12].
Как и у Щербацких, у Берсов было три дочери. Толстой любил проводить время с подрастающими девушками, которые живо интересовались литературой и восхищались «графом» («le compte»), как они называли его между собой. В отличие от Левина Толстой был еще и знаменитым писателем. В старых русских семьях было принято отдавать дочерей замуж по возрасту, и когда Берсы впервые догадались о намерениях Толстого, они были убеждены, что его интересует Лиза, старшая и самая серьезная из сестер, более всех, по общему мнению, готовая к роли жены и хозяйки дома.
Толстой тоже рассматривал этот вариант. «Л[иза] Б[ерс] искушает меня; но это не будет. – Один расчет недостаточен, а чувства нет» (ПСС, XLVIII, 38), – записал он в дневнике в сентябре 1861 года. В следующем году события приняли драматический оборот. На пути в Самарскую губернию на кумыс Толстой на день остановился в Москве у Берсов. После его отъезда младшая сестра Таня увидела среднюю Соню в слезах. «Tu aimes le comte?» – спросила удивленная Таня, в числе добродетелей которой не было способности удерживаться от неловких вопросов. «Je ne sais pas, – ответила Соня, которую как раз этот вопрос не удивил, – ‹…› у него два брата умерли чахоткой»[13].
Соня уже обещала руку и сердце студенту Митрофану Поливанову, и пятнадцатилетняя Таня была поражена открывшейся ей «двойственностью чувств». После возвращения «графа» из Самары он встречался с Берсами на их даче в селе Покровское и в Ясной Поляне и впервые обратил внимание на Соню не как на девочку, а как на очаровательную молодую женщину. Приехав в конце августа в Москву, он уже задавал себе свой обычный роковой вопрос: насколько чувства, которые он испытывает, можно назвать настоящей любовью?
…ночевал у Берсов. Ребенок! Похоже! А путаница большая. О, коли бы выбраться на ясное и честное кресло! ‹…› Я боюсь себя, что ежели и это – желанье любви, а не любовь. Я стараюсь глядеть только на ее слабые стороны и все-таки оно. Ребенок! Похоже. (ПСС, XLVIII, 40)
В бурном и скоротечном романе между тридцатичетырехлетним много повидавшим мужчиной и барышней, которой только что исполнилось восемнадцать, ведущая роль, несомненно, принадлежала Соне. Все лето она писала повесть о сложной ситуации в ее семье. Как вспоминала впоследствии Татьяна, в повести было два героя: князь Дублицкий, умный и энергичный мужчина средних лет с «непривлекательной наружностью» и «переменчивыми взглядами на жизнь», и Смирнов, молодой человек «с высокими идеалами». У главной героини Елены, красивой девушки с большими черными глазами, было две сестры: старшая Зинаида, влюбленная в Дублицкого, и шаловливая пятнадцатилетняя Наташа. Полюбивший Елену Смирнов сделал ей предложение, но ее родители возражали, считая, что оба они слишком молоды для брака. Неожиданно для себя Елена начала сознавать, что любит Дублицкого, который тоже предпочитает ее сестре, и почувствовала себя виноватой и перед Смирновым, и перед Зинаидой. В какой-то момент, измученная внутренней борьбой, она даже хотела уйти в монастырь, но потом сумела устроить брак Дублицкого и Зинаиды, а сама вышла замуж за Смирнова.
Уже 26 августа Соня дала почитать повесть Толстому. Трудно вообразить себе более сильный и провокативный ход. Прославленный писатель, как всегда неуверенный, достоин ли он того, чтобы его любили, почувствовал себя одновременно ободренным, тронутым, взволнованным и уязвленным:
Дала прочесть повесть. Что за энергия правды и простоты. Ее мучает неясность. Все я читал без замиранья, без признака ревности или зависти, но «необычайно непривлекательной наружности» и «переменчивость суждений» задело славно. Я успокоился. Все это не про меня. (ПСС, XLVIII, 40)
Разумеется, он не успокоился, напротив, был возбужден до крайности.
В качестве ответа на повесть он написал Соне письмо, объясняя, что ее семья не поняла его намерений и что он на самом деле не любит Лизу и никогда не собирался на ней жениться. Не решившись полностью доверить это объяснение бумаге, Толстой записал его одними заглавными буквами каждого слова. В знаменитом эпизоде «Анны Карениной» Кити, ведомая таинственной интуицией любящей женщины, понимает смысл письма, подобным же образом зашифрованного Левиным. Под воздействием то ли романа, то ли семейной легенды и графиня Софья Андреевна Толстая, и ее сестра Татьяна Андреевна Кузминская воспроизвели эту сцену в своих поздних воспоминаниях. На деле это проявление небесной гармонии предназначенных друг для друга душ было художественным вымыслом Толстого – в дневнике он ясно пишет, что Соня заставила его «разобрать письмо».
Как бы то ни было, его страсть росла. В дневнике Толстой размышлял о чувствах и характере Сони, демонстрируя при этом характерный анализ нюансированной природы человеческих переживаний: «либо все нечаянно, либо необычайно тонко чувствует, либо пошлейшее кокетство ‹…› либо и нечаянно, и тонко, и кокетливо». 7 сентября он уговаривает себя «не соваться» «туда, где молодость, поэзия, красота, любовь», и тут же признается себе, что в глубине души делал эту запись специально для Сони, воображая, что она «сидит и читает» подле него.
Через три дня он ушел от Берсов «обезнадеженный и влюбленный больше, чем прежде». Ему мучительно хотелось «разрубить узел» и «сказать ей и Танечке», но у него не хватало решимости. К этому времени вся семья, кроме Лизы, еще продолжавшей питать какие-то надежды, уже понимала, что происходит. «Л[изу] я начинаю ненавидеть вместе с жалостью. Господи! помоги мне, научи меня», – записал он в дневнике. Его состояние становилось невыносимым:
Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить. Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится. Был у них вечер. Она прелестна во всех отношениях. А я отвратительной Дублицкий. Надо было прежде беречься. Теперь уже я не могу остановиться. Дублицкий, пускай, но я прекрасен любовью. – Да. Завтра пойду к ним утром. Были минуты, но я не пользовался ими. Я робел, надо было просто сказать. Так и хочется сейчас идти назад и сказать все и при всех. Господи, помоги мне. (ПСС, XLVIII, 41–45)
13 сентября Толстой снова пришел к Берсам, но снова не нашел в себе духу объясниться. На следующий день, осознав, что прямо признаться Соне в своих чувствах свыше его сил, он написал ей письмо с предложением руки и сердца, в котором умолял ее дать ответ «не торопясь, ради Бога не торопясь». Толстой заверил возлюбленную, что ему «страшно будет услышать» отказ, но он «найдет в себе силы» его снести; однако если она не сможет любить его так, как он ее, «это будет ужасней» (ПСС, LXXXIII, 17). Еще два дня после этого он проносил письмо в кармане, но не мог заставить себя его вручить.
Причины нерешительности Толстого были глубже «подколесинского» страха перед непоправимым шагом, застенчивости и неуверенности в себе или острого осознания груза прожитых лет и греховного прошлого. Он был уверен, что не только его будущее семейное счастье, но и нравственное спасение, и надежда исполнить свое земное предназначение зависят от правильности его выбора и силы Сониной любви и преданности. Он находился на грани между абсолютным блаженством и полной гибелью.
В какой-то момент он даже набросал другой вариант письма с объяснениями, почему он должен оставить все надежды и прекратить визиты к Берсам, составляющие главную радость его жизни: «Я требую ужасного, – невозможного от женитьбы. Я требую, чтоб меня любили так же, как я могу любить. Но это невозможно» (ПСС, LXXXIII, 4). Потом он все же решил рискнуть. «Счастье, и такое, мне кажется невозможно. Боже мой, помоги мне!» (ПСС, XLVIII, 45) – признался он в дневнике, закончив писать объяснение в любви.
16 сентября в гостиной у Берсов Толстой аккомпанировал на рояле Тане, у которой было исключительное по красоте и богатству сопрано. Заметно нервничавшие Соня и Лиза сидели неподалеку. Всегда веривший в приметы Толстой загадал, что отдаст Соне письмо, если ее сестра сумеет взять трудную верхнюю ноту в финале. Исполнение Тани оказалось безукоризненным, и чуть позднее она увидела, как Соня выбегает из комнаты с письмом в руке. Лиза неуверенно шла за ней. Таня побежала в спальню девочек и услышала, как Лиза кричит на Соню, требуя немедленно сказать, чтó написал ей «le comte». «Il m’a fait la proposition»[14], – спокойно ответила Соня. «Откажись сейчас», – кричала Лиза с рыданием в голосе. В комнату вошла мать и велела Лизе успокоиться, а Соне дать ответ немедленно. Соня вернулась в гостиную и сказала: «Разумеется, да»[15]. По ее позднейшему признанию, она «хорошенько не прочла письмо», а «пробежала глазами до слов „Хотите ли вы быть моей женой„»[16] (СТ-Дн. II, 489). На следующий день она объясняла убитому Поливанову, что «только для одного человека она могла изменить ему: это для Льва Николаевича»[17].
Приготовления к свадьбе должны были занимать не меньше полутора-двух месяцев, но Толстой и слышать не хотел ни о каком промедлении. По-видимому, первый раз в жизни он испытывал настолько сильное эротическое влечение к женщине из своего социального круга. В дневнике он записал, что из всего предсвадебного периода запомнил «только поцелуй у фортепьяно и появление сатаны» (ПСС, XLVIII, 46), явно имея в виду сексуальное возбуждение. Он боялся охлаждения любовной лихорадки, которая была призвана стать источником его семейной утопии, и торопился уединиться с женой в Ясной Поляне, чтобы наслаждаться новообретенным счастьем, погрузившись в единственные два дела, которые он теперь считал для себя подходящими: управление имением и литература.
При всем нетерпении он умудрился подвергнуть любовь Сони двум тяжелым испытаниям. Убежденный, что супруги должны быть полностью открыты друг для друга, он дал ей прочитать свой дневник. Соню до глубины души потрясли упоминания мук похоти и сексуального опыта ее будущего мужа, особенно же – история увлечения Аксиньей Базыкиной, которая к тому времени родила от него сына. Потом, не в силах заглушить «сомненья в ее любви и мысль, что она себя обманывает» (ПСС, XLVIII, 46), Толстой, вопреки всем правилам и обычаям, пришел к невесте в день свадьбы и довел ее до слез вопросами, уверена ли она, что хочет за него замуж.
Свадьба состоялась 23 сентября 1862 года, через неделю после объяснения и ровно через месяц после того, как Толстой в первый раз упомянул в дневнике о своем увлечении. Молодых обвенчали в церкви Рождества Богородицы в Кремле, где жили Берсы. По мемуарам Софьи Андреевны, мужем и женой в плотском смысле этого слова они стали уже в дормезе, спальной карете, которая везла их из церкви в Ясную Поляну. Очень скоро Соня забеременела. Их первый сын Сергей родился 28 июня 1863 года. За ним последовали Татьяна в 1864 году, Илья в 1866-м и Лев в 1869-м.
Медовый месяц и первые годы семейной жизни Толстых были далеки от идиллии, которую рисовал себе Лев. Чувства его оказались еще более переменчивыми, чем суждения Дублицкого. В их первую ночь в Ясной Поляне ему приснился «тяжелый сон», общий смысл которого выражен в дневнике в двух словах: «Не она» (ПСС, XLVIII, 46). После месяца неистовых ухаживаний он стал подозревать, что в итоге женился не на той женщине. На следующий день он написал в дневнике о «неимоверном счастье», которое испытывает.
Через неделю у них «была сцена», из-за которой Толстому стало «грустно», что у них «всё, как у других». Он заплакал и сказал Софье, что она ранила его чувства к ней. «Она прелесть, – заключил он довольно неожиданно. – Я люблю ее еще больше. Но нет ли фальши» (ПСС, XLVIII, 46). Толстого смущала неестественность в его отношениях с женой. В шуточном письме к свояченице Тане он описал свой сон, в котором Соня превратилась в фарфоровую куклу. Трудно сказать, был ли в этих словах какой-то намек на эротическую неудовлетворенность (ПСС, LXI, 10–13).
Неизбежные проблемы привыкания друг к другу отягощались взаимной ревностью. Соня, ошеломленная открывшимися ей сведениями о прошлом мужа, постоянно опасалась, что он вернется к старому. В дневнике она призналась в яростном желании убить Аксинью и оторвать голову ее ребенку. Лев, который так и не мог до конца поверить, что может вызвать настоящую любовь, приходил в отчаяние от любого ее реального или вымышленного знака внимания к молодым людям, которые случайно оказывались поблизости. Едва ли он всерьез подозревал Соню в неверности, но главным для него всегда были чувства, и он опасался, что жена охладевает к нему.
Дневники, которые они оба продолжали вести в первые годы супружества, фиксируют частые столкновения, завершавшиеся бурными примирениями. Режим отношений, установленный Толстым, требовал, чтобы их дневники были открыты друг для друга. Они оба чувствовали, что обязаны быть до конца искренними, но не могли не думать о реакции на сделанные признания. «Все писанное в этой книжке почти вранье – фальшь. Мысль, что она и тут читает из-за плеча, уменьшает и портит мою правду» (ПСС, XLVIII, 54) – записал Толстой в июне 1863 года.
Постепенно поток записей превратился в ручеек, а потом и вовсе иссяк на полтора десятилетия, до тех пор пока душевный разлад между супругами не стал непреодолимым. Лев вновь обратился к дневнику из потребности разобраться в себе, а Софья – чтобы свести счеты с мужем и оправдать собственную позицию в глазах потомков.
С самого начала ее положение было, конечно, куда более трудным. В отличие от Льва, который находился в привычной среде, она выросла в Кремле, в самом центре империи. Модная и образованная городская барышня должна была превратиться в помещицу, раскладывающую пасьянсы со старой тетушкой Туанет, ухаживающую за детьми и разделяющую труды по управлению имением. «Он мне гадок с своим народом» (СТ-Дн., I, 43), – призналась она в дневнике через два месяца после свадьбы. При всем этом Софья справлялась с новыми обязанностями на редкость успешно. «Мы совсем делаемся помещиками, скотину закупаем, птицу, поросят, телят», – извещала она сестру в начале 1863 года. Они также закупили пчел, и меду у них было «ешь не хочу» (СТ-Дн., I, 526). Приехав к Толстым, Фет был на всю жизнь очарован юной и заметно беременной женщиной, весело носящейся по имению со связкой ключей на животе.
Толстой предавался сельскохозяйственным занятиям с обычной страстью. С самого начала он решил обходиться без управляющих и приказчиков и некоторое время отклонял советы тестя, который настойчиво предлагал ему нанять управляющего. Он не хотел посредников между собой и крестьянами и был убежден, что вместе с Соней сумеет без них обойтись. 3 мая 1863 года он писал Фету:
И Соня со мной. Управляющего у нас нет, есть помощники у меня по полевому хозяйству и постройкам, а она одна ведет контору и кассу. У меня и пчелы, и овцы, и новый сад, и винокурня. И все идет понемножку, хотя, разумеется, плохо сравнительно с идеалом. (ПСС, LXI, 17)
Фет, превративший собственное имение в доходное предприятие, не был убежден этими доводами. В ответном письме он попросил передать Софье Андреевне «душевный привет и сказать», что он «в восторге, если только она не играет в кукл… – виноват, в кассу»[18]. Толстой был слегка раздосадован этой реакцией:
Жена моя совсем не играет в куклы. Вы не обижайте. Она мне серьезный помощник. Да еще с тяжестью, от к[отор]ой надеется освободиться в начале июля. ‹…› Я сделал важное открытие. ‹…› Приказчики и управляющие и старосты есть только помеха в хозяйстве. Попробуйте прогнать все начальство и спать до 10 часов, и все пойдет, наверное, не хуже. Я сделал этот опыт и остался им вполне доволен. (ПСС, LXI, 19–20)
Отмена крепостного права покончила с традиционными отношениями между помещиками и крестьянами. Как написал потом Некрасов, «порвалась цепь великая, порвалась – расскочилася, одним концом по барину, другим – по мужику». Эту вековую цепь предстояло заменить экономическим сотрудничеством, основанным на взаимной выгоде. Толстой по-прежнему верил в естественный союз живущих на земле сословий, который спасет дворян от разорения, а крестьян от пролетаризации.
Ему требовались деньги, чтобы содержать растущую семью, но финансовые соображения не были главной причиной, побуждавшей его жить в деревне. Толстой укрылся в Ясной Поляне, чтобы выстроить здесь утопию, которая могла бы стать для него бастионом, способным выдержать наступление современности. Аграрная экономика призвана была играть в этом сражении вспомогательную роль. Главным полем битвы для него стала литература. К концу 1862 года он закрыл сельскую школу и педагогический журнал, удивляясь, каким образом эти занятия могли так долго занимать его.
Его по-прежнему преследовали старые долги. Незадолго до свадьбы Толстой проиграл крупную сумму и вынужден был занять денег в качестве аванса за «Казаков» у издателя журнала «Русский вестник» Михаила Каткова. С конца 1850-х годов многие писатели стали переходить из «Современника» в «Русский вестник», ставший альтернативой радикальной журналистике. Катков, превращавшийся из либерального консерватора в яростного реакционера, был как минимум не менее эффективным предпринимателем, чем Некрасов. Он охотно дал взаймы Толстому и категорически отклонял все попытки раскаявшегося писателя вернуть долг деньгами. Поселившись в Ясной Поляне, Толстой первым делом взялся за «Казаков», повесть, которая не давалась ему так долго.
Самой трудной задачей было найти естественный исход любви Оленина к Марьяне. После целой серии переработок Толстой отыскал концовку: раздраженная постоянным заигрыванием своего жениха Лукашки, самого храброго казака в станице, с другими девушками, Марьяна дает согласие Оленину. Поссорившись с невестой, Лукашка теряет свое звериное чутье и самоконтроль, и его смертельно ранят в перестрелке с чеченцами. Охваченная раскаянием и злобой по отношению к своему незваному поклоннику, Марьяна выгоняет его. У Оленина не остается другого выхода, кроме как вернуться в Петербург.
Катков немедленно опубликовал «Казаков». В следующем же номере «Русского вестника» появился написанный еще за границей рассказ «Поликушка». Публика была рада возвращению любимого автора. Критики расхваливали «Казаков» и восхищались этнографически точными описаниями жизни в станице и характерами Марьяны, Лукашки и особенно старика Ерошки, харизматического пьяницы и болтуна, выступающего хранителем казачьих обычаев и преданий. Фет отозвался о «Казаках» как о лучшем произведении, когда-либо написанном Толстым. Тургенев тоже был в восторге, хотя и скептически отнесся к изображению душевных метаний Оленина. Он без труда распознал в герое автобиографическую проекцию автора, к которому не испытывал симпатии. Все же и он был счастлив приветствовать возвращение блудного сына русской литературы и благодарил фортуну за проигрыш, вынудивший Толстого вновь взяться за перо.
Единственным недовольным был сам Толстой. В январе 1863 года он записал в дневнике: «Поправлял Казаков – страшно слабо. Верно, публика поэтому будет довольна» (ПСС, XLVIII, 50). Он собирался написать вторую часть повести, если начало будет хорошо принято, но, несмотря на всеобщий читательский энтузиазм, так и не исполнил этого намерения. Дав «Казакам» подзаголовок «Кавказская повесть 1852 года», он как бы отдалял себя от собственного произведения, относя его к периоду, предшествовавшему «Севастопольским рассказам», и вновь подчеркивая его документальную основу – именно в 1852 году Толстой жил в Старогладковской.
«Да кто же это такое написал Казаки и Поликушку? – писал он Фету в мае 1863 года. – Да и что рассуждать об них. Бумага все терпит, а редактор за все платит и печатает. ‹…› Полик[ушка] – болтовня на первую попавшуюся тему человека, который „и владеет пером„; а Казаки – с сукровицей, хотя и плохо» (ПСС, LXI, 16–17). «Сукровица» – это хотя и не кровь, которой, по Толстому, должна была писаться проза, но все же жидкость, вытекающая из человеческого тела. Частицей себя самого, которую Толстой отдал повести, была жажда без остатка раствориться в диком и естественном окружении. Оленин проводил все свои дни, бродя по горному лесу, и
возвращался усталым, голодным, с пятью-шестью фазанами за поясом, иногда с зверем, с нетронутым мешочком, в котором лежали закуска и папиросы. Ежели бы мысли в голове лежали так же, как папиросы в мешке, то можно было бы видеть, что за все эти четырнадцать часов ни одна мысль не пошевелилась в нем. Он приходил домой морально свежий, сильный и совершенно счастливый. (ПСС, VI, 88)
В том же письме Толстой сообщил Фету, что «пишет историю пегого мерина». Бóльшая ее часть написана от первого лица. Критика социальных условностей с «естественной» точки зрения была популярным литературным приемом еще с XVIII века, и лошадь, животное столь близкое человеку, могла выступать в качестве идеального наблюдателя. Тем не менее «Холстомер» менее всего был сатирической аллегорией – повесть исполнена понимания и сочувствия к тяжелой доле мерина и восхищения его умением принять неизбежный порядок жизни, старения и смерти. Толстой почти закончил «Холстомера», но не публиковал его больше двадцати лет, пока Софья Андреевна не отыскала рукопись в его бумагах. Он прервал работу над повестью, поскольку его полностью захватил его magnum opus.
Начало новой работы давалось Толстому тяжело. Он написал пятнадцать черновых вариантов первых страниц, прежде чем почувствовал, что готов продолжать. Он еще не вполне представлял себе сюжет, не был уверен ни в заглавии, ни в именах героев, но уже чувствовал, что наконец напал на золотую жилу. Никогда прежде и, вероятно, никогда позже Толстой не был так уверен в себе. В октябре 1863 года он писал Александре Толстой:
Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе. И работа эта есть у меня. Работа эта – роман из времени 1810 и 20-х годов, который занимает меня вполне с осени. ‹…› Я теперь писатель всеми силами своей души, и пишу и обдумываю, как я еще никогда не писал и [не] обдум[ывал]. (ПСС, LXI, 23–24)
Через год, готовя к публикации первые главы романа, он признался Фету, что считает все написанное прежде «только пробой пера» и что новая вещь ему «хоть и нравится более прежнего, но слабо кажется». Но все же после этой обычной порции самоуничижения он не удержался, чтобы не добавить: «Но что дальше будет – бяда!!!» (ПСС, LXI, 72).
Великие реформы, начавшиеся после отмены крепостного права, дали начало невиданной в истории России общественной дискуссии. Цензурный режим ослаб, тиражи газет и журналов резко выросли, и их страницы были полны самых яростных споров о «вопросах», как называли тогда самые животрепещущие проблемы текущего времени. Толстой, как всегда, пошел против течения. Запершись в Ясной Поляне, он воображал героическое прошлое, когда дворяне и крестьяне могли понимать друг друга, и пытался воссоздать это взаимопонимание в совершенно иную эпоху и при радикально изменившихся обстоятельствах.
К середине 1860-х годов история амнистированных заговорщиков уже успела устареть. Толстой углубился дальше в прошлое, чтобы отыскать истоки самопожертвования его героев. «Декабристы» постепенно становились «Войной и миром». По распространенной точке зрения, возникновение первых декабристских кружков было связано с заграничным походом русской армии – молодые офицеры освободили Европу, почувствовали на себе воздействие европейской свободы и уже не могли мириться с угнетением, которое застали на родине. Толстой оборвал свое повествование на изгнании французской армии из России – с его точки зрения, дух свободы не был импортирован из-за границы, но возник из единения дворян со своим народом в ходе войны.
В отличие от Оленина Пьеру Безухову не надо было заглушать в себе умственную работу, чтобы сблизиться с Платоном Каратаевым. Их разговоры во французском плену стали духовным откровением для любознательного барина. Точно так же князь Андрей испытал чувство общности с солдатами, которых вел на поле боя. Смертельно раненный в Бородинском сражении, он не смог вступить в ряды заговорщиков, но за него это суждено было сделать его сыну Николеньке.
По Толстому, не все классы русского общества принадлежали органическому народному телу. Придворные и бюрократы, в отличие от помещиков, офицеров, крестьян и солдат, не проводили свою жизнь на земле под открытым солнцем. Увидев белые, не покрытые естественным загаром руки Сперанского, князь Андрей не мог уже больше восхищаться великим реформатором. Образ жизни и повседневные привычки любого дворянина были для Толстого важнее его государственной деятельности. Еще меньшее значение имели для него политические взгляды. Пьер затевает конспиративное общество, а Николай Ростов говорит о своей готовности рубить бунтовщиков, если этого потребует данная им присяга, но оба они остаются родственниками, друзьями и глубоко русскими людьми.
В «Детстве» Толстой создал идеализированный образ дворянской усадьбы, увидев ее глазами ребенка. В романе, работать над которым он начал уже после отмены крепостного права, ушедший мир описан с абсолютно беззастенчивой ностальгией. В эпилоге Николай Ростов предстает перед читателем расчетливым и жестким землевладельцем, который не позволяет себе бить крестьян исключительно из уважения к нежным чувствам жены. Тем не менее «долго после его смерти в народе хранилась набожная память об его управлении. „Хозяин был… Наперед мужицкое, а потом свое. Ну и потачки не давал. Одно слово, – хозяин!“» (ПСС, XII, 257).
В наброске вступления к роману Толстой признается: он «боялся, что необходимость описывать значительных лиц [18]12-го года заставит» его «руководиться историческими документами, а не истиной». Ему удалось преодолеть эти опасения, поскольку он был убежден: «никто никогда не скажет того, что я имел сказать», – а «особенности» его «развития и характера» (ПСС, XIII, 53) обеспечивают ему такое понимание истории, которое не могут дать никакие документы. Подобного рода аргументы часто используются в документальной литературе, когда автор говорит о важности уникального личного опыта. Толстой использует те же мотивировки, чтобы обосновать свой рассказ об истории наполеоновских войн.
Он искал общие законы, определяющие движение истории, но полагал, что такие законы можно открыть, сосредоточившись на «художе[ственном] воспроизведении воспоминаний» – (ПСС, XV, 233–234; XLVIII, 87). В «Детстве», «Севастопольских рассказах» и «Казаках» достоверность обеспечивала фигура квазиавтобиографического наблюдателя. Теперь Толстому нужно было представить события, происходившие за полтора-два десятилетия до его рождения, как собственные личные воспоминания.
Чтобы достигнуть этого, Толстой пишет народный эпос как семейную хронику. Прозрачная игра с изменением фамилий и сохранение точных имен и отчеств его родителей и дедов в сочетании с тщательным воссозданием повседневной жизни обоих семейств позволяла придать повествованию ауру документальности. Разумеется, храбрый офицер и рачительный хозяин Николай Ростов ничем не походил на разочарованного либерального аристократа Николая Толстого, равно как набожная и смиренная Мария Болконская мало напоминала образованную и просвещенную Марию Волконскую. Толстой стремился не рассказать свою семейную историю, но добиться своего рода эффекта присутствия.
Как бы то ни было, история любви Николая и Марии находится в романе отчасти на заднем плане, подсвечивая основную сюжетную линию, в которой Толстой применил более сложный прием. Он разделил свое авторское alter ego между Пьером, у которого рассеянный образ жизни, эмоциональная лабильность, переменчивость мнений и страстное женолюбие сочетались с врожденной добротой, стремлением к нравственному самосовершенствованию и восхищением природной мудростью русских крестьян, и князем Андреем с его жаждой славы, наполеоновскими амбициями и аристократической надменностью. На долю каждого выпала одна из двух экзистенциальных проблем, мучивших Толстого всю его жизнь. Пьеру предстояло научить автора и читателей, как справиться с силой сексуальных влечений, Андрею – как смотреть в лицо смерти.
В «Войне и мире» Толстой предложил варианты решения обоих вопросов. Пьеру удается укротить свои инстинкты в браке, Андрей, почти оправившись от смертельного ранения, предпочитает вечную жизнь личному существованию и небесную любовь – земной. В ранних произведениях Толстого ясная и спокойная смерть выпадала только на долю простых и чуждых рефлексии персонажей, на этот раз он награждает светлым уходом героя, воплощающего возвышенную часть его души, в то время как ее земная половина получает возможность наслаждаться плотскими утехами в законном браке.
Одним из ранних названий романа была пословица «Все хорошо, что хорошо кончается». В этой редакции князь Андрей, по сути, отказывался от Наташи ради друга. В итоговом варианте все кончается еще лучше. В заочном поединке за сердце девушки Пьер берет верх не только потому, что князь Андрей уступил ему дорогу. Роман завершается победой земного над небесным, посюстороннего над потусторонним.
В 1860-х годах Толстой еще не пришел к яростному пацифизму, характерному для него во второй половине жизни. Его ужасали бессмысленные человеческие жертвы, но он продолжал считать войну с захватчиками естественным, а потому законным инстинктом людей, защищающих свою землю. Эту убежденность трудно было примирить с его природным анархизмом. Даже наиболее непримиримые критики любой государственности неохотно соглашаются с тем, что война является прерогативой централизованной власти. Толстой, однако, вовсе не был склонен к компромиссам и частичным уступкам. Разрешая эту дилемму, он выработал совершенно оригинальную и острополемичную теорию исторического процесса, определявшегося, с его точки зрения, «не властью ‹…› но деятельностью всех людей, принимающих участие в событии» (ПСС, XII, 322). Правители, вожди и полководцы лишь делают вид, что управляют миллионами людей, а на деле должны подчиняться их кумулятивной воле.
Любимым занятием Толстого в Ясной Поляне стало пчеловодство. Он проводил часы и дни на пчельнике, наблюдая за внешне хаотическими, но подчиненными сложной хореографии полетами пчел вокруг ульев. В 1864 году он послал Каткову перевод статьи Карла Фохта о пчелах, выполненный по его настоянию Елизаветой Берс, и написал в сопроводительном письме: «Я сделался страстным пчеловодом и потому могу судить об этом» (ПСС, LXI, 58). Катков не стал публиковать статью – он ждал от знаменитого писателя романа, а не сельскохозяйственных трактатов.
Работа над романом, однако, шла медленно и тяжело. Описать улей истории было невозможно, не восстановив траектории отдельных пчел. Толстой считал, что предметом истории «в равной мере ‹…› может быть описание жизни всей Европы и описание месяца жизни одного мужика в XVI веке» (ПСС, XLVIII, 126). Его радикальная историософия требовала новаторской психологии.
Толстой начал работу с того, что поставил под сомнение представления о единстве человеческой личности, традиционно лежавшие в основе и литературы, и моральной философии. В подготовительных записях к роману он утверждал, что установил «новый закон подчиненности личности законам движения ее во времени», который требует «отказаться от внутреннего сознания неподвижности единства своей личности» (ПСС, XV, 233–234). Мысли, чувства и решения того или иного человека в очень малой степени определяются его сознательными предпочтениями, но оказываются равнодействующими множества разнонаправленных импульсов, сталкивающихся в душе и делающих ее бесконечно подвижной и текучей.
Толстой называл эпизод несостоявшегося побега Наташи с Анатолем Курагиным «самым трудным местом и узлом всего романа» (ПСС, LXI, 180). Анатолю удается соблазнить Наташу не потому, что она перестала любить князя Андрея. Напротив, накануне его возвращения ее ожидание достигает наибольшей интенсивности, делая ее особенно подверженной эротическому опьянению. В то же время на более глубоком уровне ее роковое решение определяется тайным страхом перед предстоящей женитьбой. Несмотря на всю любовь к жениху, сексуальные инстинкты Наташи влекут ее к Пьеру, потому что она подсознательно чувствует, что именно от него может родить много здоровых детей.
В первоначальной редакции «Войны и мира», начерно завершенной в 1866 году, взаимное влечение Наташи и Пьера показано куда более открыто и определенно. В финале этой редакции князь Андрей спрашивает у Сони: любила ли Наташа «кого-нибудь сильно? ‹…› Я знаю, что меня она никогда не любила совсем. ‹…› Того (Анатоля. – А.З.) еще меньше. Но других, прежде? – Один есть, это – Безухов, – сказала Соня. – Она сама не знает этого»[19].
Когда Пьер впервые встречает Наташу после войны, он сначала не узнает девушку, которую любил всю жизнь и которую не видел всего несколько месяцев. Страдания сделали ее совершенно другим человеком. Однако когда она неожиданно улыбается Пьеру, он узнает не только ее, но – что, быть может, важнее – свою любовь к ней. Завораживающая сила и убедительность этого эпизода именно в его психологической парадоксальности.
Рассказывая потом Наташе о своей жизни за это время, Пьер говорит, что известие о смерти Элен «поразило» его и что ему «очень, очень жаль ее» (ПСС, XII, 220). Меньше чем за три месяца и за пятнадцать страниц романа по тексту ПСС до этой встречи выздоравливавший Пьер, «вспоминая, что жены и французов нет больше», думал: «Ах как хорошо, как славно!» (ПСС, XII, 205). Тем не менее он не пытается обмануть Наташу, просто под ее пристальным взглядом он действительно переродился, а значит, и его предшествующая жизнь во многих отношениях стала другой.
В статье «Несколько слов по поводу книги „Война и мир“» Толстой писал «о способности человека ретроспективно подделывать мгновенно под совершившийся факт целый ряд мнимо свободных умозаключений» (ПСС, XVI, 15). История людей, так же как история народов и государств, не только постоянно переписывается задним числом, но и сам механизм ее переписывания является «мнимо свободным», то есть принудительным, а значит, прошлое человека реально меняется с изменением его настоящего. Именно такая перемена и происходит с Пьером.
Повесть Сони Берс, сыгравшая столь значительную роль в истории ее отношений с будущим мужем, называлась «Наташа». В центре ее сюжета – любовное соперничество двух старших сестер, но главной героиней была наивная и очаровательная младшая сестра. Таня Берс сама выбрала себе литературное имя, и Толстой остановился на этом же решении. В письме художнику Михаилу Башилову, иллюстрировавшему роман, Толстой попросил его «Наташе придать тип Танички Берс». Он был уверен, что «как художник, посмотрев Танин дагерротип 12-ти лет, потом ее карточку в белой рубашке 16-ти лет и потом ее большой портрет прошлого года», Башилов «не упустит воспользоваться этим типом и его переходами, особенно близко подходящим к моему типу» (ПСС, LXI, 152–154).
Как свидетельствуют портреты, Таня Берс отнюдь не была красавицей. По словам Ильи Львовича, второго сына Толстых,
[у] нее был слишком большой рот, немного слишком убегающий подбородок и еле-еле заметная неправильность глаз, но все это только сильнее подчеркивало ее необыкновенную женственность и привлекательность[20].
Все дети Толстого, знавшие ее уже женщиной средних лет, которая пережила тяжелые личные драмы и потери, вспоминают о постоянно горевшем в ней огне жизни: он захватывал и заражал всех находившихся рядом. Когда Толстой женился на ее старшей сестре, Тане еще не исполнилось шестнадцати, но она первая в семье перешла с ним на «ты», а потом стала называть его прижившимся среди близких уменьшительным именем «Левочка».
Как и многие люди, наделенные холерическим темпераментом, Толстой был склонен к бурным приступам веселья. Его младшая дочь Александра, родившаяся, когда отцу было пятьдесят шесть, вспоминает, что
он смеялся, как смеются очень молодые существа, безудержно, прерывая иногда смех стонами изнеможения, всем телом раскачиваясь взад и вперед, смеялся до слез, сморкаясь и вытирая слезы; окружавшие часто, не зная даже в чем дело, глядя на него, тоже начинали смеяться[21].
Исполненная радости жизни Таня Берс была любимым спутником Толстого. Она проводила с ним часы на пчельнике, рыбалке и охоте. Через полтора года после свадьбы Соня жаловалась в дневнике, что «сердита» на Таню, которая «втирается слишком в жизнь Левочки», и признавалась, что от ревности ей «приходит в голову бог знает что» (СТ-Дн., I, 73). Молодая графиня бессознательно воспроизводила реакции старшей сестры на ее собственный роман с Львом Николаевичем.
У Тани было исключительное лирическое сопрано, Толстой любил аккомпанировать ей. По словам Александры, «и в пении, и в голосе ее был тот же неуловимый шарм, мелодичность и сдержанная страсть, как и во всем ее существе»[22]. Толстой чувствовал эту «сдержанную страсть» и откликался на нее. «Боязнь [?] Тани – чувственность», – записал он в дневнике через три месяца после свадьбы. Через две недели он несколько поправил себя: «Таня – прелесть наивности эгоизма и чутья. ‹…› Люблю и не боюсь» (ПСС, XLVIII, 47, 50). Его письма к ней исполнены абсурдистского юмора, вполне достойного «Алисы в Стране чудес», и отеческих наставлений «беречь свое сердце» и помнить, что «раз отданное сердце нельзя уж взять назад, и след остается навсегда в измученном сердце» (ПСС, LXI, 9).
«Я взял Таню, перетолок ее с Соней, и вышла Наташа»[23], – однажды сказал Толстой о своей любимой героине, наполняющей страницы «Войны и мира» чувством полноты и радости жизни. В то же время присутствие Софьи ощутимо только в эпилоге романа, когда Наташа неожиданно для читателя становится преданной, ревнивой и властной женой и заботливой матерью. В основной части текста Таня оставалась для автора главным источником вдохновения. Стоит заметить, что преображение, случившееся с Наташей, не повторилось в реальной жизни. Татьяна Берс сохраняла свое победительное женское обаяние долгие годы после замужества.
В то время, когда Толстой ухаживал за ее сестрой, Таня переживала детскую влюбленность в своего кузена Александра Кузминского. Описание первого поцелуя Наташи и Бориса Друбецкого основано на признании, которое она сделала Толстому. Ее последующие любовные приключения давали все новый материал для «Войны и мира» прямо по ходу работы Толстого над романом.
В 1863 году в Петербурге она познакомилась с Анатолем Шостаком, имевшим репутацию записного соблазнителя. Анатоль приехал к Тане в Ясную Поляну, где после их скандального свидания в лесу Софья и Лев, по существу, выгнали его из дома. Как написала в своих воспоминаниях Татьяна Андреевна, в следующий раз она встретилась с Анатолем только через двадцать лет. В то же время в письмах Софьи к мужу говорится, что Анатоль вновь приехал в Ясную Поляну и флиртовал с Таней уже после того, как ее захватило следующее увлечение, имевшее гораздо более драматичные последствия.
Единственный оставшийся в живых брат Толстого Сергей жил неподалеку от Ясной Поляны. Не обладая ни литературным даром, ни духовным беспокойством, свойственными его младшему брату, он имел столь же необузданный характер. И – в отличие от Льва – был хорош собой. Ко времени своего знакомства с Берсами он почти пятнадцать лет жил в гражданском браке и имел детей с цыганкой Марией Шишкиной. Увидев обеих сестер, Сергей удивился, что брат выбрал Соню, а не Таню. Он влюбился в свояченицу и сумел покорить ее сердце. Возможно, его задачу облегчило миметическое желание Татьяны войти в семью Толстых.
Сергей, однако, колебался, разрываясь между новой страстью и прежней семьей. Он умолял Таню не отвергать его, назначал сроки, когда примет окончательное решение, – и нарушал их, обещал приехать для решающего объяснения – и не появлялся. Доведенная до отчаяния, Таня приняла яд, но, к счастью, быстро раскаялась, призналась родным, и ее удалось спасти. Казалось, катастрофа разрубила узел, но, встретив Таню в Ясной Поляне летом 1865 года, Сергей вновь подпал под ее обаяние и сделал ей предложение, которое было принято. По церковным законам браки между свойственниками запрещались, поэтому они намеревались обвенчаться тайно, а позже легализовать брак с помощью связей Льва при дворе.
Эти планы рухнули в течение двух недель. Несмотря на сделанное им предложение руки и сердца, Сергей так и не мог решить, на ком ему следует жениться. Он то рассказывал, что почувствовал себя неспособным оставить Машу, когда случайно подглядел за ее уединенной молитвой, то жаловался, что Машины родители шантажируют его, угрожая донести о его незаконном браке. Вполне вероятно, что правдой было и то и другое. Униженная и негодующая Татьяна написала ему письмо, в котором освободила его от всех данных ей обязательств. В конце концов она вполне осознала, какую роль играла в этой истории, и была охвачена раскаянием и стыдом. Больше года после этого врачи опасались за ее здоровье.
Не будучи в состоянии находиться ни дома, ни в Ясной Поляне, Таня медленно выздоравливала в имении Дмитрия Дьякова, старого друга Толстого, который в юношеские годы служил для него образцом comme il faut и даже предметом отчасти гомоэротического поклонения. Чары Татьяны подействовали и на него. Однажды в ответ на ее отчаянные самообвинения он сказал, что, будь он «свободен и молод», «считал бы за счастье быть ее мужем»[24]. Вскоре жена Дьякова умерла, и он действительно сделал Татьяне предложение.
Толстой очень настойчиво советовал ей согласиться, стремясь, возможно, удержать ее в дружеском кругу, а быть может, и придать действительности больше сходства с сюжетом своего романа: Танины отчаяние и стыд и слова Дьякова отразились в знаменитом разговоре Пьера и Наташи после ее неудавшегося побега с Анатолем. Татьяна, однако, предпочла Кузминского, который все еще ждал своего шанса. Они обвенчались в августе 1867 года. По семейной легенде, по пути в церковь они встретили Сергея и Машу, тоже ехавших венчаться.
Годом раньше Таня пела в доме Дьяковых в присутствии Фета и его жены. Фет знал ее историю и знал, что доктора не рекомендуют ей петь, поскольку это считалось вредным для легких. Не исключено, что он думал и о возможном самоубийстве его бывшей возлюбленной Марии Лазич, которая тоже обладала ярким музыкальным дарованием. Через одиннадцать лет, еще раз услышав пение Татьяны Андреевны в Ясной Поляне, Фет вспомнил о давнем вечере в одном из самых прекрасных и прославленных своих стихотворений:
Ты пела до зари, в слезах изнемогая, Что ты одна – любовь, что нет любви иной, И так хотелось жить, чтоб только, дорогая, Тебя любить, обнять и плакать над тобой.Толстой одобрил стихотворение, но не чувство, которое его продиктовало. «Эти стихи прекрасны ‹…› – но зачем он хочет обнять Таню? Человек женатый…» – сказал он, характерным для него образом отказываясь различать жизнь и искусство[25].
Толстой проигнорировал просьбы Татьяны не делать ее личную жизнь достоянием гласности. Ему нужны были подробности любви, описания раскаяния и страданий, свидетелем которых он был и о которых она ему рассказывала, чтобы добиться необходимой меры правдоподобия. Он даже не дал себе труда изменить имя ее первого ухажера. Когда в 1868 году Кузминский узнал, что иллюстратор «Войны и мира» придал Наташе черты сходства с его женой, он распорядился, чтобы вся его семья уехала из Москвы. Он даже хотел разорвать связи с Толстыми, но Татьяна наотрез отказала, возразив: «[я] должна благословлять свою судьбу, что она послала мне счастье жить около такого человека»; по ее словам, всем, что есть в ней «хорошего и святого», она «только обязана ему, и больше никому»[26].
Татьяна знала, что Толстой сформировал ее личность, и ее исключительно талантливо написанные, хотя и не во всем достоверные мемуары, показывают, до какой степени она усвоила себе образ Наташи Ростовой. К сожалению, мемуары обрываются на времени, последовавшем за ее замужеством, и в них нет ничего о дальнейших приездах Кузминских в Ясную Поляну, которые продолжались еще долгие годы.
В своих воспоминаниях Илья Львович Толстой пишет:
Позднее, уже взрослым человеком, я часто задавал себе вопрос: был ли папа влюблен в тетю Таню? И я думаю теперь, что да. ‹…› То чувство, которое, как мне кажется, отец испытывал к тете Тане, французы называют amitié amoureuse ‹…› Я даже думаю, что в отце это чувство было настолько чисто, что он даже сам не отдавал себе в нем отчета[27].
Софья Андреевна, в позднейших, исполненных обиды мемуарах писала, что отношения между ее мужем и сестрой могли бы кончиться плохо, если бы у Татьяны не начался роман с Сергеем Николаевичем. Эти ретроспективные домыслы следует приписать ревнивому воображению графини. И для Толстого, и для Татьяны любая мысль о связи была бы совершенно непредставимой. И все же трудно заподозрить вечно копавшегося в себе Толстого с его обостренной психологической проницательностью в том, что он «не отдавал себе отчета» в собственных чувствах. Можно, пожалуй, сказать, что «Война и мир» представляет собой самое длинное и изощренное признание, которое мужчина когда-либо делал женщине.
Таня присутствовала на первом чтении начальных глав романа в семейном кругу и описала свои впечатления в письме к Поливанову, отвергнутому поклоннику Сони. По ее свидетельству, присутствовавшим «Пьер понравился меньше всех». Между тем ей самой он понравился «больше всех». «Я люблю таких»[28], – заключила она. Несомненно, она все сразу поняла.
Первые два фрагмента из романа появились в январском и февральском номерах «Русского вестника» за 1865 год под заглавием «1805». Всем было очевидно, что заглавие изменится, как только автор выйдет за обозначенные им хронологические рамки. Толстой писал не об ограниченном историческом эпизоде, но о самом движении времени. После годичного перерыва следующие три отрывка были напечатаны в том же журнале в первых номерах за 1866 год параллельно с началом «Преступления и наказания». Но если дисциплинированный Достоевский в течение года продолжал посылать в журнал главу за главой, то поклонникам Толстого пришлось подождать.
Уловив растущий читательский интерес, Толстой решил печатать продолжение романа не в журнале, а отдельным изданием, и в конце 1866 года опубликованные части были полностью перепечатаны под одним переплетом. Вскоре роман был начерно закончен, но затем Толстой вновь взялся за переписывание и переработку. Прошло еще два года, прежде чем в 1868-м вышли четыре полностью переделанных тома, на этот раз уже под окончательным заглавием «Война и мир». В следующем, 1869-м, году два последних тома завершили публикацию.
Завершение, впрочем, было условным. Повествование в «Войне и мире» скорее оборвано, чем доведено до конца. В эпилоге Пьер приезжает из Петербурга, где он принял участие в создании конспиративного общества, чтобы наслаждаться безмятежной семейной жизнью. Ему и Наташе кажется, что их злоключениям пришел конец, между тем как читатели понимали, чтó ожидает героев в ближайшем будущем. Ужасам французского плена, пожару Москвы, полным раненых каретам Ростовых суждено померкнуть на фоне десятилетий, которые Пьеру предстоит провести на каторге и в сибирской ссылке, а Наташе с детьми разделять его горестную участь. На последних страницах романа история взяла паузу, чтобы с еще большим ожесточением преследовать героев на новом этапе их жизни.
Готовя первые главы к публикации в «Русском вестнике», Толстой попросил Фета поделиться с ним мыслями о романе: «Пожалуйста, подробнее напишите свое мнение. Ваше мнение, да еще мнение человека, к[отор]ого я не люблю, тем более, чем более я выростаю большой, мне дорого – Тургенева. Он поймет» (ПСС, LXI, 72). В ответ Фет отправил Толстому несколько писем, переполненных самыми восторженными похвалами, а потом дополнил их стихотворением, где писал, что стоит в «священном трепете» перед «мощию стихийной» толстовского гения.
Вопреки ожиданиям Толстого Тургенев поначалу «не понял». В письме мужу сестры Фета И.П. Борисову он написал, что роман «положительно плох, скучен и неудачен». Особенно его раздражали «мелкие психологические замечания» «под предлогом „правды“». Тургенева удивляло, что автор ставит «этот несчастный продукт выше „Казаков“!» Постепенно, по мере публикации следующих томов мнение Тургенева стало смягчаться, но он так и не смог простить Толстому его «философствования» и его «Славянофильства»[29].
Реакция критики была противоречивой – многих смущало, что новая книга не вписывается в традиционные жанровые рубрики. Толстой сам настаивал на том, что его труд не подходит «ни под какую форму, ни романа, ни повести, ни поэмы, ни истории» (ПСС, XIII, 53), и считал, что критики должны помогать читателю распутывать сложные нити повествования, а не противопоставлять художественное философскому. В дневниковой записи он сравнил критиков, которые хвалят его за «катанье на святках, атаку Багратиона, охоту, обед, пляску» и ругают за «историческую теорию» и «философию», с собаками, которые принимают остатки, выброшенные поваром, за настоящее «блюдо, которое он готовит» (ПСС, XLVIII, 343). По воспоминаниям Татьяны Кузминской, когда ее брат, который был гвардейским офицером, спросил Толстого, почему его так беспокоит мнение критиков, тот ответил: «Ты ведь хочешь быть генералом от инфантерии? Да, а я хочу быть генералом от литературы»[30].
Он получил это повышение. Публика расхватывала вышедшие тома и жадно ждала следующих, даже недоброжелательные критики отмечали небывалый спрос и неутихающий читательский интерес. Гонорары Толстого существенно превзошли все его доходы с имения. Впрочем, восхищенные голоса раздавались и из рядов критиков. Николай Страхов, вскоре ставший одним из ближайших друзей Толстого, писал в январском выпуске журнала «Заря» за 1870 год:
Полная картина человеческой жизни.
Полная картина тогдашней России.
Полная картина того, в чем люди полагают свое счастие и величие, свое горе и унижение.
Вот что такое «Война и мир»[31].
С переменой образа жизни Толстой отказался от пристрастия к азартным играм. Ставки, которые он сделал на свою женитьбу и свой роман, в любом случае не могли бы быть выше. По прошествии семи лет ответ на вопрос, оправдался ли его расчет на семейную жизнь, оставался открытым. Но «Войной и миром» он определенно сорвал банк.
Вслед за победой неизбежно наступает завтра, когда все надо начинать сначала. Для Толстого это время настало уже в пору, когда он завершал чтение корректур последнего тома «Войны и мира». В августе 1869 года он отправился в Пензенскую губернию покупать имение. Цены на землю быстро росли, а у Толстых впервые появились свободные деньги, которые они хотели выгодно вложить. По дороге, ночью в гостинице уездного города Арзамас, Толстого охватил невыносимый и продолжительный ужас. Об этом припадке панического отчаяния он написал домой жене, а через пятнадцать лет описал его в неоконченном рассказе с гоголевским названием «Записки сумасшедшего»:
Зачем я сюда заехал. Куда я везу себя. От чего, куда я убегаю? – Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я, вот он, я весь тут. Ни пензенское, ни какое именье ничего не прибавит и не убавит мне. А я-то, я-то надоел себе, несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться и не могу. Не могу уйти от себя. Я вышел в коридор. Сергей спал на узенькой скамье, скинув руку, но спал сладко, и сторож с пятном спал. Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачало всё. Мне так же, еще больше страшно было. «Да что это за глупость, – сказал я себе. – Чего я тоскую, чего боюсь». – Меня, – неслышно отвечал голос смерти. – Я тут. Мороз подрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, она вот она, а ее не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал, тогда бы я боялся. А теперь я не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно. Я попытался стряхнуть этот ужас. (ПСС, XXVI, 469–470)
Психологический анализ Толстого, как всегда, безжалостно дотошен и детален. Он пишет не о страхе смерти – рассказчик знает, что не умирает, – а о страхе смертности. Нечто подобное Толстой испытывал около постели умирающего брата, но тогда к этому чувству примешивалось острое сострадание к родному человеку и завороженность таинством перехода в небытие, теперь же он имел дело с очищенной субстанцией ощущения собственной смертности, буквально высасывавшего из жизни любое подобие смысла. Масштаб ужаса отражал силу его привязанности к жизни, «потребности и праве на жизнь». Смерти, по глубокому убеждению Толстого, не должно быть, а между тем она была рядом, была повсюду и составляла единственную реальность.
Подобного рода переживания не были для него новыми. Толстой всегда был подвержен приступам тревожности и депрессии, а в этот раз он чудовищно переработал и был утомлен до предела. «Арзамасский ужас» настиг его в тот момент, когда он заканчивал книгу, в которой надеялся предложить убедительную разгадку тайны смерти. Однако освобождающее чувство всеобщей любви, с которой уходил из мира князь Андрей, оказалось недоступным для автора романа. Он не мог ни забыть о смерти, ни примириться с ней.
За день до того, как уехать в Пензу, Толстой сообщил Фету, что провел все лето, читая немецких философов. Он всегда полагал, что отвлеченные рассуждения бессмысленны, если не связаны прямо с практическими моральными проблемами, но, завершая свой монументальный труд, чувствовал потребность найти универсальное оправдание человеческому существованию.
Толстой счел Гегеля «пустым набором фраз» (СТ-Дн., I, 495), высоко оценил Канта и испытал «неперестающий восторг перед Шопенгауэром», доставившим ему «ряд духовных наслаждений», которых он «никогда не испытывал». Толстой сообщил Фету, что считает Шопенгауэра «гениальнейшим из людей», и предложил вместе переводить его сочинения (ПСС, XLI, 219). Впоследствии Фет выполнил это пожелание в одиночку, без помощи друга.
Шопенгауэр писал, что силой, определяющей наши решения, страсти и стремления, является подсознательная «воля к жизни». Порождаемые ею «желания беспредельны, ее притязания неисчерпаемы, и каждое удовлетворенное желание рождает новое». Человеческий разум в состоянии порождать только иллюзорные цели для любой деятельности, призванные скрыть от обреченного на гибель индивида неустранимую тщету всех его усилий и надежд. В действительности «…нет ничего на свете достойного наших стремлений, борьбы и желаний ‹…› все блага ничтожны ‹…› мир оказывается полным банкротом и жизнь – такое предприятие, которое не окупает своих издержек…»[32].
Такой взгляд был близок толстовским представлениям об истории как о человеческом улье, где движения пчел определяются общими законами, недоступными пониманию и контролю со стороны отдельных насекомых. Конечно, жажда жизни рассматривается в «Войне и мире» как безусловно творческая и благая сила, и все же воздействие немецкого мыслителя уже заметно во второй части эпилога. По мере того как Толстой подходил к концу своего труда, его оптимизм постепенно иссякал. Чтение Шопенгауэра способствовало происходившей в нем переоценке ценностей.
В 1865 году издатель журнала «Библиотека для чтения» Петр Боборыкин обратился к Толстому с просьбой о сотрудничестве. Боборыкин был популярным и невероятно плодовитым писателем, и все же сегодня о нем помнят прежде всего благодаря ответу, который ему написал, но решил не отправлять Толстой:
Вопросы земства, литературы, эмансипации женщин ‹…› в мире искусства не только не занимательны, но их нет. Вопросы эмансипации женщин и литературных партий невольно представляются вам важными в вашей литературной петербургской среде, но все эти вопросы трепещутся в маленькой луже грязной воды, к[отор]ая кажется океаном только для тех, кого судьба поставила в середину этой лужи. – Цели художества несоизмеримы (как говорят математики) с целями социальными. Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях. Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, к[отор]ым я неоспоримо установлю кажущееся мне верным воззрение на все социальные вопросы, я бы не посвятил и двух часов труда на такой роман, но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через 20 и будут над ним плакать и смеяться и полюблять жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы. (ПСС, XLI, 100)
Формула «ежели бы мне сказали» – конечно, дань риторическому этикету. В 1865 году Толстой не сомневался, что посвятил всю свою жизнь и силы именно такому делу. Он рассчитывал заслужить одобрение и заработать деньги, но эти цели были для него второстепенными сравнительно с потребностью найти решение терзавших его экзистенциальных проблем. Он приковал себя к письменному столу, стремясь научить людей «полюблять жизнь». Теперь, завершив работу, он сам не только не был способен полюбить жизнь, но остро ненавидел ее. Трудно было найти более сильное подтверждение правоте мысли Шопенгауэра об иллюзорности всех целей, которые человек ставит перед собой. В январе 1871 года Толстой написал Фету: «…писать дребедени многословной вроде Войн[ы] я больше никогда не стану. И виноват и ей-богу никогда не буду» (ПСС, XLI, 245).
Никогда прежде его депрессии не были столь острыми. Софья, которая уже многое успела повидать, была потрясена, видя своего гиперактивного мужа часами безжизненно лежащим на софе, глядящим в потолок и умоляющим ее оставить его в покое и дать ему умереть. Он боялся сойти с ума и не сомневался, что для него все кончено.
В конце 1850-х Толстой попытался выйти из куда менее глубокого кризиса, начав преподавать крестьянским детям. Теперь он решил повторить тот же маневр. В январе 1872 года в яснополянском доме открылась новая школа. Софья, а также их старшие дети Сергей и Татьяна помогали ему с преподаванием. Однако на этот раз Толстому пришлось вернуться к старым занятиям в совершенно изменившихся обстоятельствах.
Земская реформа принесла первые плоды поразительно быстро. Народное образование больше не представляло собой terra incognita. Число сельских школ росло, сотни будущих учителей изучали новые методы в университетах и семинариях. Двенадцатью годами раньше Толстой пытался популяризировать свои взгляды в педагогическом журнале. Теперь он пришел к выводу, что обращаться к педагогическому сообществу бессмысленно и лучше через его голову разговаривать с самими детьми. Он взялся за составление «Азбуки» и «Книг для чтения», которые в том же году начал печатать с помощью Софьи и Страхова, успевшего стать не только его близким другом, но и страстным популяризатором и усердным помощником.
Учебные книги Толстого выходили в свет между 1872 и 1875 годами и, во втором и полностью переработанном издании, в 1878–1879 годах. Толстой физически не был способен переиздавать старые произведения без того, чтобы коренным образом их не переработать, а иногда и полностью переписать. Впервые в жизни он писал не только о народе, но и для народа. Он собирался учить миллионы школьников основам чтения, арифметики, естественных наук и морали. Как всегда, он усердно и систематически готовился к работе: перечитал собрания народных песен, сказок и поговорок; жития святых, составлявшие главный источник религиозного образования для большинства крестьян; труды по математике, физике, астрономии, а также педагогические труды британских и американских авторов, занимавшихся организацией воскресных и летних школ для детей из низших классов.
Толстому, кроме того, предстоял непростой литературный эксперимент. Манеру, выработанную за многие годы мучительного труда, пришлось отбросить как «многословную дребедень». Он не мог позволить себе богатого словаря, сложного синтаксиса, выразительных метафор, отвлеченных рассуждений или тщательного психологического анализа. Его новые тексты размером от двух-трех фраз до нескольких страниц были написаны одинаково просто, сухо и бесстрастно. Произведения искусства почти всегда дают простор для различных, а порой и противоположных интерпретаций – жанр «Азбуки» и «Книг для чтения» не допускал и этого: моральный урок, содержавшийся в любом повествовании, должен был быть очевиден каждому и не нуждаться ни в каких объяснениях:
Один бедный пришел к богатому и стал просить милостыню. Богатый не дал ничего и сказал: «поди вон»! но бедный не уходил. Тогда богатый рассердился, поднял камень и бросил им в бедного. Бедный поднял камень, положил за пазуху и сказал: «до тех пор буду носить этот камень, пока не придется и мне бросить в него». И пришло это время. Богатый сделал дурное дело: у него отняли все, что у него было, и повезли в тюрьму. Когда его везли в тюрьму, бедный подошел к нему, вынул из-за пазухи камень и замахнулся; потом пораздумался, бросил камень наземь и сказал: «напрасно я так долго носил этот камень: когда он был богат и силен, я боялся его; а теперь мне жалко его» (ПСС, XXII, 84–85).
Этот рассказ служит иллюстрацией известной поговорки «носить камень за пазухой». Толстой говорит о бесполезности мести и необходимости прощения, обходясь без абстрактных слов и общих понятий, так, чтобы быть доступным восприятию шестилетнего ребенка, только научившегося читать. Сходным образом, объясняя основы естественных наук, он не пишет о законах и не приводит формул, а сосредоточивается на наблюдаемых явлениях вроде годового цикла времен года, на эффектах, которые производят нагревание и охлаждение, на таянии снега и испарении воды. Он разработал собственную технику изучения алфавита, больше, с его точки зрения, подходившую для детей, которые не могли посещать школу регулярно.
Первая реакция профессионального сообщества была отрицательной. Толстому не удалось получить одобрения Министерства народного просвещения, которое требовалось для того, чтобы его книги могли использоваться на занятиях. Почти все без исключения рецензии были враждебными. На издании Толстой потерял 2000 рублей, сумму в ту пору для него уже не критичную, но весьма чувствительную. Отвечая критикам, он написал:
Я был так твердо уверен в том, что эти книги отвечают настоятельнейшей необходимости русского народа, что не счел нужным предпосылать книге какие бы то ни было объяснения ‹…› почему и из чего она составлена, так же как бы [не] считает нужным хлебник, предлагая хлеб голодным людям, объяснять то, что хлеб надо есть, кладя его в рот, и что хлеб замешен из муки, затем пропечен в печи и т. п. (ПСС, XXI, 409)
Толстой был сторонником свободной системы обучения, основанной на потребностях самих крестьян и на их представлениях о том, чему следует учить их детей. Он не мог согласиться с тем, что у профессоров, педагогов, правительственных чиновников или выборных представителей есть право решать за крестьян, что и как надо преподавать в школах. Его оппоненты выступали за стандартную национальную образовательную систему, которой в России по-прежнему не существовало. Они хотели готовить учеников к будущему, которое их родители не могли себе даже вообразить. Толстой же стремился дать им необходимые средства для того, чтобы улучшить привычный им образ жизни.
Он в очередной раз ввязался в неравную борьбу и продолжал сражаться несмотря ни на что. В 1874–1875 годах он полностью переписал все учебные книги и выпустил «Новую азбуку», которая наконец получила официальное одобрение. Продажи резко подскочили. До конца жизни Толстого его буквари и книги для чтения выдержали двадцать восемь изданий, общим тиражом в два миллиона экземпляров. Они так и не были приняты в качестве учебных пособий, но вошли в круг начального чтения миллионов детей. Как минимум это был хороший плацдарм для продолжения кампании, но интерес Толстого к педагогике вновь стал постепенно сходить на нет.
Во время кризиса конца 1850-х – начала 1860-х годов Толстой прекратил печататься, но продолжал писать и искать новые творческие ресурсы. Сейчас он повторил этот опыт. Некоторое время он обдумывал переход от прозы к драматургии. В феврале 1870 года он написал Фету, что «целую зиму нынешнюю занят только драмой вообще» и «лица драмы или комедии начинают действовать» (ПСС, LXI, 228). Толстому уже случалось писать довольно посредственные комедии для домашнего пользования. Впоследствии он с немалым успехом возвращался к драматическому роду. Однако на этот раз его замыслы остались нереализованными.
В отличие от многих великих прозаиков-реалистов XIX века Толстой никогда не пытался устранить свой голос из повествования, чтобы добиться впечатления максимальной объективности. Напротив, он постоянно выходил на авансцену, комментируя, морализируя и направляя читателя. Драматическая форма не допускала такой формы проекции автора в текст. Вынужденный прятаться за героями, Толстой терял уверенность.
Один из его планов был связан с эпохой Петра Великого и его реформ, создавших полностью европеизированную элиту в глубоко неевропейской стране. В «Войне и мире» Толстой думал о том, как преодолеть этот разрыв, теперь же решил обратиться к его истокам. Выбрав тему, он решил отказаться от исторической трагедии ради куда более знакомого ему жанра.
Историки традиционно подчеркивали особую роль личности царя в вестернизации России, но этот подход противоречил толстовской философии истории. Он начал свой роман с противостояния молодого Петра и его старшей сестры Софии, выступавшей в роли регента. Когда Петр бежал из Москвы в Троицкий монастырь, София оставалась в Кремле, и подданным приходилось самим решать, кому служить и в каком стане находиться. Толстой сравнивал такое положение дел с чашами весов. Когда кто-то начинает сыпать зерно на одну сторону, противоположная поначалу остается без движения, но затем какая-то горсть отрывает ее от земли, после чего обе чаши уравновешивают друг друга и легкое прикосновение может решить исход дела. Написанный фрагмент завершался приездом в Троицкий монастырь фаворита Софии князя Голицына.
Работа Толстого над источниками была еще более основательной, чем когда он писал о войне 1812 года. Он изучал хроники, выписывал слова и словосочетания из исторических словарей, читал о повседневном быте петровского времени. Несмотря на все эти усилия, ему не удавалось войти в душу своих персонажей, они были слишком далеки от него самого. Ему упорно не давался эффект непосредственного присутствия, который бы создавал впечатление, что мысли, слова и поступки героев не выдуманы автором, но записаны по горячим следам. Софья Андреевна была права, когда 20 марта 1873 года писала сестре, что «все лица из времен Петра Вел[икого] ‹…› готовы, одеты, наряжены, посажены на своих местах, но еще не дышат. ‹…› может быть и они еще задвигаются и начнут жить, но еще не теперь» (ПСС, XVII, 632).
Ничего невозможного в этом не было. Толстой умел перерабатывать черновики и справляться с повествовательными проблемами. В декабре 1872 года он писал Страхову:
Да, пожелайте мне работать. До сих пор не работаю. Обложился книгами о Петре I и его времени; читаю, отмечаю, порываюсь писать и не могу. Но что за эпоха для художника. На что ни взглянешь, всё задача, загадка, разгадка котор[ой] только возможна поэзией. Весь узел русской жизни сидит тут. Мне даже кажется, что ничего не выйдет из моих приготовлений. Слишком уж долго я примериваюсь и слишком волнуюсь. Я не огорчусь, если ничего не выйдет. (ПСС, XLI, 349)
Его предчувствия сбылись, и огорчаться ему не стоило. Через три месяца в уже цитированном письме Татьяне Кузминской от 20 марта 1873 года Софья сообщила ей важную новость: «Вчера Левочка вдруг начал неожиданно писать роман из современной жизни. Сюжет романа неверная жена и вся драма, происшедшая от этого. Я этому рада, ты тоже, верно, будешь рада» (ПСС, XVII, 632).
На этот раз Толстой поначалу продвигался быстро. В мае он уже писал Страхову, что «начерно кончил» роман, «не имеющий ничего общего с Петром I», и что «увлечен весь» этим романом, который «очень взял его за душу» (ПСС, LXII, 25). В сентябре он извещал Фета, что «кончает начатый роман» (ПСС, LXII, 48). Эти сообщения оказались несколько преждевременными, но во второй половине 1874 года Толстой начал переговоры с издателями о публикации.
Он потребовал от Каткова десять тысяч рублей в качестве аванса. Когда тот стал торговаться, Толстой решил обратиться к Некрасову, который после закрытия «Современника» издавал журнал «Отечественные записки». Некрасов проявил интерес, и, возможно узнав об этом, Катков удвоил сумму. 1 января 1875 года Страхов поздравлял Толстого с тем, что ему «заплатили 20 000, небывалую цену за роман»[33].
Начало «Анны Карениной» печаталось в «Русском вестнике» с января по апрель 1875 года, следующий большой фрагмент – с января по апрель 1876-го, и еще один – с декабря 1876-го по апрель 1877-го. Длительные перерывы были связаны с тем, что темп работы Толстого замедлился: он, по своему обыкновению, переделывал и редактировал текст. В то же время ритм публикации способствовал созданию иллюзии, будто действие «Анны Карениной» происходит в реальном времени.
Текст романа как бы вбирал события, разворачивавшиеся по мере его написания: последствия военной реформы, новые придворные интриги, приезд в Петербург иностранной оперной труппы и, самое главное, соскальзывание России в войну с Оттоманской империей. Катковские издания стали главным рупором мобилизации русского общественного мнения в поддержку национальных движений в Сербии и Болгарии. В апреле 1877 года Александр II, поначалу не хотевший втягивать страну в военные действия, уступил давлению и объявил войну Турции. События, которые невозможно было предвидеть, когда Толстой начинал роман, отражались на его страницах и изменяли сюжет и судьбы героев.
Толстой был непримиримым противником панславизма и милитаристской идеологии его приверженцев. В последних главах «Анны Карениной», которые должны были появиться в майском выпуске «Русского вестника», он подверг их позицию сокрушительной критике. Катков потребовал снять самые резкие места, а когда Толстой наотрез отказался это делать, остановил публикацию, поместив вместо отвергнутого фрагмента краткий пересказ его содержания и анонс предстоящего отдельного издания. Взбешенный Толстой отозвался негодующим письмом и прервал все отношения с издателем. Книжная версия заключительной части появилась в июне, а полный текст романа, заново переработанный и отредактированный с помощью Страхова, – в январе 1878 года.
Несмотря на этот скандал, по содержанию «Анна Каренина» больше подходила для консервативного, чем для радикального журнала. Проблема женской эмансипации была в ту пору предметом горячих дебатов не только в России, но и во всей Европе. Написав в неотправленном письме Боборыкину, что этот вопрос «несоизмерим» с содержанием искусства, Толстой на самом деле не переставал им интересоваться. Примерно в это время он сочинял свои домашние комедии против жоржсандисток.
В 1863 году, когда Толстой начинал работу над «Войной и миром», неслыханная некомпетентность русских цензоров позволила Некрасову опубликовать в «Современнике» написанный в равелине Петропавловской крепости роман «Что делать?» Чернышевского – самого популярного и влиятельного последователя Жорж Санд в России. Довольно беспомощный в художественном отношении, роман этот был легкой добычей для критиков, но в нем впервые в истории русской литературы обсуждалась проблема сексуальной несовместимости супругов, а развод и гражданский брак пропагандировались в качестве способа разрешения семейных коллизий. Толстой уже вступал в спор с Чернышевским в эпилоге «Войны и мира», но его гнев не утихал.
В 1868 году он набросал черновик воображаемого разговора с дамами-критиками, где настаивал, что подлинное призвание женщины в материнстве, и утверждал, что «не знает примера ‹…› великого человека», который бы не был «любимцем матери», тем самым, по сути, закрывая себе возможность попасть в число великих людей (ПСС, VII, 135).
В следующем, 1869, году Джон Стюарт Милль опубликовал свою статью «О подчинении женщин», выступив в защиту женского равноправия. Статья сразу приобрела широчайшую популярность и появилась по-русски в двух разных переводах. С возражениями Миллю выступил Страхов, еще раз напомнивший о святости семейных уз и высшем назначении женщины. В то же время критик готов был признать, что формальное образование и профессиональная деятельность, возможно, способны принести пользу «бесполым женщинам»: тем, кому не посчастливилось исполнить свою миссию, или тем, которые вышли из репродуктивного возраста.
Компромиссы всегда претили Толстому. Он написал Страхову письмо, где поддержал его основные тезисы, но заметил, что бесполых женщин не существует – так же как «четвероногих людей» (ПСС, LXI, 251). Те из них, кто не нашел собственной семьи, могли реализовать себя, воспитывая чужих детей. Толстой переживал увлечение идеей Шопенгауэра о бессознательно-биологических импульсах, управляющих человеческим поведением, и готов был зайти настолько далеко, чтобы вслед за немецким мыслителем заключить, что проститутки, помогающие мужчинам справиться с избытком сексуальности, полезнее для человечества, чем женщины, служащие в конторах. Возможно, опасаясь скандализировать адресата, с которым он еще не был лично знаком, Толстой предпочел не отправлять письмо.
Для старого холостяка вроде Страхова все эти темы имели скорее абстрактный характер, для Толстого речь шла о самых главных вопросах его собственной жизни. Он женился за семь лет до этого, так как верил, что брак оправдывает и освящает половое влечение. Теперь ему начинало казаться, что сама по себе сексуальность подрывает и оскверняет семью и институт брака. В 1872 году в письме своей незамужней тетушке Александре он написал, что предстоящее замужество любимой племянницы напоминает ему «жертвоприношение, заклание на алтаре какого-то страшного и цинического божества» (ПСС, LXI, 251). Не приходится сомневаться, что он вспоминал при этом и о восемнадцатилетней девственнице, принесенной в жертву в дормезе после его свадьбы.
Толстой раскаивался в развратной добрачной жизни, которая отравила его душу и принуждала теперь развращать собственную жену, возбуждая в ней плотские желания. Незадолго до свадьбы Тани и Кузминского он признался Софье, что боится чувственности, которую замечает в молодых людях. Позднее в письме Татьяне он говорил о своей радости при известии о ее беременности и признавался в «неприятном чувстве», которое испытывал во время долгого интервала после предыдущей. Не исключено, что к этому чувству примешивался оттенок мужской ревности, и все же нет сомнения, что Толстой выражал свои выношенные убеждения.
«Связь мужа с женою не основана на договоре и не на плотском соединении. В плотском соединении есть что-то страшное и кощунственное. В нем нет кощунственного только тогда, когда оно производит плод. Но все-таки оно страшно, так же страшно, как труп. Оно тайна» (ПСС, XLVIII, 111), – записал он 14 февраля 1870 года, после завершения «Войны и мира».
Шопенгауэр считал любовь самой сильной человеческой иллюзией, необходимой, чтобы скрыть от самих себя стремление производить на свет себе подобных:
Браки по любви заключаются в интересах рода, а не индивидуумов. Правда, влюбленные мнят, что они идут навстречу собственному счастью: но действительная цель их любви чужда им самим, потому что она заключается в рождении индивидуума, который может произойти только от них[34].
С продолжением рода дело у Толстых обстояло благополучно. К огорчению Софьи Андреевны, ее муж был равнодушен к младенцам, зато сильно привязывался к детям, когда они начинали ходить и разговаривать. Софья была внимательной и заботливой матерью. Скорее всего, они были хорошими партнерами. Поначалу несколько напуганная темпераментом мужа, Софья, как она признается в мемуарах, постепенно научилась разделять его чувства. Тем не менее их совместная жизнь не становилась от этого легче, а ритм «сцен» и примирений супругов порой слишком зависел от приливов и отливов эротической страсти Льва Николаевича.
Восстанавливая в 1884 году историю семейного конфликта, Толстой написал: «Началось с той поры, 14 лет, как лопнула струна, и я сознал свое одиночество» (ПСС, XLIX, 57–58). В феврале 1871 года Софья родила пятого ребенка. Девочку назвали Марией в честь матери Толстого. И беременность, и роды проходили как никогда тяжело, и доктора считали, что новые дети могут представлять опасность для жизни Софьи Андреевны. Однако Толстой не мог согласиться на какие бы то ни было формы контрацепции, которая казалась ему более страшным злом, чем смерть.
В «Анне Карениной» окончательная деградация героини происходит не тогда, когда она изменяет мужу, и даже не тогда, когда уходит от него к любовнику, но когда она решает не иметь больше детей, чтобы оставаться сексуально привлекательной для Вронского. Именно отказ от материнства превращает ее в наркоманку и истеричку. До этого, в середине романа, Анна находилась на пороге смерти, но все же поправилась. Ретроспективно читатель вынужден заключить, что смерть была бы для нее предпочтительным исходом. Софья родила еще восьмерых детей, хотя трое из них, появившиеся на свет сразу после Марии, быстро умерли. Так или иначе, кризис начала 1870-х годов создал в семье глубокую трещину, которая так никогда и не затянулась.
Среди причин, подтолкнувших Толстого написать роман об адюльтере, есть и чисто литературные. Он был жадным читателем современной европейской прозы, в его дневниках, письмах и записанных разговорах упоминаются, чаще всего вполне благожелательно, десятки и сотни фамилий английских, французских и немецких романистов совершенно разного уровня. Однако одно имя блистает своим почти полным отсутствием. Толстой редко, неохотно и скупо отзывался о Флобере, стараясь вовсе не вспоминать о его главном произведении.
Исключения здесь только подтверждают правило. В 1892 году Толстой написал жене, что читает «Flaubert M-me Bovary [которая] имеет большие достоинства и не даром славится у французов» (ПСС, LXXXIV, 138) – очень сдержанная похвала и, как кажется, не очень убедительная попытка показать, что он прежде не читал этой книги. Между тем шедевр Флобера вышел в Париже в 1856 году. В январе 1857 года автор был отдан под суд за аморализм и триумфально оправдан месяцем позже. Когда Толстой через две недели после окончания процесса приехал в Париж, город все еще гудел. В Париже он проводил время с Тургеневым, который считал «Мадам Бовари» лучшим произведением «во всем литературном мире». Трудно представить себе, чтобы Толстой не познакомился с сенсационной новинкой.
Роман Флобера – идеальное воплощение духа реализма XIX века. Написанный с безукоризненной объективностью и отстраненностью, он с железной логикой прослеживает постепенное превращение набожной девочки, исполненной туманных поэтических мечтаний, в неверную жену, тратящую деньги мужа, чтобы удержать охладевшего любовника, и доведенную неминуемым разорением и разоблачением до мучительного самоубийства. Флобер тщательно избегает каких бы то ни было авторских комментариев и моралистических выводов, позволяя событиям говорить за себя. Через пятнадцать лет Толстой поднял перчатку и взялся представить свою версию истории любви, адюльтера и самоубийства.
Первые черновики «Анны Карениной» носили предварительный характер: имена героев, их внешность и детали их биографий еще не устоялись, куски текста не были готовы, и автор заполнял пробелы кратким изложением того, что собирался написать. Тем не менее, в отличие от «Войны и мира», Толстой с самого начала представлял себе логику сюжета и знал, к чему он хочет привести персонажей. Все три семьи героев, их родственные отношения, как и любовь двух главных героинь, Анны и Кити, к одному мужчине определяются уже в самых ранних набросках.
Толстой быстро пришел к решению начать роман с кризиса в семье Облонских (Алабиных) и завершить его самоубийством Анны на железнодорожной станции. Еще в начале 1872 года он специально отправился смотреть обезображенное тело Анны Пироговой, экономки и оставленной любовницы местного помещика, бросившейся под поезд после разрыва. Истории обеих Анн не имеют между собой ничего общего, но Толстой был потрясен ужасающей символикой трагедии.
В первых редакциях заметно также присутствие специфически шопенгауэровского извода женоненавистничества. Как утверждал немецкий философ, женщины созданы природой исключительно для того, чтобы привлекать мужчин и рожать детей, и потому склонны всегда искать партнеров, наиболее подходящих для произведения потомства. Анна изображена в ранних черновиках как похотливая самка, не столько безнравственная по своей природе, сколько исходно существующая вне всякой нравственности. Другие герои видят в ней одержимость дьяволом, злой силой, или, в терминах Шопенгауэра, «волей к жизни». Когда Анна узнает, что беременна от Удашева (Вронского), ее влажные глаза светятся счастьем.
По уже установившейся у него традиции, Толстой в ходе работы усложнял замысел, пряча швы и делая текст куда более тонким и неоднозначным. Действительно, если «воля к жизни» или «сила жизни», как назвал ее Толстой в эпиграфе к одной из глав, непреодолима, то кто и на каком основании может судить Анну, которая была в замужестве принесена в жертву на алтаре сексуальности и лишена того избавления, которое давали Кити или Долли частые беременности и роды.
В промежутке между работой над «Войной и миром» и «Анной Карениной» Толстой изучил древнегреческий язык, чтобы читать классиков в оригинале. Он хотел освоить Софокла и Еврипида и собирался использовать их опыт в своих драмах, но вместо этого превратил второй роман в античную трагедию рока. В окончательном тексте Анна не оправдана, но ее схождение в ад приобретает черты трагического величия.
Временна́я и культурная дистанция, отделяющая сегодняшнего читателя от русской аристократии второй половины XIX века, мешает разглядеть историческое смещение, лежащее в основе сюжета. Толстой очень преувеличивает стигму, которую по социальным нормам того времени накладывало на Анну ее поведение. Ее поступки, вне всякого сомнения, рассматривались бы в ту пору как в высшей степени скандальные, но едва ли они были уникальными и беспрецедентными.
В русском высшем свете случаи открытого адюльтера и гражданские браки отнюдь не являлись редкостью. В придворных кругах было известно, что император живет и имеет совместных детей со своей фавориткой Екатериной Долгорукой. Эта ситуация вызывала озабоченность у консервативной части двора, группировавшейся вокруг императрицы (Александра Андреевна Толстая была ее фрейлиной) и наследника престола. Разумеется, такая аристократическая фронда была бессильна против тренда, заданного царем-реформатором. Викторианская мораль плохо приживалась в стране, где буржуазия не могла задавать культурные стандарты.
Сестра Толстого Мария Николаевна рассталась с мужем и родила ребенка в гражданском браке с шведским виконтом Гектором де Клееном. Ее история сильно отличалась от истории Анны Карениной. Мария говорила, что не хотела «быть старшей султаншей в гареме»[35]. Оставленная виконтом, она покаялась в грехе и в конце жизни ушла в монастырь, но в любом случае никогда не воспринималась как пария. Еще более скандальная коллизия разворачивалась в семье Берсов.
25 января 1877 года, когда Толстой оканчивал «Анну Каренину», Софья Андреевна рассказывала Татьяне Андреевне о жизни их старшей сестры Елизаветы:
Лиза сестра нагла, решительна и противна до крайности. Начнет говорить о том, что мебель перебивает, и прибавит: «генерал в креслах червей завел». А между тем на деньги этого генерала ездит на чудесных лошадях, имеет бель-этаж в опере и носит на голове его фамильные бриллианты. Ужас и позор для всех нас. А этот кривой cousin с утра до ночи с ночи до утра у нее сидит, и она с ним всюду показывается[36].
Вероятно, окружающие не разделяли этого возмущения – в том же году Елизавета Андреевна развелась с мужем и вышла замуж за кузена. Ее общественный статус при этом особенно не пострадал.
В поворотном для отношений Анны и Вронского эпизоде, действие которого символическим образом разворачивается в театре, шепот сплетни разрастается до рева публичного осуждения – потому что он многократно усилен внутренним голосом самой Анны. Фурии, определяющие ее судьбу, доводящие ее до полубезумного состояния и в конце концов толкающие на рельсы, живут в ее собственной душе. В знаменитом эпиграфе «Мне отмщение, и Аз воздам» Толстой цитирует послание апостола Павла к Римлянам, и все же остается неясным, исходит ли воздаяние, постигшее Анну, от библейского Бога или от «страшного и цинического» божества плотской любви.
«Эмма Бовари – это я», – однажды сказал Флобер, отвечая на вопрос о прототипах своей героини. Едва ли Толстой так же отозвался бы об Анне, хотя он и наделил ее хорошо знакомым ему самому огнем неутоленных страстей. В то же время он, безусловно, мог бы сказать это о Константине Левине – даже фамилия героя произведена здесь от имени автора. Толстой отдал Левину многие обстоятельства собственной жизни, черты характера, бытовые вкусы и привычки, методы ведения хозяйства, политические и социальные взгляды, а также постоянное душевное и духовное беспокойство – едва ли не всё, кроме литературного дара. На долю Вронского, образца идеального мужчины comme il faut, уже, собственно, мало что осталось.
Ближе к концу романа Толстой специально обращает внимание читателя на то, что «несмотря на резкое различие, с точки зрения мужчин, между Вронским и Левиным», Анна, «как женщина, видела в них то самое общее, за что и Кити полюбила и Вронского, и Левина» (ПСС, XIX, 281). Общим в них было то, что оба служили проекциями разных сторон внутреннего мира автора, вновь, как и в «Войне и мире», разделившего себя между двумя персонажами. И Наташа, и Кити сначала отдают свое сердце безукоризненным офицерам, но потом понимают, каково их истинное чувство и предназначение. В «Анне Карениной» Толстой идет и дальше. В одном из центральных эпизодов романа Левин, как до него Вронский, подпадает под очарование Анны и, по существу, влюбляется в нее. Когда он возвращается домой, сцена ревности, которую устраивает ему Кити, может на первый взгляд показаться нелепой – не произошло решительно ничего, что хоть сколько-нибудь угрожало бы прочности ее семейного очага. И все же и Левин, и автор, и читатель понимают, что Кити права. «Прекрасно влюбился в Каренину и нехорошо, и жена резко ударяет на все это»[37], – отозвался на этот эпизод Фет.
Соотношение между семейными историями Левина и Анны часто рассматривают через призму открывающей книгу сакраментальной сентенции: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» (ПСС, XVIII, 3). Однако смысл композиции романа, как и значение самой этой фразы, невозможно свести к прямолинейному противопоставлению. «Как известно, счастливые браки редки», – написал Шопенгауэр[38]. Толстой изобразил две счастливые семьи в эпилоге «Войны и мира» и навсегда потерял интерес к этой теме.
Русским школьникам уже успела набить оскомину фраза, сказанная Толстым жене в марте 1877 года: в «Анне Карениной» он любит «мысль семейную», а в «Войне и мире» любил «мысль народную, вследствие войны 1812 года» (СТ-Дн., II, 502). Высказывание это стоит, однако, поставить в контекст обстоятельств работы Толстого над обоими романами. В первом, написанном в эпоху резкого разрыва социальной ткани русского общества, он пытался создать картину былого народного единства. Во втором романе он думал о единстве семьи в ту пору, когда все явственнее обнаруживался непоправимый разрыв в его собственной семье. Это разочарование вполне отозвалось и на страницах «Анны Карениной». В одном из черновых набросков к роману Толстой написал:
Мы любим себе представлять несчастие чем-то сосредоточенным, фактом совершившимся, тогда как несчастие никогда не бывает событие, a несчастие есть жизнь, длинная жизнь несчастная, т. е. такая жизнь, в которой осталась обстановка счастья, а счастье, смысл жизни – потеряны. (ПСС, ХХ, 370)
Сказаны эти слова о Каренине, но применимы не только к нему. Именно потеря смысла жизни доводила Левина, «счастливого семьянина и счастливого, здорового человека», до того, что он «спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться» (ПСС, XIX, 371). Взаимная привязанность и любовь к детям спасают семью Левина и Кити от трагедии, постигшей Анну и Каренина, и деградации, произошедшей с семьей Стивы и Долли, но они «несчастливы по-своему». В последней сцене основной части романа Левин принимает решение не рассказывать Кити о своем религиозном откровении, которое должно остаться тайной, «нужной, важной и невыразимой словами» (ПСС, XIX, 399). Утопия семьи как единой личности исчерпала себя.
Кризис, из которого его вывело религиозное обращение, начался у Левина после смерти брата. Толстой никогда не нуждался в напоминаниях о том, что смерть рядом, но 1870-е годы предоставили ему много поводов для мыслей на эту тему. 1873 год, когда Толстой начал «Анну Каренину», принес известие о смерти Даши Кузминской, старшей дочери Татьяны Андреевны и любимице обеих семей. Через несколько месяцев внезапно умер полуторагодовалый Петр, четвертый сын Льва и Софьи. В следующем году ушла из жизни любимая тетушка Туанет, Татьяна Александровна Ергольская. В 1875-м не стало тетушки Пелагеи Ильиничны Юшковой, присматривавшей за юным Львом в Казани и доживавшей последние годы в Ясной Поляне. В том же году умерли дети Толстого Николай и Варвара: первый не дожил до года, вторая скончалась вскоре после рождения. Смерть сопровождала работу Толстого над романом, действие которого начинается с гибели железнодорожного рабочего под колесами поезда, предвосхищающей самоубийство Анны в финале.
В «Войне и мире» – и в силу ее военной тематики, и потому, что там вообще намного больше персонажей, – Толстой описывал смерть чаще, чем в «Анне Карениной». Однако там смерть представала как естественная часть круговорота жизни. Старых князя Болконского и графа Ростова сменяют внуки, смерти Элен и князя Андрея освобождают Пьера и Наташу для нового чувства и дают им возможность завести настоящую семью. В мире «Анны Карениной» одни смерти только порождают другие: самоубийство Анны побуждает Вронского искать гибели на войне, кончина брата доводит Левина до чувства абсолютной безысходности, от которого его спасает только верующий крестьянин.
В конце января – начале февраля 1873 года Толстой писал Александре Толстой, что, «заглянув в «Войну и мир», он испытал
чувство раскаянья, стыда ‹…› вроде того, которое испытывает человек, видя следы оргии, в которой он участвовал. – Одно утешает меня, что я увлекался этой оргией от всей души и думал, что кроме этого нет ничего. (ПСС, LXII, 8–9)
Он также извещал Александру, что «почти что пишет» новую вещь. Поначалу новая работа увлекла его, и все же некогда испытанная им творческая оргия не повторилась. В августе 1875 года Толстой жаловался Страхову, что должен браться за «скучную, пошлую А[нну] Карен[ину]» и «молит бога только о том, чтобы он» дал ему «силы спихнуть ее как можно скорее с рук» (ПСС, LXII, 197). Через два месяца он объяснял Фету: «для того, чтобы работать, нужно, чтобы выросли под ногами подмостки», и он «сидел дожидался», пока они вырастут, но теперь дождался и «засучивает рукава» (ПСС, LXII, 208–209). Ему было нелегко по-настоящему проникнуться сознанием значимости того, что он пишет.
Неудивительно, что новому роману недоставало той «стихийной мощи», которая потрясла Фета в предыдущем. Толстой восполнил это абсолютным повествовательным мастерством, которое побудило хорошо разбиравшегося в тайнах жанра Уильяма Фолкнера назвать «Анну Каренину» лучшим романом «из всех, которые когда-либо были написаны». В черновике вступления к «Войне и миру» Толстой утверждал: «Мы, русские, вообще не умеем писать романов» (ПСС, XIII, 54). Теперь он, кажется, решил опровергнуть тех, кто понял его слишком буквально. По словам автора, он писал «именно роман, первый в моей жизни» (ПСС, LXII, 25).
В новом творении Толстой стремился избежать восхитительных погрешностей «Войны и мира»: раздражающе длинных отступлений, резких и неподготовленных преображений героев, сюжетных нестыковок вроде тринадцатимесячной беременности маленькой княжны. Экзистенциальный ужас, пронизывающий страницы «Анны Карениной», должен был быть уравновешен идеальным совершенством формы. Педагог Сергей Рачинский, один из немногих представителей русского образовательного сообщества, восхищавшихся толстовскими «Азбукой» и «Книгой для чтения», написал автору, что роману недостает «архитектуры» и что две его темы «развиваются великолепно», но «ничем не связаны». Толстой, почти никогда не заступавшийся за свои законченные произведения, на сей раз счел нужным возразить:
Я горжусь, напротив, архитектурой – своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок. И об этом я более всего старался. Связь постройки сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи. (ПСС, LXII, 377)
В мае 1873 года, работая над первой редакцией «Анны Карениной», Толстой написал Страхову, что «добро и зло суть только матерьялы, из которых образуется красота» (ПСС, LXII, 24). В предпоследней части, ожидая Анну в кабинете в доме Вронского, Левин «не может оторваться» от «удивительного портрета» на стене:
Это была не картина, а живая прелестная женщина с черными вьющимися волосами, обнаженными плечами и руками и задумчивою полуулыбкой на покрытых нежным пушком губах, победительно и нежно смотревшая на него смущавшими его глазами. Только потому она была не живая, что она была красивее, чем может быть живая. (ПСС, XIX, 273–274)
Когда Анна входит, она оказывается «менее блестяща в действительности, но зато в живой было и что-то такое новое привлекательное, чего не было на портрете» (Там же).
Мир, о котором писал Толстой, рушился, но при этом был завораживающе прекрасен. Толстой рассказывал о нем, не уходя с «подмостков» и не пытаясь, по примеру Флобера, сделать собственное присутствие незаметным. Эффект предельного реализма, которого он достигал, возникал не от того, что он «объективно» описывал своих героев, но от того, что он показывал, как он описывает своих героев, гарантируя тем самым абсолютную достоверность изображения.
«Анна Каренина» вызвала гнев радикальных критиков. Некрасов, возможно, все еще переживавший из-за того, что так и не сумел получить рукопись, отозвался эпиграммой: «Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом, что женщине не следует „гулять“ ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, когда она жена и мать»[39]. Он, по существу, свел смысл романа к плоскому морализированию. Критик, народник Петр Ткачев, назвал «Анну Каренину» «новейшей эпопеей барских амуров»[40].
Эти предсказуемые выпады не могли поколебать успеха книги, который обозначился сразу после появления первых фрагментов и только рос по мере публикации. Читатели набрасывались на новые номера «Русского вестника» и охотно покупали отдельные издания. Толстой рассчитывал, что планировавшееся собрание его сочинений, куда должна была войти «Анна Каренина», принесет ему 60 000 рублей дохода. Отзывы многих критиков также оказались более восторженными, чем можно было ожидать.
Толстой должен был обратить особое внимание на оценку Достоевского, которым всегда интересовался и как «мучеником 1848 года», и как мыслителем. Толстой сдержанно относился к большим романам Достоевского, но считал «Записки из мертвого дома» «лучшей книгой изо всей новой литературы, включая Пушкина». Это, по словам Толстого, «истинное, естественное и христианское» (ПСС, LXIII, 24) повествование говорило о вечно близком его сердцу предмете – встрече дворянина-интеллектуала и людей из народа, сведенных вместе на каторге.
Достоевский назвал «Анну Каренину» явлением «небывалым доселе у нас» по «огромной психологической разработке души человеческой, с страшной глубиною и силою» и по «реализму художественного изображения». В его глазах, «книга эта прямо приняла размер факта, который бы мог отвечать за нас Европе»[41]. В разговоре со Страховым, передавшим эти слова Толстому, Достоевский назвал автора «Анны Карениной» «богом искусства». Разумеется, Достоевский с его имперским и религиозным мессианизмом был разочарован взглядами Толстого на войну на Балканах и тем, что обращение Левина происходит под воздействием простого мужика без какого бы то ни было участия православной церкви.
Вскоре после завершения романа Толстой написал письмо Тургеневу, где попросил прощения за все, чем был виноват перед ним, заверил, что не имеет к нему вражды и помнит, что именно Тургеневу «обязан своей литературной известностью», и предложил «всю ту дружбу, на которую ‹…› способен» (ПСС, LXII, 406–407). Письмо не могло прийти в более подходящий момент. Здоровье Тургенева ухудшалось, его творческие силы были подорваны, у новых поколений читателей он выходил из моды. Его основной миссией стала пропаганда русской литературы в Европе, и романы Толстого были его главным ресурсом.
Читая письмо, Тургенев заплакал и при первой возможности навестил старого друга и врага в Ясной Поляне. Они встретились еще пять раз. Иван Сергеевич очаровал семейство Толстого забавными историями из парижской жизни, а однажды даже исполнил канкан перед его женой и дочерями. Против обыкновения, Толстой не возражал и не спорил и только записал в дневнике: «Тургенев cancan. Грустно» (ПСС, XLIX, 57).
Тургенев поначалу скептически воспринял оба главных романа Толстого. После выхода первых частей «Анны Карениной» он писал Я.П. Полонскому:
«Анна Каренина» мне не нравится – хотя попадаются истинно великолепные страницы (скачка, косьба, охота). Но все это кисло, пахнет Москвой, ладаном, старой девой, славянщиной, дворянщиной и т. д.[42]
Теперь он поменял свою точку зрения. В 1879 году в Париже вышел первый французский перевод «Войны и мира». Скорее всего, это предприятие было вдохновлено Тургеневым. В переполненном самыми восторженными похвалами письме издателю французской газеты «XIX век» Эдмонду Абботу он назвал «Войну и мир» «великим произведением великого писателя и настоящей Россией». Тургенев также послал экземпляры перевода ведущим французским критикам и авторам, включая, разумеется, своего литературного кумира.
Флобер отозвался быстро. В письме, полную копию которого Тургенев отправил Толстому в январе 1880 года, он пожурил автора за повторы и философствование, но в целом его впечатления были более чем благоприятными. Флобер нашел роман «первоклассным» и «очень сильным», восхитился автором как художником и психологом, порой напоминающим Шекспира, и признался, что по ходу чтения «вскрикивал от восторга»[43]. Автор «Мадам Бовари» умер в том же году и не смог прочитать «Анну Каренину», вышедшую по-французски только через пять лет.
Реакция Толстого на этот отзыв неизвестна, скорее всего, он остался равнодушным. После окончания «Анны Карениной» его волновали совсем другие проблемы. Поначалу, завершив многолетний труд, он рассчитывал вернуться к двум своим старым замыслам – романам о Петре I и о декабристах в Сибири.
Первый принял форму эпического повествования с предварительным названием «Сто лет»; оно должно было разворачиваться параллельно при дворе и в крестьянской хижине и охватывать хронологический промежуток от появления на свет царя-реформатора и до воцарения Александра I в 1801 году. Во втором романе «любимой мыслью» автора должна была стать «завладевающая» (СТ-Дн., II, 502) сила русского народа, выразившаяся в массовом переселении крестьян в Сибирь, где они должны были встретиться с сосланными заговорщиками. Вместе с уже написанными «Войной и миром» и «Анной Карениной» эти произведения складывались в грандиозную тетралогию, описывающую два столетия русской истории.
Эти планы рассыпались довольно быстро. Историческая философия «Войны и мира» предполагала, что действия правителя являются равнодействующей воли всего народа, а следовательно, победа Петра означала, что история была на его стороне. Толстой больше не мог в это верить. Чем глубже он погружался в эпоху, тем более царь-преобразователь выглядел в его глазах «всегда пьяным, развратным сифилитиком», «собственноручно для забавы рубившим головы стрельцов» (ПСС, XXXV, 552) – как он отозвался о Петре четверть века спустя в черновиках «Хаджи-Мурата».
Уже в 1870 году, изучая «Историю России» С.М. Соловьева, Толстой отметил в записной книжке:
…читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли (только об этом и речь в истории), невольно приходишь к вопросу: чтó грабили и разоряли? А от этого вопроса к другому: кто производил то, что разоряли? Кто и как кормил хлебом весь этот народ? Кто делал парчи, сукна, платья, камки, в к[оторых] щеголяли цари и бояре? Кто ловил черных лисиц и соболей, к[оторыми] дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил товары? ‹…›
Народ живет, и в числе отправлений народной жизни есть необходимость людей разоряющих, грабящих, роскошествующих и куражущихся. И это правители – несчастные, долженствующие отречься от всего человеческого. (ПСС, XLVIII, 124)
В ту пору Толстой еще полагал, что государственная власть, сколь бы омерзительна она ни была, представляет собой необходимое «отправление народной жизни». Десятилетием позже он уже не мог отыскать никаких оправданий «грабежу и разорению». Одно дело было писать историю страны, другое – историю банды разбойников. Однако таким образом утрачивала смысл и история крестьянской избы, обитатели которой превращались из действующих лиц исторического процесса в его жертв. Толстой слишком хорошо знал свое ремесло, чтобы не понимать: выстроить на таком фундаменте большое повествование совершенно невозможно.
История ссыльных декабристов также утратила для Толстого свою привлекательность. Диалог между дворянами и крестьянами, который он хотел вообразить, становился бессмысленным, поскольку образованному сословию было нечего сказать тем, кто обрабатывает землю. Лучшим решением для него было бы просто исчезнуть и дать страдающему народу спокойно жить в соответствии с собственными ценностями и идеалами.
В апреле 1878 года, через три месяца после публикации полного текста «Анны Карениной», Толстой поделился со Страховым своими чувствами:
…всё как будто готово для того, чтобы писать – исполнять свою земную обязанность, а толчка веры в себя, в важность дела нет, недостает энергии заблуждения, земной стихийной энергии, которую выдумать нельзя. И нельзя начинать. (ПСС, LXII, 410–11)
«Энергия заблуждения», которая поддерживала его труд, вырабатывалась верой, что его романы могут изменить мир или, что было для него не менее важно, его самого. В пору работы над «Войной и миром» эта энергия переполняла его, когда он писал «Анну Каренину», ему удавалось поддерживать ее в себе. Теперь никакие литературные планы не могли породить в нем подобного заблуждения.
В «Исповеди», написанной в 1879 году и напечатанной в 1882-м, Толстой рассказал, как вся его внутренняя жизнь была парализована простым вопросом, который он снова и снова задавал самому себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, – ну и что ж!..» Как признается Толстой, он не мог ответить на этот вопрос «ничего и ничего» (ПСС, XXIII, 11).
Глава третья Одинокий вождь
Основная часть «Анны Карениной» завершается религиозным обращением Левина. На страницах романа Толстой и откликался на происходящие вокруг события, и описывал свои духовные поиски почти в режиме реального времени. Левин пришел к вере примерно тогда же, когда и автор. Доведя повествование до конца, Толстой окончательно пришел к выводу, что только Бог может вернуть смысл человеческому существованию в мире, пронизанном смертью.
В «Исповеди» Толстой представил свой путь как историю скептика, почти атеиста, наконец осознавшего тщету таких земных благ, как литературная слава и материальное благополучие. Картина, которую можно восстановить по его дневникам, выглядит несколько иначе. На протяжении десятилетий Толстой призывал Господа на помощь и мечтал уверовать по-настоящему. В июне 1851 года он сражался с «мелочной, порочной стороной жизни» и молился Богу, стремясь «слиться с Существом всеобъемлющим», и эта молитва дала ему подлинную «сладость чувств» (ПСС, XLVI, 61–62). В другой раз он написал, что «не понимает необходимости существования Бога», но «верит в него и просит помочь ‹…› понять его» (ПСС, XLVI, 168).
Подобного рода духовные эпифании происходили и с героями Толстого: у князя Андрея, когда он смотрел в небо Аустерлица и перед смертью; у Пьера при обращении в масонство и во французском плену. Анна и ее муж испытывают восторг христианского всепрощения, когда она смертельно заболевает после родов. Однако за очевидным исключением последнего откровения князя Андрея этот экзистенциальный опыт оказывается, по точному выражению Л.Я. Гинзбург, «обратимым»[44]. Те из персонажей, кому суждено остаться в живых, неизбежно возвращаются к прежнему строю чувств. На этот раз Толстой заставляет читателя предположить, что новообретенная вера навсегда останется с Левиным и изменит его жизнь.
В 1873 году, незадолго до начала работы над «Анной Карениной», Толстой писал атеисту Фету, что таинство смерти требует «религиозного уважения». Его брат Сергей заказал православное погребение своему умершему ребенку, и несмотря на «почти отвращение к обрядности», которое испытывали оба брата, Толстой вынужден был признаться, что не видит альтернативы:
ну а что бы брат сделал, чтобы вынести, наконец, из дома разлагающееся тело ребенка? ‹…› Религия уже тем удивительна, что она столько веков, стольким миллионам людей оказывала ту услугу, наибольшую услугу, которую может в этом деле оказать что-либо человеческое. С такой задачей как же ей быть логической? Она бессмыслица, но одна из миллиардов бессмыслиц, которая годится для этого дела. Что-то в ней есть. (ПСС, LXII, 7)
За несколько лет Толстой прошел путь от «религиозного уважения» к полноценной религиозности. Как и Левин, он ожидал духовного руководства от простых крестьян, работавших на его земле, и для него было естественно принять веру, которая поддерживала этих людей и освобождала их от страха перед неизбежным уходом.
Православие Толстого было страстным и напряженным. Он строго соблюдал пост и выстаивал долгие службы, отбивая поклоны и преклоняя колени. Он отправился в Киев приложиться к мощам первых русских святых. Он посещал монастыри, чтобы разговаривать о вере с духовными авторитетами. Особенно важным для него было паломничество в Оптину пустынь, которую как раз в эти годы описывал Достоевский в «Братьях Карамазовых». Там он долго беседовал со старцем Амвросием, послужившим Достоевскому одним из прототипов Зосимы. Поставив своей задачей прочитать Евангелия в оригинале, Толстой стал изучать теологическую литературу и древнееврейский язык.
Однако чем глубже он погружался в мир церкви и традиционного православия, тем меньше веры обнаруживал в своей душе. Он, как написано в «Исповеди», «завидовал мужикам за их безграмотность и неученость», но полностью разделить их веру был не в состоянии:
Слушал я разговор безграмотного мужика-странника о боге, о вере, о жизни, о спасении, и знание веры открылось мне. Сближался я с народом, слушая его суждения о жизни, о вере, и я все больше и больше понимал истину. ‹…› Но стоило мне сойтись с учеными верующими или взять их книги, как какое-то сомнение в себе, недовольство, озлобление спора возникали во мне, и я чувствовал, что я, чем больше вникаю в их речи, тем больше отдаляюсь от истины и иду к пропасти. (ПСС, XXIII, 52)
С юности Толстой был уверен, что Бог наделил людей разумом и моральным чувством, чтобы уметь отличать истину от заблуждения. Подлинная религия не нуждается в сложных догматах и церковных институтах, поскольку ее постулаты должны быть простыми, ясными и самоочевидными. Историческое христианство, укорененное в таинствах, которые следует принимать на веру, но нельзя постигнуть умом, не соответствовало этим критериям.
Само число христианских деноминаций и накал споров между ними свидетельствовали, с точки зрения Толстого, о том, что ни одна из них не сохранила верность евангельскому духу. Тем более не мог он принять преследования иноверцев и освящение войн и казней, которые были традиционной исторической практикой большей части христианских церквей. Разрыв Толстого с православием стал итогом долгих и мучительных размышлений, но, как это чаще всего с ним бывало, внешне выглядел мгновенным и решительным: за ужином во время поста он попросил передать ему тарелку с котлетами, приготовленными для не постившихся членов семьи.
Уже в 1855 году в Севастополе Толстой «чувствовал себя способным посвятить жизнь» «великой, громадной мысли» – «основанию новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле» (ПСС, XLVII, 37).
Молодой офицер надеялся «действовать сознательно» во имя достижения этой цели. Достигнув пятидесятилетия и написав великие романы, Толстой почувствовал, что готов взяться за исполнение этой миссии. Ему предстояло преодолеть почти двухтысячелетнюю историю лжи и заблуждений и принести миру подлинное, неискаженное слово Христа.
Толстой не собирался исправлять, очищать и реформировать существующую церковь – мантия Мартина Лютера была для него слишком тесна. Он хотел создать новую религию, которая основывалась бы на духе Евангелия и прежде всего Нагорной проповеди, но решительно отвергал такие важные составляющие новозаветного канона, как Деяния апостолов или Апокалипсис, и такие фундаментальные христианские догматы, как непорочное зачатие, Святая Троица и воскресение.
С 1879 по 1882 год Толстой создал теологическую трилогию, которая должна была послужить фундаментом «религии Христа, очищенной от веры и таинственности». В «Исповеди» он проследил свою духовную эволюцию от инстинктивной религиозности детских лет через грехи и соблазны юности, литературные и хозяйственные заботы семейной жизни, невыносимое отчаяние безверия, принятие православия и, наконец, отказ от него и переход – к пониманию вечных и простых истин подлинного христианства. В «Исследовании догматического богословия» Толстой предложил опровержение официальной доктрины православной церкви, как она была представлена в «Православно-догматическом богословии» архиепископа Макария (Булгакова), одного из ведущих церковных мыслителей того времени. Он также подготовил новый аннотированный перевод всех четырех Евангелий, дополненный «Кратким изложением Евангелия».
Завершив предварительную подготовку, Толстой приступил к развернутому изложению собственного кредо. В 1883–1884 годах он написал основополагающий трактат «В чем моя вера?». За пять лет ему удалось создать поразительную по логичности и последовательности систему религиозной, моральной, политической, социальной и экономической философии. Учение Толстого очень легко отвергнуть от начала и до конца, но чрезвычайно трудно, если вообще возможно, отыскать в нем внутренние противоречия и противопоставить одну его часть другим.
Свою веру Толстой нашел в Евангелии, но интерпретировал его в соответствии со своими исконными представлениями о природе истины. С его точки зрения, божественность Христа определялась не зачатием от Святого Духа и воскресением из мертвых, но тем, что его слова и жизнь были абсолютным воплощением божественной мудрости и потому полностью отвечали вечным критериям разума и нравственности:
Учение Христа есть учение об истине. И потому вера в Христа не есть доверие во что-нибудь, касающееся Иисуса, но знание истины. В учение Христа нельзя уверять никого, нельзя подкупать ничем к исполнению его. Кто понимает учение Христа, у того и будет вера в него, потому что учение это – истина. А кто знает истину, нужную для его блага, тот не может не верить в нее, и потому человек, понявший, что он истинно тонет, не может не взяться за веревку спасения. (ПСС, XXIII, 410)
Толстой прочитал Евангелие как историю незаконнорожденного мальчика и бездомного бродяги, пошедшего на мучительную смерть во имя света, который он нес в мир. Низкое происхождение и позорная казнь не только не отнимали ничего от величия и красоты его проповеди, но, напротив, придавали ей ту силу и ту истинность, которые претензии на генеалогическое древо, восходящее к Творцу вселенной, или искусственный хеппи-энд вроде воскрешения из мертвых, могли только подорвать. Идея, что Бог мог послать своего сына на крест, поражала Толстого неприкрытым кощунством.
По Толстому, «учение Христа» сводилось к пяти заповедям, которые развивали или отменяли заповеди, данные Моисеем. Первая заповедь состояла в том, чтобы жить с людьми в мире и не называть другого «пропащим или безумным». Вторая запрещала прелюбодеяние, которое включало в себя развод и повторный брак. Третья заповедь требовала от человека не приносить клятв, то есть не присягать никаким земным властям и не участвовать ни в каких судебных процедурах. Четвертая, самая главная с точки зрения Толстого, воспрещала противиться злу насилием. Даже в обстоятельствах, угрожающих его жизни, человек не имел права прибегать к силе, но должен был принимать свою судьбу со смирением и молитвой. И, наконец, пятая заповедь повелевала не считать других людей чужими или враждебными, то есть, по существу, упраздняла деление человечества на народы.
Исходной точкой для Толстого стал парадокс человеческой истории, отмеченный еще в «Общественном договоре» Руссо: «Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах. Иной мнит себя повелителем других, что не мешает ему быть рабом в большей еще мере, чем они». Руссо полагал, что знает, как «придать этой перемене законность»[45]. Следуя ему, авторы американской Декларации независимости пытались определить правовые рамки государства, которое сумеет гарантировать гражданам их законную свободу.
Толстой, как всегда, пошел дальше, чем кто-либо другой. Для него установленные Богом и природой свобода и равенство означали, что никакая форма принуждения по определению не может быть легитимной и никакое насилие ни при каких обстоятельствах не может быть оправдано. Толстой настаивал на строго буквальном понимании этих тезисов. Он не представлял себе утопическое христианское государство, потому что любое государство с его правителями, парламентами, политиками, законами, судами, тюрьмами, чиновниками, солдатами, полицейскими, сборщиками налогов и прочими предполагало существование иерархии и власть одних над другими.
В «Войне и мире» Толстой прославил народную войну против захватчиков, теперь же он считал воинскую службу самым страшным злом человеческой истории. Свое правительство было для него не легитимнее любого чужого – для его соотечественников было бы меньшим злом жить под властью французов, турок или кого угодно еще, чем идти на войну и убивать людей.
Точно так же никакое преступление не может служить оправданием для наказания, основанного на насилии. Разбойники и убийцы, действующие на свой собственный страх и риск, заслуживают, в глазах Толстого, больше сочувствия, чем палачи или судьи, посылающие людей на казнь, находясь под защитой законов и репрессивного аппарата государства. Сочинение законов в принципе не является делом человеческого ума, людям следует лишь подчиняться вечным законам, установленным Богом, но и к их выполнению никого не следует принуждать, ибо насилие в сфере религии и человеческих убеждений особенно отвратительно.
В русской культуре всегда жила мощная анархическая традиция, противостоящая неподотчетной централизованной власти и крепостническому государству. Толстой был современником таких классиков анархистской мысли, как Михаил Бакунин и Петр Кропоткин; дворян-интеллектуалов, вдохновлявшихся опытом русской крестьянской общины, упорным сопротивлением староверов диктату государственной церкви; казачеством, встававшим на защиту государства во время войны, но хранившим свои вольности в мирной жизни. Не менее важным для Толстого был опыт бесчисленных бродяг, паломников и нищих, оставлявших свои дома и деревни в поисках правильной веры.
Слухи о новом учении Толстого распространились еще до того, как его философские труды стали появляться в печати. В январе 1881 года, встретив Александру Андреевну Толстую, Достоевский попросил ее «истолковать» ему «новое направление» Толстого. Александра Андреевна, считавшая Достоевского пророком, приготовила для него копии писем Толстого к ней и по его просьбе прочитала их вслух. По ее словам, Достоевский «хватался за голову и отчаянным голосом повторял: – „Не то, не то!..“ Он не сочувствовал ни единой мысли Льва Николаевича»[46]. Желая написать опровержение, Достоевский унес домой копии вместе с оригиналом.
Зная любовь Толстого к яростным спорам, легко предположить, что письмо Достоевского могло бы вызвать одну из интереснейших дискуссий в истории мировой литературы. К несчастью, Достоевский умер меньше чем через две недели, и обещанное опровержение осталось ненаписанным. Письма, которые передала ему Александра Андреевна, бесследно исчезли. Примерно неделей после Толстой писал Страхову:
Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек. Я был литератор и литераторы все тщеславны, завистливы, я по крайней мере такой литератор. И никогда мне в голову не приходило меряться с ним – никогда. Все, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца только радость. – Я его так и считал своим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдруг за обедом – я один обедал, опоздал – читаю умер. Опора какая то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу. (ПСС, LXIII, 43)
Толстой отдавал себе полный отчет в том, насколько взгляды Достоевского отличаются от его убеждений, но они оба видели, что мир вокруг рушится и что их долг – остановить катастрофу. Теперь ему приходилось нести груз ответственности в одиночку.
На протяжении двадцати лет Толстой занимался в основном литературным трудом, управлял имением и семейными делами. В 1881 году необходимость дать образование старшим детям вынудила его купить дом в Москве. К этому времени страна изменилась до неузнаваемости.
Отмена крепостного права, начавшаяся индустриализация и демографический взрыв вытолкнули потоки мигрантов из деревень в города. Рост городского населения и возросший хлебный экспорт привели к росту цен на зерно. Крестьяне, однако, не могли получить значимых выгод от растущего спроса, поскольку арендная плата за землю, принадлежавшую помещикам, росла еще быстрее цен, а крестьянская земля находилась в собственности общины и подлежала регулярному перераспределению.
Социальные перемены и демографические сдвиги разрушали традиционный уклад жизни и традиционную семью. Преступность, пьянство и проституция росли и в городах, и в деревнях. В Москве Толстой мог увидеть своими глазами городскую нищету, столь отличавшуюся от хорошо известной ему деревенской, где община выступала в роли своего рода системы социального страхования. Ужасающая бедность и моральная деградация городских низов были особенно заметны на фоне запоздалого, но бурного экономического роста.
Социальный кризис неизбежно сопровождался политическими бурями. Великие реформы взвинтили ожидания растущего числа молодых и активных выпускников высших учебных заведений, которым становилось все труднее реализовать себя в жестко стратифицированном российском обществе. Резкая радикализация молодых людей породила сначала народническое движение, а после его неудачи – революционный терроризм. 1 марта 1881 года после серии неудавшихся покушений был убит император Александр II. При его наследнике, с подозрением относившемся к реформаторским усилиям отца, огромную власть и влияние приобрел обер-прокурор Константин Победоносцев.
Толстой относился к революционерам не без симпатии. Его привлекали сила их убеждений, готовность к мученичеству и искреннее сочувствие к обездоленным – качества, которые, с точки зрения Толстого, начисто отсутствовали в том кругу, к которому он принадлежал. В то же время его отпугивали их ограниченность и нетерпимость, примитивный материализм, а главное, готовность прибегать к насилию, основанная на безусловной уверенности, что нужды народа, который они хотят освободить, им известны лучше, чем самому этому народу. Толстой рано почувствовал приближение революции и опасался, что режим, который возникнет на руинах существующего, будет еще более тираническим.
Толстой написал письмо Победоносцеву с обращенной к наследнику престола просьбой помиловать цареубийц. С его точки зрения, такой акт христианского милосердия явился бы проявлением морального величия и мог положить начало общественному примирению. Ни Победоносцев, ни Александр III не были готовы даже рассматривать такую возможность. Помилование террористов представлялось им прямым поощрением террора. И хотя новый император был еще более страстным почитателем литературного таланта Толстого, чем его отец, получив это прошение, он проникся недоверием и подозрительностью к взглядам любимого писателя.
В январе 1882 года, рассчитывая глубже понять причины окружающего социального зла и найти способы с ним бороться, Толстой принял участие в переписи. Он выбрал район Хитрова рынка, один из самых опасных в Москве, переполненный ночлежками, населенными отбросами общества. Толстой беседовал с обитателями трущоб, слушал их рассказы о жизни и раздал довольно много денег. Некоторое время он обдумывал перспективу благотворительной инициативы, предусматривавшей сбор средств по подписке и контроль над их распределением и использованием. Предприятие это полностью провалилось. Богатые не хотели ничего жертвовать, а бедные предпочитали тратить деньги, которые давал им сам Толстой, на пьянство, азартные игры и распутство.
Расчет на благотворительность не оправдался, но Толстой никогда не допускал мысли, что какая-то проблема может не иметь решения. Несколько лет он провел в работе над трактатом, в котором попытался применить свое религиозное учение к социальной практике. Название трактата – «Так что же нам делать?» – свидетельствовало, что роман Чернышевского все еще не давал ему покоя.
У Чернышевского Вера Павловна создавала рабочие кооперативы для девушек из низшего класса, которые уже были или могли стать проститутками, и таким образом помогала им наладить жизнь. Чернышевский не сомневался, что, получив поддержку, руководство и наставление, бедные сумеют рационально выбрать для себя верный путь.
Толстой глубже разобрался в проблеме. Он потратил много времени и денег, изучая реакцию людей дна на помощь состоятельных доброжелателей, и обнаружил, что нищие принимали обычную милостыню в две-три копейки с ритуальной благодарностью, но враждебно и агрессивно реагировали на попытки пожертвовать им значительную сумму, которая могла бы всерьез изменить их жизненную ситуацию. Избыточная щедрость выглядела в их глазах высокомерной попыткой навязать им правила мира, который они отвергли, а злоба и ложь служили единственным способом защитить свое человеческое достоинство.
Композиция «Так что же нам делать?» выглядит довольно хаотичной: автор часто перескакивает с предмета на предмет, торопясь изложить свое понимание проблем бедности, благотворительности, разделения труда, природы денег, собственности и налогов и даже истории британской колонизации островов Фиджи. Однако выводы его просты и ясны. Толстой не сомневался, что в разорении рабочих людей виноват образ жизни высших сословий, основанный на искусственных потребностях, удовлетворять которые можно только благодаря юридически закрепленным правам собственности и налогообложению, что, в свою очередь, подразумевает существование таких институтов легального насилия, как суды, армия и полиция.
По Толстому, этот политический и социальный порядок многие столетия держался на молчаливом признании его легитимности со стороны угнетенного большинства, однако происходящие в мире изменения подорвали основы такой легитимности, и только накопленная, но ослабевающая сила инерции еще предохраняла его от краха. Господствующим классам оставалась последняя возможность избежать неминуемой гибели – добровольно отказаться от своих привилегий и вернуться к жизни, основанной на физическом труде и вечных законах христианской морали. В XIX столетии многие мыслители критиковали и отвергали наступающую эпоху модерна, но, кажется, никто из них не делал это настолько бескомпромиссно.
Толстой всегда утверждал, что идеи, верования или убеждения не имеют цены, если они не подкреплены жизнью и поведением человека. Для полного пересмотра прежнего образа жизни ему потребовалось несколько лет. Он стал работать в поле, носить крестьянскую одежду и отрастил крестьянскую бороду, за которой было проще ухаживать. Он перешел на самую простую пищу и постепенно стал строгим вегетарианцем, бросил курить и пить спиртные напитки, отказался от охоты, которая десятилетиями была его любимым развлечением. Каждое из этих решений сопровождалось статьей, в которой Толстой объяснял свои мотивы.
Также он отказался от обслуги и стал сам привозить в дом воду, рубить дрова и убирать свою комнату. Труднее всего, как он признавался, было приучить себя выносить и мыть ночной горшок, но он освоил и это. Он отказался от каких-либо операций с деньгами и носил с собой только небольшие суммы, чтобы подавать милостыню. Возможно, самым эксцентрическим из его новых занятий было сапожное дело, которому он предавался с неистовым увлечением, – каждый новый успех в освоении этого ремесла вызывал у него детскую радость.
У окружающих эти перемены вызывали чувства в диапазоне от насмешливого недоумения до яростного протеста. Фет заказал ему пару ботинок, настоял на том, чтобы заплатить за них шесть рублей, и вручил Толстому расписку, где обязался носить обнову. По-видимому, он не выполнил обещания, ботинки до сих пор хранятся в музее Толстого в Москве и вовсе не выглядят изношенными. Атеист, эстет и политический консерватор, Фет не мог одобрить метаморфозу, происходящую с другом.
Реакция Тургенева была более эмоциональной. В 1883 году, уже неизлечимо больной, он отправил Толстому письмо. Он был слишком слаб, чтобы держать перо и писал карандашом:
Выздороветь я не могу, и думать об этом нечего. Пишу же я вам, собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть вашим современником и чтобы выразить Вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар Ваш оттуда, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если бы мог подумать, что моя просьба так на Вас подействует. ‹…› Друг мой, великий писатель земли русской, – внемлите моей просьбе… Дайте мне знать, если Вы получите эту бумажку, и позвольте еще раз крепко-крепко обнять Вас, Вашу жену, всех Ваших. Не могу больше. Устал!!![47]
Тургенев умер через два месяца. Толстой был тронут достаточно сильно, чтобы, несмотря на отвращение к публичным церемониям, согласиться выступить на вечере памяти писателя (после появления имени Толстого в программе вечер был немедленно запрещен). В то же время его раздражали и вновь проявившееся стремление старого друга наставлять его на путь истинный, и избыточная риторика. Много лет спустя, повторив формулу «великий писатель земли русской», Толстой саркастически прокомментировал: «а почему не воды»[48]. Но все-таки отчасти он «внял» просьбе Тургенева и через несколько лет вновь начал писать прозу, хотя и неизменно считал это занятие второстепенным по отношению к своей религиозной и моральной проповеди.
Разумеется, более других переменой, произошедшей с Толстым, были взволнованы члены его семьи. В мае 1881 года в разгар беспорядков и еврейских погромов, последовавших вслед за убийством Александра II, Толстой внес в дневник впечатления от общения с родными:
Утром Сережа вывел меня из себя, и Соня напала непонятно и жестоко. Сер[ежа] говорит: учение Христа все известно, но трудно. Я говорю: нельзя сказать «трудно» бежать из горящей комнаты в единственную дверь. «Трудно». ‹…› Начали разговор. – Вешать – надо, сечь – надо, бить по зубам без свидетелей и слабых – надо, народ как бы не взбунтовался – страшно. Но жидов бить – не худо. Потом вперемежку разговор о блуде – с удовольствием.
Кто-нибудь сумаcшедший – они или я. (ПСС, XLIX, 37–38)
Через месяц с небольшим он написал об «огромном обеде с шампанским», на котором на всех детях Толстых и Кузминских были пояски, цена которых соответствовала месячному доходу голодных и усталых крестьян, работавших поблизости. Он долго говорил «о воспитании» с Татьяной Кузминской, когда-то понимавшей его лучше других. После разговора он «до утра» думал о непоправимом расхождении с самыми близкими людьми и в отчаянии заключил: «Они не люди» (ПСС, XLIX, 37–38).
Больше всего его удручали отношения с женой. Некоторое время она пыталась объяснить происходящее в духе своих привычных страхов и опасений. «Он проникся христианством и мыслями о самосовершенствованьи. Я ревную его», – записала она после очередного скандала летом 1882 года. В первый раз за двадцать лет семейной жизни они ночевали под одной крышей, но в разных постелях, и Софья Андреевна «загадала», что если муж не придет к ней, значит, «он любит другую». Он пришел, и они помирились обычным способом. В конце концов она осознала, что ее семейные проблемы не связаны с другими женщинами, но это не сделало ее более счастливой или менее склонной к ревности.
Конфликты в семье Толстых скоро стали достоянием гласности и вызвали споры, не утихающие по сей день. Некоторые обвиняют Софью Андреевну в том, что она не «последовала» за мужем, превратив их семейную жизнь в ежедневный ад; другие, напротив, убеждены, что с восьмерыми детьми на руках (за время религиозного кризиса мужа она родила еще троих сыновей: Андрея в 1877 году, Михаила в 1879-м и Алексея, умершего в четыре года, в 1881-м) она не имела возможности откликаться на капризы гения. Корни трагедии, однако, лежали глубже.
Выйдя замуж в восемнадцать лет, Софья ощущала свое призвание не менее сильно, чем Лев. Он отказался от привычного образа жизни, чтобы стать великим писателем, а она – чтобы стать женой великого писателя. В 1866 году переписывая «Войну и мир», она рассказала в дневнике о своем почти религиозном отношении к творчеству мужа:
Это мне большое наслаждение. Я нравственно переживаю целый мир впечатлений, мыслей, переписывая роман Левы. Ничто на меня так не действует, как его мысли, его талант. И это сделалось недавно. Сама ли я переменилась или роман действительно очень хорош – уж этого я не знаю. Я пишу очень скоро и потому слежу за романом достаточно скоро, чтобы уловить весь интерес, и достаточно тихо, чтоб уловить, продумать и обсудить каждую его мысль. Мы часто с ним говорим о романе, и он почему-то (что составляет мою гордость) очень верит и слушает мои суждения. (СТ-Дн., I, 80)
Восемь лет спустя, когда Толстой остановил работу над «Анной Карениной» ради «Азбуки» и «Книг для чтения», она с раздражением писала сестре:
То его дело, т. е. писанье романов, я люблю и ценю и даже волнуюсь им всегда ужасно, а эти азбуки, арифметики, грамматики я презираю и даже притворяться не могу, что сочувствую. И теперь мне в жизни чего-то не достает, что я любила, и это именно не достает Левочкиной работы, которая мне всегда доставляла наслаждение и внушала уважение. Вот Таня, я настоящая писательская жена, как к сердцу принимаю наше авторское дело.
Софья Андреевна всецело принадлежала миру прозы Толстого и ощущала его отход от главного – в этом она была уверена – дела его жизни как утрату собственной миссии. Помогать мужу в работе над учебными книгами ей не хотелось:
Пусть писарь переписывает. Мое дело было переписывать бессмертную «Войну и мир» или «Анну», а это скучно[49].
В ту пору Софья Андреевна еще верила, что речь идет об очередном временном зигзаге в биографии мужа, поскольку давно привыкла к его «переменчивым мнениям». Новый кризис угрожал самым основаниям ее существования. Она чувствовала, что сострадание его мужа бедным и обездоленным подрывает ее положение в его душе и его жизни:
Я часто думаю, отчего Левочка поставил меня в положение вечной виноватости без вины? Оттого, что он хочет, чтоб я не жила, постоянно страдала, глядя на бедность, болезни и несчастия людей, и чтоб я их искала, если они не попадаются в жизни. То же он требует и от детей. Нужно ли это? ‹…› Если случится на пути такой больной, то пожалей и помоги ему, но зачем искать его, (СТ-Дн., I, 112) –
записала она в дневник в октябре 1886 года. Софье Андреевне трудно было осознать, насколько естественно образ жизни ее мужа, вызывавший у нее столь сильное отторжение, вытекал из природы его художественного дара, которому она была готова преданно служить. За письменным столом он вырабатывал свою уникальную способность вживаться в другого человека и понимать его душу, и эта способность парализовала в нем работу обычного защитного механизма невосприимчивости к чужому горю. Дневники и записные книжки Толстого этих лет переполнены почти ежедневными упоминаниями о голодных, нищих, больных и гонимых. Он был со всех сторон окружен зрелищем человеческих страданий. Едва ли он «искал» таких случаев, скорее – потерял спасительную способность не замечать их.
Простые люди с их проблемами сами искали Толстого. Среди них были отнюдь не только просители, стремящиеся поделиться своей бедой и получить практическую или душевную поддержку. В Ясную Поляну и дом Толстых в Хамовниках потянулись крестьяне, разочарованные в официальной церкви, преследуемые сектанты, самопровозглашенные пророки, странники и бродяги, мечтавшие поговорить с графом о Боге, нравственности и любви. Софья Андреевна презрительно прозвала их «темными». И она, и Александра Толстая вспоминают тверского крестьянина Василия Сютаева, который проповедовал братство между людьми и отрицал частную собственность, церковные ритуалы и образовательные учреждения. По словам обеих мемуаристок, беседы с ним произвели на автора «Войны и мира» сильнейшее впечатление.
Впрочем, самый важный гость, когда-либо посетивший Толстого, был выходцем из того же социального круга, что и он сам. Владимир Григорьевич Чертков принадлежал к сливкам русской аристократии и был очень богат. Как и подобало молодому гвардейскому офицеру, он вел рассеянный образ жизни, пока не покаялся и не начал заниматься обучением крестьян и благотворительностью. Около года он провел в Англии и сблизился с английскими евангелистами. Когда Чертков в первый раз пришел к Толстому, ему было 29 лет. Оставшиеся 53 года жизни, поделенные ровно пополам смертью учителя, он занимался распространением трудов Толстого и пропагандой его взглядов.
Поначалу Софья Андреевна благосклонно приняла Черткова – по крайней мере, он не был «темным». Постепенно, однако, отстраненная симпатия сменилась настороженной неприязнью, а потом и неистовой ненавистью. Софья Андреевна нашла идеальный объект для ревности. Она винила Черткова в отчуждении мужа, хотя прекрасно знала, что ее семья стала рушиться до того, как Владимир Григорьевич впервые постучал в дверь дома в Хамовниках. За несколько месяцев до смерти Толстого Софья Андреевна набрела на сделанное им в дневнике признание, что он всегда влюблялся в мужчин, а не в женщин, и обвинила своего восьмидесятидвухлетнего мужа в гомосексуальной связи с Чертковым.
Это обвинение, сделанное на основании записи шестидесятилетней давности, где к тому же говорилось о «страшном отвращении» к однополой любви, было, конечно, совершенно диким. И все же Софья Андреевна уловила что-то существенное. Красивый, аристократичный и уверенный в себе Чертков соответствовал тому мужскому идеалу, который описан в обоих романах Толстого. Владимир Григорьевич мог исполнять роль князя Андрея для Льва Николаевича, вечно по-безуховски мятущегося и склонного к сомнениям и мучительному самоанализу.
Для Толстого, тяжело переживавшего отчуждение сыновей, Чертков стал духовным сыном и наследником. В то же время, несмотря на разницу в возрасте, он с самого начала занял по отношению к учителю своего рода отцовскую позицию. Толстой, которому с подростковых лет недоставало отца и наставника, всегда мог поделиться с ним самыми интимными переживаниями, сомнениями и тревогами, рассчитывая при этом на ясный и определенный ответ.
Как и многие религиозные визионеры, Чертков обладал редкой деловой хваткой. По совету Толстого он организовал издательский дом «Посредник», специализировавшийся на дешевых изданиях для народа. Бóльшая часть напечатанных там книг представляла собой истории, сказки и очерки, написанные, отредактированные или рекомендованные Толстым. Переработка народных сказок и сочинение религиозных и моралистических притч для «Посредника» позволяли ему удовлетворять свою потребность в художественном творчестве, не ставя под сомнение отказ от писательской деятельности. Некоторые из этих сочинений, вроде рассказов «Чем люди живы?» или «Сколько человеку земли нужно?», показывают, что литературный дар не оставил его.
И все же Толстому хотелось написать для образованного читателя произведение, которое было бы настолько же психологически глубоким и убедительным, как «Анна Каренина», и настолько же сухим и нравственно однозначным, как «Книги для чтения». Этого невозможного синтеза он сумел достичь в рассказе «Смерть Ивана Ильича».
Толстому казалось, что он должен оправдываться в том, что вообще взялся за эту работу. Черткову он писал, что обещал «Смерть Ивана Ильича» «жене для нового изданья, но эта статья только по форме (как она начата) относится к нашему кружку – по содержанию ко всем» (ПСС, LXXXV, 210). Софья Андреевна нашла рассказ «мрачным немножко, но очень хорошим» (ПСС, XXVI, 681) и с радостью включила его в двенадцатый том издававшегося ею собрания сочинений мужа. Она все еще надеялась, что литературная работа Толстого спасет их семью.
«Немножко мрачно» – пожалуй, слишком мягкое определение для рассказа, подробно описывающего смерть от рака. Медики отмечали точность передачи симптомов, позволявшую диагностировать не только природу болезни, но и фазы ее развития и место расположения опухоли. Конечно, изображение физиологии умирания не было главной задачей Толстого. Он вновь писал о главной проблеме всей своей жизни.
Толстой давно пришел к выводу, что присутствие смерти лишает жизнь смысла и оправдания. Успешная карьера, благополучная, по крайней мере с точки зрения окружающих, семейная жизнь, утонченные вкусы и достойный образ жизни позволяли Ивану Ильичу гордиться собой, но на смертном одре у него не оказалось воспоминаний, которые могли бы его поддержать. Его болезнь была спровоцирована ушибом, который он получил, расставляя модную мебель в своем доме. В конце жизни он чувствует, что безразличен своей жене, детям, друзьям и коллегам, и никто, кроме одного слуги, не сочувствует его положению, не старается понять его нужды и облегчить страдания.
Однако последний поворот сближает Ивана Ильича скорее с князем Андреем, нежели с Анной Карениной. Жалость к сыну-школьнику, который разражается рыданиями у его постели и пытается поцеловать его руку, и к жене, стоящей неподалеку со слезами на глазах, позволяет ему наконец почувствовать любовь, в которой растворяется страх смерти, а сама смерть, вместо того чтобы высасывать смысл из жизни, придает ей высшее назначение:
И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг всё выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. «Как хорошо и как просто, – подумал он. – А боль? – спросил он себя. – Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?»
Он стал прислушиваться.
«Да, вот она. Ну что ж, пускай боль».
«А смерть? Где она?»
Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было.
Вместо смерти был свет.
– Так вот что! – вдруг вслух проговорил он. – Какая радость!
Для него всё это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его клокотало что-то; изможденное тело его вздрагивало. Потом реже и реже стало клокотанье и хрипенье.
– Кончено! – сказал кто-то над ним.
Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. «Кончена смерть, – сказал он себе. – Ее нет больше».
Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер. (ПСС, XXVI, 113)
В 1886 году, когда работа над «Смертью Ивана Ильича» шла к завершению, Толстой, помогая в работе старой крестьянке, поранил ногу; началось заражение крови, едва не ставшее для него смертельным. Длительное и тяжелое выздоровление вдохновило его на трактат «О жизни», где писатель дополнил свое моральное и социальное учение философией жизни и смерти, объединившей его веру в Природу и Разум, его понимание Евангелия и его усиливающийся интерес к восточной религиозной мысли. Первоначально Толстой собирался озаглавить трактат «О жизни и смерти», но потом отказался от второго слова, сказав: «смерти нет» (СТ-Дн., I, 123).
Толстой пришел к выводу, что жизнь каждого человека есть лишь крошечная капля в океане «общей жизни» и индивидуальная смерть представляет собой необходимое и освобождающее соединение с целым. Единственное проявление общей жизни, доступное человеку, – это любовь, которая не может ограничиваться узким кругом родных по крови. В своем переводе Толстой передал соответствующий стих из Евангелия от Луки так: «Потому что тот, кто поймет мое учение, для того не будут ничего значить: ни отец, ни мать, ни жена, ни дети, ни все его имущество» (ПСС, XXIV, 859).
Подлинная христианская любовь не могла иметь ничего общего с половым влечением, основанным на эгоизме и жажде обладания. Если настоящая любовь приносила свет и превращала смерть в радостное соединение с общей жизнью, то сексуальная страсть была сродни убийству. В «Анне Карениной» Толстой сравнивал Вронского, целующего тело Анны после их первой плотской близости, с убийцей, ударяющим ножом уже мертвую жертву. Противоположность обеих этих форм любви была для Толстого абсолютной – даже если первородный грех мог быть частично искуплен зачатием и рождением, по сути он оставался имморальным не только вне, но и внутри семьи.
Толстой долго испытывал эротическое влечение к жене, но ощущал его как слабость, с которой он должен бороться. Софья Андреевна не раз замечала в дневнике, что после их самой страстной любви, муж становился холодным и отчужденным. Вероятнее всего, он испытывал стыд за себя и свои порывы. В 1908 году, перед восьмидесятилетним юбилеем он пожаловался в «тайном дневнике», который специально прятал от жены, что биографы не станут писать о его «отношении к 7-ой заповеди». По словам Толстого, хотя он «ни разу не изменил жене», его сопровождала «похоть по отношению жены скверная, преступная. Этого ничего не будет и не бывает в биографиях. А это очень важно…» (ПСС, LVI, 173).
Толстой, конечно, отдавал себе отчет, что после его смерти дневник может оказаться доступен и жене, и публике. Тем не менее у нас нет ни малейших оснований заподозрить его в неискренности. Он всегда был готов обвинять себя в реальных или вымышленных прегрешениях. Однажды в 1879 году он поддался искушению и назначил свидание кухарке Домне. По дороге его остановил сын, попросив помочь с домашним заданием. Толстой не сомневался, что его спасло провидение. Он попросил учителя детей Василия Алексеева всюду сопровождать его, чтобы удержать от падения в бездну, а через пять лет в деталях описал этот случай в покаянном письме Черткову.
Показательно, что маниакально ревнивая и подозрительная Софья Андреевна ни разу не упрекала мужа ни в чем подобном в дневниках, переполненных самыми горькими и злыми обвинениями в его адрес. В мемуарах, написанных специально, чтобы свести счеты с Львом Николаевичем, она даже, несколько преувеличивая, подчеркивает, что никогда не сомневалась в его физической верности. Еще показательнее, что такого рода намеков совсем нет в сотнях антитолстовских памфлетов, авторы которых искали малейшего повода, чтобы обвинить его в лицемерии.
Всякий человек, минимально представляющий себе биографию Толстого, понимает, что бытующий в русской культуре миф о нем как сатире, гоняющемся за сельскими нимфами, совершенно нелеп в фактическом отношении. Вместе с тем у него, как и у всякого устойчивого мифа, есть корни, и они таятся в никогда не иссякавшем интересе Толстого к «половому вопросу».
Через год после публикации «Смерти Ивана Ильича» он начал писать повесть «Крейцерова соната», над которой работал до 1889 года. В том же году он набросал и черновик рассказа «Дьявол». Истории убийств, описанные в обоих этих произведениях, взяты из криминальной хроники, но фактическая основа здесь переосмыслена в свете жизненного опыта и этических идей автора.
Позднышев из «Крейцеровой сонаты» убивает неверную жену, Иртеньев из «Дьявола» – бывшую любовницу; стремясь сохранить чистоту своего брака, он был не в силах справиться с охватившей его страстью и решился на преступление. В первой версии «Крейцеровой сонаты» герой обдумывал самоубийство как альтернативу убийству, в оставшемся неопубликованном «Дьяволе» Толстой колебался между двумя вариантами финала, в одном из них Иртеньев также кончает с собой.
Толстой был уверен, что причиной семейной катастрофы, постигшей его героев, стала их сексуальная распущенность до брака, приучившая их ожидать от семейной жизни прежде всего удовлетворения плотских желаний. Разочарование доводит Позднышева до ненависти к жене и маниакальной ревности, а Иртеньева делает рабом собственного эротического воображения. Оба сохраняют верность женам, но расплачиваются за былые грехи безумием, подталкивающим их к убийству или самоубийству.
Вне всякого сомнения, Толстой размышлял о своей мужской биографии. Связь Иртеньева с замужней крестьянкой Степанидой разительно схожа с его собственными отношениями с Аксиньей Базыкиной. В «Крейцеровой сонате» автобиографический подтекст спрятан глубже, но все равно ощутим. Жена Позднышева после пятых родов пользуется советами врачей, чтобы исключить возможную беременность, и начинает искать возможность утолить на стороне свою потребность в любви. В конце концов это и приводит ее к адюльтеру. Софья Андреевна также собиралась прибегнуть к контрацепции после появления пятого ребенка, и Толстой как бы ретроспективно представлял себе, что могло случиться, если бы он не воспротивился этим намерениям.
Взгляды Толстого на адюльтер были известны читателям хотя бы по «Анне Карениной». Шокирующе новой в «Крейцеровой сонате» была трактовка романтической любви как социально приемлемого выражения похоти, средства скрывать правду, прежде всего от себя самого. По Толстому, мужчины поэтизируют любовь, чтобы превратить похоть в чувство достойное одобрения и зависти и внушить молодым женщинам, что главное их предназначение – быть сексуально привлекательными для противоположного пола. В семье природа этого общественного устройства выходит наружу: колебания отношений четы Позднышевых между любовью и ненавистью всецело определяются ритмом их эротического возбуждения.
Русское общество находилось в начале необратимого процесса женской эмансипации. Взгляды Толстого были вызывающе патриархальными, но он говорил о «проклятом вопросе» со свойственными ему прямотой и определенностью. «Крейцерова соната» буквально прорвала плотину. Рукопись, которую Толстой дал почитать Кузминским, литографировалась и гектографировалась в сотнях копий. Цензурный запрет только подогрел интерес к рассказу, который был напечатан за границей и контрабандой ввозился в Россию. Большинство читателей были заворожены толстовским анализом психологии любви, ревности и преступления, но не были готовы принять его моральные выводы. Многие не могли поверить, что автор вложил свои сокровенные мысли в уста кающегося убийцы.
Сторонники «мягкого» чтения «Крейцеровой сонаты» указывают на то, что в итоговой редакции, в отличие от более ранних вариантов, Толстой оставляет читателей в неведении, действительно ли произошло прелюбодеяние или оно было плодом воображения помешавшегося от ревности мужа. Для Толстого, однако, чувства и желания всегда были важнее поступков. Он предпослал повести эпиграф из Евангелия от Матфея: «А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Жена Позднышева «прелюбодействовала в сердце своем», и для Толстого этого было достаточно. Чтобы развеять возможные заблуждения, Толстой написал послесловие к повести, где не только повторил взгляды Позднышева от своего имени, но и усилил их. По словам Толстого, послесловие к «Крейцеровой сонате» было «необходимо написать, так уж смело притворялись люди, что они не понимают того, что там написано» (ПСС, LXV, 70).
Такой взгляд на отношения между полами оказался слишком радикальным даже для Черткова, который к тому времени был уже счастливо женат. Он попросил учителя добавить в послесловие к повести «хоть полстранички или несколько строк, принимающие во внимание законность нравственного брака». Чертков полагал, что непримиримость Толстого приведет к тому, что «сотни миллионов современных людей, которые еще не поднялись до уровня возможно более целомудренного брака», «будут оттолкнуты от жизни Христа» (ПСС, LXXXVII, 25).
Обычно склонный прислушиваться к советам Черткова, Толстой на этот раз остался непоколебим. С его точки зрения, человеку можно простить естественную слабость, но не упрямое нежелание видеть истину. Как он примерно в это же время по другому поводу написал одному из своих последователей: «В идее нельзя допускать ни малейшего компромисса. Компромисс выйдет неизбежно в практике (как вы верно говорите), и потому тем меньше можно допустить компромисс в теории» (ПСС, LXV, 72). На отчаянную мольбу любимого ученика он отозвался твердым суждением: «…я не мог в „Послесловии“ сделать то, чтó вы хотите и на чем настаиваете, как бы реабилитацию честного брака. Нет такого брака» (ПСС, LXXXVII, 24).
Пожалуй, в этом случае Софья Андреевна согласилась бы со своим заклятым врагом. Ей мало улыбалась перспектива служить в моральном мире своего мужа наименьшим злом. В 1888 году она родила своего последнего ребенка, Ивана, который, по ее саркастическому замечанию, был настоящим послесловием к «Крейцеровой сонате». В мемуарах она написала, что повесть «унизила» ее «перед всем миром» и разрушила «последнюю любовь», которая еще была в семье[50]. В то же время она отправилась в Петербург на аудиенцию с императором ходатайствовать о разрешении напечатать повесть в издававшемся ею полном собрании сочинений Толстого.
Александру III «Крейцерова соната» понравилась. Он дал согласие на публикацию повести в составе собрания сочинений, но запретил отдельные издания, стремясь ограничить ее распространение среди массовой аудитории. Достичь этой цели ему, по-видимому, не удалось, зато монополию Софьи Андреевны на текст скандального произведения этот запрет поддержал эффективно: тринадцатый том собрания, включавший «Крейцерову сонату», выдержал три издания, причем второе из них вышло тиражом в двадцать тысяч экземпляров.
Помимо очевидных коммерческих интересов, у Софьи Андреевны имелся и личный мотив бороться за разрешение и распространение ненавистной ей повести – она даже переписала ее специально для французских переводчиков. Ей надо было продемонстрировать всему миру, что все, о чем пишет ее муж, никак не связано с их семейной ситуацией. Однако горечь не утихала. 30 января 1890 года она писала сестре:
Фета (Шеншина) видела недолго, вечером. Он написал Страхову блестящее письмо о «Крейцеровой сонате» и мне читал. Вот, на другом полюсе с Львом Николаевичем врось стоит! Письмо кончает: «да здравствует Амур и брат его Вакх!» Это тебе объяснит все[51].
После религиозного обращения Толстого их дружба с Фетом постепенно сошла на нет. Отношения поддерживались через Софью Андреевну, которая продолжала переписываться с Фетом и до смерти поэта в конце 1892 года навещала его. В мемуарах она писала, что Фет ее «обожал», и стихотворения, которые он ей посвятил, давали ей основания так думать.
В начале 1890-х годов Софья Андреевна стала писать повесть «Чья вина?», герой которой князь Прозоровский, подобно Позднышеву, убивает свою жену, красавицу Анну, из ревности и только после этого осознает, как чисты и целомудренны были ее отношения с художником Бехметевым. Софья Андреевна стремилась не столько переписать сюжет «Крейцеровой сонаты», сколько опровергнуть мысль Толстого о том, что романтическая влюбленность есть лишь уловка, призванная завуалировать половой инстинкт. Позднее она рассказывала, что возвышенная дружба Анны и Бехметева была навеяна историей ее общения с Фетом[52].
Софья Андреевна читала этот дилетантский опус друзьям дома и даже планировала его опубликовать. 22 января 1894 года Татьяна Андреевна Кузминская передавала ей отзыв Страхова:
Я очень интересовалась его мнением о твоей повести и расспросила его. Он говорит: очень мило написано, местами отдельными в особенности. Одна сцена ревности и кое-где описания природы очень недурны. Местами бесцветно и бледно. Я спросила: а печатать можно? Не советовал бы, слишком лично, чувствительна месть. Если не узнают, что написала Соф[ья] Андр[еевна] пройдет незаметно; если узнают, что вероятнее, то нехорошо. Вот все, что я могла добиться от него[53].
Возможно, совет человека, к которому обе сестры относились с неизменным уважением, возымел свое действие. Повесть была напечатана только через сто лет.
Существует множество биографических, психологических и психоаналитических объяснений отношения Толстого к сексу и сексуальности. Представляется, что его невозможно до конца объяснить вне общего контекста анархического мировоззрения Толстого. Он рассматривал половой инстинкт как принудительную силу, лишающую человека сознательного контроля над собой. В отличие от государства или церкви этот источник принуждения находится внутри тела, что делает его только более опасным, поскольку его власть осуществляется не с помощью внешних репрессий, но через манипуляцию желаниями и чувствами.
Идеал полного целомудрия не был новым для русской культуры. В наиболее радикальной форме его отстаивала довольно популярная среди русских крестьян секта скопцов, призывавших избавляться от вводивших в искушение органов. Толстой был категорическим противником этой идеи. Скопцы, с его точки зрения, подобны революционерам, стремящимся искоренить общественное зло с помощью насильственных мер. Он считал, что человек должен сбрасывать оковы своей животной природы не единичным актом насильственного очищения, а постоянным нравственным усилием, которое само по себе значит больше, чем любой достигнутый результат. Он писал своему сотруднику по «Посреднику» Евгению Попову:
Если бы человек не был похотлив, то для него не было бы никакого целомудрия и понятия о нем. – Ошибка в том, чтобы задавать себе задачу целомудрия (внешнего состояния целомудрия), а не стремления к целомудрию, внутреннего признания всегда во всех условиях жизни преимущество целомудрия перед распущенностью, преимущество большей чистоты перед меньшей. Ошибка эта очень важная. (ПСС, LXXXVII, 163)
Похоть была, возможно, самым сильным, но не единственным противником, с которым приходилось сражаться Толстому. Для того чтобы чистая христианская любовь могла воцариться в его душе, ему следовало преодолеть «заботу о славе людской», гордость, гневливость, недобрые чувства к другим, исключительное предпочтение своих родных, пристрастие к физическому комфорту, страх смерти и другие врожденные страсти. Это было задачей на всю земную жизнь, и Толстой не рассчитывал достичь идеала, но только приблизиться к нему. В восьмидесятых годах он спорадически возобновляет дневник, с 1888-го и практически до последних дней ведет его без значительных перерывов. Для него становится необходимым фиксировать все движения собственной души и оценивать их с точки зрения идеала, который он для себя создал.
Изнурительная борьба с собственными врожденными пороками, которую вел Толстой, серьезно усложнялась растущей популярностью его учения. С одной стороны, она давала дополнительную пищу для славолюбия, которое он чувствовал и осуждал в самом себе, а с другой – многочисленные сторонники и противники с равным вниманием следили за соответствием между его жизнью и его проповедью. Когда Толстой впервые погрузился в богословскую проблематику, Софья Андреевна огорчалась, что он оставляет поприще, на котором снискал широчайшее признание, ради занятий, которые едва ли могут заинтересовать больше десятка человек. Трудно представить себе менее точный прогноз.
К концу 1880-х годов популярность Толстого приобрела неслыханные масштабы. Святейший Синод запрещал религиозные труды писателя, но это не мешало его идеям находить широчайшую аудиторию. В 1891 году Победоносцев писал императору:
Нельзя скрывать от себя, что в последние годы крайне усилилось умственное возбуждение под влиянием сочинений графа Толстого и угрожает распространением странных, извращенных представлений о вере, о церкви, о правительстве и обществе; направление вполне отрицательное, отчужденное не только от церкви, но и от национальности. Точно какое-то эпидемическое сумасшествие охватило умы[54].
Россией это «умственное возбуждение» не ограничивалось. Обратившиеся и размышляющие об обращении последователи писали Толстому со всех концов мира, спрашивая о новом откровении и способах жить по его заветам. Едва ли какому-нибудь религиозному пророку когда-либо удавалось собрать такую паству менее чем за десять лет после того, как он начал проповедовать.
Скоростью своего успеха Толстой был обязан той самой современности, которая вызывала у него такое отвращение. Новые дешевые технологии печати и стандартизованное начальное образование позволяли изданиям «Посредника» расходиться суммарными тиражами в миллионы экземпляров. К концу 1880-х годов Толстой стал самым знаменитым из живых писателей как в России, так и за ее пределами. Репутация автора «Войны мира» и «Анны Карениной» определяла интерес читателей и к его мнению по религиозным, моральным и политическим вопросам, а организационный дар и британские связи Черткова помогли статьям и трактатам Толстого появиться на Западе в то самое время, когда его слава романиста достигла зенита.
К тому же то обстоятельство, что Толстой был признан среди сильных мира сего, было очень значимо для простых людей, которые не читали длинных романов или философских трактатов. Русские крестьяне были готовы поверить раскаявшемуся графу скорее, чем кому-либо из собственной среды. И все же решающими факторами стали магия толстовского голоса, экзистенциальная серьезность его риторики, его харизма и, не в последнюю очередь, историческая эпоха. Все Северное полушарие оказалось охвачено неслыханными по размаху переменами, но нигде политическая система, социальные структуры и правящие круги не были так плохо к ним подготовлены, как в России. Решающий момент, чтобы испытать силу и пределы своего учения, настал для Толстого во второй половине 1891 года.
К середине года стало понятно, что свирепая засуха, последовавшая за скверными урожаями двух предыдущих лет, привела Россию к голоду, равного которому она давно не испытывала. В августе правительство запретило хлебный экспорт и стало принимать другие запоздалые меры, в то же время подвергая цензуре любое публичное обсуждение происходящего. Эти шаги только усилили панику.
В национальном масштабе нехватка зерна не имела катастрофического характера, но в отдельных губерниях положение было ужасным. Многие крестьяне, которые с трудом выживали даже в хорошие годы, были доведены до полной нищеты, сопровождавшейся неминуемыми эпидемиями. Действия правительства осложнялись недоверием между центральными и земскими властями и постоянной подозрительностью официальных инстанций к частным инициативам.
Толстой втянулся в борьбу с голодом не сразу. Со времен переписи он скептически относился к благотворительности и был убежден, что деньги способны лишь умножать зло. Однако осознав размеры бедствия, он стал действовать со свойственной ему энергией. Очень быстро он стал центром всех частных инициатив. Несмотря на свое отвращение к финансовым операциям, он обратился с призывом о денежной помощи к русской и мировой общественности и стал основным распорядителем получаемых средств. Отчеты о пожертвованиях и расходах он регулярно публиковал в печати.
В течение нескольких месяцев Толстому удалось собрать более миллиона рублей. Очень много пожертвований пришло из США и Британии, причем самыми щедрыми оказались квакеры. На полученные деньги были открыты около 250 кухонь, кормивших не менее 15 000 самых голодных, не считая тысяч голодающих детей. Тем, кто мог себе позволить хоть что-то платить, хлеб продавали по резко сниженным ценам и на вырученные деньги открывали новые кухни. Толстой не только координировал эту колоссальную логистическую операцию, но и сам участвовал в доставке помощи нуждающимся.
Кроме того, он писал о текущем положении дел, нарушая официальный запрет на общественную дискуссию. Власти пытались запретить эти публикации, но были вынуждены на них реагировать. Так, когда газета «Русские ведомости» напечатала статью Толстого «Страшный вопрос», где говорилось об отсутствии надежной информации о запасах хлеба в тех или иных губерниях, издателям было вынесено официальное предупреждение, но на следующей неделе правительство начало активно собирать статистические сведения.
Борьба с голодом придала славе Толстого новое измерение. О нем писали газеты всего мира, а перепуганные размахом его деятельности российские власти не могли ни остановить ее, ни ввести в приемлемые для них рамки. В Бегичевке, деревне в Рязанской губернии, которую Толстой превратил в своего рода штаб, крестьяне были готовы взбунтоваться при возникновении – скорее всего, совершенно безосновательных – слухов о том, что правительство собирается насильно вывезти Толстого. Образованная публика была взволнована еще сильнее. Вовсе не склонный к экзальтированной риторике Чехов в одном из писем назвал Толстого «человечищем» и «Юпитером»[55].
Трагические события привели к перемирию в семье Толстых. Старшие дети помогали отцу и сами работали в кухнях для голодающих. Софья Андреевна, вынужденная жить в Москве с младшими, распоряжалась переводами денег, вела бухгалтерию и переписывалась с издателями. Наконец-то она могла сочувствовать деятельности собственного мужа и видела свое место в ней. «Радость отношения с С[оней]. Никогда не были так сердечны. Благодарю тебя, Отец. Я просил об этом. Всё, всё, о чем я просил – дано мне. Благодарю Тебя» (ПСС, LII, 59–60), – записал Толстой в дневнике 19 декабря 1891 года. К несчастью для них обоих, эта передышка была недолгой.
Как всегда, Толстой менее всех был удовлетворен результатами своих усилий. Он привел в ужас Страхова, назвав благотворительную работу в Бегичевке «глупой»[56]. Ему было ясно: все, что он сумел сделать, – лишь капля в море общих страданий, и обильный урожай 1893 года не покончит с нищетой и голодом. Его волновала не филантропия, а человеческая душа. На всем протяжении работы по помощи голодающим он писал, переписывал и редактировал книгу «Царство Божие внутри вас», где сосредоточился на заповеди ненасилия, которую считал главной из всех заповедей Христа.
Начав проповедовать свою версию Евангелия, Толстой убедился, что его слова не были гласом вопиющего в пустыне. Многие мыслители, секты и общины отстаивали принцип полного отказа от насилия и стремились воплотить его в жизнь задолго до того, как он сам пришел к этой идее. В новом труде Толстой отдал должное этому разрозненному сообществу духовных братьев, для которых он стал естественным центром притяжения. Он опровергал возражения тех, кто считал, что насилие совместимо с учением Христа, что оно может служить средством прогресса или является непременным условием человеческого существования.
Для Толстого власть монархов, чиновников, генералов и судей всецело зависела от готовности простых людей выполнять их приказы. Ему показалось, что он нашел ахиллесову пяту системы всеобщего принуждения. Самым эффективным способом ее разрушить мог стать добровольный массовый отказ от военной службы в любых ее формах – страницы книги Толстой наполнил рассказами о тех, кто предпочел терпеть преследования, но не брать в руки оружия и не приносить присягу, противоречащую их убеждениям.
Толстой начал писать «Царство Божие…» еще до голода. По пути в Бегичевку он встретил солдат, посланных подавлять крестьянский бунт, который вспыхнул из-за споров с землевладельцем о мельнице. Как вспоминал последователь и один из первых биографов Толстого Павел Бирюков, эта встреча произвела на Льва Николаевича не меньшее впечатление, чем смерть брата или зрелище публичной казни в Париже.
В Заключении своей книги Толстой размышлял о причинах превращения обычных молодых людей с симпатичными открытыми лицами в профессиональных убийц, готовых стрелять в себе подобных. Решающую роль в этой страшной метаморфозе играло, по его мнению, универсальное социальное лицемерие, убеждающее людей, что насилие необходимо и оправдано общим порядком мироустройства. Толстой признавал, что не каждый человек способен всегда следовать голосу совести, но не следует по крайней мере обманывать себя насчет причин и следствий своих поступков. Искренность перед собой должна стать первым шагом к нравственному возрождению. Человек, впустивший в себя царство Божие, в дальнейшем почувствует себя вынужденным жить по его законам.
Отдавать такой труд в цензуру было бы бессмысленно. Завершив книгу в 1893 году, Толстой сразу отправил ее за границу для перевода и публикации в оригинале. Цензурные правила, применявшиеся к книгам на иностранных языках, были мягче, поскольку их аудитория неизбежно ограничивалась образованными сословиями, но на этот раз русские цензоры немедленно запретили ввоз даже французского перевода «самой вредной книги из всех, которые ей когда-нибудь пришлось запрещать» (ПСС, XXVIII, 366). Конечно, остановить распространение трактата это не могло.
Самому Толстому жизнь по законам царствия Божьего давалась тяжело. В сентябре 1891 года после долгих споров он убедил Софью Андреевну опубликовать заявление с отказом от авторских прав на его произведения, написанные после 1881 года – времени его религиозного обращения. Все предыдущие произведения, включая оба романа, оставались в ее исключительной собственности; кроме того, она могла печатать и продавать собрание сочинений мужа, хотя частично их содержание и не было защищено авторским правом. Следующей весной Толстой отказался от собственности на землю, но не передал ее крестьянам, а разделил между женой и детьми.
Этот вымученный компромисс мог бы стать основой для соглашения о разводе, однако Толстые продолжали жить в одном доме, где бывший хозяин внезапно оказался иждивенцем, не отвечающим за благополучие семьи и не имеющим права вмешиваться в возможные конфликты между домашними и крестьянами. В дневниках, письмах и разговорах Толстой постоянно жаловался на «роскошь», в которой жил.
Сегодняшнему посетителю и яснополянского, и московского домов трудно заметить эту роскошь. Оба дома выглядят скромно, а яснополянский и вовсе аскетичен и попросту мал для такой большой семьи. Толстой, однако, сравнивал себя не с людьми своего круга, а с крестьянами, теснящимися в темных избах. Относительный комфорт собственного существования казался ему невыносимым и прямо противоречащим его же учению. При его славе весь мир мог наблюдать несоответствие между его проповедью и образом жизни.
Соглашение о разделе авторских прав тоже оказалось хрупким и чреватым конфликтами. В начале 1895 года Толстой обещал свой рассказ «Хозяин и работник» в журнал «Северный вестник», издававшийся Любовью Гуревич. Герой рассказа, богатый купец Василий Брехунов, торопясь заключить выгодную сделку, заставляет кучера Никиту, несмотря на многократные предупреждения, везти его в метель. Снежной ночью они сбиваются с пути. Внезапно хозяин, охваченный неведомым ему прежде приливом радости, расстегивает шубу и согревает своим телом Никиту. Спасая от смерти работника, он замерзает сам.
К этому времени Софья Андреевна неохотно, но все-таки смирилась с тем, что ее муж отдает свои произведения, предназначенные для «темных», в дешевые издания «Посредника». Однако предпочтение, оказанное Толстым серьезному литературному журналу перед ее собранием сочинений, уязвило ее до глубины души. Она приписала это решение его увлечению «интриганкой, полуеврейкой Гуревич» (СТ-Дн., I, 233) и впала в приступ ревнивого бешенства.
Пытаясь или делая вид, что пытается покончить с собой, она выскочила в мороз на улицу в ночной рубашке и шлепанцах. Толстой нагнал жену и уговорил вернуться, но и в следующие дни она еще дважды пыталась убежать, и ее приводили домой дети. Позднее Софья Андреевна писала, что хотела замерзнуть как герой рассказа мужа. В конце концов Толстой сдался и согласился выполнить требования Софьи Андреевны; она написала об этом в дневнике 21 февраля. В тот же день тяжело заболел их младший сын Ванечка. Через два дня он умер.
Толстые знали, что Ванечка их последний ребенок, и любили его со всей нежностью и преданностью поздних родителей. В самом мальчике было что-то ангельское. Умный, добрый, ласковый и болезненный, Ванечка был вовсе свободен от обычного детского эгоизма и наделен редким умением понимать других. В неблагополучных семьях родители часто тянут детей в разные стороны. Дочери Толстых, особенно две младших, поддерживали отца, сыновья, за исключением старшего Сергея, старавшегося сохранять нейтралитет и держаться в стороне, были на стороне матери.
Ванечка был единственным ребенком, пытавшимся соединить родителей и проявлявшим бесконечное понимание. «Разве не легче умереть, чем видеть, когда люди сердятся», – сказал он однажды. Его переживания побуждали старших хотя бы немного контролировать свои слова и поступки. По-видимому, он был последней нитью, еще соединявшей семью.
Незадолго до смерти, говоря с матерью о своем покойном брате Алеше, Ванечка спросил, правда ли, что дети, умершие до семи лет, становятся ангелами. Софья Андреевна ответила, что многие так говорят. На это Ванечка сказал: «Лучше и мне, мама, умереть до семи лет. Теперь скоро мое рождение, я тоже был бы ангел. А если я не умру, мама милая, позволь мне говеть, чтобы у меня не было грехов» (СТ-Дн., I, 512). После этого он начал раздаривать свои вещи и рисунки братьям, сестрам и слугам. До семи лет он не дожил.
«Мама страшна своим горем. Здесь вся ее жизнь была в нем, всю свою любовь она давала ему. Папа один может помогать ей, один он умеет это. Но сам он ужасно страдает и плачет все время»[57], – написала дочь Толстого Мария одному из своих друзей. Толстой, веривший, что именно Ванечка будет продолжать после него «дело Божие» (СТ-Дн., I, 515), в одночасье превратился из крепкого мужчины средних лет в больного старика. «Мне утешительны его доброта и ласковость, но и мне тяжело то, что и он все больше сгибается, стареет, худеет, плачет и никогда уже не только не улыбнется, но даже не подбодрится»[58], – написала сестре Софья Андреевна примерно через месяц после смерти сына.
В своих воспоминаниях Бунин рассказывал, как Толстой пытался бороться с отчаянием. Навестив его в Москве примерно в эти месяцы, Бунин начал говорить о том, как потряс его недавно напечатанный «Хозяин и работник». Толстой, по словам Бунина,
покраснел, замахал руками:
– Ах, не говорите! Это ужас, это так ничтожно, что мне по улицам ходить стыдно!
Лицо у него было в этот вечер худое, темное, строгое: незадолго перед тем умер его семилетний Ваня. И после «Хозяина и работника» он тотчас заговорил о нем:
– Да, да, милый, прелестный мальчик был. Но что это значит – умер? Смерти нет, он не умер, раз мы любим его, живем им![59]
Они вышли на улицу. Толстой прыгал через канавы, так что спутник «едва поспевал за ним», и повторял «отрывисто, строго, резко: – Смерти нету, смерти нету!»[60]
Толстой надеялся, что любовь, которую Ванечка принес в мир, и общее горе вернут мир и понимание в его семью. Он написал Александре Толстой, что жена «поражает» его «духовной чистотой» и смирением, с которыми она перенесла величайшую утрату своей жизни:
…она покорна воле бога и только просит его научить ее, как ей жить без существа, в которое вложена была вся сила любви. И до сих пор еще не знает как. ‹…› Никогда мы все не были так близки друг к другу, как теперь, и никогда ни в Соне, ни в себе я не чувствовал такой потребности любви и такого отвращения ко всякому разъединению и злу. Никогда я Соню так не любил, как теперь. И от этого мне хорошо. (ПСС, LXVIII, 70–71)
Его беспощадный психологический анализ на этот раз его подвел. Обретенная ценой безмерной трагедии гармония душ супругов была иллюзорной. Сам Толстой был хотя бы отчасти защищен своей философией, ощущением жизненной миссии и художественным даром. У его жены ничего этого не было, и ей приходилось искать свои убежища. Софья Андреевна всегда любила музыку, теперь она стала для нее единственным утешением. В том же письме к сестре, в котором она рассказывала о том, как тяжело перенес ее муж их потерю, говорится и о ее художественных впечатлениях:
Вчера пришел Танеев (лучший пианист России), провел с нами вечер и играл удивительно. И Баха, и Шопена, и Бетховена. Я почти все время плакала, но рада была музыке хорошей. Ах, Таня, если б ты могла понять, да не дай тебе Бог, какие страдания я переживаю. Я ищу утешения в том, что ими я перехожу в вечность, что страдания эти нужны для очищения моей души, которая должна соединиться с Богом и Ваничкой, который весь был любовь и радость[61].
Знаменитый пианист и композитор Сергей Иванович Танеев был любимым учеником Чайковского и давним знакомым и поклонником Толстого. Чтобы помочь Софье Андреевне справиться с горем, Толстые пригласили его пожить летом в Ясной Поляне в свободном флигеле дома. Танеев часто и охотно исполнял для хозяев их любимые произведения. Очень быстро все члены семьи обратили внимание на то, что любовь Софьи Андреевны к музыке распространилась и на музыканта.
Никто из участников этого треугольника не предполагал возможности адюльтера. Танеев был на двенадцать лет младше Софьи Андреевны и, кроме того, был геем. Одинокий человек, он радовался вниманию великого писателя и нежной заботе его жены. Поняв с большим опозданием, какую роль играет в семье, он начал постепенно отдаляться от Толстых. Софья Андреевна была убеждена в невинности своего поведения и своих чувств и не считала, что может и должна их контролировать. Позднее она говорила дочерям, что в ее жизни не было ни одного рукопожатия, которое не могло бы произойти в присутствии мужа.
Напротив того, для Толстого именно чувства всегда были важнее всего. «Исключительная любовь» его жены к другому мужчине была для него невыносима, особенно потому, что возникла во время их общего горя. Он пытался убедить жену, что человек может избавиться от дурного чувства, если осознает, что оно дурно, на что она отвечала приступами истерики и угрозами покончить с собой.
Однажды в ходе очередного семейного конфликта Софья Андреевна обещала мужу «не видать нарочно С.И.» (СТ-Дн., I, 327), но быстро забрала обещание назад. В середине 1899 года она узнала, что за некоторое время до того о самоубийстве всерьез размышлял сам Толстой. «Бедный, милый! – написала в дневнике Софья Андреевна. – Разве я могла любить кого-нибудь больше его?» (СТ-Дн., I, 451). Ни к каким изменениям ни в семейной ситуации, ни в ее образе поведения это открытие не привело.
Оба супруга жили в мире произведений, написанных ими до начала этой коллизии. Софья Андреевна, подобно Анне из повести «Чья вина?», чувствовала, что ревнивый муж пытается разрушить чистый и возвышенный союз родственных душ. Позднее она написала еще одну повесть – «Песня без слов». Ее героиня, Александра, кончает жизнь в психиатрической клинике, не понятая ни добрым, но недалеким и погруженным в земные заботы мужем, ни великим музыкантом, сердце которого принадлежит искусству и преданным ему юношам. Именно «Песню без слов» Мендельсона Софья особенно любила слушать в исполнении Танеева и, «как молитву», пыталась играть сама.
В то же время Толстой не мог не видеть в происходящем повторение сюжета, описанного им в «Крейцеровой сонате». Полная сил и испытывающая потребность в земной любви, но утратившая способность к деторождению женщина подпадает под власть музыки и исполняющего ее музыканта и теряет контроль над собой. То обстоятельство, что сексуальная ориентация Танеева исключала возможность измены, не делало ситуацию в глазах Толстого менее унизительной и не уменьшало его ревность.
Толстой не убил жену, не покончил с собой и не ушел из дома. Напротив, он продолжал принимать Танеева, играл с ним в шахматы, беседовал о музыке и литературе. В 1897 году, в самый разгар кризиса в семье он закончил свой трактат «Что такое искусство?», над которым работал почти десять лет. Написав о религии, философии, экономике и политике, он взялся за тему, которая была знакома ему как никакая другая и как никому другому. Толстой оспорил традиционное для романтической эстетики представление о связи, существующей между искусством и красотой. С его точки зрения, искусство представляет собой способ общения между людьми: с его помощью люди передают друг другу свои чувства.
Если художественное качество произведения зависит от искренности и новизны выраженных в нем чувств и ясности их воплощения, то его нравственная ценность определяется религиозным содержанием. Искусство высших классов последних трех столетий было, по мнению Толстого, занято передачей по преимуществу оттенков трех чувств: славы, половой любви и тоски по уходящей жизни. Бетховен мог быть великим композитором, но воздействие «Крейцеровой сонаты» на души Позднышевых оказалось разрушительным.
Толстой осуждал современное искусство не только с моральной, но и с художественной точки зрения. Он цитировал стихотворения Бодлера, Верлена и Метерлинка, которые казались ему решительно непонятными и бессмысленными. Он понимал, что в отсутствие универсальных критериев его оценка оказывалась относительной: произведения, которыми он привык восхищаться, точно так же могли не оценить другие. Однако искать золотую середину было не в его характере, и он не колеблясь заявил, что настоящее искусство должно быть понятно всем, включая самых простых и неграмотных людей. За немногочисленными исключениями, которые он перечислил на страницах трактата, этому критерию соответствовали только фольклор и религиозное искусство.
Вполне ли Толстой верил тому, что писал? Сам он так и не научился обходиться без музыки. Постепенно место Танеева в качестве любимого исполнителя занял молодой пианист Александр Гольденвейзер. В 1899 году он записал в дневник свой разговор с Толстым о стихах Тютчева, которого тот ценил больше Пушкина и Фета:
Л.Н. сказал мне: Я всегда говорю, что произведение искусства или так хорошо, что меры для определения его достоинств нет, – это истинное искусство. Или же оно совсем скверно. Вот я счастлив, что нашел истинное произведение искусства. Я не могу читать без слез. Я его запомнил. Постойте, я вам сейчас скажу его. Л.Н. начал прерывающимся голосом: Тени сизые смесились…
Я умирать буду, не забуду того впечатления, которое произвел на меня в этот раз Л.Н. Он лежал на спине, судорожно сжимая пальцами край одеяла и тщетно стараясь удержать душившие его слезы. Несколько раз он прерывал и начинал сызнова. Но наконец, когда он произнес конец первой строфы: «все во мне, и я во всем», голос его оборвался[62].
Лирика Тютчева была далека от народной поэзии, но зато воплотила заветную мечту Толстого о сладостном растворении во всеобщей любви. Слезы помешали ему прочесть последнюю строфу: «Чувства мглой самозабвенья / Переполни через край!.. / Дай вкусить уничтоженья, / С миром дремлющим смешай!»
Несмотря на безоговорочное отрицание современного искусства, Толстой завершал свой третий и последний роман «Воскресение». Возможно, именно эта работа помогла ему справиться и с горем потери, и с семейной драмой. Как всегда, работа над романом была долгой и мучительной. В 1887 году писателя поразил рассказ юриста Анатолия Федоровича Кони о человеке, который, исполняя обязанности присяжного, вдруг узнал в обвинявшейся в краже проститутке девушку, соблазненную им много лет назад. Потрясенный и полный раскаяния, он решил жениться на обвиняемой, но она умерла от тифа, которым заразилась в тюрьме. Поначалу Толстой настаивал, чтобы Кони, сам известный литератор, написал об этом случае, но потом попросил его подарить этот сюжет. Кони немедленно и охотно согласился.
Нетрудно понять, чем эта история привлекла Толстого. Чувствуя отвращение к своему мужскому прошлому, он думал о психологической механике раскаяния и возможности искупления грехов. Он полагал, что те, кто, подобно ему самому, неспособны к чистоте и целомудрию, должны рассматривать свою первую сексуальную связь как выбор на всю жизнь. Герой «Коневской истории», как Толстой называл «Воскресение», не только устыдился своей роли соблазнителя, но и с запозданием признал, что это соблазнение на самом деле было для него браком.
Толстой идентифицировал себя с князем Нехлюдовым, героем романа. В 1903 году он рассказал своему биографу Павлу Бирюкову, что однажды соблазнил горничную своей сестры Гашу, которая погибла после того, как ее выгнали из дома. Однако пятью годами раньше, говоря в дневниках о «Воскресении», Софья Андреевна вспомнила, как муж показывал ей эту Гашу – она спокойно дожила до старости в качестве горничной. Скорее всего мы никогда не узнаем, подвела ли Толстого память или он руководствовался желанием преувеличить свою вину.
На этот раз Толстой не стал делить себя между двумя автобиографическими героями. Вместо этого один персонаж постепенно превращается в другого. Богатый, преуспевающий и уверенный в себе Нехлюдов перерождается в человека, подверженного мучительным сомнениям и одержимого жаждой самосовершенствования. Прочтя первый набросок романа, Страхов предположил, что Толстой описал духовное возрождение Черткова: эта гипотеза выглядит особенно проницательной, если вспомнить, что обращение Черткова служило для Толстого идеализированным образом его собственного духовного поиска.
Первая редакция «Воскресения» была закончена в 1895 году и представляла собой довольно короткий рассказ, полностью посвященный истории соблазнения и раскаяния. История завершалась счастливо, герой соединялся с оставленной и забытой им возлюбленной, эмигрировал в Англию и становился крестьянином в сельской общине. Как и все другие черновые наброски Толстого, эта версия должна была быть глубоко переработана, но он не мог заставить себя приняться за редактуру. Его отвлекали другие дела, а кроме того, он опасался завершать сочинение, которое могло бы спровоцировать конфликт наподобие того, который произошел вокруг «Хозяина и работника». Но в 1897 году Толстой нашел хорошую причину для возобновления работы.
Из всех российских сект, чьи взгляды оказались созвучны учению Толстого, самыми радикальными были духоборы. Они отвергали официальную церковь, за что были сосланы Николаем I на Кавказ. В 1890-х годах один из их лидеров Петр Веригин познакомился на каторге с учением Толстого и был поражен сходством своей веры с тем, что проповедовал знаменитый граф. Он призвал своих последователей не брать оружия, отказываться от военной службы и не присягать Николаю II.
В результате некоторые духоборы были засечены до смерти, некоторые арестованы, многие изгнаны со своих скудных наделов и лишены способов выжить в суровом горном климате. Толстой и несколько человек из его окружения подписали воззвание в защиту духоборов. Сам Толстой вновь избежал каких-либо репрессий, но других подписантов арестовали. Чертков, благодаря своим связям в высших сферах, был выслан в Англию, двое других видных толстовцев, П. Бирюков и И. Трегубов, отправлены в ссылку.
Вмешательство Толстого привлекло к духоборам внимание мировой общественности, и правительство Канады выразило готовность принять их на своей территории. Переселение тысяч людей представляло собой очень дорогостоящее предприятие, поэтому Толстой решил временно поступиться своим принципом не брать деньги за публикации. Все его гонорары должны были пойти на помощь сектантам. Летом 1898 года он вернулся к «Воскресению».
Найдя подходящее оправдание возобновлению работы над прозой, Толстой со всей страстью принялся за дело. «Коневская история» превратилась в полномасштабный роман, ставший самым развернутым художественным воплощением его учения и самой широкой панорамой России не только в его творчестве, но и вообще в русской литературе.
Помимо дворян и крестьян, о которых он всегда любил писать, Толстой изобразил здесь чиновников, судейских, думских деятелей, жандармов, купцов, священников, революционеров, преступников, проституток и т. д. Часть действия происходит в Сибири, куда Нехлюдов едет вслед за Катюшей. Толстой не бывал в Сибири, но она всегда волновала его воображение, и еще в «Декабристах» он собирался о ней написать.
Роман не был завершен, а первые фрагменты из него начали появляться сразу в двух вариантах, цензурном в журнале «Нива» и полном – в Англии, в издательстве, специально организованном Чертковым. Книжные издания на русском языке появились через несколько недель после окончания печатания романа в журналах, почти немедленно в свет вышли английский, французский и немецкий переводы. Третий роман Толстого за год приобрел больше читателей, чем предыдущие два за тридцать лет.
28 августа 1798 года Софья Андреевна записала в дневнике, что Лев Николаевич «был очень доволен своей работой».
«Знаешь, – сказал он мне, когда я к нему вошла, – ведь он на ней не женится, и я сегодня все кончил, т. е. решил, и так хорошо!» – Я ему сказала: «Разумеется, не женится. Я тебе давно это говорила; если б он женился, это была бы фальшь» (СТ-Дн., I, 405).
Она тоже была довольна. Идея Толстого, что мужчина должен смотреть на первую женщину, с которой вступил в плотские отношения, как на жену, означала, что у нее не больше прав на мужа, чем у Аксиньи Базыкиной, горничной Гаши и многих других женщин, включая неизвестную казанскую проститутку, у постели которой он рыдал подростком. Ей казалось, что, отказавшись от замысла соединить героев в конце романа, Толстой хотя бы отчасти дезавуировал эти свои ригористические взгляды.
Толстой, однако, не заставил Нехлюдова изменить свои намерения. Решение о разрыве приняла Катюша, которая предпочла выйти замуж за полюбившего ее революционера. Она продолжала любить князя, но пожертвовала своей любовью, так как не верила, что он может быть с ней счастлив. В конце романа Нехлюдов читает Евангелие и понимает, что суть учения Христа состоит в тех же пяти заповедях, о которых Толстой писал в трактате «В чем моя вера?». В последнем абзаце автор обещает герою «совсем новую жизнь» (ПСС, XXXII, 445).
Этот финал, как и вся история раскаявшегося интеллектуала и добросердечной проститутки, спасающих друг друга взаимной любовью, был хорошо знаком русским читателям. В «Анне Карениной» Толстой взялся переписать «Мадам Бовари», в «Воскресении» – предложил свою версию «Преступления и наказания». Несмотря на свое восхищение Достоевским как человеком и мыслителем, Толстой скептически относился к его повествовательным приемам, монотонному языку и искусственным сюжетам. Он с удивлением заметил, что Достоевский, который часто влюблялся, никогда не мог убедительно описать любовь. Он также согласился со Страховым, который однажды сказал, что характер Сони неправдоподобен и поверить в него нельзя.
18 декабря 1899 года Толстой в своей характерной манере записал в дневнике: «Кончил «Воскресен[ие]». Нехорошо. Не поправлено. Поспешно. Но отвалилось и не интересует более» (ПСС, LIII, 232). На самом же деле судьба Нехлюдова продолжала его интересовать. На следующий год он выражал желание продолжить роман. В 1904 году ему снова «захотелось написать 2-ю часть Нехлюдова. Его работа, усталость, просыпающееся барство, соблазн женский, падение, ошибка, и все на фоне робинзоновс[кой] общины» (ПСС, LV, 66). Обычно Толстой нуждался в «подмостках», но, закончив работу, торопился внутренне расстаться с ней и освободить себя. На этот раз роман не отпускал его. Ему казалось, что он не договорил чего-то важного.
Чехов назвал «Воскресение» «замечательным художественным произведением», но высказал мнение, что у книги «нет конца», «а то, что есть, нельзя назвать концом. Писать, писать, а потом взять и свалить все на текст из евангелия, – это уж очень по-богословски». Его восхитили «князья, генералы, тетушки, мужики, арестанты, смотрители» и весь фон для отношений героев, но сами эти отношения он счел «самым неинтересным». Бóльшая часть критиков ХХ века в целом согласились с этой оценкой за исключением завязки романа Нехлюдова и Катюши и особенно сцены соблазнения – ее эротический накал вызвал настолько сильные чувства у Софьи Андреевны, что она сочла это неподходящим чтением для своих взрослых и замужних дочерей.
В том же письме, в котором он говорил о «Воскресении», Чехов написал и о своем отношении к автору:
Я боюсь смерти Толстого. Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не любил так, как его; я человек неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для себя именно его веру. Во-вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором; даже сознавать, что ничего не сделал и не делаешь, не так страшно, так как Толстой делает за всех. Его деятельность служит оправданием тех упований и чаяний, какие на литературу возлагаются. В-третьих, Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, и, пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, наглое и слезливое, всякие шершавые, озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени. Только один его нравственный авторитет способен держать на известной высоте так называемые литературные настроения и течения. Без него бы это было беспастушное стадо или каша, в которой трудно было бы разобраться[63].
Чехов умер в 1904 году, на шесть лет раньше Толстого, а его письмо было опубликовано в 1908 году. Когда его прочли писателю, которому только исполнилось восемьдесят, он был тронут до слез. «Я не знал, что он меня так любил»[64], – сказал Толстой. Он тоже любил Чехова, но никогда не мог почувствовать с ним душевной близости и подозревал его в холодности. Толстой говорил, что художественным совершенством Чехов превзошел всех прежних писателей, включая Тургенева, Достоевского и его самого, но сетовал на его безрелигиозность и отсутствие осознанной моральной цели. Для одного рассказа он, однако, делал исключение.
«Душечка» написана с идеальным лаконизмом, характерным для позднего Чехова. На нескольких страницах он проследил всю жизнь своей героини и цепь ее перерождений. Ольга начисто лишена собственного содержания и в зависимости от человека, находящего рядом с ней, становится то почитательницей театрального искусства, то солидной дамой, понимающей лесопромышленное дело, то любительницей и защитницей животных. В конце рассказа она находит свое счастье в маленьком гимназисте, сыне ее последнего возлюбленного, и его латинских уроках.
Толстой не был глух к чеховской иронии. Он любил читать «Душечку» вслух и при этом хохотал сам и заставлял хохотать всех вокруг. Мемуаристы вспоминают, что он не слишком хорошо читал собственные произведения, но превосходно справлялся с чужими, причем особенное удовольствие получал от юмористической литературы. Но дочитав «Душечку» до конца, он никогда не мог удержаться от слез. В чеховской Ольге он увидел идеал женщины: она не испытывает потребности в самоутверждении и способна слиться с любимым человеком в одно духовное существо. О такой спутнице он тосковал всю жизнь.
Позднее Толстой целиком включил рассказ в свой «Круг чтения» – собрание произведений для самого широкого читателя, где он помещал самые, с его точки зрения, высокие образцы духовной мудрости и нравственной красоты. В своем послесловии к «Душечке» Толстой объяснил, что, по его мнению, Чехов хотел осмеять героиню, но
бог поэзии запретил ему и велел благословить, и он благословил и невольно одел таким чудным светом это милое существо, что оно навсегда останется образцом того, чем может быть женщина для того, чтобы быть счастливой самой и делать счастливыми тех, с кем ее сводит судьба. (ПСС, XLI, 377)
При всем восхищении прозой Чехова Толстой не мог принять его пьесы, сюжеты которых казались ему вялыми, а драматические ситуации – невыразительными. Чехов любил рассказывать, что Толстой как-то сказал ему: «Вы знаете, я терпеть не могу Шекспира, но ваши пьесы еще хуже». Испугавшись, что обидел собеседника, Толстой взял его за руку, заглянул в глаза и сказал: «Вы хороший, Антон Павлович». И улыбнувшись прибавил: «А пьесы ваши все-таки плохие»[65].
Чехов был убежден, что неизменная благожелательность Толстого к коллегам по перу связана с тем, что он относился к ним с долей снисходительности и равным себе ощущал только Шекспира – и именно из-за этого раздражался, что тот пишет не по-толстовски. Во всяком случае, Шекспир – единственный автор, которому Толстой счел нужным посвятить отдельный уничтожающий разбор. Он обрушился на «Короля Лира» за психологическую неправдоподобность характеров и поступков героев, за нелепый сюжет, напыщенный язык и циническую мораль.
Драматический род всегда привлекал Толстого, но давался непросто. Здесь ему не хватало авторского всеведения, позволяющего проникнуть в потаенные глубины душ героев и обнаружить мотивы поведения, может быть, скрытые от них самих. Только выработав в своих народных рассказах повествовательную манеру, которая позволяла обходиться без этого ресурса, он смог с успехом вернуться к театральным замыслам.
В 1886 году Толстой написал трагедию «Власть тьмы» о распаде нравственной ткани деревенской жизни и о людях, сумевших, невзирая на этот распад, сохранить в себе человеческое и Божеское начало. Сюжет, основанный на материале реального уголовного расследования, включал в себя супружескую измену, убийство, детоубийство и эффектное публичное покаяние душегуба, отдаленно напоминающее аналогичную сцену из «Преступления и наказания».
Александру III трагедия поначалу понравилась, но Победоносцев убедил его изменить точку зрения и запретить ее постановку. «Власть тьмы» была впервые представлена в Париже, а затем еще в десятке крупных европейских городов. На профессиональной российской сцене она впервые появилась только в 1902 году в постановке Станиславского, сыгравшего главную роль. Одиннадцатью годами раньше Станиславский уже ставил любительский спектакль по комедии Толстого «Плоды просвещения», высмеивавшей модное в высшем русском обществе увлечение спиритизмом. Интересно, что во второй половине 1870-х – начале 1880-х годов в спиритических сеансах участвовала и Татьяна Андреевна Кузминская, подробно описывавшая их сестре. В ответном послании Софья Андреевна писала:
Левочка ужасно хохотал при чтении твоего письма, он не допускает и возможности, чтоб он когда-нибудь поверил в такие глупости, как он говорит, и предлагает задать духу трудную математическую задачу. А дети все перепугались, поджали ноги и визжат[66].
Два главных драматических опыта Толстого не были ни поставлены, ни напечатаны при его жизни. Они задумывались в 1890-х годах, но работа над «Воскресением» отвлекла писателя. В 1900-м Толстой вновь вернулся к этим замыслам, возможно под впечатлением от постановки чеховского «Дяди Вани» в Художественном театре. Он ушел со спектакля разочарованным и в уверенности, что в состоянии лучше справиться с требованиями сценического искусства. Толстой почти закончил обе пьесы, но никогда не пытался отдать их в печать или на сцену.
Не исключено, что те самые художественные ограничения драматического рода, которые помешали Толстому стать подлинным соперником Шекспиру или Чехову, придали его главным пьесам особую интимность. Необходимость скрыться за своими героями позволила ему выразить те внутренние сомнения, в которых он не мог признаться ни в прозе, ни в письмах, ни даже в дневниках.
Самая сценически успешная пьеса Толстого «Живой труп» была впервые напечатана в посмертном издании 1911 года и сразу же поставлена в Художественном театре совместно Станиславским и Немировичем-Данченко. Ее герой, Федор Протасов, разоривший семью своей страстью к цыганскому пению, инсценирует самоубийство, чтобы дать жене возможность соединиться с достойным и любящим ее поклонником. Обман раскрывается, супруги попадают под суд: Федор за мошенничество, а его жена – за двоебрачие. Стремясь разрубить связывающий их узел и, что не менее важно, понимая, что суд неминуемо вернет его в семью, Федор на самом деле кончает с собой.
Как и «Крейцерова соната», «Власть тьмы» и «Воскресение», «Живой труп» основан на случае из судебной практики. После смерти Достоевского истории преступления и наказания занимают все больше места в художественном мире Толстого. Вместе с тем сам сюжет пьесы подозрительно напоминает роман «Что делать?», герой которого совершает аналогичный трюк, но добивается полного успеха. Видя в разводе разновидность прелюбодеяния, Толстой всегда считал роман Чернышевского глубоко безнравственным. Тем не менее он не пытался скрыть, что сочувствует жажде Протасова вырваться из семейных уз; а его оставленная жена изображена доброй и любящей женщиной, сумевшей найти во втором браке если не счастье, то благополучие.
В дневнике Толстой называл «Живой труп» «малой драмой». Моральные итоги его «большой драмы» «И свет во тьме светит» еще более противоречивы. Эта пьеса – единственное произведение Толстого в каком бы то ни было жанре, герой которого является сознательным носителем его собственных религиозных и философских взглядов. К ужасу домашних, Николай Иванович Сарынцев отвергает военную службу, православную церковь, собственность на землю и деньги и старается заниматься физическим трудом.
Большинство окружающих считают Сарынцева душевнобольным, но жених его дочери, князь Борис Черемшанов, и местный священник Василий оказываются восприимчивы к его проповеди. Священника лишают прихода, и ему приходится покаяться, однако Борис героически отвергает попытки заставить его жить вопреки совести и попадает сначала в больницу для умалишенных, а потом в военную тюрьму. Дочь Сарынцева, Люба, несмотря на любовь к жениху, соглашается выйти за другого.
Из плана оставшегося ненаписанным последнего явления мы знаем, что Сарынцеву предстояло быть смертельно раненным матерью Бориса, принять вину на себя и спокойно умереть. В то же время в рукописи текст завершается исполненной отчаяния молитвой героя: «Василий Никанорович вернулся, Бориса я погубил, Люба выходит замуж. Неужели я заблуждаюсь, заблуждаюсь в том, что верю тебе? Нет. Отец, помоги мне!» (ПСС, XXXI, 184). Его нравственные мучения не находят разрешения.
Сарынцева, как и Толстого, терзал контраст между безопасностью и комфортом собственной жизни и гонениями, которым подвергались их последователи. Правительство и церковь охотно подчеркивали это противоречие, игнорируя вождя и обрушивая репрессии на паству. Когда Александру III предложили наконец заткнуть опасному автору рот, он, по слухам, наотрез отказался: «Я не желаю увеличивать его славу короной мученика»[67]. Николай II, унаследовавший трон в 1894 году, не являлся таким горячим поклонником Толстого, как его отец, но продолжал ту же политику. Толстому было «совестно и обидно самому быть на воле» (ПСС, LII, 121). Защищенный своей славой, он тосковал о мученичестве настоящего пророка и продолжал провоцировать власти.
Софья Андреевна записала в дневнике, как, переписывая «Воскресение», была возмущена «умышленным цинизмом в описании православной службы» (СТ-Дн., I, 444). Описывая Евхаристию в тюремной церкви, Толстой изобразил главное таинство православия как нелепый магический обряд. В следующей главе он обвинил церковь в кощунстве и измене букве и духу учения Христа. Подлинная цель государственных религий, по Толстому, – побудить верующего перестать прислушиваться к голосу собственной совести, чтобы он мог продолжать вести безнравственный образ жизни и поддерживать жестокую и несправедливую систему власти.
Разумеется, эти главы не могли быть напечатаны в подцензурном издании. Но Толстой разрешил Черткову включить их в свое издание романа. Тысячи копий полного текста немедленно разошлись по всей России. Читатели гектографировали недостающие страницы и вставляли их в купленные экземпляры.
Официальная церковь была вынуждена реагировать. После года размышлений и обсуждений и, как полагают некоторые современные историки, вопреки желанию Победоносцева Святейший синод в феврале 1901 года издал определение, осуждающее Толстого. Документ был составлен с намеренной двусмысленностью: по сути, это, конечно, отлучение от церкви, но само слово «отлучение» ни разу не употребляется. Напротив, Синод выражал сожаление, что Толстой прервал свою связь с церковью, и надежду – что он вернется в ее лоно. В любом случае, это был серьезный акт, ставивший Толстого вне закона в собственной стране и в то же время дополнительно поднимавший его репутацию в глазах значительной части общества, враждебно настроенного к церкви и трону.
Толстой не был вполне уверен в смысле определения. Он спрашивал друзей, предали ли его анафеме, и, кажется, был разочарован, получив отрицательный ответ. В ответном обращении он обвинил Синод в лицемерии и разжигании ненависти. Он написал, что гулял по Москве в день оглашения определения и слышал, как кто-то в толпе назвал его «дьяволом в образе человека». Толстой умолчал, что в ответ из толпы послышались крики «Ура Л.Н., здравствуйте, Л.Н! Привет великому человеку! Ура!» (СТ-Дн., II, 15). По словам Чехова, «к отлучению Толстого публика отнеслась со смехом»[68].
В «Ответе на определение Синода от 20–22 февраля и на полученные мною по этому поводу письма» Толстой подтвердил, что отверг догматы господствующей церкви и считает невозможным возвращение в православие:
Мне надо самому одному жить, самому одному и умереть (и очень скоро), и потому я не могу никак иначе верить, как так, как верю, готовясь итти к тому богу, от которого исшел. Я не говорю, чтобы моя вера была одна несомненно на все времена истинна, но я не вижу другой – более простой, ясной и отвечающей всем требованиям моего ума и сердца; если я узнаю такую, я сейчас же приму ее, потому что богу ничего, кроме истины, не нужно. Вернуться же к тому, от чего я с такими страданиями только что вышел, я уже никак не могу, как не может летающая птица войти в скорлупу того яйца, из которого она вышла. ‹…› Я начал с того, что полюбил свою православную веру более своего спокойствия, потом полюбил христианство более своей церкви, теперь же люблю истину более всего на свете. И до сих пор истина совпадает для меня с христианством, как я его понимаю. И я исповедую это христианство; и в той мере, в какой исповедую его, спокойно и радостно живу и спокойно и радостно приближаюсь к смерти. (ПСС, XXXIV, 247, 252–253)
Толстой покушался на сакральные символы государственной церкви, но у него были свои святыни, которые он тщательно оберегал. Момент перехода от отдельной и временной жизни к общей и вечной обладал для него абсолютной святостью. «Любовь есть сущность жизни, и смерть, снимая покров жизни, оголяет ее сущность» (ПСС, LII, 119), – записал он в 1894 году. Племянница писателя Елизавета Оболенская вспоминала, как он спросил критика Василия Стасова, что тот думает о смерти. Стасов ответил, что вообще не думает «об этой стерве». По свидетельству Оболенской, Толстой воспринял эти слова как кощунство; он часто говорил о смерти «как о благе, как о желательном переходе из этой жизни в другую, как об освобождении. Но мысли о смерти волновали его». Однажды он заметил, что «только очень легкомысленный человек может не бояться смерти». Речь для него шла не столько о страхе физического исчезновения, сколько об опасении оказаться недостойным этого высокого мгновения. В конце жизни он говорил, что, хотя бессознательная смерть и «приятна», он «бы хотел умереть в памяти»[69].
Летом 1901 года Толстой тяжело заболел. Главный врач тульской больницы, куда его привезли, счел его состояние безнадежным. Утром, когда Софья Андреевна ставила ему на живот теплый компресс, он сказал: «Спасибо Соня. Ты не думай, что я тебе не благодарен и не люблю тебя». Оба они плакали. На следующий день, когда ему стало чуть лучше, он признался, что чувствует себя «на распутье: и вперед (к смерти) хорошо, и назад (к жизни) хорошо. Если и пройдет теперь, то это только отсрочка». Подумав немного, он прибавил: «Еще многое есть, и хотелось бы сказать людям» (СТ-Дн., II, 2–23).
Он выздоровел, но доктора не рекомендовали ему проводить зиму в сыром и холодном климате. В конце августа Толстые отправились в Гаспру. В Крыму Толстой встретился с Чеховым, который из-за усиливавшегося туберкулеза переехал в расположенную неподалеку Ялту, и с Горьким, высланным из центральной России на окраины.
Горький интересовал Льва Николаевича как человек из народа. При первой встрече Толстой назвал его «настоящим мужиком», что, строго говоря, не соответствовало действительности. Как и Чехов, Горький происходил из мелких торговцев. Обоих младших писателей объединяло преклонение перед высокой культурой, которая помогла им выбраться из ненавистной социальной среды, и они не могли сочувствовать жажде опрощения, владевшей аристократом Толстым. Горький слегка обиделся, когда Толстой упрекнул его, что тот «много читает»[70]. Увлечение Толстого Горьким оказалось непродолжительным и сменилось глубоким разочарованием. Однако осенью 1901 года три самых прославленных русских писателя явно получали удовольствие от общения друг с другом.
Эта литературная идиллия оказалась, возможно, последним благополучным периодом в жизни Толстого. Вскоре после Нового года он заболел пневмонией. 27 января Чехов написал домой жене, что она, вероятно, получит известие о смерти Толстого прежде, чем письмо успеет до нее дойти. На следующий день в Гаспру стали прибывать дети Льва Николаевича со своими женами и мужьями, чтобы попрощаться с умирающим. Толстой сказал, что умрет с той же верой, с которой прожил последние двадцать пять лет, и поручил детям спросить его перед смертью, по-прежнему ли он считает «свою веру истинной», пообещав «кивнуть или помотать головой»[71], если не сможет говорить.
Вопреки всем ожиданиям Толстой выздоровел, но меньше чем через два месяца вновь оказался на пороге смерти от тифа. Он выздоровел и на этот раз, но перенесенные болезни сказались на его состоянии. «Бедный, я видеть его не могу, эту знаменитость всемирную, – а в обыденной жизни худенький, жалкий старичок. И все работает, пишет свое обращение к рабочим» (СТ-Дн., II, 69), – с характерным сочетанием любви и раздражения написала в дневнике Софья Андреевна. Перенеся тринадцать родов и три выкидыша и похоронив пятерых детей, она все еще оставалась крепкой и моложавой женщиной. В промежутке между двумя болезнями мужа она успела съездить по делам в Ясную Поляну и в Москву, где посетила оперу и частный концерт, на котором выступал Танеев.
В любом случае было ясно, что пребывание в Крыму не идет Толстому на пользу. Летом 1902 года они отправились домой.
«Трудны эти переходы от умирания к выздоровлению. Я так хорошо приготовил себя к смерти, так было покойно, а теперь опять надо думать, как жить»[72], – сказал Толстой племяннице. Он ощущал, что прожил жизнь до конца, но потом ему была дана отсрочка. На смертном одре в Гаспре, прощаясь с детьми, он пытался подобрать нужные слова для каждого; точно так же теперь он говорил по очереди со всеми слоями населения России и писал письма рабочим людям, правительству, духовенству, солдатам и т. п. Он начал этот цикл с письма к императору, к которому обратился со словами «дорогой брат» и которого он уговаривал отменить частную собственность на землю.
Близкие ему люди уходили. В 1903 году он написал два прощальных письма Александре Андреевне Толстой, «бабушке». Они оба знали, что больше не увидятся. Православная Александра Андреевна сохранила в сердце любовь к кузену, но продолжала считать его взгляды опасной ересью. Толстой попытался разрушить выросший между ними барьер:
…различие религиозных убеждений не может и не должно не только мешать любовному единению людей, но не может и не должно вызывать в людях желания обратить любимого человека в свою веру. Я пишу об этом п[отому], ч[то] недавно живо понял это, понял то, что у каждого искреннего религиозного человека, каким я считаю вас и себя, – должна быть своя, соответствующая его уму, знаниям, прошедшему и, главное, сердцу, своя вера, из кот[орой] он выйти не может, и что желать мне, чтобы вы верили так, как я, или вам, чтобы я верил так, как вы, все равно, что желать, чтобы я говорил, что мне жарко, когда меня знобит, или что мне холодно, когда чувствую, что горю в жару. ‹…› И с тех пор я переcтал желать сообщать свою веру другим и почувствовал, что люблю людей совершенно независимо от их веры. (ПСС, LXXIV, 48–49)
Александра Андреевна не могла принять этой оливковой ветви. Она была уверена, что вне церкви нет спасения, и в последнем письме написала, что молится, чтобы Он благословил ее заблудшего родственника «благословением своего Святого Духа»[73]. Она умерла в марте 1904 года восьмидесяти шести лет. В августе того же года Толстой в последний раз навестил своего брата Сергея. Убежденный атеист, Сергей Николаевич неожиданно выказал желание причаститься. К облегчению его жены и их монахини-сестры, Толстой не стал его отговаривать.
И Александра Андреевна, и Сергей Николаевич были старше Толстого, и расставание с ними было ожидаемым. Особенно же тяжелым испытанием стала для Толстого кончина его дочери Маши, самой духовно близкой к нему из всех его детей, единственной, кто в 1892 году отказалась принять землю, отведенную ей при разделе.
«Маша сильно волнует меня. Я очень, очень люблю ее» (ПСС, LV, 277), – записал Толстой 23 ноября 1906 года. Она умерла через четыре дня. Месяцем позже Толстой возвращался к этому переживанию:
Живу и часто вспоминаю последние минуты Маши (не хочется называть ее Машей, так не идет это простое имя тому существу, к[оторое] ушло от меня). Она сидит, обложенная подушками, я держу ее худую милую руку, и чувствую, как уходит жизнь, как она уходит. Эти четверть часа одно из самых важных, значительных времен моей жизни. (ПСС, LV, 284)
Когда-то смерть Ванечки хотя бы на краткое время примирила супругов, новая потеря только усилила их отчуждение. Софья Андреевна была убеждена, что тяжелый физический труд и вегетарианство, в которых Маша подражала отцу, подорвали ее здоровье и не позволили ей иметь детей. Дом пустел. Из всех детей Толстых с ними продолжала жить только младшая дочь Александра. Наделенная на редкость сильным умом и твердым характером, она была безраздельно предана отцу и его идеям, но понимала, что не может ему заменить доброй и понимающей Марии. По воспоминаниям Александры, умирая и находясь в бреду, Толстой вдруг «громким, радостным голосом крикнул: Маша! Маша!»[74].
Ему оставался единственный способ справиться со всеми утратами – писать. Религиозное творчество было для Толстого долгом и миссией, художественное – отдыхом и радостью. В прозе он всегда стремился удержать хрупкий баланс между литературным совершенством и нравственной целью. В «Фальшивом купоне» – незаконченном рассказе о заразительности зла и добра, дидактическое начало явно преобладает, но в «Хаджи-Мурате», последнем своем крупном произведении, которое ему удалось довести до конца, Толстой-писатель, как кажется, берет реванш. Он стыдился признаться, что эта работа увлекает его, но не мог отделаться от потребности совершенствовать текст, на этот раз почти не продиктованной практическими соображениями – публиковать «Хаджи-Мурата», по крайней мере при жизни, он не собирался.
В 1903 году Толстой записал в дневнике, что другие его планы «много важнее глупого Х[аджи] М[урат]а» (ПСС, LIV, 178), но позднее признался своему биографу Павлу Бирюкову, что, навещая свою сестру в монастыре, отделывал повесть. Бирюков вспоминает:
Это было сказано тем тоном (простите за вульгарное выражение), каким школьник рассказывает своему товарищу, что он съел пирожное. Он вспоминает испытанное наслаждение и стыдится признаться в нем (ПСС, XXV, 629).
События, описанные в повести, – переход легендарного мятежника на сторону русских, его побег и гибель, – пришлись на время службы Толстого на Кавказе. История Хаджи-Мурата взволновала начинающего писателя, он много рассказывал о ней яснополянским школьникам. И через полвека вернулся к давним воспоминаниям, дополнив их сведениями из обнародованных с тех пор документов.
Толстой начал писать «Хаджи-Мурата» в 1890-х годах; после возвращения из Гаспры он возобновил работу и почти закончил ее в 1904 году, но и позже снова и снова обращался к повести. К этому времени он был уже радикальным пацифистом, и все же не мог скрыть своей завороженности фигурой свирепого и безжалостного воина. Повесть начинается с описания цветущего в поле репейника, сохранившего свою дикую красоту даже под плугом, но мгновенно увядшего и поблекшего после того, как он был сорван человеческой рукой. Первоначально Толстой намеревался назвать повесть «Репей».
В 1904 году, когда Толстой писал «Хаджи-Мурата» новая большая война началась на Дальнем Востоке. Впервые в своей истории Россия воевала с Японией. Реакция Толстого на эти события была страстной и предсказуемой. Народы обеих стран ожидали военные тяготы и лишения, людей насильно отрывали от семей и повседневного труда, обучали убивать и посылали на смерть ради отдаленных кусков территории, не нужных большинству русских и японцев. В статье «Одумайтесь!» Толстой обрушился не только на ритуализованное массовое убийство, которое представляла собой война, но и на идеологию племенного патриотизма, заражавшую людей ненавистью к другим народам и расам. Согласно его интерпретации Евангелия, пятая заповедь Христа запрещала рассматривать другого как врага и делить людей на племена.
Тем не менее он тяжело переживал известия о поражениях русской армии. Его дочь Татьяна вспоминала: узнав о том, что русские войска оставили Порт-Артур, отец сказал, что в его время крепостей не сдавали врагу, не взорвав их. Присутствовавший при этом разговоре и «задетый за живое словами своего учителя» толстовец заметил, что это привело бы к жертвам. «Что вы хотите? – ответил Толстой, – раз ты военный, ты должен исполнить свой долг»[75]. Как испытанный воин, он не мог без отвращения думать о капитуляции, как закоренелому перфекционисту ему претила плохо сделанная работа.
История повторялась. Как и в годы молодости Толстого, власти стремились укрепить разваливающийся режим «маленькой, победоносной войной», как выразился министр внутренних дел Плеве. Как и тогда, война оказалась долгой и кровопролитной. Россия потерпела поражение, а Плеве был убит террористами. В 1905 году в стране вспыхнула революция.
Подобно Хаджи-Мурату, который не мог найти свое место ни среди мятежников, ни среди русских, Толстой не мог встать на сторону ни одной из противостоящих друг другу партий, разрывавших Россию надвое. В 1906 году он напечатал свое «Обращение к русским людям, правительству, революционерам и народу», в котором предсказал, что государственная власть не сможет остановить революцию ни вынужденными уступками, ни новой волной полицейских репрессий:
Спасение ваше не в думах с такими или иными выборами и никак не в пулеметах, пушках и казнях, а в том, чтобы признать свой грех пред народом и постараться искупить его, чем-нибудь загладить его, пока вы еще во власти. (ПСС, XXXVI, 304)
Толстой не верил в политические реформы, важные, как он считал, только для ничтожного меньшинства. Его волновала ситуация в деревнях: по всей стране крестьяне жгли помещичьи дома и требовали перераспределения земли. Как правило, эти бунты происходили под руководством и контролем самых авторитетных членов общин. Физическое насилие было спорадическим и, учитывая масштабы беспорядков, его уровень, несмотря на массовую революционную агитацию, оставался относительно низким.
Впервые в жизни Толстой обрушился на революционеров не менее, если не более яростно, чем на правительство. Он обвинил их в готовности «не останавливаться ни перед какими преступлениями: убийствами, взрывами, казнями, междуусобной войной» – во имя неведомого будущего социального порядка, о принципах которого они не могли договориться даже между собой. С точки зрения Толстого, и правительство, и его противников объединяло презрение к простым людям и убежденность в своем праве навязывать им свои правила жизни:
Вы говорите, что вы делаете это для народа, что главная цель ваша – благо народа. Но ведь стомиллионный народ, для которого вы это делаете, и не просит вас об этом и не нуждается во всем том, чего вы стараетесь достигнуть такими дурными средствами. (ПСС, XXXVI, 306–307)
Толстой рассматривал революционный кризис как поворотную точку. Или противоборствующие стороны должны были одуматься и отойти от пропасти, или оргия кровопролития и разрушения становилась уже неизбежной. Несмотря на возраст и ухудшающееся здоровье, Толстой неустанно пропагандировал идеи мыслителя, оказавшего на него не меньшее воздействие, чем Руссо и Шопенгауэр.
Американский экономист Генри Джордж был одним из самых популярных социальных теоретиков второй половины XIX века. Его учение представляло собой синтез социалистических и либертарианских идей и имело в глазах Толстого необычайную привлекательность. Как и многие интеллектуалы того времени, Джордж стремился определить причины разительного контраста между бурным техническим прогрессом и растущей нищетой.
Самая знаменитая книга Джорджа «Прогресс и бедность» была издана в 1879 году и разошлась в миллионах экземпляров. Автор признавал частную собственность на продукты труда, но не на природные ресурсы, в особенности землю, которую рассматривал как неделимое достояние всего человечества. В то же время он не выступал за национализацию земли, предлагая вместо этого «национализацию ренты» в форме универсального земельного налога, устанавливаемого в зависимости от расположения и продуктивности надела. В «Прогрессе и бедности» Джордж доказывал с помощью вычислений, что такой налог, если его правильно рассчитать, приведет к выгодному для фермеров перераспределению земли, увеличит ее плодородие и позволит собрать достаточно доходов, чтобы отменить остальные налоги и поддерживать минимальную систему социальной защиты.
Толстой открыл для себя Генри Джорджа в 1885 году, когда, как он писал Черткову, «был нездоров с неделю и был поглощен Georg’eм и последней («Социальные проблемы». – А.З.) и первой его книгой, – Progress and Poverty», которая произвела на него «очень сильное и радостное впечатление»:
Книга эта замечена, но не оценена, потому что она разрушает всю эту паутину научную, Спенсеро-Милевскую – все это толчение воды, и прямо призывает людей к нравственному сознанию и к делу и определяет даже дело. Есть в ней слабости, как во всем человеческом, но это настоящая человеческая мысль и сердце, а не научная дребедень. ‹…› Я вижу в нем брата, одного из тех, к[оторых] по учению Апост[олов] любишь больше, чем свою душу. (ПСС, LXXXV, 144)
Едва ли Толстой пересчитывал цифры Джорджа, но он ссылался на них как на несомненно доказанную и самоочевидную истину и даже предложил подходящий для России уровень земельного налога, который бы, по его мнению, позволил избежать спекуляции землей и сделал бы работу на ней выгодной. Он нашел у Джорджа систему, которая казалась ему простой, понятной, разумной, а главное – соответствующей естественному крестьянскому чувству справедливости. В «Воскресении» Нехлюдов распределяет свою землю по принципам, установленным Джорджем. «И голова же был этот Жоржа» (ПСС, XXXII, 231), – восхищенно говорит старый крестьянин, поняв суть дела.
В отличие от Генри Джорджа Толстой был радикальным анархистом, отвергавшим не только любое налогообложение, но и государство как таковое, и само денежное обращение. Тем не менее он полагал, что идеи американского экономиста указывают путь ненасильственного преображения существующего порядка в мир, где большинство населения получит возможность трудиться на общей земле, а остальные будут производить то, что необходимо земледельцам для их труда. В этом утопическом мире правительства и законы постепенно отомрут за ненадобностью. Толстому казалось, что он отыскал у американского экономиста «зеленую палочку», которая в конце концов должна принести человечеству счастье:
Мысль Генри Джорджа, переворачивающая весь склад жизни народов в пользу задавленного, безгласного большинства и в ущерб властвующему меньшинству, выражена так неопровержимо убедительно и, главное, так просто, что нельзя не понять ее. А поняв, нельзя не постараться привести ее в исполнение, и потому одно средство против нее – это извращение ее и замалчивание. (ПСС, XXXVI, 301)
Взволнованный и обрадованный одобрением великого человека, Генри Джордж хотел приехать в Россию поговорить с Толстым, но здоровье не позволило ему предпринять такое дальнее путешествие. Он умер в 1897 году. Смерть его поразила Толстого «как смерть очень близкого друга» (ПСС, LXXXIV, 298). Интерес русского писателя к наследию американского мыслителя достиг пика во время революции, когда он написал предисловие к переводу «Социальных проблем», выполненному его последователем Сергеем Николаевым, и несколько статей, популяризирующих джорджизм.
Поражение революции привело к сосредоточению почти неограниченных полномочий в руках министра внутренних дел Петра Столыпина. Столыпин был известен личной храбростью и независимым характером, имел репутацию реформатора. К тому же он был дальним родственником Толстого и сыном его друга. В то же время взгляды Столыпина были прямо противоположны толстовским. Он стремился разрушить общину и создать в России новый класс собственников, который изменил бы национальный характер и душу страны. Чтобы добиться этих целей, не прибегая к массированному перераспределению земли, он задумал переселить миллионы крестьян в Сибирь. Начавшая функционировать в начале века Транссибирская железная дорога делала эти планы логистически осуществимыми.
Толстой отдавал себе отчет, насколько его представления расходятся со взглядами всесильного министра, вызывавшего острую ненависть образованной публики, но видел в Столыпине искренне заблуждающегося человека и надеялся его переубедить. В июле 1907 года, через месяц после Третьеиюньского переворота, Толстой послал ему письмо, попросив обратить внимание на «Социальные проблемы» Генри Джорджа. Не получив ответа, Толстой в октябре написал снова: он просил Столыпина вмешаться в дело арестованного толстовца и упрекнул его в том, что тот проигнорировал предыдущее послание. На этот раз министр отозвался. Он пообещал пересмотреть дело, но не свои взгляды и политику:
Не думайте, что я не обратил внимания на Ваше первое письмо. Я не мог на него ответить, потому что оно меня слишком задело. Вы считаете злом то, что я считаю для России благом. Мне кажется, что отсутствие «собственности» на землю у крестьян создает все наше неустройство.
Природа вложила в человека некоторые врожденные инстинкты, как то: чувство голода, половое чувство и т. п. и одно из самых сильных чувств этого порядка – чувство собственности. Нельзя любить чужое наравне со своим и нельзя обхаживать, улучшать землю, находящуюся во временном пользовании, наравне со своею землею. ‹…›
Вы мне всегда казались великим человеком, я про себя скромного мнения. Меня вынесла наверх волна событий – вероятно на один миг! Я хочу все же этот миг использовать по мере моих сил, пониманий и чувств на благо людей и моей родины, которую люблю, как любили ее в старину, как же я буду делать не то, что думаю и сознаю добром? А вы мне пишете, что я иду по дороге злых дел, дурной славы и, главное, греха. Поверьте, что, ощущая часто возможность близкой смерти, нельзя не задумываться над этими вопросами, и путь мой мне кажется прямым путем[76].
Столыпин уже пережил несколько покушений на свою жизнь, и Толстой мог оценить силу и серьезность убеждений своего корреспондента, но не принять его доводы. Предпочтение своего общему, как и упомянутое Столыпиным «половое чувство», казались ему силой, которую надо обуздывать, а не поощрять. Превращать ресурс, данный человеку Богом, в частную собственность значило, по Толстому, создавать «современное рабство», ничем, по сути, не отличающееся от крепостного права. Более того, такая политика противоречила, по его мнению, основам крестьянского миропонимания и могла быть реализована только с помощью насилия и принуждения, как когда-то петровские реформы. И все же риторика оппонента побудила его предпринять еще одну попытку. В январе 1908 года он уговаривал Столыпина задуматься о собственной душе:
За что, зачем вы губите себя, продолжая начатую вами ошибочную деятельность, не могущую привести ни к чему, кроме к[ак] к ухудшению положения общего и вашего? Смелому, честному, благородному человеку, каким я вас считаю, свойственно не упорствовать в сделанной ошибке, а сознать ее и направить все силы на исправление ее последствий. ‹…›
Очень может быть, что, как бы мягко и осторожно вы ни поступали, предлагая такую новую меру правительству, оно не согласилось бы с вами и удалило бы вас от власти. Насколько я вас понимаю, вы не побоялись бы этого, п[отому] ч[то] и теперь делаете то, что делаете, не для того, чтобы быть у власти, а п[отому], ч[то] считаете это справедливым, должным. Пускай 20 раз удалили бы вас, всячески оклеветали бы вас, всё бы было лучше вашего теперешнего положения. (ПСС, LXXVIII, 41, 43)
Письмо было подписано «любящий Вас Лев Толстой». В том же году он еще раз обратился к Столыпину с просьбой избавить от преследований группу крестьян. Столыпин снова согласился отдать необходимые распоряжения, но по существу отвечать не стал. Диалог был исчерпан. Как позднее признавался Толстой, было «ребячеством» с его стороны – надеяться, что правительство к нему прислушается. При этом он был рад, что написал императору и Столыпину: теперь он мог хотя бы быть уверенным, что «все сделал, чтобы узнать, что к ним обращаться бесполезно»[77]. И все же ему было не по себе от того, что он был так ласков с министром, который все больше выглядел в его глазах серийным убийцей.
Чтобы реализовать свои реформы, Столыпину нужно было подавить революцию, и он делал это со все возрастающей жестокостью. Юрисдикция военно-полевых судов была распространена на гражданских лиц, смертные казни, которые на протяжении полутора столетий оставались в России исключительной редкостью, стали повседневным явлением. Каждую неделю пресса приносила известия о новых повешениях и расстрелах.
9 мая 1908 года, прочитав один из таких репортажей, Толстой стал надиктовывать на граммофон свою статью «Не могу молчать», но эмоции захлестнули его с такой силой, что он не мог продолжать. Целый месяц после этого он отделывал текст одного из самых знаменитых воззваний в истории мировой публицистики. 4 июля 1908 года отрывки из него были помещены в нескольких газетах, которые все были за это оштрафованы.
Толстой начал статью с натуралистически бесстрастного описания повешения. Его негодование прорывалось лишь в точности воспроизведения самых ужасающих подробностей. Потом он перешел к рассказу о состоянии страны, которую захлестывает ненависть и в которой маленькие дети играют в теракты, экспроприации и казни. Осуждая любое насилие, он все же настаивал, что солдаты, повинующиеся приказам, террористы, рискующие собственными жизнями, и даже палачи, как правило темные и невежественные, но все же понимающие, что заняты презренным ремеслом, заслуживают большего снисхождения, чем хладнокровные и уверенные в своей правоте убийцы, которые посылают людей на казнь. В финале Толстой признал собственную нравственную ответственность за происходящее в России:
Ведь все, что делается теперь в России, делается во имя общего блага, во имя обеспечения и спокойствия жизни людей, живущих в России. А если это так, то все это делается и для меня, живущего в России. ‹…›
А сознавая это, я не могу долее переносить этого, не могу и должен освободиться от этого мучительного положения.
Нельзя так жить. Я по крайней мере не могу так жить, не могу и не буду.
Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье), надели на меня, так же как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю. (ПСС, XXXVII, 94–95)
В 1882 году, только начиная свою проповедь, Толстой в неотправленном письме кузине Александре Андреевне писал: «Обманщики сделают то, что всегда делали, будут молчать, но когда нельзя уже будет молчать, они убьют меня. Я этого жду» (ПСС, LXIII, 92). Он действительно получал множество проклятий, обвинений и угроз, но расправы так и не дождался – и теперь понимал, что его не повесят и не заточат. Драма, описанная в «И свет во тьме светит» продолжала мучить его.
В последний период жизни Толстой особенно сблизился с Марией Александровной Шмидт, страстной почитательницей и последовательницей его философии, которая отказалась от привычного образа жизни и поселилась неподалеку от Ясной Поляны, занимаясь физическим трудом. Доброта и сердечность, исходившие от нее, были настолько неотразимы, что даже не любившая толстовцев Софья Андреевна неизменно тепло отзывалась о ней.
Обычно восхищавшаяся всем, что выходило из-под пера Толстого, Шмидт не одобрила «Не могу молчать», поскольку, по ее мнению, статье недоставало любви. С огромным трудом ей удалось убедить автора вычеркнуть из окончательного текста личные нападки на Николая Романова и Петра Столыпина. Всегда осуждавший ненависть Толстой на этот раз не смог сдержаться. Самым печальным было то, что его ярость была продиктована чувством бессильного отчаяния.
Преодолев яростное сопротивление справа и слева, Столыпин сумел продавить свои реформы через двор и Думу. Крестьяне получили право выходить из общин с наделами, которые они могли обрабатывать, закладывать или продавать, и получали субсидии на переселение. Община была обречена. Как утверждал Столыпин, для того чтобы изменить Россию, ему нужно было двадцать лет внутреннего и внешнего спокойствия. Расчеты эти оказались не менее утопическими, чем джорджизм Толстого. После того как революция была подавлена, Николаю больше не требовался фанатичный и безжалостный реформатор во главе правительства. Столыпин был убит террористом в 1911 году накануне отставки. Дальнейшая судьба русской деревни известна всем.
В середине 1908 года в Россию вернулся Чертков и поселился неподалеку от Толстых, в соседней губернии. Разговоры со старым другом и учеником стали важным источником утешения и поддержки для стареющего писателя. Останавливаясь в доме Черткова, он любил бродить по близлежащим деревням и подолгу разговаривать с крестьянами, оставаясь неузнанным, – в Ясной Поляне такой возможности у него не было.
Толстой обращал внимание на ухудшение положения мужиков и нарастание их ожесточения. Все чаще они называли людей из привилегированных сословий «паразитами» – этого слова в устах крестьян Толстому раньше слышать не приходилось. Новое определение не обещало господам ничего хорошего, позднее именно оно послужило для большевиков формой метафорической легитимации массового уничтожения эксплуататорских классов. Некоторые беседы с крестьянами, впрочем, производили на Толстого совсем другое впечатление.
Во время одной из прогулок Толстой встретил красивого, умного и трудолюбивого молодого крестьянина, который с неожиданной готовностью откликнулся на увещевания неизвестного старика о вреде алкоголя и пообещал бросить пить. Толстой не поверил столь легкому обращению, но вечером юноша пришел к нему забрать обещанные брошюрки о вреде пьянства. С очевидным удовольствием он передал новому знакомцу благодарность от своей матери. Гордый собой, он признался, что ему уже просватали хорошую девушку. Поздравив жениха, Толстой задал ему вопрос, «который всегда занимал его», когда он «имел дело с хорошими молодыми людьми нашего времени»:
– А что, – спросил я. – Уж ты прости меня, что я тебя спрашиваю, но, пожалуйста, скажи правду: или не отвечай, или всю правду скажи.
Он уставил на меня спокойный, внимательный взгляд.
– Отчего ж не сказать.
– Имел ты грех с женщиной?
Ни минуты не колеблясь, он просто отвечал:
– Помилуй Бог, не былó этого.
– Вот и хорошо, очень хорошо, – сказал я. – Радуюсь за тебя. (ПСС, XXXVIII, 35–36)
Толстой напечатал рассказ об этой встрече под заглавием «Из дневника». Через несколько дней он прибавил заключение и дал очерку новое название: «Благодарная почва». Полный текст появился в июле 1910 года:
Да, какая чудная для посева земля, какая восприимчивая. И какой ужасный грех бросать в нее семена лжи, насилия, пьянства, разврата. ‹…› Мы же, имеющие возможность отдать этому народу хоть что-нибудь из того, что мы не переставая берем от него, – что мы даем ему? Аэропланы, дреднауты, 30-этажные дома, граммофоны, кинематографы и все те ненужные глупости, которые мы называем наукой и искусством. И главное, – пример пустой, безнравственной, преступной жизни ‹…›.
Да, «горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». (Там же)
Это была его последняя прижизненная публикация.
Толстой никогда не был воинствующим технофобом. Он записывал свой голос на граммофон, присланный ему Томасом Эдисоном, вешал дома фотографии, ездил на велосипеде и на поездах. Он часто повторял, что в самих по себе железных дорогах нет ничего ни хорошего, ни плохого, вопрос в том, куда и зачем по ним ездить. Современность, с его точки зрения, не выдерживала этого экзамена. Он знал, что встреченному им молодому крестьянину не на что рассчитывать, даже если он сумеет сохранить трезвость и будет вести воздержанную жизнь. Долгие десятилетия Толстой сражался с превосходящими силами истории. Он никогда не сдавался, но сейчас он понимал, что для него настала пора покинуть поле боя.
Глава четвертая Беглая знаменитость
Со времени, когда восемнадцатилетний Толстой внезапно бросил Казанский университет и уехал в Ясную Поляну, его жизнь была полна разрывов, отъездов и отказов. Он вышел в отставку с военной службы, перестал преподавать в школе и прекратил заниматься делами своего имения. Он отверг сначала разгульную жизнь, которую вел в молодости, а потом образ жизни богатого помещика. Он отказался от православной церкви и социальной среды, к которой принадлежал. Он несколько раз порывался бросить литературу, хотя так и не сумел довести это до конца.
В октябре 1864 года, во время охоты Толстой упал с лошади и сломал руку. Вмешательство тульских докторов оказалась неудачным, и скоро стало ясно, что операции не избежать. Ее делали в Москве в доме Берсов: тесть писателя имел возможность пригласить самых лучших хирургов. По воспоминаниям Татьяны Кузминской, получив первую дозу анестезии, Толстой «вскочил с кресла, бледный, с открытыми блуждающими глазами, откинув от себя мешочек с хлороформом, он в бреду закричал на всю комнату: Друзья мои, жить так нельзя… Я думаю… Я решил»[78]. Ему дали еще дозу, он заснул, и операция прошла благополучно.
Что Толстой «решил», находясь в бреду, так и осталось неизвестным, но чувство, что «жить так нельзя», в любом случае было для него определяющим. Он постоянно рвался освободиться от связывающих его уз, и чем болезненнее был разрыв, тем отчаяннее его тянуло вырваться. В жизни для него не было ничего важнее семьи – несмотря на это или именно поэтому жажда побега владела им даже в счастливейшие периоды его семейной жизни.
В начале 1880-х, когда он последовательно отказывался от церкви, собственности, денег, мяса, курения, алкоголя и т. д., стремление уйти из дома приобрело у него навязчивый характер. «Он сегодня громко вскрикнул, что самая страстная его мысль о том, чтоб уйти из семьи. Умирать буду я – а не забуду этот искренний его возглас, но он как бы отрезал от меня сердце» (СТ-Дн., I, 108), – написала в дневнике Софья Андреевна 26 августа 1882 года.
Толстой ощущал почти физиологическую потребность оставить за спиной положение знаменитого писателя и барскую жизнь и влиться в поток бездомных бродяг, живущих плодами дневных трудов или подаянием добрых людей. Один из молодых последователей как-то спросил его, где ему придется ужинать, если он станет буквально следовать наставлениям учителя. «Кому вы будете нужны, тот вас и прокормит»[79], – ответил Толстой. Он был уверен, что неспособность Софьи Андреевны понять эти его настроения свидетельствует о том, что она просто не любит его. 5 мая 1884 года он записал в дневнике:
Во сне видел, что жена меня любит. Как мне легко, ясно все стало! Ничего похожего наяву. И это-то губит мою жизнь. И не пытаюсь писать. Хорошо умереть. (ПСС, XLIX, 90)
Через неделю, после конфликта с женой, обвинившей его в безответственном отношении к семейным деньгам, Толстой сложил мешок и ушел из дома. С полдороги до Тулы он повернул обратно из-за близких родов жены. На следующий день родилась их младшая дочь Александра.
Желание уйти не оставляло его. Как в самом конце 1885 года Софья Андреевна писала сестре, муж сказал ей, что он хочет развестись и уехать в Париж или Америку, потому что «жить так не может». Во время последовавшего за этим скандала у Толстого, по словам жены, началась истерика: «Подумай только: Левочка и его трясет и дергает от рыданий»[80].
Двенадцатью годами позже, во время увлечения Софьи Андреевны Танеевым, Толстой написал ей прощальное письмо:
Дорогая Соня,
Уж давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, к кот[орым] я же приучил вас, я не мог, уйти от вас до сих пор я тоже не мог, думая, что я лишу детей, пока они были малы, хоть того малого влияния, к[оторое] я мог иметь на них, и огорчу вас, продолжать жить так, как я жил эти 16 лет, то борясь и раздражая вас, то сам подпадая под те соблазны, к к[оторым] я привык и к[оторыми] я окружен, я тоже не могу больше, и я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать, – уйти… (ПСС, LXXXIV, 288)
Толстой не отдал это письмо жене и не ушел из дома. Он помнил, что Евангелие учит его оставить семью и все, что ему дорого, и последовать своему призванию, но еще больше был уверен в том, что «общая любовь» проявляется только в жалости и прощении по отношению к ближним. Именно острое чувство сострадания к жене и сыну позволило Ивану Ильичу преодолеть животный эгоизм и спокойно принять смерть.
И враги, и почитатели Толстого нередко обвиняли его в лицемерии. Он болезненно переживал эти упреки, но научился их переносить, так как был твердо уверен, что привычка к комфортным условиям жизни не может повлиять на его решения. Бóльшую опасность представляли для него соблазны похоти и славолюбия. Борьбе с ними посвящена повесть «Отец Сергий», выделяющаяся даже на фоне толстовской прозы накалом сдерживаемой эротики. Толстой начал писать повесть в 1890 году, практически закончил в 1898-м, но публиковать не стал.
«Отец Сергий» начинается с рассказа о сенсационном исчезновении заметного и успешного человека:
В Петербурге в 40-х годах случилось удивившее всех событие: красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель-адъютантство и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение свое сестре и уехал в монастырь, с намерением поступить в него монахом. (ПСС, XXXI, 5)
Карьерные упования и возвышенная любовь князя Степана Касатского обнаруживают свою пустоту, когда он узнает, что его невеста была любовницей императора. Однако ни в монастыре, ни в отдаленном скиту, куда он потом уходит, князя, ставшего в монашестве отцом Сергием, не оставляют сомнения в правильности сделанного им выбора и греховные помыслы. Его внутренняя борьба достигает кульминации, когда его пытается соблазнить эксцентрическая светская красавица: чтобы справиться с искушением, ему приходится отрубить себе палец.
В мае 1893 года Толстой записал в дневнике: «Как только человек немного освободится от грехов похоти, так тотчас же он оступается и попадает в худшую яму славы людской». Чтобы бороться с этим более чем знакомым ему соблазном, надо, по его мнению, «не разрушать установившегося дурного мнения и радоваться ему, как освобождению от величайшего соблазна и привлечению к истинной жизни исполнения воли бога». Он заметил: «эту тему надо разработать в Сергии. Это стоит того» (ПСС, LII, 82).
Толстой действительно разработал в «Отце Сергии» сложнейшую диалектику святости и греховности. Молва о его победе над искушением разошлась быстро и широко, создав отцу Сергию славу угодника Божьего и привлекая к его келье многочисленную паству, ждавшую от него слова наставления и чуда исцеления:
С каждым днем все больше и больше приходило к нему людей и все меньше и меньше оставалось времени для духовного укрепления и молитвы ‹…› Он знал, что от этих лиц он ничего не узнает нового, что лица эти не вызовут в нем никакого религиозного чувства, но он любил видеть их, как толпу, которой он, его благословение, его слово было нужно и дорого, и потому он и тяготился этой толпой, и она вместе с тем была приятна ему. (ПСС, XXXI, 29–31)
Толстой думал о своем новом положении вероучителя и пророка и о толпах людей, приходящих к нему за советами и поучениями. Его сын вспоминал, что после ухода особо докучных посетителей он принимался радостно скакать по комнатам в сопровождении пляшущих детей. Этот безмолвный ритуал освобождения назывался в доме «Нумидийской кавалерией». Однажды Толстой сказал, что один из его посетителей «принадлежит к самой непостижимой и чуждой» ему «секте – секте толстовцев»[81].
Конец самодовольству отца Сергия положило его падение с толстой слабоумной купеческой дочерью. Вера отшельника оказывается разрушенной. Он «хотел, как обыкновенно в минуты отчаяния, помолиться. Но молиться некому было. Бога не было» (ПСС, XXXI, 37). В ранних черновиках отец Сергий должен был убить соблазнительницу, но такой финал сделал бы повесть еще одной версией «Дьявола». Вместо этого Толстой превратил рассказ о плотской страсти и убийстве в историю о бегстве и об избавлении.
По парадоксальной, но характерной для Толстого логике безобразный грех освобождает отца Сергия от порабощенности мирской славой. Он покидает скит и находит образец подлинной святости у подруги детства, которая расходует все свои нищенские средства и скудные силы на помощь отчаявшейся дочери, бестолковому и бесполезному зятю и двум внукам, не подозревая при этом, что делает нечто доброе и нравственное. Отец Сергий становится бродягой, нищенствует, попадает в тюрьму и в конце концов оседает в Сибири на заимке у богатого мужика, где обучает детей и ухаживает за больными.
Похоже, что эта заимка попала в повесть из другого сюжета о побеге, который Толстой обдумывал в 1890-х годах. «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» были основаны на распространенной легенде, согласно которой император Александр I не умер в Таганроге в 1825 году, но скрывался под именем Федора Кузьмича. Федор был реальным человеком. Подобно отцу Сергию он бродяжничал, подвергался аресту и ссылке, а в старости жил в Сибири на заимке у купца и учил крестьянских детей за еду – старец никогда не брал денег. Он умер в 1864 году, оставив после себя зашифрованные бумаги; его личность так и не была установлена.
Толстой был склонен верить этой легенде, но «Посмертных записок…» так и не написал. У него было слишком много других дел, и он не мог позволить себе погружаться в документы, без чего историческое повествование не могло обрести жизненность и достоверность. Мотивы внезапного побега, отказа от привычного образа жизни, бродяжничества и старости на сибирской заимке перешли в повесть «Отец Сергий».
В 1901 году историк Николай Шильдер выпустил четырехтомную биографию императора Александра. Шильдер не поддержал версию о его уходе, но и не отверг ее и, как кажется, был готов осторожно признать за ней право на существование. Этот богатейший по количеству привлеченных и опубликованных документальных материалов труд дал новый толчок давнему замыслу Толстого.
В 1902 году в Гаспре он познакомился с Великим князем Николаем Михайловичем, который также занимался историей царствующей семьи, и разговаривал с ним о его родственнике. Как вспоминал Великий князь, Толстой сказал: «если только Александр I действительно кончил свою жизнь отшельником, то искупление, вероятно, было полное» (ПСС, XXXVI, 585). Для писателя такое преображение искупило бы и вину Александра в пособничестве заговорщикам, убившим его отца, и не менее страшный грех властвования над другими людьми, который он совершал в течение почти четверти века.
В 1905 году Толстой начал набрасывать текст, построенный как автобиография старца Федора. Он не слишком продвинулся в работе, когда в 1907 году Николай Михайлович прислал ему свою новую монографию «Легенда о кончине императора Александра I в Сибири, в образе старца Федора Козмича», где окончательно опроверг это предание. Он пришел к выводу, что Федор вполне мог быть беглым дворянином, но, безусловно, не императором Александром. Благодаря Великого князя за книгу, Толстой написал:
Пускай исторически доказана невозможность соединения личности Александра и Козмича, легенда остается во всей своей красоте и истинности. Я начал было писать на эту тему, но едва ли удосужусь продолжать. Некогда, надо укладываться к предстоящему переходу. А очень жалко. Прелестный образ. (ПСС, LXXVII, 185)
Он был зачарован историей про внезапное и таинственное исчезновение царя и не мог перестать думать о ней. Посреди революционных бурь Толстой осознавал масштаб лежащей на нем ответственности, но это лишь усиливало его давнюю мечту о побеге. Он еще не мог позволить себе уйти с публичной арены, но практически покинул мир литературы.
После выхода в свет «Воскресения» он почти перестал печатать свои художественные произведения. Когда в 1911 году вышло в свет первое посмертное собрание его сочинений, русская публика была ошеломлена «Отцом Сергием», «Хаджи-Муратом», «Живым трупом» и всей россыпью неведомых шедевров не меньше, чем когда-то его романами. «Гениальнейшее, что читал – Толстой – „Алёша Горшок“»[82], – написал Александр Блок о четырехстраничном рассказе о жизни и смерти деревенского полудурачка.
У нежелания Толстого публиковать свои произведения было много разных причин. Он хотел избежать домашних конфликтов из-за авторских прав и чувствовал себя обязанным бороться с писательским тщеславием. Но перестать писать прозу не мог. В 1908–1909 годах он работал над большой вещью с показательным названием «Нет в мире виноватых». В дневнике он признавался, что чувствует
желание художественной работы; но желание настоящее, не такое, как прежде – с определ[енной] целью, а без всякой цели, или, скорее, с целью невидной, недоступной мне: заглянуть в душу людскую. И оч[ень] хочется. Слаб. (ПСС, LVII, 52)
Ночью 2 октября 1910 года, за месяц до смерти, Толстому пришел в голову замысел нового художественного произведения, и он не удержался от радостного изумления: «О, как хорошо могло бы быть. И как это влечет меня к себе. Какая могла бы быть великая вещь» (ПСС, LVIII, 110–111). Чтобы писать, ему нужны были «подмостки», и в то же время он искренне пытался представить свои литературные занятия безобидным времяпрепровождением старого человека, вроде раскладывания пасьянсов, прослушивания Моцарта на граммофоне или верховых прогулок – одной из старых привычек, от которых он так и не сумел отказаться.
Когда до Толстого дошли слухи о намерении присудить ему Нобелевскую премию, он попросил своего шведского друга убедить членов Академии «не назначать» ему премии и не ставить его в очень неприятное ему «положение – отказываться от нее» (ПСС, LXXVI, 202). Он сделал все от него зависевшее, чтобы предотвратить масштабные юбилейные торжества по случаю его восьмидесятилетия в 1908 году. Стремление укрыться от бремени славы было для него и личной, и общественной, и художественной задачей – Толстой искал способы редуцировать собственное присутствие не только в литературном процессе, но и в самом тексте.
Толстой долго обдумывал идею собрания афоризмов и отрывков, которое могло бы удовлетворить потребности трудящихся людей, не обладающих достаточным досугом, чтобы тратить его на книги. В 1904 году он подготовил сборник «Круг чтения». Построенная по календарному принципу книга предлагала краткий объем чтения, состоящий из высказываний религиозных и нравственных учителей всех времен от Лао-цзы и Конфуция до самого Толстого. Предполагалось, что по окончании годичного цикла читатель пойдет по кругу и возобновит знакомство с уже подзабытыми истинами.
Краткие фрагменты сопровождались более длинными «недельными чтениями», рассчитанными на воскресенья. Это были короткие рассказы и статьи обычно в несколько страниц. Для своей книги Толстой редактировал фольклорные истории, религиозные притчи и рассказы множества писателей, включая Тургенева, Мопассана, Анатоля Франса и пр. Некоторые из них он, разумеется, написал сам. В самом длинном рассказе «Божеское и человеческое» он поставил своей целью показать тщету революционной деятельности и самонадеянную ограниченность тех, кто ею занимается. «Круг чтения» стал плодом многолетнего труда Толстого по извлечению из кипы проштудированных им книг драгоценных крупиц мудрости, которые сочетали бы глубину и общедоступность. Он сумел извлечь достойное цитирования высказывание даже у Ницше, философа, вызывавшего у него отвращение.
Толстой попытался растворить свой собственный вклад в океане вековой мудрости и нравственных истин и стать одним из голосов в великом хоре. Его главным делом были подбор, организация и аранжировка материала. Тем не менее он по-прежнему находился на гребне художественных поисков своего времени. Именно в начале ХХ века театральный режиссер или дирижер в оркестре из вспомогательного участника превращается в центральную фигуру при постановке спектакля или исполнении симфонической музыки.
Завершив «Круг чтения», Толстой взялся за сборник «На каждый день», предназначенный для еще менее грамотного читателя. Недельные чтения были здесь заменены ежедневными: сокращенными, адаптированными и построенными по тематическому принципу. Этот подход побудил Толстого составить еще одну компиляцию, которую он назвал «Путь жизни». Здесь он вовсе отказался от календаря, перейдя к делению по темам. Сборник выходил в виде отдельных, дешевых тематических брошюр, посвященных самым важным вопросам религии и нравственности, жизни и смерти, добродетели и греха.
Работу над этой книгой Толстой продолжал до смерти. Он включил в нее больше собственных мыслей, представленных в краткой афористической форме, почти полностью свободной от характерных примет его авторского голоса. «Путь жизни» – возможно, самая личная книга Толстого с точки зрения ее духовного содержания и самая безличная с точки зрения стиля. Он хотел отказаться от экспрессивной мощи своего пера и дать возможность неприкрашенной истине говорить самой за себя.
Тем временем ситуация в семье Толстых из невыносимо тяжелой стала откровенно трагической. Во время революции 1905 года Софья Андреевна и сыновья вызывали вооруженную полицию – охранять усадьбу и арестовать мужиков, рубивших деревья в их лесу. Передавший домашним права собственности на имение Толстой потерял и легальную возможность вмешиваться в происходящее, однако крестьяне, пресса и толстовцы обвиняли его в том, что он просто прячется за спину жены. Так же думала и Софья Андреевна.
Возвращение Черткова позволило Толстому возобновить общение с другом, которым он безмерно дорожил и который стал для него отдушиной в домашних ссорах, – но сильно усугубило сам раздор. Софья считала Черткова источником всех своих несчастий: «Мерзавец и деспот! Забрал бедного старика в свои грязные руки и заставляет его делать злые поступки», – написала она в дневнике, серьезно добавив, что даже фамилия ее врага изобличает его дьявольскую природу (СТ-Дн., II, 212–213).
Чаще всего скандалы вспыхивали по двум причинам. Одна из них – дневники. Когда-то Толстой сам побуждал жену читать их, позднее, осознав, что его мечта о слиянии в единое духовное существо полностью провалилась, он передумал, но уже не смог отучить Софью Андреевну заглядывать в его интимные записи. В тесном яснополянском доме спрятать бумаги было нелегко. Помимо основных дневников Толстой завел тайные тетради, которые запихивал под обивку кресел. Часть рукописей он отдал было Черткову, но после серии скандалов забрал обратно. К чести Софьи Андреевны, надо сказать, что, заполучив дневники мужа в свое распоряжение, она вымарала только пять слов, три из которых текстологи не могут прочесть до сих пор.
Еще более драматической проблемой оказалась ситуация с авторским правом. Решение Толстого передать свои труды в общее пользование было юридически действительным только при его жизни. После смерти автора все права должны были перейти Софье Андреевне как законной наследнице. Некоторые сыновья угрожали отцу иском о признании его недееспособным по слабоумию – учитывая отлучение писателя от церкви, трудно было счесть эту угрозу вовсе пустой.
С другой стороны, Чертков настойчиво уговаривал Толстого решить правовые вопросы раз и навсегда. После долгих колебаний Толстой согласился и составил заверенное юристом завещание, где передавал все права на свои произведения Александре Львовне, верной своей стороннице и самому близкому Черткову человеку в семье. Чертков же получил легальный статус душеприказчика. Не в силах выдержать неизбежные скандалы, Толстой подписал документ тайно, в лесу.
Его решение легко понять. Преданность, надежность и компетентность Черткова были испытаны много раз. В безусловном выигрыше оказались многие поколения читателей и исследователей. При большевистском режиме защищенный официальным почтением к имени учителя Чертков сумел запустить академическое издание собрания сочинений Толстого и создать научную группу, оказавшуюся способной довести до конца этот девяностотомный шедевр научной текстологии даже после его смерти в 1936 году и ареста многих сотрудников.
Однако своими действиями Толстой нарушил по меньшей мере три жизненных правила, которые сам проповедовал. Он подписал юридический документ, дав государству с его законами и судами право вмешиваться в дела своей семьи. Хуже того, он сделал это тайно, заставив Александру Львовну лгать собственной матери. Кроме того, Толстой всегда учил не думать о будущем, которое невозможно контролировать, и вместо этого следовать нерушимым нравственным правилам в настоящем. Он любил записывать в дневник изречение: «Делай, что должно, и будь что будет», – но не сумел ему последовать.
И сам Толстой, и Александра Львовна плохо умели притворяться и вынуждены были отделываться от вопросов Софьи Андреевны двусмысленными умолчаниями. В конце концов, как Толстой всегда и предсказывал, правда вышла наружу, подтвердив самые худшие опасения его жены: в ее глазах он оказался лицемерным и коварным интриганом. Она угрожала убить Черткова и еще чаще – покончить с собой. Она читала дневники мужа, включая тайные, и не сомневалась, что он поступает так же, поэтому регулярно сопровождала упоминания о самоубийстве заверениями, что в ее распоряжении есть средства уйти из жизни.
Толстой пытался уступать жене всюду, где дело не касалось жизненно важных для него вопросов. В 1909 году, вопреки своей обычной неприязни к публичным мероприятиям и, возможно, обрадовавшись предлогу уехать из дома, он согласился участвовать в мирном конгрессе в Швеции. Опасаясь, что муж не вернется, Софья Андреевна стала яростно возражать, и после нескольких стычек он отступил. Летом 1910 года она выбила из мужа обещание не видеться с Чертковым, но, не веря, что он сдержит его, следила за Толстым во время его прогулок, лежа в канаве в лесу.
Стратегия поведения, выбранная Толстым, не давала результатов. Каждую его новую уступку Софья Андреевна истолковывала как подтверждение того, что, нажав еще, она сможет добиться большего. Толстой понимал это, но признавался: идя навстречу жене, он чувствует подлинную радость, в то время как попытки сохранить твердость и тем более проявления гнева для него мучительны и заставляют стыдиться себя.
26 сентября 1910 года после яростной ссоры с матерью Александра ушла из дома к Чертковым и поклялась никогда не возвращаться. Через неделю, 3 октября, Толстой потерял сознание, а когда очнулся, у него случилась полная потеря памяти. Когда он немного пришел в себя, Софья Андреевна попросила у дочери прощения и освободила мужа от обета не видеться с Чертковым. Александра Львовна вернулась, но сказала, что, если бы Толстой умер от этого припадка, весь мир винил бы в этом его жену. Она точно знала, что это единственный аргумент, который еще может подействовать на мать.
Толстой был уверен, что жена страдает душевным расстройством. В июле 1910 года самый знаменитый русский психиатр Григорий Россолимо диагностировал у нее симптомы истерии и паранойи и предсказал, что супруги не смогут жить вместе. Другие подозревали, что она симулирует душевную болезнь, чтобы манипулировать мужем. Ретроспективно главным подтверждением этой точки зрения стало ее быстрое исцеление после смерти Толстого. Однако согласиться с этим доводом едва ли можно, даже если в безумии графини и была система.
В 1898 году Софья Андреевна записала, что случайно столкнула со стола портрет Льва Николаевича, и добавила, что точно так же «свергает его с пьедестала» своим дневником (СТ-Дн., I, 400). Сделать это было не в ее силах, да она никогда и не ставила перед собой такую задачу. Напротив, ей было нужно собственное место на этом пьедестале, и она была готова сражаться за него всеми доступными способами.
Толстой написал 15 сентября 1910 года: «Не говоря уже о любви ко мне, к[оторой] нет и следа, ей не нужна и моя любовь к ней, ей нужно одно: чтобы люди думали, что я люблю ее. Вот это то и ужасно» (ПСС, LVI, 104). Его понимание любви не давало ему почувствовать, что Софья Андреевна обороняет свое положение жены гения и это составляет единственный оставшийся смысл ее жизни. Дети выросли, к внукам она всегда была довольно равнодушна, «исключительную» любовь мужа она потеряла безвозвратно, а ее возвышенное чувство к Танееву давно иссякло.
Главным, а вероятно, и единственным делом Софьи Андреевны стало теперь архивирование семейной истории. Важнейшую роль в этом призваны были играть фотографии. Она много фотографировала сама и очень тщательно следила за возникающим фотоархивом. 21 октября 1910 года, увидев в газете свою фотографию с мужем в последнюю годовщину свадьбы, она написала: «Пусть более ста тысяч человек посмотрят на нас вместе держащихся рука об руку, как прожили всю жизнь» (СТ-Дн., II, 222). После всех разговоров о самоубийстве, побегов из дому, скандалов и ссор она все еще хотела, чтобы окружающие верили в ее семейное счастье.
Эта постановочная гармония была невыносима для Толстого, который с отвращением писал о желании жены изображать на фотографиях счастливую пару. Софья Андреевна не хотела, чтобы он фотографировался со своими последователями, и заставила его убрать портрет Черткова. Когда Толстой в ответ на упреки Александры Львовны повесил его обратно, Софья Андреевна сорвала фотографию со стены и сожгла ее.
Смерть Толстого полностью изменила ситуацию. Больше никто не мог подвергать сомнению ее статус вдовы. В конце концов Софья Андреевна даже смирилась с распределением ролей, установленным покойным мужем. Ответственность за издания его трудов нес Чертков, она сама стала ангелом-хранителем яснополянского имения и дома в Хамовниках, которые ей удалось сохранить посреди всех ужасов революции и гражданской войны.
Неудивительно, что ее так волновали дневники мужа; особенно чувствительна она была к тому, что там говорилось об истории их любви. Однажды она прочитала запись, где Толстой признавался, что уже не может понять, почему он решил жениться: «…это б[ыло] что то роковое. Я никогда даже не б[ыл] влюблен. А не мог не жениться» (ПСС, LVI, 134). Тогда она показала мужу его старый дневник, где он писал о владевшей им безумной страсти. Ему было нечего сказать в ответ. Подобно Пьеру Безухову, забывшему, что радовался известию о смерти жены, он не мог вспомнить собственных чувств. Он стал другим человеком, и прошлое, которое он когда-то фиксировал в дневнике, тоже изменилось.
После тяжелого приступа, перенесенного в 1908 году, всегда цепкая память Толстого стала катастрофически ухудшаться. Мало что из происходившего с ним в последние годы жизни доставило ему такую чистую радость: наконец-то его душа освободилась от рабства по отношению к прошлому, которое переставало терзать его.
Еще работая над «Войной и миром», Толстой пришел к выводу, что история в свернутом виде содержится в настоящем и может быть восстановлена ретроспективным анализом. Любым документам в этом процессе реконструкции принадлежит только вспомогательная роль. Точно так же любой человек в каждый момент своей жизни представляет собой собственный совокупный опыт. Вспоминать отдельные эпизоды не имеет смысла:
…если бы я жил в прошедшем, хотя бы сознавал, помнил прошедшее, не мог бы я так, как теперь жить большей частью безвременной жизнью в настоящем, как живу теперь. Как же не радоваться потере памяти? Все, что я в прошедшем выработал (хотя бы моя внутренняя работа в писаниях) всем этим я живу, пользуюсь, но самую работу – не помню. Удивительно. А между тем думаю, что эта радостная перемена у всех стариков: жизнь вся сосредотачивается в настоящем. Как хорошо! (ПСС, LVI, 121)
Жизнь, сосредоточенная в настоящем, впрочем, ставила его перед нелегким выбором. Труднее всего было разрешить противоречие между нараставшей жаждой бегства и чувством долга, требовавшим остаться и терпеть.
В июле 1910 года он завел «Дневник для одного себя», который безуспешно пытался прятать от Софьи Андреевны. «Держусь и буду держаться, сколько могу, и жалеть, и любить ее. Помоги Бог», – записал он 8 сентября. Он упрекал себя за недобрые чувства к жене, напоминал себе, что «главное молчать и помнить, что в ней душа – Бог» (ПСС, LVI, 137). 25 октября он признался себе в «грешном желании, чтобы она подала повод уехать. Так я плох. А подумаю уехать и об ее положении, и жаль, и тоже не могу» (ПСС, LVI, 142–143).
В тот же день он говорил о планах побега с Александрой Львовной, а на следующий день поделился ими с Марией Александровной Шмидт, одной из немногих его последовательниц, понимавших мотивы, которые заставляли его оставаться в семье. Шмидт пришла в ужас. «Это слабость, – сказала она, – это пройдет». «Это слабость, – согласился Толстой, – но это не пройдет»[83]. На следующий день, как записал Толстой, «[н]ичего особенного не было. Только росло чувство стыда и потребности предпринять» (ПСС, LVI, 142–143).
Вечером 28 октября уже далеко от Ясной Поляны он сделал одну из самых цитируемых дневниковых записей в истории:
Лег в половине 12. Спал до 3-го часа. Проснулся и опять, как прежние ночи, услыхал отворяние дверей и шаги. ‹…› Это С[офья] А[ндреевна] что-то разыскива[ет], вероятно читает. Накануне она просила, требовала, чтоб я не запирал дверей. Ея обе двери отворены, так что малейш[ее] мое движение слышно ей. И днем, и ночью все мои движенья, слова должны быть известны ей и быть под ее контролем. Опять шаги осторожно отпирание двери, и она проходит. Не знаю от чего, это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворочался около часа, зажег свечу и сел. Отворяет дверь и входит С[офья] А[ндреевна], спрашивая «о здоровье» и удивляясь на свет у меня, к[оторый] она видит у меня. Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь, считаю пульс: 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать. (ПСС, LVI, 123–124)
Незадолго до женитьбы жандармы обыскивали имение Толстого в поисках нелегальной литературы. Теперь, через полвека, жена обыскивала его стол и спальню, ища бумаги, которые, как она думала, он от нее прятал. Толстой разбудил Александру, ее подругу Варвару Феокритову и своего доктора Душана Маковицкого, которые помогли ему уложить вещи. Написав Софье Андреевне прощальное письмо, он уехал в шестом часу утра в сопровождении Маковицкого. Александра осталась дома расхлебывать неминуемые последствия.
Доктор Маковицкий жил в Ясной Поляне уже шесть лет. После возвращения из Гаспры Софья настаивала на приглашении домашнего доктора, и Толстой в конце концов согласился, поскольку Маковицкий был пылким сторонником его учения. Можно сомневаться в его медицинской квалификации, но не в его преданности пациенту. На протяжении всего этого времени Маковицкий вел подробнейшие записи разговоров с Толстым, служащие сегодня одним из главных источников наших сведений о последних годах жизни писателя.
Убежать из дома было, однако, недостаточно. Всякий беглец должен куда-то направляться. Отец Сергий сумел просто исчезнуть, но такой выход существует лишь для литературных героев. Уже по дороге на железнодорожную станцию Толстой спросил Маковицкого, куда можно поехать, чтобы быть подальше от дома. Тот предложил Бессарабию, где можно было остановиться у знакомого им обоим толстовца, а потом попытаться выехать за границу. У Толстого были другие планы. Он должен был повидаться со своей сестрой Марией Николаевной, последним на земле человеком, который помнил его ребенком.
Мария была на два года моложе Льва, и младшие дети всегда были особенно близки друг другу. После неудачного брака, бурного разрыва с мужем, романа со шведским виконтом и рождения незаконного ребенка Мария раскаялась в грехах и стала пламенно религиозной. В 1891 году она постриглась в монахини и жила в монастыре в Шамордино, неподалеку от знаменитой Оптиной пустыни, где Толстому приходилось бывать.
Несмотря на несходство религиозных убеждений, брат и сестра сохранили нежные отношения. В апреле 1907 года, рассказывая ей о своей тоске по умершей дочери, Толстой писал:
Часто думаю о тебе с большою нежностью, а последние дни точно голос какой всё говорит мне о тебе, о том, как хочется, как хорошо бы видеть тебя, знать о тебе, иметь общение с тобой ‹…› Брат твой и по крови, и по духу – не отвергай меня. (ПСС, LXXVII, 77)
Милый друг Левочка, милый мой брат по крови и по духу! – написала в ответ Мария Николаевна. – Как меня тронуло твое письмо! Я плакала, когда его читала, и теперь пишу растроганная до глубины души. (ПСС, LXXVII,78)
Толстой приехал в Оптину пустынь вечером 28-го и остановился в монастырской гостинице. На следующее утро туда прибыл Алексей Сергеенко, помощник Черткова, которому Толстой послал телеграмму с железнодорожной станции с указанием места, куда он направляется. Сергеенко привез удручающие новости из Ясной Поляны. Услышав об уходе мужа, Софья Андреевна попыталась утопиться в пруду, но поскользнулась на мостках и упала в мелкое место. Александра Львовна и секретарь Толстого Валентин Булгаков отвели ее домой, где она постоянно переходила от угроз повторить попытку самоубийства к требованиям найти и вернуть беглеца. Она повторяла, что, если ей удастся привезти мужа домой, она будет спать поперек порога его спальни, чтобы не дать ему ускользнуть снова.
Толстой начал диктовать Сергеенко статью против смертной казни, а потом пошел бродить вокруг монастыря, размышляя о возможности там остаться. Ему требовалась обстановка, в которой можно было бы «спокойно укладываться к предстоящему переходу», и он думал, что монастырские стены могли бы оградить его от назойливого любопытства, чужих вторжений и мучительной борьбы с собой. Вместе с тем он не рассматривал возможность примирения с церковью. Позднее он сказал сестре, что с радостью бы подчинился правилам, установленным для послушников, если бы ему разрешили не креститься и не посещать церковных служб.
Все эти мечты, конечно, не имели под собой никаких оснований. Монастырские власти не могли бы принять нераскаянного еретика, отлученного синодом, который в довершение всего был женат законным браком. Толстой не мог не предвидеть всех этих проблем и к монастырскому старцу не пошел. Днем он отправился из Оптиной в Шамордино. «Я боюсь, что у вас дома нехорошо», – сказала Мария Николаевна, увидев, в каком состоянии приехал ее брат. «Дома ужасно», – ответил Толстой и заплакал[84].
В Шамордино вместе с сестрой-монахиней и ее дочерью Елизаветой Оболенской, которую он любил, Толстой провел последний приятный вечер своей жизни. В дневнике он написал:
Самое утешительное, радостное впечатление от Машеньки ‹…› и милой Лизаньки. Обе понимают мое положение и сочувствуют ему. Дорогой ехал и все думал о выходе из моего и ее положения и не мог придумать никаког[о], a ведь он будет, хочешь не хочешь, а будет и не тот, к[отор]ый предвидишь. Да, думать только о том, чтобы не согрешить. А будет, что будет. Это не мое дело. (ПСС, LVI, 125)
К этому времени Толстой почти решил остаться в Шамордино. Наутро он пошел поискать угол, который можно снять, и договорился с крестьянской вдовой, но потом передумал, боясь, что Софья Андреевна может найти его. Вечером приехала Александра со свежими новостями и письмами от братьев и сестер и Софьи Андреевны. Она умоляла мужа вернуться или по крайней мере увидеться с ней и обещала отказаться от роскоши, принять его образ жизни и помириться с Чертковым.
Вечером все сидели за картой, выбирая маршрут. Предлагались Болгария, Бессарабия, Крым, Кавказ. Толстой не знал, куда направиться, но твердо стоял на том, что в толстовскую коммуну не поедет и будет жить только в обычной крестьянской избе. Он бесповоротно отказался от положения лидера и учителя и воображал себе заимку вроде той, где нашли пристанище отец Сергий и Федор Кузьмич. Спать он пошел, так и не приняв решения, но ночью запаниковал и снова разбудил Маковицкого и Александру.
Утром 31-го они купили билеты на первый утренний поезд, направлявшийся в Ростов-на-Дону. Там можно было решить, куда двигаться дальше. Толстой написал письма сестре с извинениями за внезапный отъезд и Черткову, которого извещал, что, возможно, отправится на Кавказ. К середине дня, однако, он серьезно заболел. Его попутчики быстро поняли, что ехать дальше нельзя, и сняли его с поезда на станции Астапово. На станции не было гостиницы, но ее начальник, который оказался почитателем Толстого, предложил две лучшие комнаты в своем доме. Последнее письмо, которое Толстой начал диктовать 3 ноября, обращено к его английскому переводчику Эйлмеру Моду: «On my way to the place where I wished to be alone I was taken ill» (ПСС, LXXXII, 223). Он был слишком слаб и не мог продолжать.
Толстой хотел, чтобы его оставили в покое. В последней телеграмме, отправленной Черткову из Астапово, он написал, что «боится огласки». Огласка, однако, была неизбежна. Новости о его уходе появились в газетах утром того дня, когда он уехал из Шамордино. Уже в поезде его стали узнавать пассажиры, прорывавшиеся в вагон, чтобы удовлетворить свое любопытство. В течение дня маленькая железнодорожная станция стала информационным центром планеты. Туда хлынули орды репортеров, фотографов, операторов, правительственных чиновников, полицейских агентов, поклонников и зевак. Пытаясь убежать от обступившей его современности, Толстой послужил ее триумфу, создав одно из первых глобальных медиасобытий.
Он мечтал слиться с природой и завещал похоронить себя без памятника и надписи поблизости от места, где когда-то ребенком искал зеленую палочку. Его воля была исполнена, но могила стала всемирной туристской достопримечательностью. Отсутствие таблички только подчеркивает этот статус. В самом деле, кому нужна надпись на Гробе Господнем.
Вероятно, Толстой не вполне представлял себе масштабы созданной им сенсации, но какое-то представление о происходящем у него было. В первые дни в Астапово он просил, чтобы ему читали газеты, пропуская новости о нем самом. Внимание было для него тяжело. «А мужики-то, мужики как умирают», – сказал он после того, как два врача уложили его в постель. За день до смерти он упрекнул собравшихся, что те «смотрят только на одного Льва», когда «на свете есть много людей кроме Льва Толстого»[85].
Круг избранных гостей, которым позволялось с ним проститься, постепенно рос. Чертков, как всегда твердый и уверенный в себе, приехал 2 ноября. Днем позже появились Гольденвейзер и издатель Толстого Иван Горбунов-Посадов. Толстой упрекнул Гольденвейзера в том, что тот отменил ради него свой концерт: «Когда мужик землю пашет, а у него отец умирает… он не бросит свою землю. Для вас ваш концерт – это ваша земля – вы должны ее пахать»[86]. Горбунову-Посадову он сказал, что не может посмотреть корректуру очередного выпуска «Пути жизни», который тот привез в Астапово.
Софья Андреевна с детьми, за исключением приехавшего раньше Сергея, прибыла 4 ноября и осталась жить в специально заказанном для них вагоне. Повидаться с умирающим мужем ей не дали – таково было единогласное решение докторов, детей и друзей Толстого. Она бродила вокруг дома начальника станции, пыталась заглянуть в окно и давала интервью журналистам, рассказывая о сорока восьми годах счастливой семейной жизни. Каждый ее шаг записывался, фотографировался и снимался на пленку. Проститься с мужем ей разрешили только за несколько часов до его смерти, когда он был уже без сознания.
Догадывался ли Толстой, что она так близко? После своего ухода из дома он все время думал и спрашивал о жене, говорил о любви и жалости к ней, но определенно повторял, что хочет избежать встречи. Он не раз уже оказывался на пороге смерти и привык к этому. Только 4 ноября он неуверенно сказал: «Я, кажется, умираю. А может быть, и нет. Надо еще постараться немножко». Поменялись ли его желания, когда он понял, что вечная разлука неизбежна? 5 ноября, уже в полубессознательном состоянии он вдруг сказал сидевшей рядом Татьяне Львовне: «Многое падает на Соню. Мы плохо распорядились». Неуверенная, что она правильно расслышала, дочь попросила повторить, и он отчетливо произнес: «На Соню, на Соню многое падает». «Хочешь ты видеть ее, хочешь видеть Соню?»[87] – спросила дочь, уже готовая нарушить табу. Он не ответил.
Мы знаем, что решение не допускать к Толстому жену приняли люди, заботившиеся о его здоровье и полагавшие, что свидание может стать для него роковым. Вероятно, они были правы, но они не предоставили ему выбора. Точно так же ему ничего не сказали о приезде монаха из Оптиной пустыни, которому было поручено попытаться убедить умирающего примириться с церковью. Нет никаких оснований полагать, что Толстой согласился бы тратить последние часы своей жизни на подобные душеспасительные беседы, но в любом случае его лишили возможности принять решение самому.
За неделю до ухода из дома Толстой заметил в разговоре с последователями:
Ошибка, когда мы желаем устраивать жизнь других людей, даже своих детей. В числе всех суеверий, от которых страдает человечество, есть устроительство других людей, на основании которого существует государство, всякое правительство, социально-революционное устроительство и даже до малейших подробностей устроительство своих детей. <Надо> стараться быть свободным от желания устроить <других>. Если я сильно желаю устроить, я легко подпадаю соблазну устроить насилие. Желать быть свободным от устроительства[88].
Самые близкие ему люди оказались неспособны воспринять эту заповедь. Толстого интенсивно лечили. Он никогда не доверял медицине, считая ее в лучшем случае бесполезной для больных и тем более для умирающих. В то же время он полагал, что такого рода усилия могут быть полезны для тех, кто находится рядом с больными и умирающими, поскольку создают у них иллюзию осмысленной деятельности. Временами он возражал против каких-то процедур, прося «не пихать в него» и «не мешать ему», но в целом был терпеливым и послушным пациентом. Вместе с тем он твердо и решительно сопротивлялся попыткам сделать ему инъекцию морфия.
Помимо категорического неприятия любых одурманивающих веществ, у Толстого была еще одна причина не соглашаться на применение опиатов. Всю жизнь он думал о смерти, ждал ее и готовился к ней. Для него было важно встретить этот торжественный момент лицом к лицу и в сознании. Этой возможности ему тоже не предоставили.
Умирание оказалось для него мучительным – его тело сопротивлялось неизбежному. Перед самой кончиной он согласился, чтобы ему сделали укол, но только после того, как его заверили, что введут камфару, а не морфий. Он позвал старшего сына и с трудом выговорил: «Сережа… истина… Я люблю много». Разные мемуаристы передают эту фразу чуть по-разному, но ее смысл был понятен всем. В одиннадцать часов, когда рядом с ним находились только врачи, сильно страдавший Толстой сказал: «Как трудно умирать! Надо жить по-Божьи».
Получасом позже, видя, что больной мучается от икоты, Маковицкий предложил впрыснуть морфий. «Парфина не хочу», – слабым голосом произнес Толстой. Тем не менее ближе к полуночи ему все-таки сделали укол наркотика. Через четверть часа в «полубреду» Толстой сказал: «Я пойду куда-нибудь, чтобы мне никто не мешал (или не нашел). Оставьте меня в покое… Надо удирать, надо удирать куда-нибудь»[89]. Это были его последние слова.
Аккуратный Маковицкий вставил в скобках вариант «не нашел», полагая, что мог не разобрать слов Толстого. Смысл его предсмертного высказывания, однако, от этого не меняется. Как и за восемьдесят лет до того, когда любящие его взрослые стояли возле постели, не распеленывая его, Толстой протестовал против удушающего контроля. И все же два эти эпизода отличались друг от друга. На этот раз у него была возможность куда-нибудь «удрать». Он воспользовался этой возможностью на следующее утро, 7 ноября в 6:05.
Иллюстрации
Толстой. 1878–1879-е гг.
Силуэт матери Толстого.1800-е гг.
Толстой – подросток. Самое раннее изображение Толстого. 1840-е гг.
Дом Толстых в Ясной Поляне
Сестры Софья и Татьяна Берс. 1861 г.
Толстой перед свадьбой. 1862 г.
Софья Берс перед свадьбой. 1862 г.
Татьяна Берс. 1862 г.
С.Н. Толстой. 1860-е гг.
С.А. Толстая. 1866 г.
Толстой после окончания «Войны и мира». 1868 г.
М.В. Нестеров. Портрет В.Г. Черткова. 1890 г.
Дом Толстых в Хамовниках. 1868 г.
Толстой в деревне Русаново на голоде. 1891 г.
Кабинет Толстого в Ясной Поляне («комната под сводами»)
С.А. Толстая у портрета умершего сына Ванечки. 1895 г.
Толстой. 1908 г.
Толстой в кабинете в Ясной Поляне
Толстой на верховой прогулке. 1909 г.
Последняя совместная фотография Толстых. 25 сентября 1910 г.
С. А. Толстая, заглядывающая в окно дома, где умирает Толстой. Ноябрь 1910 г.
Могила Толстого
Список иллюстраций
1. Лев Толстой. 1878–1879 гг. Фотография М. Панова. © Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва.
2. Силуэт М.Н. Волконской, матери Л.Н. Толстого, с подписью «моя мать», сделанной рукой писателя. Начало XIX века. © Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва.
3. Лев Толстой – студент. 1840-е гг. Неизвестный художник © Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва.
4. Дом Толстых в Ясной Поляне. Фотография С. Прокудина-Горского. Фрагмент. Библиотека Конгресса США.
5. Сестры Софья и Татьяна Берс. 1861 г. Профессиональная фотография. © Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва.
6. Л.Н. Толстой – жених. 1862 г. Фотография М.Б. Тулинова. © Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва.
7. С.А. Берс – невеста. 1862 г. Фотография М.Б. Тулинова. © Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва.
8. Т.А. Берс 1862 г. Фотография М.Б. Тулинова. © Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва.
9. С.Н. Толстой. 1860-е гг. Профессиональная фотография. © Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва.
10. С.А. Толстая. 1866 г. Фотография Ф.И. Ходасевича. © Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва.
11. Л.Н. Толстой. 1868 г. Профессиональная фотография. © Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва.
12. М.В. Нестеров. Портрет Владимира Григорьевича Черткова. 1890 г. © Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва.
13. Дом Л.Н. Толстого в Хамовниках со стороны сада. 1898 г. Фотография П.В. Преображенского. © Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва.
14. Л.Н. Толстой. 1891 г. Русаново. Фотография Е.С. Томашевич. © Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва.
15. Комната «под сводами». 1957 г. Фотография И.И. Гущина. © Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».
16. С.А. Толстая у фотопортрета умершего Ванечки. 1895 г. Фотография С.А. Толстой. © Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва.
17. Л.Н. Толстой. 1908 г. Фотография В.Г. Черткова. © Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва.
18. Л.Н. Толстой в кабинете в Ясной Поляне. Фотография С. Прокудина-Горского. Библиотека Конгресса США.
19. Л.Н. Толстой на верховой прогулке. 1909 г. Фотография В.Г. Черткова. © Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва.
20. Л.Н. и С.А. Толстые в 48-ю годовщину их свадьбы. 23 сентября 1910 г. Фотография С.А. Толстой. © Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва.
21. С.А. Толстая смотрит в окно комнаты, где лежит больной Л.Н. Толстой. Ноябрь 1910 г. Астапово. Увеличенный ретушированный кадр из киноленты фирмы «Бр. Пате». © Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва.
22. Могила Л.Н. Толстого. 1957 г. Фотография И.И. Гущина. © Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».
Сноски
1
Все цитаты из Толстого, кроме специально оговоренных случаев, приведены по Полному собранию сочинений в 90 томах (М.; Л., 1928–1964) с указанием тома и страницы в тексте.
(обратно)2
Lejeune Ph. On Diary / J.D. Popkin and Julie Rak (eds). Honolulu, HI, 2009. P. 179.
(обратно)3
Ничто так не образует молодого человека, как связь с порядочной женщиной (фр.).
(обратно)4
Анненков П.В. Литературные воспоминания. М.: Художественная литература, 1983. С. 522.
(обратно)5
Толстая С.А. Три биографических очерка Толстого // Литературное наследство. М., 1961. Т. 69. С. 508.
(обратно)6
Толстой Л.Н. ПСС: В 100 т. Т. II. М.: ИМЛИ, 2002. С. 393–394.
(обратно)7
Дружинин А.В. Из дневника // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. I. М.: ГИХЛ, 1960. С. 72.
(обратно)8
Фет А.А. Письма Л.Н. Толстому // Литературное наследство. М., 2011. Т. 103. Кн. 2. С. 42. «Я не могу иначе, да поможет мне Бог» (нем.).
(обратно)9
Фет А.А. Мои воспоминания. 1848–1889. М., 1890. Т. I. С. 106–107.
(обратно)10
Морозов В.С. Воспоминания ученика яснополянской школы // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. I. С. 110.
(обратно)11
Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями. М.: Художественная литература, 1983. Т. I. C. 101.
(обратно)12
Толстая А.Л. Отец. М.: Книга, 1989. С. 148.
(обратно)13
Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула: Приокское книжное издательство, 1964. С. 89. «Ты любишь графа? – Не знаю» (фр.).
(обратно)14
«Он сделал мне предложение» (фр.).
(обратно)15
Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. С. 130–131.
(обратно)16
Все цитаты из дневника С.А. Толстой даются по изданию: Толстая С.А. Дневники: В 2 т. М.: Художественная литература, 1978 (СТ-Дн. с указанием тома и страницы в скобках).
(обратно)17
Толстая С.А. Дневники. С. 134.
(обратно)18
Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями. Т. I. C. 366.
(обратно)19
Толстой Л.Н. Первая завершенная редакция романа «Война и мир» // Литературное наследство. М., 1983. Т. 94. С. 720.
(обратно)20
Толстой И.Л. Мои воспоминания. М.: Художественная литература, 1969. С. 72.
(обратно)21
Толстая А.Л. Отец. М: Книга, 1989. С. 146
(обратно)22
Там же. С. 163.
(обратно)23
Там же.
(обратно)24
Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. С. 409
(обратно)25
Там же. С. 400–401. Стихотворение Фета цитируется по воспоминаниям Кузминской. В печатной редакции: «И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя…».
(обратно)26
Там же. С. 444.
(обратно)27
Толстой И.Л. Мои воспоминания. С. 64.
(обратно)28
Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. С. 319.
(обратно)29
Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. Т. V. М.: Наука, 1988. С. 364.
(обратно)30
Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. С. 333.
(обратно)31
Страхов Н.Н. «Война и мир» – сочинение графа Толстого. Т. V и VI // Страхов Н.Н. Литературная критика. СПб.: Издательство русского христианского гуманитарного института, 2000. С. 333.
(обратно)32
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. ПСС: В 4 т. / В пер. и под ред. Ю.И. Айхенвальда. М., 1910. Т. II. С. 594–595.
(обратно)33
Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. СПб.: Толстовский музей, 1914. С. 55.
(обратно)34
Шопенгауэр А. Полное собрание сочинений. Т. II. С. 578.
(обратно)35
Оболенская Е.В. Моя мать и Лев Николаевич // Летописи государственного литературного музея. М., 1938. Ч. II. С. 279.
(обратно)36
Письмо С.А. Толстой Т.А. Кузминской. Архив ГМТ.
(обратно)37
Фет А.А. Письма Л.Н. Толстому. Т. 103. Кн. 2. С. 55.
(обратно)38
Шопенгауэр А. Полное собрание сочинений. Т. II. C. 579.
(обратно)39
Некрасов Н.А. ПСС: В 15 т. Л.: Наука, 1982. Т. III. С. 72.
(обратно)40
Бабаев Э.Г. Лев Толстой и русская журналистика его эпохи. М.: МГУ, 1993. С. 133.
(обратно)41
Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1983. Т. XXV. С. 201, 199.
(обратно)42
Тургенев И.С. Письма: В 15 т. М.: Наука, 2003. Т. XIV. С. 94.
(обратно)43
Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями. Т. I. C. 192.
(обратно)44
Гинзбург Л.Я. Записки блокадного человека // Гинзбург Л.Я. Проходящие характеры. М.: Новое издательство, 2011. С. 322.
(обратно)45
Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. М.: КАНОН-пресс; Кучково поле, 1998. С. 4–5.
(обратно)46
Толстая А.А. Мои воспоминания о Л.Н. Толстом // Л.Н. Толстой и А.А. Толстая. Переписка. М.: Наука, 2011. С. 32.
(обратно)47
Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями. Т. I. С. 203.
(обратно)48
Булгаков В.Ф. Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря Толстого. М.: ГИХЛ, 1960. С. 229.
(обратно)49
Письмо С.А. Толстой Т.А. Кузминской от 10 декабря 1874. Архив ГМТ.
(обратно)50
Толстая С.А. Моя жизнь. М.: Государственный музей Толстого, 2011. Т. II. C. 167.
(обратно)51
Письмо С.А. Толстой Т.А. Кузминской. Архив ГМТ.
(обратно)52
См.: Розенблюм Л.М. «Очарованный замок Ясной Поляны» // Литературное наследство. М., 2011. Т. 103. Кн. 2. С. 18.
(обратно)53
Письмо Т.А. Кузминской С.А. Толстой от 22 января 1894. Архив ГМТ.
(обратно)54
Победоносцев K.П. Письма Александру III. М.: Новая Москва, 1926. Т. II. С. 253.
(обратно)55
Письмо А.П. Чехова А.С. Суворину 11 декабря 1891 // Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1976. Письма. Т. IV. С. 322–323.
(обратно)56
Толстая С.А. Моя жизнь Т. II. С. 324.
(обратно)57
Опульская Л.Д. Л.Н. Толстой: Материалы к биографии с 1892 по 1899 год. М.: Наука, 1998. С. 139.
(обратно)58
Письмо С.А. Толстой Т.А. Кузминской. Март 1895. Архив ГМТ.
(обратно)59
Бунин И.А. Освобождение Толстого // Бунин И.А. Собр. соч.: В 6 т. М.: Художественная литература, 1988. Т. 6. С. 53.
(обратно)60
Бунин И.А. Освобождение Толстого. С. 53.
(обратно)61
Письмо С.А. Толстой Т.А. Кузминской. Март 1895. Архив ГМТ.
(обратно)62
Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. М.: Захаров, 2002. С. 25–26.
(обратно)63
Письмо А.П. Чехова М.О. Меньшикову от 28 октября 1900 // Чехов А.П. Письма. Т. IX. С. 29–31.
(обратно)64
Маковицкий Д.П. Яснополянские записки // Литературное наследство. М., 1979. Т. 90. Кн. III. С. 39.
(обратно)65
Гнедич П.П. Из записной книжки // Толстой в воспоминаниях современников. Т. I. С. 534.
(обратно)66
Письмо С.А. Толстой Т.А. Кузминской. 12 апреля 1879. Архив ГМТ.
(обратно)67
Цит. по: Опульская Л.Д. Л.Н. Толстой. С. 112.
(обратно)68
Письмо А.П. Чехова Н.П. Кондакову от 2 марта 1901 // Чехов А.П. Письма. Т. IX. С. 213.
(обратно)69
Оболенская Е.В. Моя мать и Лев Николаевич. С. 299, 315.
(обратно)70
Горький А.М. Лев Толстой // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. II. С. 431, 450.
(обратно)71
Толстой С.Л. Очерки былого. Тула: Приокское книжное издательство, 1965. С. 227.
(обратно)72
Оболенская Е.В. Моя мать и Лев Николаевич. С. 302.
(обратно)73
Л.Н. Толстой и А.А. Толстая. Переписка. С. 523.
(обратно)74
Толстая А.Л. Отец. С. 476.
(обратно)75
Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания. М.: Художественная литература, 1976. С. 440.
(обратно)76
Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник. М.; Л.: Госиздат, 1929. С. 91–92.
(обратно)77
Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. С. 234.
(обратно)78
Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной поляне. С. 315.
(обратно)79
Попов Е.И. Отрывочные воспоминания о Льве Толстом // Летописи государственного литературного музея. М., 1938. Т. II. C. 367.
(обратно)80
Толстая С.А. Моя жизнь. Т. I. С. 499–500.
(обратно)81
Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания. С. 433.
(обратно)82
Блок А.А. Дневники 1911 года// Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1963. Т. VII. С. 87.
(обратно)83
Горбунова-Посадова Е.Е. Друг Толстого – Мария Александровна Шмидт. М.: Толстовский музей, 1929. С. 65.
(обратно)84
Оболенская Е.В. Моя мать и Лев Николаевич. С. 314.
(обратно)85
Толстая А.Л. Отец. С. 476–477.
(обратно)86
Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. С. 617.
(обратно)87
Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания. С. 423.
(обратно)88
Маковицкий Д.П. Яснополянские записки // Литературное наследство. Т. 90. Кн. IV. С. 390.
(обратно)89
Маковицкий Д.П. Яснополянские записки // Литературное наследство. Т. 90. Кн. IV. С. 390.
(обратно)
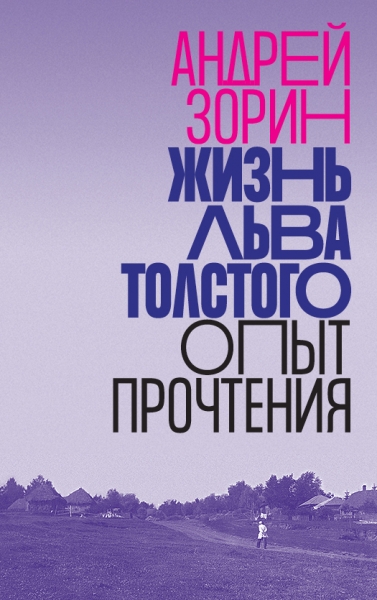






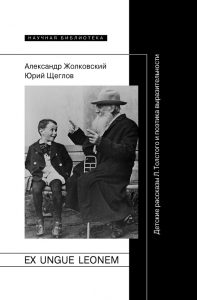
Комментарии к книге «Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения», Андрей Леонидович Зорин
Всего 0 комментариев