Время и причины утраты ѣ в Москве
К. Ф. Захарова
Григорий Осипович Винокур читал у нас (в Московском городском педагогическом институте им. В. П. Потемкина) лекции по истории русского литературного языка. Тогда, еще до войны, кафедра русского языка в институте была очень сильной. Возглавлял ее Р. И. Аванесов, который собрал на ней почти всех выдающихся московских ученых того времени, таких как П. С. Кузнецов, А. А. Реформатский, В. Н. Сидоров, Г. О. Винокур, А. М. Сухотин, А. Б. Шапиро, а также более молодых, тогда еще только начинающих, И. С. Ильинскую, В. Г. Орлову. Они, каждый по-своему, были близки к нам, студентам, воспитывая и пробуждая в нас не только интерес к своему предмету, но и к восприятию жизни, к поведению, к нравственным понятиям и критериям. Пожалуй, самым обаятельным из них, независимым, не похожим на других был Г. О. Винокур. Он поражал достоинством и постоянством всего своего облика. Всегда строго, но элегантно одетый, приветливый и серьезный, он притягивал к себе, вызывая восхищение и уважение, оставаясь при этом по-своему недоступным, даже недосягаемым.
Он был великолепен на лекциях. При глубине, последовательности и четкости изложения своего курса, Григорий Осипович не отрывал историю литературного языка от истории нашей современной культуры. Демонстрируя понятие стиля в языке, в речи или в поведении людей, он часто приводил примеры из личной жизни. Так, обсуждая стиль обращения между людьми, Григорий Осипович однажды сказал, что он на «ты» с институтскими товарищами по кафедре, с которыми знаком не так давно, став уже их коллегой, тогда как на «вы» до сих пор со своим старым другом, гимназическим товарищем Сергеем Михайловичем Бонди. В другой раз, говоря о стиле письменного языка эпистолярной формы, привел такой случай с тем же С. М. Бонди: как-то раз Винокур получил от него письмо, как будто пришедшее из XVIII века. Оказалось, что Бонди в это время так усердно занимался частной перепиской людей того века, что невольно полностью усвоил их стиль и форму выражения, не стилизуя и не подражая им.
Интересно отношение Григория Осиповича к диалектологии — к живой речи местных говоров. Он считал диалектологию одной из самых значительных и интересных областей русского языкознания. Думая об истории литературного языка, Григорий Осипович жалел, что не была создана история диалектного языка, потому что никогда не отделял, не обособлял образование литературного языка от истории отдельных явлений и образования национального русского языка в целом. Поэтому причины утраты ѣ из московской речи и московской письменности не могли не интересовать Г. О. Винокура: он был пытливым и высокоодаренным исследователем.
* * *
Данные московских памятников разных уровней свидетельствуют о том, что, начиная с XV века, употребление ѣ неоднозначно и зависит от стиля памятника (Виноградов, 1923). В памятниках, относящихся к высокому стилю — церковного и духовного содержания — наличие ѣ под ударением регулярно и нормативно (Васильев, 1905, 1910), что, однако, достоверно отражает только традицию письма, а не норму живого языка Москвы. В бытовом, низком стиле — в письмах, деловых бумагах — буква ѣ постоянно путается с буквой е, употребляется ненормативно (Филиппова, 1982; Сумкина, 1982; Князевская, 1957; Лихтман, 1977; Горшкова, 1968; Акты…, 1975), что явно свидетельствует об утрате различения звуков, обозначаемых на письме буквами е и ѣ, в живом языке или об изменении функции их употребления. В отношении произношения гласной, обозначаемой на письме буквой ѣ, прямых свидетельств нет. Однако В. В. Виноградов отмечал: «Ударяемое ѣ в говоре высшего слоя литературно-образованных людей Московского государства звучало как дифтонг іе (или іе̂) до начала XVIII в. Наряду с таким выговором ѣ в языке верхних слоев московской интеллигенции, сохранявшем архаические черты, очень рано ѣ совпало с е в произношении низших классов Москвы… Отсюда такое произношение проникало и в литературный язык в собственном смысле слова.» (Виноградов, 1923, с. 338—339). Кроме этого В. В. Виноградов приводит мнение Сумарокова о характере произношения ѣ: «Сумароков вполне определенно отделяет литературное произношение ѣ и е от языка „подьячих и баб“, „которые между е и ѣ различия почитают за ничто или паче за род педантства“ (Сумароков. Сочинения. 1781 г., ч. VI, с. 26)» (Виноградов, 1923, с. 327).
Л. Л. Васильев (1910), стараясь объяснить характер различия звучания гласных на месте ѣ и е, пришел к заключению, что в Москве до XVII в. должно было отсутствовать смягчение согласных перед гласным на месте е, ь, а гласный на их месте звучать как [е͡и] и обязательно присутствовать мягкость согласного перед гласным на месте ѣ, который должен был звучать как [и͡е]. Другими словами, должно было произноситься дʼи́͡ела или дʼе̂́ла, но сʼе́͡ила или сʼе́ла, примерно так, как произносятся эти звуки и сейчас в церковнославянском чтении, в котором отсутствует результат перехода [е] в [о] перед твердыми согласными, чего никак не могло быть в живом языке Москвы в XVII веке, если учесть данные исследования московских памятников XV, XVI вв. К. В. Горшковой (1968) и Е. Ф. Васеко (1973).[1]
Обычно интересные и достоверные данные об истории языка и отдельных языковых явлениях дает совокупность результатов изучения памятников письменности и живых говоров, если они относятся к одному и тому же языковому объекту. При этом даже при условии единства объекта исследования не всегда возможно восстановить исторические корни и процессы явлений, если исходить из данных только одного современного говора, утратившего видимые следы прошлого состояния. Так, современный московский говор, если его рассматривать изолированно, не содержит следов процесса, связанного с утратой ⟨ѣ⟩ как особой фонемы. Кроме этого, каждое частное явление должно быть рассмотрено с точки зрения той системы, в которой оно функционирует. Особенно обязательно это должно соблюдаться по отношению к фонеме ⟨ѣ⟩ (Васеко, 1973). Противостоит ли она фонеме ⟨е⟩ в одном и том же сильном положении, различает ли она в этом положении значения слов? Если она — ⟨ѣ⟩ — как различитель значения слова, находится в одном ряду с другой фонемой — ⟨е⟩, — то непонятно, почему в сильном положении начинается сам процесс слияния ее с ⟨е⟩ и процесс утраты ⟨ѣ⟩ как фонемы.
К сожалению, и статья Л. Л. Касаткина «Утрата ⟨ѣ⟩ в связи с процессом монофтонгизации дифтонгов в русском языке» (1991) не отвечает на этот вопрос. Сама статья убедительна и значительна в отношении тех говоров Вологодской, Калужской и Тверской областей, которые рассматривает Л. Л. Касаткин и в которых до настоящего времени отмечаются следы былого различения гласных фонем ⟨ѣ⟩ и ⟨е⟩. Но сам процесс «монофтонгизации дифтонгов» в качестве единственной причины утраты противопоставления ⟨ѣ⟩ и ⟨е⟩ в русском языке не может относиться ко всем говорам, а тем более к говору Москвы. По сути, предположение Л. Л. Касаткина о подобном процессе слияния ⟨ѣ⟩ с ⟨е⟩ повторяет предположение Л. Л. Васильева о характере различения в речи [ѣ] и [е] и не может относиться к прошлому языку Москвы именно потому, что не учитывает наличия в ее говоре [ʼо] на месте е перед твердыми согласными (Горшкова, 1968; Васеко, 1973), изменившего фонологические отношения между бывшими ⟨ѣ⟩ и ⟨е⟩.[2]
Мнение о наличии в Москве чуть ли не до XVIII в. особой фонемы ⟨ѣ⟩ (под ударением) утвердилось в науке и было всеобщим. Этому способствовало то, что согласно «Опыту диалектологической карты русского языка в Европе» (Дурново и др., 1915), говор Москвы считался переходным с северновеликорусской основой и южновеликорусским наслоением и трактовался из-за смешанного населения Москвы как койне. Тем самым говор Москвы лишался своей исторической исконной диалектной основы, общей с другими говорами Ростово-Суздальской земли, изолировался от них и терял с ними органические связи и общую основу тех новообразований, которые стали характерными для всех них и имели общую судьбу при реализации ⟨ѣ⟩. Именно они, общие новообразования говоров Великого московского княжества, послужили основой для образования как собственно русского языка, так и литературного, который при этом консолидировал в себе традиции письменного языка и местный диалект — устную речь Москвы — центра зарождающегося русского государства. Поэтому изменение и расширение понятия диалектной принадлежности Москвы открывали возможность использования новых диалектных данных о процессах, связанных со статусом ѣ в этих говорах и разрывали замкнутый круг источников, ограниченный письменными памятниками.
Новые диалектные данные представил Диалектологический Атлас русского языка — ДАРЯ (1986), — составленный по единой программе на основе разработанного Р. И. Аванесовым учения о противопоставленных членах диалектного языка. Данные ДАРЯ позволили составить карту диалектного членения русских говоров на строго синхронном принципе, а также увидеть их историческую основу, отраженную в диалектных зонах (Захарова, Орлова, 1970, с. 44).
Диалектная зона — это особое лингво-территориальное понятие, не имеющее непосредственного отношения к синхронным данным карты диалектного членения, но отражающее историческую лингвистическую картину, на основе которой развились и существуют современные говоры, объединенные в группы по сходству и близости их частных систем.
Каждая диалектная зона имеет общее ядро — территорию, на которой отмечаются все из присущих ей явлений, — и не имеет резко выраженной границы. По своей наполненности диалектными явлениями и по составу явлений, характеризующих каждую диалектную зону, они (диалектные зоны) различны, так как отражают исторически ранние языковые единства народа или очерчивают территории экспансии языкового пространства более поздних времен. Различен и состав явлений, характеризующих каждую диалектную зону. В прошлом наиболее важными явлениями диалектных зон были, видимо, закономерности, связанные с утратой музыкального ударения, с падением глухих гласных ь и ъ, с развитием новых категорий мягкости и твердости согласных, с образованием парадигм нового типа склонений и спряжений, а также с образованием новых вокальных систем, куда входила и судьба фонем ⟨е̌⟩ — ⟨е⟩. При этом в современных говорах одной диалектной зоны следы старых явлений могут сохраняться в остаточной форме, в новых типах вокализма, в отдельных словах, отдельных грамматических формах или специфических явлениях, характерных только для нее. Поэтому, если говоры в древности не входили в зону действия некоей фонетической или грамматической закономерности, свойственной говорам именно данной диалектной зоны, то отражения результатов их действия нельзя ожидать в говорах той же, но современной диалектной зоны. С другой стороны, диалектные зоны дают возможность пользоваться синхронными данными говоров разных систем, развившихся на одной и той же основе.
Диалектная зона центральных говоров (Захарова, Орлова, 1970, с. 61—69) по своему выделению отличается от всех других, выделенных на основе территориального распространения только диалектных членов каждого соответственного явления, тем, что в ней члены соответственных явлений современных говоров совпадают с формами общенационального русского языка, будучи исконными, исторически присущими этим говорам. Поэтому комплекс лингвистических явлений диалектной зоны центра противостоит всем соответственным диалектным явлениям, распространенным в говорах на периферийных от центра диалектных зонах.
Комплекс черт диалектной зоны центра (Захарова, Орлова, 1970, с. 67—69), объединенный общей ритмико-интонационной структурой слова, существенен для всех говоров, входящих в ее территорию — акающих (московских, егорьевских) и окающих (владимирских, тверских, муромских и нижненовгородских). Он свидетельствует о их единой былой основе и о том, что они получили свое своеобразие именно в говорах на территории центральной диалектной зоны.
Данные говоров центральной диалектной зоны в отношении судьбы *е̌ и *е особенно важны, потому что позволяют включить в рассмотрение предударный вокализм владимирско-поволжских говоров, который оказался полностью подобен ударенному, благодаря сильному положению его предударного слога[3]. В нем точно повторялись фонетические преобразования *е̌ и *е ударенного слога, демонстрируя единство и однозначность исторических процессов в современных акающих и окающих говорах данной зоны. Все эти говоры свидетельствуют, что в них в определенное историческое время действовал один и тот же фонетический закон перехода [е] из *е, *ь в [ʼо] перед твердой согласной. В результате этого на месте *е стали произноситься не один, а два гласных в зависимости от положения перед t или tʼ: tʼйot и tʼйetʼ. Гласный [й͡о] перед t впоследствии стал [ʼо] фонемы ⟨о⟩, а гласный [й͡е] перед tʼ сблизился с [й͡е] на месте *е̌ и перестал быть самостоятельно фонематически значимым.
Фонетический закон перехода [е] > [ʼо] был очень точно определен фонетическими позициями — только перед исконно твердой согласной, только [е] из *е, но не из *е̌, и только в слоге сильного положения. Поэтому в современных говорах центра он прослеживается очень отчетливо в московских говорах под ударением, во владимирско-поволжских — под ударением и в первом предударном слоге. Согласно этому закону перед твердой согласной в московском говоре на месте *е̌ и *е стали произноситься гласные, которым не нужно было различаться при помощи мягкости—твердости предшествующего согласного (Васильев, 1905), т. е. гласные типа [ʼе] и [ʼо], которые в будущем станут фонемами ⟨е⟩ и ⟨о⟩. Таким образом, проблема «монофтонгизации дифтонгов» на месте двух фонем е снималась в этих говорах сама собой.
Кроме этого, если в прошлом в сильном слоге происходили одни и те же фонетические изменения, независимо от ударения, то значит было не верно господствующее представление о двух этапах утраты ѣ в московском языке — сначала в безударном положении, потом под ударением (Филиппова, 1982; Обнорский, 1947; Сидоров, 1965), — что могло объясняться, возможно, особенностями и правилами письма, таким образом отражающими явления устного языка, в котором (т. е. в московском говоре) предударный слог стал уже не сильным.
Также ошибочным оказалось представление о совпадении в предударном слоге гласных на месте *е и *е̌ сначала в [е] (Сидоров, 1965), а потом о фонетическом переходе его в [ʼо] перед твердыми согласными, что, естественно, породило ошибочное представление о наличии ёканья во владимирско-поволжских говорах на месте не только *е, но и *е̌ (Скобликова, 1962) и послужило основой для теории В. Н. Сидорова (1966) об образовании умеренного яканья «как акающего слепка, отлитого по окающей модели». В этом в какой-то степени виноват П. С. Кузнецов — автор трактовки фонетического [о] на месте е и е̌ в предударном слоге владимирских говоров.[4]
Современные говоры центральной диалектной зоны показывают полное единство и единообразие гласных на месте старых, исконных *е̌ и *е, *ь без каких-либо рефлексов особого произношения гласного на месте ⟨е̌⟩: в московских и владимирских говорах перед твердыми согласными в соответствии с *е̌ и *е, *ь повсеместно произносятся [е] и [ʼо] в сильных слогах слова. Отступления от этого носят позднейшие однотипные, лексически ограниченные взаимозамещения фонем ⟨о⟩ и ⟨е⟩ в основах слов одного и того же парадигматического типа на месте исконных *е и *е̌ перед t, разные в акающих (Обнорский, 1947) и окающих (Скобликова, 1962; Образование…, 1970, с. 360—365) говорах. Они олицетворяют отношения двух самостоятельных фонем, имеющие не фонетический, а лексико-морфонологический характер, который обычно увеличивает число слов с фонемой ⟨о⟩ за счет фонемы ⟨е⟩ в однотипном по парадигме классе слов, для которых типичнее именно такое — с [ʼо] — произношение, напр.: [вʼо́д]ра, [вʼод]ра́ — как [сʼо́л]а, [сʼол]а́; ц[вʼо́л], ц[вʼот]у́т — как [нʼо́с], [нʼос]у́т и под. (Обнорский, 1947).
Частное различие между московскими и владимирскими говорами состоит в том, что в последних имеется больше условий для аналогических процессов при распространении [о] вместо [е] в 1‑м предударном слоге особенно для слов с постоянным ударением, типа двенадцать, и слов с постоянным ударением при словоизменении, имеющих в своем составе [ʼо] на месте *е. Например, по аналогии с бо[јов]о́й произносятся [сʼод]о́й, [нʼом]о́й, [слʼоп]о́й, [гнʼод]о́й; во[јов]а́ть → о[дʼов]а́ть, по[спʼов]а́ть и под. При этом в говоре всегда остаются слова с [е] в соответствии с *е̌, не имеющие образца с [о] в данном типе слов: [дʼел]а́, [мʼес]та́ и под. В отдельных владимирско-поволжских говорах подобная аналогия может охватывать значительное количество слов (Скобликова, 1962) (с чем и связана ошибка П. С. Кузнецова).[5] Но несмотря на это сама суть отступлений от [е] к [ʼо] однотипна во всех говорах центральной диалектной зоны. Она исключает в них наличие и действие особой фонемы ѣ и объясняет отступления особенностями словоупотребления современной пятифонемной системы московского типа. Это чисто лексико-фонологическое явление отмечается только в говорах центральной диалектной зоны, где оно зародилось, и может свидетельствовать о результатах действия этой фонологической системы в говорах с сильным предударным слогом.
Еще более очевидной является утрата ѣ в качестве фонемы ⟨е̌⟩ перед мягкими согласными в говорах Москвы. Смягчение согласной перед гласными из *е, *ь, приведшее к переходу [ʼе] в [ʼо] перед твердой согласной, привело в положении перед мягкой согласной к физиологическому сближению по качеству [ʼе] из *е, *ь с [ʼе] из ⟨е̌⟩ (искони имеющего смягчение предшествующего согласного), а затем к совпадению их в этих говорах. Об этом свидетельствует не только повсеместный гласный [е] между мягкими на их месте, но и [и], отмечаемый в этом соответствии только в говорах центральной зоны как под ударением, так и в 1‑м предударном слоге в окающих говорах: [дʼи́нʼ], [дʼинʼ]о́к, [пʼи́нʼ] — з[вʼи́рʼ], з[вʼирʼ]о́к, [вʼи́тʼ]ер. О том, что эти формы очень ранние, говорят примеры: [шы́сʼтʼ] (ше́сть), [жы́рʼ]ех (рыба же́рех), которые возникли здесь, видимо, до отвердения шипящих, т. е. до XV в. (Алексеев, 1954; Образование…, 1970, с. 355).
Связь совпадения гласных на месте фонем *е и *е̌ в [е] или [и] между мягкими (т. е. их неразличение) с системой различения их как [о] и [е] перед твердыми согласными, единообразие и последовательность наличия этого только в говорах центральной зоны, заставляет предположить, что эти новообразования связаны не столько с качеством гласных на месте *е̌ и *е между мягкими согласными, сколько с перестройкой всей системы гласных и образованием новой пятифонемной фонологической системы, которая существует и в современных говорах, образуя две разновидности — московскую и владимирско-поволжскую.
Другими словами, гласные на месте *е̌ и *е совпали между мягкими согласными не только из-за создавшейся физической близости их, но и потому что новая фонологическая система в позициях перед t и tʼ не требовала их различия. В отличие от всех русских говоров центральные говоры создавали новую систему фонем, при которой в сильном положении одна и та же фонема могла быть и перед t и перед tʼ (хотя физиологически гласные на ее месте позиционно различались): ʼat — ʼatʼ (ш[лʼа́п]а — в ш[лʼа́пʼ]е), ʼet — ʼetʼ ([дʼе́л]о — в [дʼе́л]е), ʼot — ʼotʼ (бе[рʼо́з]а — в бе[рʼо́з]е), где ⟨ʼо⟩ становится в один ряд с другими гласными фонемами, используя для этого возможности аналогии, когда положение перед tʼ объединяется с положением перед t в одной и той же грамматической категории. При этом в этой системе не было места двум ⟨е⟩ разной этимологии и разного качества, поскольку ⟨е⟩, вобрав в себя все слова с гласной *е̌ и слова с *е перед мягкой согласной, не перешедшие в [ʼо] до XV в., встала в ряд с ⟨о⟩, а физиологическое звучание разных [е] фонемы ⟨е⟩ стало безразличным для ее фонологического значения.
Таким образом, в утрате ѣ в Москве были и фонологические причины: с появлением [ʼо] на месте *е перед твердым согласным гласная ѣ утратилась как особая фонема ⟨е̌⟩, но сохранилась как гласный [е] в основном составе слов фонемы ⟨е⟩ пятифонемной системы.
Наличию новой фонологической системы сопутствовало появление структурных изменений не только в вокализме, но и в грамматике этих говоров. Завоевание равноправного положения фонемы ⟨о⟩, теперь возможной как после твердых, так и после мягких согласных, привело к изменению парадигм склонения и спряжения, их упрощению и единообразию, выразившихся в продуктивности единых парадигм по образцу твердой разновидности. Действительно, изменения в морфологической системе были бы другие, если бы не появилась полноценная фонема о, не ограниченная мягкостью/твердостью консонантного окружения. Поэтому склонения существительных обобщались по аналогии с твердой разновидностью, благо имелась фонема ⟨о⟩: зем[лʼо́ј] как сест[ро́ј], ко[нʼо́м] как сто[ло́м] и под. Обобщаются с ⟨о⟩ по образцу, как перед твердой согласной, ранее фонетические варианты tʼot — tʼetʼ в основах слов: бе[рʼо́з]а — бе[рʼо́з]е, зе[лʼо́н]ый — зе[лʼо́н]енький; в суффиксах ‑ок‑: де[нʼо́к] — де[нʼо́ч]ек и под. Все это не единичные, частные изменения одной фонемы или одного гласного, а связанные взаимно, определяемые одной и той же закономерностью факты, являющиеся результатом образования новой фонемной системы, которая заменяла старые фонетические разновидности в соответствии *е перед t и tʼ аналого-морфемным способом — только под ударением — ради единства основы слова или суффикса. Это давало возможность, как след исконного наличия разных гласных на месте *е, *ь, сохранять словообразовательные формы с морфологическим чередованием ⟨е⟩ — ⟨о⟩ типа [сʼо́л] — [сʼе́лʼ]ский, [дʼе́нʼ] — по[дʼо́н]ный, [пʼенʼ] — на [пʼо́н]ушке.
В говорах с другой фонологической системой — в периферийных говорах — сохраняется (в настоящее время в разной степени) система, отражающая влияние последующего мягкого согласного: ш[лʼа́п]а — в ш[лʼе́пʼ]е, [дʼе́л]о — в [дʼи́лʼ]е, [дʼилʼ]и́тʼ, говорящая о наличии в этих говорах в настоящее время или в прошлом фонемы ⟨е̌⟩, утратившейся в ростово-суздальских говорах к XV в. Об этом же свидетельствуют отдельные формы с [и] только на месте ⟨е̌⟩, но не ⟨е⟩ (гди́, везди́, ти́ вм. те́), отдельные слова с [и] в том же соответствии (си́верно, ди́верь), чего не встречается нигде в говорах центра.
Таким образом, новая фонология перекрывала и подчиняла себе этимологию гласных, создавая лексическое многообразие и полноценность фонем ⟨о⟩ и ⟨е⟩ и ставя фонему ⟨о⟩ в равное положение по отношению к другим фонемам. Этим создавалась такая система гласных фонем, при которой сильным положением являлось положение под ударением независимо от последующего консонантного качества. Поэтому наличие фонетической зависимости качества гласного от положения его перед твердой или мягкой согласной, типа tʼat — tʼetʼ; tʼetʼ — tʼutʼ, свидетельствует о былой шести‑ или семифонемной системе гласных, если даже в современном говоре не отмечаются разные гласные на месте *е̌ и *е, ь.
То же свойство фонематически использовать бывшие фонетические отношения отличает владимирско-поволжские говоры, создавая их своеобразие, как принадлежащих к центру. Для этих говоров характерно большее сохранение бывших фонетических чередований [ʼо] — [е], но уже как чередований фонем ⟨о⟩ — ⟨е⟩ в основах слов и суффиксах типа [м ʼо́рз] — [мʼе́рʼзʼлʼ]и; гор[шо́к] — гор[ше́чʼ]ек, из которых первым свойственно утрачиваться. Чередования ⟨о⟩ — ⟨е⟩, которые очень устойчивы в 1‑м предударном слоге, относятся к основам слов в парадигмах склонения и спряжения, типа [сʼос]тра́ — [сʼесʼ]тре́; [пʼок]у́ — [пʼечʼ]о́шь; [нʼос]у́ — [нʼесʼ]о́шь и под. Их тоже нельзя считать фонетическим, позиционным чередованием [ʼо] — [е] фонемы ⟨о⟩, поскольку в говорах есть формы [пʼок]у́ — [пʼек]о́шь (Аванесов, 1947).
В связи с вопросом об утрате ѣ и причинах этого возросло значение учета всей системы гласных фонем. Стало ясно, что дело не только в том, существует или нет особый гласный [е̂] наряду с гласным [е], а в том, в какой системе фонем они действуют. Системы фонем говоров, в которых происходит утрата старых различий между фонемами ⟨е̌⟩ и ⟨е⟩, выраженных дифтонгоидными гласными (Касаткин, 1991), отличны от фонетической системы московского говора. И задачи этого процесса упорядочивания разных дифтонгов заключаются главным образом во включении данных диалектных систем в общероссийскую языковую структуру, представителем которой является говор Москвы. В самой же Москве самостоятельно и самобытно возникала новая звуковая система, результатом которой и была утрата ѣ. Новая фонологическая система как бы усиливала свое фонологическое, различительное значение гласных по сравнению с фонетической зависимостью их в старой системе.
Мало этого, говоры Великого московского княжества в связи со сложившейся историей стали главенствующими в создававшемся русском государстве. Именно на их основе возникал и письменный язык художественной литературы. На нем творили позднее такие деятели, как Новиков, Радищев, Державин, Карамзин и, наконец, Пушкин. Возможно поэтому «язык Москвы» стал ведущим. Диалектные явления местных систем постоянно испытывали его влияние. Да и общерусские тенденции преобразования вокализма были свойственны всем русским диалектам. Поэтому в них, если не было перехода [е] > [ʼо] перед твердыми согласными или он задержался, стали происходить процессы «монофтонгизации дифтонгов» на месте фонем ⟨ѣ⟩ и ⟨е⟩, описанные Л. Л. Касаткиным.
* * *
Можно думать, что после XV в. в говорах центральной диалектной зоны, следовательно, и в Москве, фонемы, обозначаемой на письме буквой ѣ, уже не было. Причиной утраты ѣ как фонемы была перестройка в этих говорах всей фонологической системы гласных, в результате чего возникла пятифонемная система, ликвидирующая фонематическую зависимость гласного от последующей твердости—мягкости соседних согласных: под ударением (т. е. в сильной позиции) фонема оставалась неизменной перед t и tʼ. Новая фонологическая система отличалась не только количественно (пять фонем вместо шести или семи), но меняла отношения между гласными и согласными, ставя на первый план в сильной позиции основное значение гласной, т. е. одну фонему, независимо от ее консонантного окружения.
Памятники письменности на территории центра, свидетельствующие о наличии гласной ѣ до XVII в., требуют специального исследования для установления особенностей в традиции письма и оформления ее орфографии. Тем более, что причины для сохранения ѣ на письме заложены в основе русского правописания, где [ʼо] не обозначается отдельной буквой.
Литература
Аванесов Р. И. Об одной фонетико-морфологической особенности северновеликорусских говоров // Доклады и сообщения филологии, фак-та, 1947. №2.
Акты русского государства 1505—1526 гг. М. 1975.
Алексеев Д. И. Об одной фонетической особенности владимирско-поволжских говоров // Ученые записки Куйбышевского пед. ин-та. 1954. Вып. 12.
Васеко Е. Ф. Фонологическая система Московского говора первой половины XVI в. по памятникам деловой письменности. Автореферат. Московский университет, 1973.
Васильев Л. Л. К истории звука ѣ в Московском говоре XIV—XVII вв. // Известия ОРЯС. Т. 10, кн. 2. 1905.
Васильев Л. Л. Несколько данных для определения звукового качества буквы ѣ (сравнительно с буквой е в памятниках XVII в., употребляющих эти буквы в слоге под ударением по древнему при замене в слоге без ударения буквы ѣ буквой е) // Известия ОРЯС. Т. 15, кн. 3. 1910.
Виноградов В. В. Исследования в области фонетики северно-русского наречия. Вып. I. // Очерки по истории звука ѣ в северно-русском наречии. Известия ОРЯС. Т. XXIV, кн. 1 и 2. Пг. 1923.
Высотский С. С. Звук речи в контексте // Диалектологические исследования по русскому языку. М. 1977.
Горшкова К. В. Очерки исторической диалектологии Северной Руси (по данным исторической фонологии). Московский университет. 1968.
Диалектологический атлас русского языка. Т. 1. М. 1986.
Дурново Н. Н., Соколов Н. Н., Ушаков Д. Н. Опыт диалектологической карты русского языка в Европе с приложением очерка русской диалектологии // Труды Московской диалектологической комиссии. Вып. 5. 1915.
Захарова К. Ф. К вопросу о ёканье // Диалектология и лингвогеография русского языка. М. 1981.
Захарова К.Ф. Об основе умеренного яканья в восточных среднерусских говорах // Диалектология русского языка. М. 1985.
Захарова К. Ф., Орлова В. Г. Диалектное членение русского языка. Просвещение. М. 1970.
Касаткин Л. Л. Утрата ⟨ѣ⟩ в связи с процессом монофтонгизации дифтонгов в русском языке // Современные русские говоры. М. 1991.
Князввская О. А. К истории московского говора // Ученые записки МГПИ им. В. П. Потемкина. Т. XLII. 1957.
Кузнецов П. С. О гласных 1‑го предударного слога в некоторых владимирских говорах // Бюллетень диалектологического сектора Института русского языка АН СССР. М. 1948. Вып. 4.
Лихтман Р. И. Еще раз о «своеручных записках» Н. Б. Долгорукой как памятнике московского просторечия // Проблемы развития языка. Вып. I. Саратовский университет, 1977.
Обнорский С. П. Переход е в о в современном русском языке // Шахматов А. А. М.-Л. 1947.
Образование северно-русского наречия и среднерусских говоров. М. 1970.
Пауфошима Р. Ф. Перестройка системы предударного вокализма в одном вологодском говоре // Физические основы современных фонетических процессов в русских говорах. М. 1978.
Сидоров В. Н. О предударных гласных в говоре Москвы XVI в. // Проблемы современной филологии. М. 1965.
Сидоров В. Н. Умеренное яканье в среднерусских говорах и севернорусское ёканье // Из истории звуков русского языка. М. 1966.
Скобликова Е. С. О судьбе этимологического ѣ в 1‑м предударном слоге перед твердыми согласными в говорах владимирско-поволжской группы // Материалы и исследования по русской диалектологии. Новая серия. Т. 3. М. 1962.
Сумкина А. И. Описание города Москвы 1785 г. // История русского языка. Памятники XI—XVIII вв. М. 1982.
Филиппова И. С. Московские грамоты XVI в. из Государственного архива Рязанской обл. // История русского языка. Памятники XI—XVIII вв. М. 1982.
Примечания
1
По данным К. В. Горшковой, к фонетическим явлениям XV в. относится: наличие парных по твердости—мягкости и глухости—звонкости согласных фонем, отвердение ряда исконно мягких, не противопоставленных по этому принципу согласных (ц, ш, ж) (Горшкова, 1968), а главное, наличие результата перехода [е] (но не [е̌]!) в [о] перед следующим твердым согласным (Горшкова, 1968; Васеко, 1973). Последнее явление не могло произойти без предшествующего по времени смягчения согласных перед *е, *ь. Следовательно, твердые согласные перед [е] в отличие от мягких перед [е̌] могли быть в это время только у определенной группы говорящих с традицией церковного произношения, которые искусственно сохраняли его, поддерживаемое сложившейся орфографией.
(обратно)2
Л.Л.Касаткин пишет: «В языке Москвы XVII — первой половины XVIII в. звуки на месте е и ѣ различались под ударением, причем различие это выражалось и в том, что перед ними выступали разные по твердости—мягкости парные согласные, и в том, что сами гласные звуки были различны: в соответствии с ⟨е⟩ выступал [е], в соответствии с ⟨ѣ⟩ — [и͡е].» (Касаткин, 1991, с. 19).
(обратно)3
Исследования С. С. Высотского (1977) и Р. Ф. Пауфошимы (1978) показали, что интонационно-силовая характеристика слогов слова московского говора близка владимирской и отличается от владимирской только некоторой ослабленностью всех гласных безударных слогов и силой 1‑го предударного слога: 1—2—3 и — 1—3—3. Это, вместе с единством звукового и грамматического состава категорий этих говоров, заставляет предположить более тесное старое единство московских и владимирских говоров, входящих в одно единое Ростово-Суздальское княжество, позднее в Великое Московское княжество.
(обратно)4
Убеждение о фонетически закономерном [ʼо] на месте *е̌ подкреплялось современным описанием П. С. Кузнецовым говора села Кишлеева Владимирской области, где в первом предударном слоге при последовательном [о] из е, ь перед твердой согласной отмечены случаи произношения [о] в словах в соответствии с ѣ, которые П. С. Кузнецов принял за фонетически обязательное произношение [о] и на месте ѣ (чего на самом деле не было (Захарова, 1981, 1985; «Образование…», 1970, с. 360—365)).
(обратно)5
Этому вопросу специально посвящены: карта фонетического выпуска ДАРЯ, №4, составленная К. Ф. Захаровой, ее же: глава в «Образование…» (1970, с. 360—367) и статьи «Об основе умеренного яканья в восточных среднерусских говорах» и «К вопросу о ёканье» (Захарова, 1981, 1985).
(обратно)

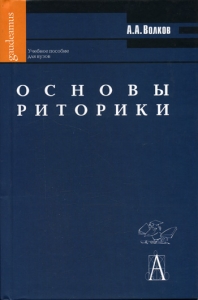
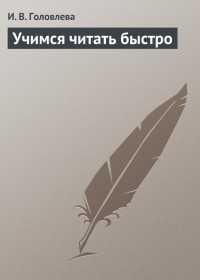

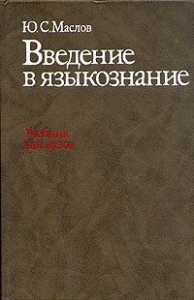
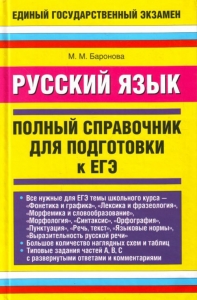

Комментарии к книге «Время и причины утраты ѣ в Москве», Капитолина Фёдоровна Захарова
Всего 0 комментариев