Андре Маркович Хроники: из дневника переводчика
15 мая 2014 Я в фейсбуке не пишу
Представьте себе, это моя двухсотая хроника.
Я сделался чем-то вроде регулярного печатного органа. Какой смысл в том, чтобы соблюдать этот ритм? Я постоянно вовлечен в какие-то проекты, которым конца края не видно — может, просто потому, что я и не хочу, чтобы они кончались, но, в определенном смысле, мне нужно подводить итоги.
* * *
Повторю еще раз: мне всегда было как-то неловко говорить от своего собственного имени. Это началось давно. В тот день, когда Ефим Эткинд доверил мне, в ту пору 22-летнему студенту, написать статью о Пушкине для толстого тома истории русской литературы, которую он готовил для издательства «Файар» вместе с Витторио Страда и еще несколькими светилами. И статья о Пушкине, конечно, была самой важной. А я тогда только-только отучился четыре года в университете и написал первую дипломную работу. Вообразите: по одну сторону — лучшие слависты Европы и Америки, которые могли бы написать эту статью, и она стала бы украшением всей их карьеры, а по другую — я, просто потому, что я был учеником своего учителя и он в меня верил. Невозможно даже описать словами, сколько времени я потратил, чтобы ее закончить, и сколько раз переделывал — это я-то, притом что я вовсе не планировал себе университетской карьеры… Кстати, а что же я собирался делать? Понятия не имею, что угодно, только не преподавать.
В общем, тогда я чувствовал себя не в своей тарелке. И дело не в тех идеях, которые я высказал о Пушкине: в результате они-то ни капли не изменились, даже сегодня, спустя тридцать лет. Нет, проблема была в том, что я ощущал себя не на своем месте.
Мои отношения с университетом — это особая область, отдельная, скажу только одно: я вообще ничего не знаю — не знаю ничего общепринятого, ничего такого, что можно повторить, и никогда не знал, так уж я устроен. Все, что я знаю, я на самом деле не узнал, а почувствовал — а размышлять я не умею. Точнее, я не умею думать понятиями, абстрактно — это вообще не мое. Я чувствую текст — как бы сказать? — животом. Поймите меня правильно: дело не в том, что я против рассуждений или критического подхода, совсем наоборот. Просто, когда я пытаюсь рассуждать, я кажусь себе очень глупым. К тому же — кажется, я уже об этом говорил — у меня есть еще один недостаток: я не умею размышлять на бумаге. Я могу думать только в разговоре, мне удается что-то нащупать, только если идет диалог, обмен мнениями с каким-то собеседником или со многими слушателями. Мне совершенно необходимо, чтобы вокруг меня, передо мной были люди. Видеть их глаза. Поэтому мне и пришло в голову использовать фейсбук так, как я это делаю.
* * *
Поэтому и жанр моих хроник именно такой — это разговор. Я пишу примерно так, как говорю, или, точнее, так, как хотел бы говорить. Меня спрашивают: почему бы вам не вести блог? Но ведь тогда я не буду получать откликов. Блог мне кажется чем-то застывшим, сродни дневнику, и неважно, личный он или открыт для всех. А здесь я не веду дневник, я работаю — не знаю, как объяснить это понятнее.
Неожиданно, обретаясь в этом особом пространстве, которое находится вне пространства реального, исписывая страницу за страницей, хотя никаких страниц здесь тоже нет, наблюдая, как они складываются во что-то вроде книги, хотя это не похоже на обычные книги, я почувствовал, что могу написать кое-что о своей работе и о самом себе. Я рассказываю об особом пласте памяти, который можно назвать «Воспоминания о воспоминаниях» — это воспоминания моих родителей и более старших родственников, но не такие, какими они были в их памяти (ведь сам я, по понятным причинам, не знаю этого в точности); скорее, это след, который они оставили в моей памяти, — то есть в настоящем времени, или лучше сказать в моем собственном настоящем, а следовательно, в моей работе. Еще я рассказываю о том, что можно назвать «моим еврейством», то есть я не просто разбираюсь, в чем именно чувствую себя евреем, но и рассказываю о воспоминаниях, связанных с историей еврейства и даже с историями о евреях (потому что я обожаю рассказывать еврейские анекдоты, а это очень сложно — записать их так, чтобы в них сохранилось главное, ведь это исключительно устный жанр). Конечно, я рассказываю о России — моей первой стране, ведь именно эта страна и язык сформировали мои чувства, вкусы, мой слух — это страна, где я остаюсь, несмотря на то, что нахожусь не там, а когда попадаю туда на самом деле, чувствую себя больше иностранцем, чем любой иностранец.
* * *
Я рассказываю о Бретани, потому что именно в Бретани я живу и вместе с Франсуазой[1] участвую в борьбе против национализма, которую она вынуждена вести. И я анализирую этот бретонский национализм (его можно еще назвать «мелким национализмом») — это помогает мне разобраться в национализме как таковом: еврейском (израильском), русском, французском или каком угодно.
* * *
Я еще не упомянул о некоторых очень важных для меня вещах, например, о работе Франсуазы и о том, как мы с ней работаем вместе, как мы переводили Чехова. И не только потому, что будет правильнее, если она сама об этом расскажет — кстати, у нее есть и подходящее место, ее собственный интернет-сайт. Именно она написала все предисловия к нашим переводам, и я уверен, что эти тексты имеют принципиальное значение. Я советую почитать ее статьи — на ее сайте или в других местах, скажем, на портале mediapart.fr или в газете «Монд»… Суть в том, что уже почти тридцать лет, как мне повезло познакомиться с человеком, которым я с каждым днем все больше восхищаюсь (поверьте, это не пустые слова!). Вся моя жизнь наполняется смыслом оттого, что Франсуаза рядом со мной и мы с ней работаем вместе. И я очень надеюсь, что вы еще прочтете новые хроники и о ее работе, и о нашей общей.
Еще я публикую в фейсбуке стихи. Меня часто спрашивают: а как же авторские права? За редчайшими исключениями (кажется, это только переводы из Бродского и один текст из Айги), все эти стихи юридически можно считать всеобщим достоянием. Естественно, я не отказываюсь от своих прав на них, но ведь любой текст в фейсбуке — юридически — всеобщее достояние. Кто угодно может воспроизвести эти стихи — таков закон жанра. Какой-нибудь злоумышленник может опубликовать их в виде книги, но какую выгоду он от этого получит?
Короче, бояться мне нечего. Это мои тексты — если они окажутся опубликованными в книге, копирайт будет принадлежать издательству, — и то хорошо. А пока такой книги нет, чем больше людей ими поделится, тем лучше.
* * *
Я работаю над этими хрониками вместе с читателями, которые читают их почти сразу, как только они появляются. Я пытаюсь осторожно, на ощупь, отыскать те пути, по которым мы можем двигаться вместе; все это касается работы с языком, это поиск перехода между разными мирами, разными образами, разными жизнями, словом, все это, так или иначе, связано с переводом. Потому что единственное мое занятие — это перевод. Само собой, я перевожу в то время, когда я перевожу. Но я перевожу и тогда, когда пишу специальные тексты, которые называю непереводами (используя выражение Армана Робена, хотя я немного изменил его смысл).
* * *
Еще я, конечно, публикую здесь в виде истории с продолжением хроники, посвященные «Гамлету», — очень сложные, видимо, потому, что нужно хорошо знать пьесу, а иногда я надолго отступаю от темы… и к тому же я не знаю, куда эти хроники меня приведут. Франсуа Беррёр, директор издательства «Солитер Интемпестиф», с которым мы договорились об их публикации, говорит, что книга должна быть не больше 200 страниц (иначе ее, как утверждают, никто не купит — решат, что это что-то заумное). А как сложно писать коротко! Пока я просто пишу дальше, а там, когда придет время, будет видно…
* * *
Я работаю, но не в одиночку. Я встретил в фейсбуке очень необычных людей — друзей, но незнакомых, — я познакомился с ними благодаря разговорам здесь. Это самое главное богатство фейсбука.
И я всегда удивляюсь, когда то, что волнует меня, вызывает интерес у других. И что некоторые из моих хроник, которые я специально пишу длинными, вообще кто-то читает, хотя специалисты утверждают, что тексты в фейсбуке — только для быстрого употребления. А я хотел бы эту быстроту немного замедлить, если так можно сказать. И когда я публикую абстрактные стихи, в которых синтаксис сложнее, чем обычно, более замысловатый, — я знаю, что «лайков» будет меньше, чем если бы это были воспоминания детства или текст о России. Но мне хочется, чтобы люди читали поэзию так же, как читают прозу. Мне доставляют удовольствие не сами «лайки», а то, что это след чьего-то прочтения. И лучше, когда будете читать эти стихи, читайте их вслух. Потому что вообще все, что я делаю, предназначено для чтения вслух — настоящего или просто «проговаривания глазами», но проговаривания.
Действительно, я здесь, в фейсбуке, не пишу.
Я всякий раз с кем-то говорю.
6 октября 2015
Хроника от шестого октября будет не совсем обычной, я пишу ее по особому поводу: она посвящена дню рождения моей матери, которая появилась на свет 6 октября 1933 года в Енисейске, в Сибири, куда выслали ее мать и тетю. Я не собираюсь высказывать здесь публично свои чувства к маме (они касаются только меня), просто расскажу, чем я ей обязан. Хотя бы кое-что.
Благодаря ей я знаю язык — русский язык. Мы росли, окруженные чуть ли не одними французами, но она умудрилась передать нам язык — и любовь к нему. В сущности, мне даже трудно себе представить, каково это: годами говорить со своими детьми на одном языке и слышать, как они отвечают на другом.
Со мной вышло так: сперва, как я уже упоминал, я говорил по-русски, потому что мы жили в Москве, и это был наш домашний язык, и вся жизнь вокруг тоже происходила на русском. Я не говорил по-французски с отцом — пытаюсь сейчас понять, как же я вообще с ним разговаривал. Честно говоря, даже не знаю. Наверно, по-русски, а он, видимо, отвечал на французском, но на самом деле я просто не помню, как это было. А потом, когда мы приехали во Францию, моя мама погрузилась в среду, где говорили исключительно по-французски, — сейчас я уверен, что она-то во Францию вовсе не хотела.
У меня в памяти осталось одно важное воспоминание — странное, потому что я знаю, что на самом деле этого не было: мои бабушка и двоюродная бабушка, две хрупкие фигурки на вокзальном перроне в Москве, — и мы в отходящем поезде… Откуда взялось это видение, это ненастоящее воспоминание? Этого я не знаю, зато знаю, что моей двоюродной бабушки не было в то время в Москве, а значит, она не могла провожать нас на вокзал. Но даже сейчас, в 55 лет, я не могу себе представить (точнее, к сожалению, могу), каково тогда было моей маме — в том поезде с двумя малыми детьми на руках, на пути в совершенно чужой мир, ведь поначалу кроме моего отца она не знала во Франции ни одного человека. И каково ей было потом смотреть, как я сперва оставался почти что немым (я говорил только с ней — по-русски), а потом внезапно под влиянием школы и всей повседневной жизни превратился в маленького француза и начал отвечать ей по-французски, а она, само собой, продолжала говорить со мной по-русски, потому что, когда начнешь говорить с человеком на каком-то языке, переменить это невозможно. И так год за годом она говорила с нами по-русски, а мы с сестрой отвечали ей исключительно по-французски.
Каково ей было оказаться в этом чужом мире, в пригороде (это был благополучный, уютный пригород), где ничто не связывало ее с прежней жизнью; из нового была еще учеба. Мама — еврейка, поэтому в России она не могла поступить на филфак (я уже писал об этом подробнее в одной хронике), она приехала во Францию с дипломом педиатра, и внезапно оказалось, что у нее как будто вообще нет образования, ведь русские дипломы здесь силы не имели (а может, даже и сейчас не имеют?) — для получения права на работу врачом ей требовалось… пересдать экзамены на аттестат зрелости, что было не так-то просто хотя бы потому, что она никогда раньше не писала таких сочинений, как здесь положено, да еще на французском. Дело кончилось тем, что она пошла учиться в Сорбонну, на русский язык, а потом, не оставляя забот о нас, детях, сумела на чужом языке, с которым только начинала осваиваться, сдать конкурсный экзамен на замещение преподавательской должности, «agrégation», она сдала его с первого раза (причем, заняла второе место на конкурсе, где распределялось около сорока преподавательских постов, а уж сколько было кандидатов, я даже не знаю). Кажется, это был 1969 год. А в 1970-м (мне, значит, было 9 лет), она уже работала ассистентом или стажером-преподавателем в лицее Родена в Париже, и как-то раз — я, правда, не очень хорошо помню этот день — она взяла меня с собой на праздник в лицей, и ее ученики (их было много-много и, боже мой, какими они мне показались взрослыми!) произвели на меня невероятное впечатление — так они на нее смотрели. Это был школьный праздник или что-то вроде — я не хочу уточнять у мамы, мне достаточно того, что я помню «здесь и сейчас», я ведь и пытаюсь записать такие «воспоминания о воспоминаниях», — и все было как-то просто, по-доброму, чувствовались подъем и легкость. А я в то время был не то чтобы необщительным ребенком, но довольно замкнутым — то есть у меня было много приятелей, все как положено, но меня все меньше интересовало то, что происходило вокруг. Я жил в каком-то другом мире, в мире фантазий и памяти, которая приобретала не совсем здоровые черты: я запоминал наизусть любой текст, который хоть раз увидел. Это было чисто механическое явление, никак не связанное с живым интересом. Я запоминал даты (мог воспроизвести полностью династии английских и французских королей, перечислить римских императоров, велосипедистов, участвовавших в гонке «Тур де Франс», вообще запоминал все подряд). Мне в самом деле было все равно что запоминать, и делал я это, как мне кажется, просто чтобы отвлечься от мира, который меня окружал. Потому, наверно, что это был мир, где не хватало чего-то важного. И я понимал, чего в нем не хватает, и смирился. Я был не в Ленинграде, со мной не было бабушки и ее сестры, не было запахов и звуков настоящей жизни, вообще не было ничего настоящего. Здесь, в школе, я не то чтобы оказался в одиночестве, но как будто витал в ином мире, где реальность смешивалась с фантазиями и не было четкой границы между жизнью и грезами. И я чувствовал — если я вообще мог тогда чувствовать, — как трудно было маме пройти этот конкурс: при слове «агрегасьон» я до сих пор представляю себе ужасное испытание. И тут вдруг, наверное впервые, я увидел, что она преодолела эти испытания ради чего-то важного. Ученики ее обожали. И она была довольна. А мне тогда очень редко случалось видеть, чтобы она улыбалась и ей было на самом деле хорошо.
* * *
Итак, переехав во Францию, я сперва оставался бессловесным, а потом заговорил не хуже, чем французские дети, а русский как-то вдруг стал для меня иностранным — языком, на котором я говорил с акцентом или не говорил вовсе. Я его, конечно, понимал, но отлично помню, как мне было неловко, когда в шесть или семь лет, на каникулах, я открыл рот, услышал свой акцент и решил, что не скажу больше ни слова по-русски, что я забыл этот язык, а после каникул, когда вернулся в школу, в свой первый класс, случилось то же самое: первые десять минут я чувствовал, что говорю с акцентом и мои приятели заключили, ого, он разучился говорить, правда, уже через десять минут французский полностью вернулся, а русский, наоборот, улетучился. Но мама продолжала говорить со мной по-русски: скажет что-нибудь по-русски, я отвечаю по-французски, она снова по-русски, а я опять по-французски. И так продолжалось все мое детство. Те немногие письма, что я написал бабушкам, тоже были на французском.
Однажды я заговорил с ней по-русски. Я уже не помню, как это вышло, но я ответил ей на том же языке. И первая русская книга, которую я прочел во Франции, будучи подростком, была, как ни странно, «Мать» Горького. И после нее я уже читал по-русски.
* * *
Вспоминаю ее подруг: Анни Кац (у которой мы были в гостях в Ментоне, кажется, на зимних каникулах, и я открыл какой-то ящик — уже не помню, что я там искал, — и увидел желтую звезду, ту самую, которую носил ее отец); Анни Кац умерла от рака, и мама была с ней рядом и помогала ей до самого конца. Я помню Еву Мальре, которая всю свою жизнь посвятила Ефиму Эткинду и Цветаевой — до последнего дня, причем в буквальном смысле: за день до смерти она еще переводила. И с ней тоже мама оставалась рядом, помогала, поддерживала. Помню еще одну ее подругу, очень близкую, Марину Геген, у которой мама раз в неделю ночевала в городе Кан, потому что работу она в конце концов получила в Канском университете и два дня в неделю вела там занятия. Марина была старше моей мамы, она попала во Францию в конце войны из Германии, куда ее угнали на работу, и, по-моему, мама воспринимала ее в каком-то смысле как старшую сестру. Хотя на самом деле мама была единственным ребенком в семье и достаточно поздним: она появилась на свет, когда ее матери было 46 лет, в Сибири, как плод любви (о которой мне ничего не известно) с грузинским врачом, тоже ссыльным, по имени Диомид Лукич Мурванидзе; именно поэтому маму зовут Дареджан — как героиню поэмы грузинского национального поэта Шота Руставели… Дареджан Левис… А подруга Марина тоже умерла от рака.
Я уже упоминал об этом мамином даре — хранить дружбу. У нее и в Петербурге остались подруги, которых она знает еще с начальной школы, где они вместе учились в первые послевоенные годы, а есть еще институтские друзья, с которыми она изучала медицину.
* * *
«Евгения Онегина» она знала наизусть всегда, еще со времен военного детства, но я помню, когда я поступил в лицей — это был лицей Ван Гога, в Эрмон-Обонне, потому что туда можно было добраться на поезде, — если она была свободна, она заезжала за мной на машине, и, пока ждала, повторяла «Онегина», сверяя с книгой, строфу за строфой. Она тогда возила с собой карманное издание, которое понемногу рассыпалось. А ее собственную книгу мы потеряли в Неаполе, когда ездили туда на каникулы, я был еще маленький. В нашу машину залезли воры. И чемодан, где была та книга, пропал. Мама возила ее с собой всюду, книгу ей подарила одна женщина, когда во время бомбежки мама читала отрывки из «Евгения Онегина» другим детям в поезде, который вез их из блокадного Ленинграда в эвакуацию, — и это их немного успокоило. Мне она никогда этой истории толком не рассказывала. Но я и сейчас отлично помню, как она понурилась, когда поняла, что книга исчезла.
* * *
Я помню, как она вообще ничего не сказала, когда Ефим Григорьевич Эткинд, которому она помогала сразу после его приезда во Францию (мне тогда было 16 лет), предложил мне вместе с ним переводить Пушкина. Лучше сказать, она ничем не дала понять, насколько ее это встревожило, и отец тоже не афишировал своих чувств. Вообразите, какое было бы разочарование, если бы у меня ничего не вышло. Но мама ничего мне не сказала. Просто в очередной раз была рядом, не мешая, предоставляя Эткинду беседовать со мной часами, и потихоньку мое безразличие к жизни улетучивалось, и все, как по мановению волшебной палочки, обретало смысл. На первую встречу переводчиков Пушкина, которая происходила дома у Эткинда (и где я был, конечно, намного младше всех остальных), она меня повезла на машине; по дороге мы чуть не попали в аварию, так она волновалась. А я, естественно, ничего не замечал. Во время этих встреч она ждала меня, пока я не освобожусь, общаясь с женой Ефима Григорьевича, Екатериной Федоровной, сидела в соседней комнате или на кухне, как было принято в СССР, и пила чай. Она ничем не выдавала своих эмоций, просто ждала. Она думала: а что, если все эти взрослые заклюют ее сыночка насмерть? Но почему-то не заклевали… И она смотрела, как я исправляю, переделываю, все начинаю заново. Она никогда меня не хвалила — и отец тоже. Просто была рядом и помалкивала.
* * *
Франсуаза читала все мои переводы, правила, предлагала варианты. Это тысячи часов работы. Я ей безмерно благодарен — и вы понимаете, это не просто слова. Никаких слов здесь не хватит.
* * *
Мама тоже читала все — и сверяла каждую строчку с русским текстом, а ведь она, бедная, терпеть не может Достоевского… Иногда, в самых безумных, самых бредовых местах у нее заканчивалось терпение, и я видел на полях своих переводов ее пометку: «псих!». Но, тем не менее, она вычитала все.
А потом, когда я перевел «Онегина», я пригласил ее читать со мной этот перевод — тогда Ален Франсон и Анн Коттерлаз предложили мне устроить такой вечер в театре «Ла Коллин». Мы провели это выступление вместе — мама читала (по памяти, без книги) русский текст, а я — по книге — французский. Я слушал ее голос, и мне казалось, что она читает лучше всех великих актеров (кстати, даже не знаю, читали ли великие актеры «Онегина»), она просто произносит текст, спокойно, ровно, она вообще не способна к какой бы то ни было актерской игре, но, пока она читала, я чувствовал, что переношусь куда-то — то есть я был тут, в театре, но одновременно она уводила меня в какой-то далекий мир, который я не умею описать, как будто очутился между прошлым и настоящим. Этот текст, прочитанный ее голосом, а потом моим, словно означал, что тот поезд, отходивший от перрона в Москве, наконец остановился. И это же чувство я испытал снова, когда в 2005 году Лора Адлер попросила меня устроить еще одно чтение «Онегина» в Ниме, для радиоканала «Франс-Кюльтюр», и договорились, что Франсуаза будет читать Татьяну, а мама — русский текст. Вместе с нами тогда работали Эрик Эльмоснино и Дени Подалидес, а режиссером той простенькой и очень светлой постановки была Маргерит Гато.
* * *
Мой отец умер ровно десять лет назад. Он еще успел нас послушать.
* * *
Есть еще один проект: вместе с издательством «Телем», наверно, мы осуществим его этой зимой — хотим записать всего «Онегина», русский текст будет читать мама, а французский — мы с Франсуазой.
4 октября 2013 Ефим Эткинд
У меня был учитель. Что такое учитель? есть, наверно, что-то такое, что передается от человека к человеку, от мастера к мастеру — не через книги, а на словах, в разговорах, в общей работе.
Мне было шестнадцать, и у меня была типичная для моего возраста болезнь: равнодушие. Ничто меня не интересовало. Мои мысли витали неизвестно где. Мама тогда была очень занята: она искала работу для Ефима Григорьевича Эткинда по разным университетам (конечно, этим занималась не только она). Это был один из самых одаренных переводчиков в том поколении, а главное — один из самых блистательных литературоведов и специалистов по теории перевода. Я буду о нем говорить еще много раз. Он родился в 1918 году и успел поучиться у выдающихся русских формалистов — у Тынянова, Жирмунского, Гуковского, он знал Шкловского, Оксмана, Бахтина — все то поколение, полностью преобразившее литературоведческую науку. Вместо того чтобы рассуждать о чувствах, они занялись композицией, структурой. Эткинд был среди тех, кто помогал отослать за рубеж рукопись «Архипелага ГУЛАГа», и КГБ поставил его перед очень простым выбором: на Восток (надо ли объяснять, что это значит?) или на Запад… Он выбрал Запад и оказался во Франции. А во Франции взял на себя подготовку тома стихотворений и поэм Пушкина, который должен был выйти в издательстве «L’Age d’Homme».
Он собрал группу опытных переводчиков… и спросил у меня, шестнадцатилетнего: «Хочешь переводить Пушкина?». Я принялся за дело. Я ничего не умел, не понимал, не видел. Но внезапно в моем мире началось какое-то шевеление, что-то стало мне приоткрываться — я начал учиться. А ученик я никудышный: все, что могу, усваиваю в одну секунду, а чего за секунду не могу, того не усвою никогда, и пытаться не стоит. И вдруг, вы только представьте, на меня, шестнадцатилетнего, семнадцатилетнего; обрушивается сразу столько всего… Это он научил меня читать — я имею в виду читать текст. Это он научил меня законам метрики, русской и французской. Он давал мне переводить небольшие стихотворения Пушкина, и я переделывал их по двадцать раз, не теряя энтузиазма, и оказалось, что, когда с меня спрашивают много и без поблажек, я работаю с удовольствием и изо всех сил. А потом он предложил мне другие стихотворения, длинные… Мы отбрасывали десятки, без преувеличения, черновых вариантов, а потом мои переводы этих стихов были опубликованы в 1981 году в «L’Age d’Homme»; много позже я заново переработал их для вышедшей в 2011 году книги «Солнце Александра».
Сегодня скажу, что этот том в «L’Age d’Homme» был ужасен, за очень немногими исключениями (например, переводы Вардана Чимишкяна из куртуазной поэзии или несколько баллад в переводе Владимира Береловича), но для меня все началось именно с него.
Хотя нет. На самом деле, все началось не с книги. Вначале Эткинд приходил к нам в гости и подолгу со мной, еще ребенком, говорил, как со взрослым, в моей комнате, — говорил, рассказывал. Он знал наизусть сотни стихотворений — я не преувеличиваю. Вы не представляете себе, что это было, — слушать, как он читает Пастернака и объясняет мне не только контекст, но и стилистические оттенки каждого слова. А разбирая мои переводы, он был неумолим. И я знал: никаких поблажек мне не будет, потому что это было бы несправедливо. Пока не найдется то самое выражение, пока оно не встанет точно на свое место (а это чувствуешь сразу, в тот же миг), пока слова не свяжутся воедино — остановиться не имеешь права.
По-моему, я помню каждый разговор, каждый час, который мы провели вместе. Я был просто зачарован.
Как все на свете, я в жизни ссорился с людьми. Бывало, что доходило до разрыва отношений. Но по-настоящему я разошелся только с одним человеком — с ним.
12 октября 2013 Эткинд, продолжение
Он появлялся у меня в комнате. Садился в кресло, а я на кровать. И начинал рассказывать. Он брал стихотворения, которые я переводил, и подробно их разбирал — я видел его карандашные пометки на полях, вычеркнутые куски, вопросительные и восклицательные знаки. Иногда попадалось «Оч. хорошо!», и он говорил мне, что я нашел то, что нужно. Что это было — теперь я уже не вспомню, но тогда я и сам чувствовал, что нашел точную формулу, слово, фразу, стих, приближающие меня к оригиналу. Я это видел, и это была жизнь. А потом он читал мне стихи. Он помнил наизусть всю русскую поэзию! И каждое стихотворение было, как сказал Мандельштам, — «ворованный воздух».
Я мог бы рассказать о его встречах с Ахматовой, о том, как он читал наизусть Мандельштама, Заболоцкого, Пастернака, о его разговорах с Бродским (которого он яростно защищал во время суда и с которым очень дружил). Однажды он начал читать мне стихи одного поэта, которого, вероятно, никто, кроме него, не помнил, потому что ни одно его стихотворение не было опубликовано[2]. Он резко сжал кулаки (о Господи, он был очень высокий, крупный, и кулаки у него были огромные) и начал отбивать в воздухе ритм, скандируя: «Вниз головой! Вниз головой! Грызть кукурузу мостовой!» — это было поразительно. Автора этих двух строк звали Алик Ривин.
У них была общая молодость, они дружили в предвоенном Ленинграде, но Алик Ривин не был студентом. Это был человек одинокий, с легкой безуминкой, никто не знал, где он живет — чуть ли не на улице, а чтобы прокормиться, говорил Эткинд, он ловил бродячих кошек и продавал их в лаборатории на опыты или являлся к его, Эткинда, учителю, профессору Гуковскому (воспитавшему таких ученых, как Юрий Лотман, Илья Серман и многих других); это был один из лучших исследователей обожаемого мной русского романтизма; в 1950 году он умер в московской тюрьме Лефортово. Алик Ривин являлся к нему, усаживался на пол, протягивал руку и с еврейским акцентом изрекал: «Дайте рубель», а потом принимался кричать нараспев стихи, полные невероятной силы и яростного напора, — в них цитаты из самой высокой романтической поэзии были перемешаны со строчками из Пастернака, из эстрадных песенок, с ругательствами на идиш, полными образов, сошедших прямо с картин Шагала. Он размахивал рукой, и это было страшно, говорил Эткинд, потому что кисть руки была изувечена. Ему раздробил пальцы какой-то станок на заводе. Алик Ривин внушал страх, и он был грандиозен.
Читал мне Эткинд и другие его стихи. Например, написанные в самом начале войны, когда все молодые люди уходили на фронт, а он, Алик Ривин, остался в Ленинграде и бесследно исчез — должно быть, умер в блокаду.
Как придет война большая, Уберемся мы в подвал. Тишину с золой мешая, Ляжем на пол, наповал…[3]Позже я перевел эти стихи:
Quand viendra la guerre grande Terrons-nous dans les abris, Mélangeant silence et cendre, Mornes, rances, louches, gris. Moi, l’inapte, avec les mioches Je me tords mes doigts broyés — La chronique du cinoche, Sous les bombes l’oreiller. Quel crétin roulait carrosse, Qui bouffait les petits oignons, Abrutis et pauvres gosses Qui se crêpent le chignon. Brins de thé, les ans voltigent, C’est la mort, au fond, qui bout — Toi et moi, enfants prodiges, On peut dire: «je m’en fous». Dans le champ d’honneur la balle Cherche à t’embrasser le front. Pan, c’est fait. Le vent t’emballe. Le barbu divin dit «bon». Dors sous terre, pauvre cave, Je dérange pas les morts, Mais je tremble dans ma cave Et je vis, je vis encore! Carabosse fauche, fauche, Troue les âmes, troue les peaux. Morts à droite, morts à gauche, Moi, dessous — sous un corbeau.Эткинд читал его наизусть. Целые стихотворения, иногда фрагменты.
Мне исполнилось двадцать два. В день рождения я получил письмо. Эткинд, почти не умевший печатать на машинке (сколько его статей перепечатала мама!), перепечатал для меня все его стихи, которые помнил. На трех страничках. Все, уцелевшее от этой жизни.
Ефим Эткинд умер в 1999 году. У меня остались три этих листка.
Мои переводы стихов Ривина не опубликованы.
2 января 2015 Афанасий Фет «Ласточки» «Les hirondelles»
Témoin oisif de la nature, J’aime oublier le monde et voir Une hirondelle, flèche obscure, Lorsque l’étang s’emplit de soir. Elle s’élance, elle s’échappe, — On prie pour que le verre plat, Cet autre monde, ici, ne happe L’éclair de l’aile qui s’abat. Mais c’est toujours la même peine, Toujours le même sombre jet… N’est-elle comme l’âme humaine A la naissance d’un projet? Ne suis-je tel, fait de poussière, Osant entrer toujours plus haut, Dans l’autre monde, hors des frontières, Pour picorer ma goutte d’eau? Природы праздный соглядатай, Люблю, забывши все кругом, Следить за ласточкой стрельчатой Над вечереющим прудом. Вот понеслась и зачертила — И страшно, чтобы гладь стекла Стихией чуждой не схватила Молниевидного крыла. И снова то же дерзновенье И та же темная струя, — Не таково ли вдохновенье И человеческого я? Не так ли я, сосуд скудельный, Дерзаю на запретный путь, Стихии чуждой, запредельной, Стремясь хоть каплю зачерпнуть? 1884Я перевел это стихотворение для антологии, которую Ефим Эткинд готовил в издательстве «Maspero», — она вышла в 1983 году… Мне был тогда 21, потом 22 года. Помню, с каким пылом я работал над переводами для этой книги. Эткинд предоставил мне полную свободу — я читал, рылся в книгах, пробовал перевести то одно, то другое; я жил, окунувшись в эту музыкальную волну, нет, в эти волны, — Батюшков, Туманский, Пушкин, Дельвиг, Гнедич, Рылеев, Веневитинов, Вельтман, Лермонтов, Фет, Блок, Мандельштам, Маяковский («Флейта-позвоночник»), Багрицкий, Тихонов, Заболоцкий, Введенский, Олейников, Илиазд, Волошин, Пастернак, Антокольский, Корнилов, Павел Васильев, Сельвинский, Гудзенко, Твардовский, Кочетков, Бурич, Гитович, Винокуров, Самойлов, Тарковский, Коржавин, Липкин, Бродский… Перечитывая сейчас те свои переводы, я нахожу в них невообразимое множество недостатков, они в самом деле очень несовершенны. Но как бы сказать? Сейчас, в январе, я возвращаюсь к тем двум годам, полным радости и работы, — и до чего же легко было Эткинду заставить меня всё начать сначала, когда он чувствовал, что перевод слабый… На самом-то деле он был еще недостаточно строг.
Вспоминаю себя в любимом моем кафе «Ле Сен-Луи» на площади Сорбонны, или в «Клюни», что на углу бульваров Сен-Мишель и Сен-Жермен, или в «Ростане» у Люксембургского сада; я не шел на лекции в Сорбонну, они наводили на меня ужас, я работал целый день, целый день, целый день. Я ходил к Эткинду, рылся в его библиотеке — все стены, сверху донизу, были заставлены книгами. Я брал, что хотел, прочитывал и приносил книгу обратно вместе с переводами. Все, конечно, было слабо, неверно, зато истинной в итоге была радость приобщения ко всему этому, к великой поэзии, к потрясающей русской культуре — мне ведь было двадцать два… Истинным было чувство, что я слышу эту культуру и эту поэзию сразу на двух языках.
4 февраля 2015 Возвращаясь в мои семнадцать лет
Знаете еврейскую шутку: «Как это может быть, что таким молодым людям, как мы, уже по сорок лет?» — у меня уже и волосы седые, да и не так много их осталось, и не могу сказать, что это меня слишком радует. Смотрю на студентов, на школьников — вот вчера я был в Лилле, читал школьникам «Гамлета» в Théâtre du Nord. Три часа провели, разбирая первые шесть строк. Спрашиваю их, когда они родились: в 97-м, 98-м… Мне подумалось, что это как-то неправильно, я от них слишком далеко — и в то же время, разумеется, я здесь, с ними вместе, но они говорят со мной на «вы», обращаются ко мне, разумеется, «месье». И я перенесся в свои семнадцать лет.
Фейсбук дал мне возможность — и это тоже так странно — возвращаться к прошлым работам. Публиковать что-то, погребенное среди бумаг, какие-то находки, хотя нет, не «находки» — ведь я нарочно их искал, чтобы пустить в дело, чтобы извлечь из глубины архива, из груды публикаций, вещи, которые и сегодня имеют смысл. И странное дело, я постоянно убеждался, что выбрал правильный путь — да, именно путь. Я хочу сказать, что многие тексты, опубликованные в 1985–1986 годах и даже раньше, не потеряли для меня своего значения и сегодня, потому что — мне самому это удивительно — мои интересы и главные направления моей работы определились очень рано, когда я был подростком.
И, думается, мне есть что об этом рассказать. Только так, в сущности, я и могу рассказать о себе. На самом деле даже не о себе — о пути, по которому шел.
С самого отрочества, с тех пор как стал работать с Ефимом Эткиндом, я, само собой, страстно увлекался Пушкиным. Хотя это глупо: что значит «страстно увлекался»? Как будто было хоть одно мгновение, когда Пушкина не было в моей жизни. На самом деле — и это верно для всех, кто вырос в России — он, так или иначе, все детство с вами, всю жизнь. Но в какой-то момент мне выдалось счастье взглянуть словно бы со стороны на то, что всегда жило внутри меня, — и помечтать, что могу как-то распространить это, почувствовать глубже, сделать совсем своим. Работать над стихами Пушкина… Помню, как Ефим Эткинд предложил мне перевести на пробу два стихотвореньица Пушкина, две «антологические эпиграммы», и как я на ощупь к ним пробивался. Как инстинктивно, блуждая наугад, почему-то попытался сперва перевести их александринами, хотя в оригинале был эквивалент нашего восьмисложника. И как Эткинд сказал, что нужно всё переделать — полностью. А потом попросил меня перевести стихотворение, которого я вообще не знал, причем очень длинное, «Наполеон», написанное в 1821 году, когда Пушкин получил известие о его смерти. И помню, как я барахтался, не зная, с чего начать, — я, в сущности, не умел читать текст. И десятки раз, буквально десятки раз, начинал все сначала. Строго говоря, это стихотворение сопровождало меня всю жизнь. До его публикации в «L’Age d’Homme» в 1981 году я сделал около двадцати вариантов. И с самого момента публикации — постоянное чувство, что это не то и что все, что я сделал, никуда не годится. И я все время чувствовал потребность попробовать еще раз. Так было с «Наполеоном», то же самое было и со вторым длинным стихотворением «Разговор книгопродавца с поэтом»… (Новые, хотя и не окончательные версии этих двух стихотворений я напечатал в «Солнце Александра».) И с «Разговором…» было то же самое: Эткинд попросил меня его перевести, а потом опять разбирал со мной каждую строчку, и правил, и предлагал варианты. А ведь были еще наши собрания у него дома. Мы — это группа переводчиков, которых собрал и возглавил Эткинд. Блистательные переводчики — технических трудностей для них не существовало. Я слушал, как Вардан Чимишкян читает свои переводы шутливых стихотворений Пушкина, и я изумлялся их легкости и виртуозности. Помню, как Владимир Берелович читал свой перевод «Утопленника» и как мне было радостно слушать. Помню Дмитрия Сеземанна, очень высокого и худого пожилого господина, — я был потрясен изяществом его голоса, его языка. Нет, не изяществом даже — утонченностью. Было в нем что-то от английского лорда, а ведь этот аристократизм интонации — самая основа пушкинской поэзии… А Клод Эрну читал лирику. А Сато Чимишкян, сестра Вардана, переводила сказки… Правило у нас было такое: каждый приходил со своим переводом, читал, а остальные критиковали, поправляли, предлагали замены, и в этом было, по-моему, и соперничество, и радость совместного усилия — мне было семнадцать лет, и я это обожал.
До сих пор страдавший отроческой болезнью, равнодушием, — как я теперь радовался, когда меня критиковали, говорили, что все надо переделать, как я был рад учиться. Я вдруг почувствовал себя на своем месте. Я набрел на свой путь еще до того, как начал его искать. И этот путь был — перевод.
У меня не было ни тени сомнения.
30 мая 2015 Перевести форму: хроника в нескольких хрониках 1. Чужие в доме Мольера [4]
Так озаглавил Мишель Курно свою статью в «Монд», посвященную первому в моей жизни провалу, изумительному спектаклю по пьесе Лермонтова «Маскарад», поставленному Анатолием Васильевым в «Комеди Франсез» в мае 1992 года. Работа над спектаклем проходила в страшной спешке. Васильев впервые столкнулся с тем, как ставят пьесы в «Комеди Франсез», ему некогда было работать так, как он привык, он едва успевал, по его выражению, «разводить по местам» актеров. А актеры принимали в штыки все его попытки заняться с ними «этюдами», то есть творческими импровизациями, которые должны были им помочь решить для себя, как двигаться на сцене: они хотели, чтобы он, по примеру других, навязывал каждому его место на сцене и говорил, куда идти. А он требовал от них другого. До сих пор не могу вспоминать без волнения, как вцепился в роль Арбенина Жан-Люк Бутте… которого Васильев заставил сыграть его собственное физическое разрушение (к тому времени Жан-Люк Бутте мог ходить уже только на костылях). В начале он играл стоя, не двигался или почти не двигался, можно было подумать, что с ним все в порядке; потом мы видели, как он опирается на костыли, а в конце он появлялся в инвалидном кресле. Он сам приводил в движение это кресло, раскатывал в нем задом наперед, не глядя, между стеклянными арками декораций, с такой ловкостью, такой силой и такой змеиной гибкостью, что глаз не отвести. А Нину играла Валери Древиль, у которой вся жизнь переменилась благодаря этому спектаклю. Она каждую минуту использовала, чтобы еще чему-то научиться, и вся без остатка ушла в поиск точного сценического образа — воздушного и в то же время телесного… И Катрин Сальвиа, и Дидье Бьенэме (в 2004 году он умер совсем молодым!), и Жан Дотреме в роли Маски; в день премьеры он сыграл в последней сцене без единой репетиции, потому что дата была назначена, а во Франции премьер не откладывают. И Ришар Фонтана… он умер через два дня после этой премьеры…
* * *
Люди в зале вопили, что им ничего не слышно (они и не могли ничего услышать, пока вопили), сломали несколько кресел, из разных концов зала неслась брань, унижавшая не столько участников спектакля, сколько самих крикунов, — и пресса высказалась о спектакле с полным единодушием… Все были согласны, что это абсолютная катастрофа; пощадили разве что Валери Древиль и Жан-Люка Бутте, которые, мол, безропотно пали жертвой безумца, тщеславного дурака… одним словом, чужака, иностранца. Получив пресс-релиз, я прочел все это примерно в двух сотнях откликов, то крупным шрифтом, то мелким, с фотографиями и без. Постановка провальная, потому что Васильев — бездарность. Но в разгроме было виновно еще одно лицо — я.
Я был виновен в том, что мой текст представляет собой «скверные стишки», что мой перевод смехотворен. Он неуклюж, он то витиеват, то «слишком осовременен», то непонятен. И прочее в том же духе. Это тоже повторялось в двухстах рецензиях. Конечно, публика на премьере ничего не поняла, но главное — теперь, почти четверть века спустя, я могу это сказать, — статья Курно меня очень задела потому, что он был прав: я действительно не был своим в этих стенах. В доме Мольера я был чужим.
* * *
Как это понимать? Неужели я в самом деле чужой в «Комеди Франсез», куда пришел по приглашению Антуана Витеза[5] и где участвовал в лучших спектаклях, из которых «Маскарад» был первым (и я до сих пор горжусь этой работой больше, чем многими другими)? Нет, конечно. В «Комеди Франсез» я никогда не чувствую себя чужим. Я горжусь, что мне довелось участвовать в историческом моменте в жизни этого великого театра, который без преувеличения можно назвать одним из символов Франции. Уж не говорю о том, что дружу с многими актерами «Комеди Франсез», нынешними и бывшими, но речь здесь не о моих личных ощущениях. Речь о другом.
* * *
Я чужой в доме Мольера. Я чужд французской литературной традиции. Чужд французской традиции перевода.
А все потому, что перевел рифмованными стихами «Маскарад» Лермонтова, драму, написанную в 1835 году рифмованными стихами. Причем перевел не александринами, то есть не тем стихом, который французская публика могла с грехом пополам узнать и признать, а тем, которым эта пьеса написана, то есть рифмованным вольным ямбом (между прочим, так написан «Амфитрион» Мольера, где чередуются строчки самой разной длины). Мало того что я соблюдал систему стиха — я еще и воссоздавал различные стили, присутствующие в пьесе. Местами она выдержана в романтической эстетике, а другие места, тоже рифмованные, написаны разговорным языком, иной раз даже с элементами просторечия. То есть Лермонтов, следуя за Грибоедовым с его «Горем от ума», подхватил французскую форму (форму мифологических комедий Мольера, таких как «Психея», «Амфитрион») и обошелся с ней по-шекспировски, опираясь в одном и том же тексте на разные стилистические пласты и не оставляя камня на камне от прежнего, традиционного, поэтического языка.
* * *
Я предупреждал Васильева, что моя манера перевода явно выпадает из французской традиции и, скорее всего, собьет с толку публику. Он ответил, что это остается полностью на мое усмотрение, а ему нужно только, чтобы главные слова, те, на которых покоится система образов, оказались именно на тех местах, где они стоят в оригинале: ему нужно было, ориентируясь на русский текст, наметить для актеров основные ритмические акценты. И я могу поручиться, что после множества попыток и переделок мой перевод с этой точки зрения оказался совершенно точен. Но это опять-таки абсолютно никого не интересовало. Важно было то, что текст, который произносили актеры, для публики и для них самих был лишен какой бы то ни было исторической основы, ни с чем не связывался. Никто так не делал.
Эффект от моего перевода в сочетании со «странностями» постановки был подобен взрыву.
Добавлю, что осенью, когда схлынула толпа обладателей абонементов в тогдашнюю «Комеди Франсез» — которые, конечно, к такому театру не привыкли, — спектакль возобновили для настоящей публики, и это был триумф. Заодно и мой текст приняли — никто никогда его больше не трепал…
* * *
И всё же…
* * *
Дело в том, что в доме Мольера я оказался чем-то вроде подкидыша. Я не французский переводчик, я уже об этом говорил. Для меня важно, что, согласно русской традиции, а также немецкой, польской, чешской и множеству других, невозможно отрывать форму от всего остального: нельзя перевести стихотворение, не передав тем или иным способом его форму, потому что форма, по самой своей сути, есть неотъемлемая часть его смысла. Русская литература и, к примеру (пускай и по-другому), немецкая, построены на усвоении не только самих произведений и тематики иноязычных писателей, но и форм, в которых эти писатели работали. Пушкин — опять Пушкин! — использовал все известные ему формы европейской литературы, решительно все, в родную литературу их вводили также такие поэты, как Николай Гнедич и Василий Жуковский.
* * *
Гнедич был эллинистом. Перевод «Илиады» стал делом всей его жизни, и в течение нескольких лет он переводил ее по образцу французских эпических поэм XVII и XVIII веков, рифмованным александрийским стихом. А потом внезапно остановился и все начал сначала, и стал искать пути перевода гекзаметром, взяв за образец гекзаметр немецкий; на то, чтобы разработать русский гекзаметр, ушло у него двадцать лет. И до сих пор его перевод остается непревзойденным. Это безусловный шедевр. А Жуковский, страстно увлеченный немецкой поэзией, переложил на русский ритмы баллад Шиллера и Гёте, а потом открыл для себя стихотворные повествования английских романтиков, Вальтера Скотта и особенно Байрона, и вот он стал переводить Байрона — естественно, соблюдая байроновский размер, четырехстопный ямб (послуживший основой «Евгению Онегину» и другим поэмам Пушкина). В русской поэзии с каждой «акклиматизацией» нового иностранного стиха рождалась еще одна форма, открывалось еще одно направление. И шекспировские сонеты, которые появлялись на русском языке на протяжении всего XIX века (а в XX их перевел Маршак, а некоторые — Пастернак), и сонеты немецких поэтов Стефана Георге и Пауля Целана — все они имеют ритм и рифмы оригинала, имеют форму сонета. В России (о Германии сейчас говорить не стану) такой перевод — не гарантия успеха, а непременное условие. Если оно не выполняется, перевода просто не публикуют, это не имеет смысла. И дело тут не во владении техникой (хотя переводчику стихотворная техника необходима), это вообще другой принцип, на котором я выстроил, поверьте, всю мою жизнь: признать за иностранным, чужим миром право на существование — и быть благодарным этой чуждости за то, что у нее другие традиции и ориентиры, отличные от наших. И делать попытки тем или иным способом приблизиться к этому чужому миру, а не уподоблять его нашему.
* * *
Но во Франции это не принято.
3 июня 2015 2. Как это делается у нас. От «Ворона» — к «Ворону», Арман Робен
Эдгар По написал несколько стихотворений, в которых важную роль играет словесная игра. Самое известное из них, конечно, «Ворон» — это романтическая баллада, построенная на внутренних рифмах и аллитерациях. Она может нравиться или не нравиться — вопрос в другом. «Ворон» переведен на десятки языков, и переводчики во всем мире, работая над этим стихотворением, задавались одним и тем же вопросом — как сделать, чтобы единственная фраза, которую произносит ворон — знаменитое «nevermore» — звучала как настоящее воронье карканье.
Это очень длинное и невероятно известное стихотворение, но я все-таки процитирую последнюю строфу на английском:
And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting On the pallid bust of Pallas just above my chamber door; And his eyes have all the seeming of a demon’s that is dreaming, And the lamp-light o’er him streaming throws his shadow on the floor; And my soul from out that shadow that lies floating on the floor Shall be lifted nevermore!Достаточно просто прочесть вслух эти: «never flitting, still is sitting, still is sitting» и «On the pallid bust of Pallas» и дальше в таком же духе до самого «nevermore», рифмующегося с «door» и «floor», и заметить аллитерацию на[fl] — «flitting», «floor», «floating», «lifted»… Все это написано ради звукописи.
Существует несколько русских переводов, сделанных известными поэтами-символистами — Бальмонтом и Брюсовым, есть переводы на немецкий, финский, шведский, польский, чешский языки, есть знаменитый перевод на португальский, выполненный в 1924 году Фернандо Пессоа, приведу последнюю строфу из него:
Е о Corvo, nanoiteinfinda, está ainda, está ainda, No alvobusto de Atena que hápor sobre os meus umbrais. Seuolhar tem a medonha cor de umdemônio que sonha, E a luz lança-lhe a tristonha sombra no chao mais e mais. E a minhalmadessa sombra que no chaohá mais e mais, Libertar-se-á… nunca mais!Даже не зная португальского, понимаешь, что Пессоа выстроил свой текст по той же ритмической и звуковой схеме, которая заложена в английском тексте, и что, если какие-то детали при дословном переводе не совпадут, это не имеет значения, потому что при переводе с английского на португальский сохранено главное — то, ради чего этот текст написан, а именно — звукопись. Потому что именно от звуковых повторов возникает это наваждение, из них, из этих повторов, рождается сам ворон — мрачный образ смерти. И все русские переводы и немецкие, все без исключения, ставят себе задачу тем или иным способом это передать. Сам ритм и форма, которую Эдгар По создал для этого стихотворения, не существуют в готовом виде ни в каком другом языке — это новая, ни на что не похожая форма, но во всех переводах, которые я читал, так или иначе, каждый раз с какими-то своими особенностями, именно эта уникальная форма воспроизводится на другом языке, средствами другой литературы. Любой перевод — это усвоение нового, открытие, попытка воссоздания.
* * *
Это стихотворение, конечно, переведено и на французский. И, прямо скажем, не какими-нибудь второсортными литераторами. Первыми его перевели, как известно, Бодлер и Малларме.
Вот как выглядит последняя строфа у Бодлера:
Et le corbeau, immuable, est toujours installé, toujours installé sur le buste pâle de Palias, juste au-dessus de la porte de ma chambre; et ses yeux ont toute la semblance des yeux d’un démon qui rêve; et la lumière de la lampe, en ruisselant sur lui, projette son ombre sur le plancher; et mon âme, hors du cercle de cette ombre qui gît flottante sur le plancher, ne pourra plus s’élever, — jamais plus!Да, от звукописи остался «buste pâle de Pallas», но из остального переведен только смысл (с несколькими искажениями, на которых я не буду останавливаться, потому что пишу не об этом).
А вот что у Малларме:
Et le Corbeau, sans voleter, siège encore — siège encore sur le buste pallide de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre, et ses yeux ont toute la semblance des yeux d’un démon qui rêve, et la lumière de la lampe, ruisselant sur lui, projette son ombre à terre: et mon âme, de cette ombre qui gît flottante à terre, ne s’élèvera — jamais plus!
Это проза. От строф и рифм не осталось и следа. То есть Бодлер и Малларме, вместо того чтобы разыгрывать эту историю, как в английском тексте, а также — в португальских, русских, немецких и многих других переводах, ее пересказывают. Но ведь… Сказать по правде, если вообще были во Франции поэты, умеющие играть со звуком искуснее, чем это делал по-английски Эдгар По, то это как раз Бодлер и Малларме. И если уж они не перевели того, ради чего, собственно, и было написано это стихотворение, хотя выбрали его по собственной воле, значит, дело не в том, что они не смогли этого сделать, а в том, что не захотели.
* * *
Почему же не захотели? Потому что, с их точки зрения, во французской литературе стих предназначен только для поэзии, которая изначально задумывалась на французском, и ни для чего больше. Потому что во Франции, по традиции, не принято переводить стихами — ведь стихами, для простоты, признается только александрийский стих.
* * *
Первый полный перевод на французский сочинений Шекспира, который сделал в конце XVIII века Пьер Летурнёр, был прозаическим. Немецкие поэты, переводя Шекспира, обновляли поэтический язык и стихотворные формы немецкой литературы, и с этого началась, я бы сказал, не просто новая эпоха в немецкой литературе, а новое представление о Германии как таковой — и произошло это, когда был воссоздан на немецком языке стих елизаветинской драмы, тот самый пятистопный ямб, который потом прозвучит у Лессинга, а потом у Шиллера и многих других. Французы же переводят прозой — и полностью отгораживаются от всех стихотворных форм, которых не было в традиционной французской метрике. Так обошлись с пьесами Шекспира, и с поэзией Байрона, с теми самыми стихами, которые, после того как Жуковский перевел их, соблюдая форму оригинала, положили начало русской романтической поэзии. Так было и с Мильтоном, которого Шатобриан перевел прозой.
Да и Нерваль тоже перевел «Фауста» прозой, зарифмовав только песни (потому что это песни). Французская поэзия традиционно отгораживалась от всего, что от нее отличалось. Утверждая это, я просто констатирую факт, это не хорошо и не плохо, это историческая реальность, против которой, конечно, можно протестовать — но это то же самое, что протестовать против дождя или солнца. Протестуй, если тебе так хочется…
* * *
Можно попробовать разобраться, почему так вышло, — но от этого тоже не будет особой пользы. Такое впечатление, что Франция, будучи центром мира, просто не нуждалась в переводах, потому что все вокруг говорили по-французски. И точно так же Франция не нуждалась в том, чтобы переводили ее литературу. В XVIII и даже XIX веке не очень-то много переводили Мольера и Расина, ведь все образованные люди в Европе читали по-французски. Я уже где-то недавно говорил об этом: например, шиллеровский перевод «Федры» 1805 года в высшей степени спорен — он перевел эту драму не прозой и не александрийским стихом, которым она написана, а пятистопным ямбом, то есть он «ошекспиривает» или «германизирует» Расина, как будто бы доступными ему средствами борется против всесилия Наполеона. Я думаю, в Германии этой теме посвящено много исследований…
* * *
Вернемся к «Ворону». Существует несколько французских переводов, но самый интересный из них и практически не известный — это перевод Армана Робена, опубликованный в 1940 году в его первой книге «Моя жизнь без меня» в галлимаровской серии «Метаморфозы». Это выдающаяся книга: в ней есть собственные стихи Робена и его переводы, ничуть не менее «собственные» (из Есенина, Маяковского, Рильке, Тувима, По, Чехова и бретонского поэта Каллоха); Франсуаза в своей диссертации подробно анализирует бесконечные отражения и переклички, связывающие его собственные стихи и переводы Робена, они неотделимы друг от друга, и на самом деле иногда кажется, что именно переводы — это в еще большей мере его собственные стихи.
Вот как Арман Робен перевел последнюю строфу «Ворона»:
Et le corbeau, toujours raidi, siège depuis, siège aujourd’hui Juché sur le buste pâle de Pallas juste sur ma porte Et son regard, c’est bien celui du démon qui rêve ma vie, Son ombre sous ma lampe fuit, sombre à mes pieds, flottante encore, Et hors de cette tombe d’ombre mon cœur ne prendra plus essor Avant ni même après ma mort.Здесь все не так — в том смысле, что дословным этот перевод не назовешь, но, главное, сразу понимаешь, что он очень точен, потому что оправдан всем своим звучанием и еще этой удивительной фразой «le démon qui rêve ma vie» (букв.: «демон, которому снится моя жизнь») — хотя у По сказано просто «a demon that is dreaming» («демон, который спит»). И в самом деле, что еще может сниться этому демону, как не жизнь его персонажа, который, следовательно, уже и не он сам, ведь он просто снится демону… И то, как Робен придумал не переводить знаменитое «nevermore» (никогда), а сохранить его звучание, «more», передав его французским словом «mort» («смерть») — и да, это то самое нужное слово, и тот слог («or»), самый значимый для звучания оригинала, словом, здесь есть мысль, есть поиск, по-моему, перевод великолепный.
* * *
И тем не менее, я почти уверен, что если в вашем книжном шкафу нет первого издания этой книги Армана Робена 1940 года или его сборника «Ecrits oubliés II» («Забытые тексты II»), который Франсуаза опубликовала в 1986 году в издательстве «Ubacs» (закрывшемся чуть ли не больше двадцати лет назад), то вы не видели этого перевода. Почему? Потому что при подготовке первого посмертного издания Робена его издатель Ален Бурдон, перерабатывая книгу 1940 года, просто выкинул из нее все переводы. Он оставил только собственные стихи Робена. Потому что раз он поэт — значит, печатать надо только его стихи.
Франсуаза год за годом доказывала цельность наследия Робена, один за другим отыскивала тексты и заново их публиковала (я еще напишу об этом в другой хронике). И в конце концов, в издательстве «Галлимар» согласились с тем, что, когда разойдется тираж того ужасного томика Робена «Le monde d’une voix» («Мир одного голоса») из серии «Poésie/ Gallimard», томика, составленного на скорую руку, в котором тексты кое-где были просто обрезаны, надо переиздать книгу 1940 года, добавив в нее «Fragments» («Фрагменты»), сборник, который Франсуаза подготовила для галлимаровской «Белой серии» в 1992 году. И вот когда момент переиздания настал, Андре Вельтер предпочел просто допечатать тираж того злосчастного томика, и теперь его, конечно, хватит уже на веки вечные. И вы так никогда и не прочтете книгу, которую написал Арман Робен.
Это тоже портрет Франции.
17 июня 2015 3. Армянское радио спрашивает…
Я рассказывал о том, как Арман Робен, Бодлер и Малларме переводили «Ворона» Эдгара По (см. хронику от 3 июня). То, что два поэта перевели этот текст прозой — симптоматично.
У меня такое ощущение, что сегодня вообще никто не принимает во внимание, что метрика — часть французской поэтической традиции; исключение делается только для александрийского стиха, и то с трудом… Я часто провожу занятия с молодыми актерами — и сколько из них интересовались устройством стиха? сколько было таких, кто не просто формально считал слоги (сбиваясь на элизиях и диерезах[6])? Сколько из них учитывали при чтении цезуру — естественно, как дыхание? Точно не скажу, но думаю: таких немного. А сколько найдется молодых переводчиков, способных создавать качественные стихи или хотя бы просто владеющих техникой, ведь, скажем, художникам даже в наши дни все еще положено учиться академическому рисунку, потому что, каким бы он ни казался глупым и устаревшим, какое бы недовольство ни вызывал, все-таки чтобы ему научиться, надо освоить правила: вы не сможете отходить от правил, если они вам неизвестны; так и нарушение правил, отклонения от них, благодаря которым рождается что-то новое в поэзии, нельзя придумать, не зная нормы и не замечая отступлений от нее. Слом традиции не существует сам по себе, без традиции.
* * *
Поясню: я воспроизвожу особенности стиха, скажем, Шекспира или Пушкина и, соблюдая их, пытаюсь показать преемственность, связи, переклички, например, между «Борисом Годуновым» Пушкина и «Ричардом III» Шекспира. Как я это делаю? Дело в том, что для меня французские стихи звучат не так, как их слышат французы: я слышу в них тоническое ударение и модуляцию[7]. Говорят, что во французском нет тонического ударения. Это не так: оно существует, но, во-первых, это ударение, падающее скорее не на слово, а на группу слов (с подчеркиванием последнего звучащего слога), а во-вторых, оно не играет никакой роли в традиционном стихосложении. Но у меня другое ухо, иностранное, ведь в детстве я жил в России, и я это ударение слышу.
Никто, кроме меня и всех остальных людей, говорящих по-русски, не слышит во французских стихах того, что слышу я. Но я, во-первых, не очень-то об этом беспокоюсь — убеждаю себя, что важно, только чтобы актер и читатель не могли прочесть мой текст иначе, не так, как слышу его я, и еще что совсем не важно, знает ли человек, что в его устах звучат ямб, анапест, хорей или какие-то другие размеры и как они называются. Сам я в устройстве стиха разбираюсь, это дело техники, и благодаря этому знанию у меня есть некая общая картина, ощущение, что я понимаю, как устроено все вместе (по крайней мере, надеюсь, что это так) — то есть я чувствую, как устроен не просто один конкретный стих, а как связаны между собой стихи на одной странице и внутри одной сцены, и вообще во всей пьесе. И мне хотелось бы, чтобы читатель слышал эти ритмы, пусть даже не зная, как называется какой размер, а остальное, вся техника, — это в конце концов моя профессиональная кухня, и никому, кроме меня, ее понимать не обязательно.
Те, кто бывал на моих выступлениях, знают, что, рассказывая о своей работе, я всегда вспоминаю один анекдот из серии «армянское радио спрашивает» — это вроде наших шуток о бельгийцах. Анекдот такой — и он многое объясняет:
— Можно ли построить социализм в Швейцарии?
— Можно, только зачем?
В этом анекдоте — вся моя жизнь. Технически я могу воссоздать на французском стихи Шекспира и любого другого автора, писавшего на индоевропейских языках, — серьезно, я это умею. Несмотря на то что для этого нужна многодневная, непрерывная, кропотливая работа и все движется страшно медленно, но я могу, я свое дело знаю: покажи мне, как это устроено, и я воспроизведу в точности. Только вот зачем? Зачем это делать, если эта моя работа не вписывается во французскую литературную традицию, не укладывается естественным образом в эту культуру? Зачем тратить время на переложение ямбов Шекспира, а потом Пушкина, потом, не знаю, допустим, Блока или Ахматовой, зачем воссоздавать европейскую поэзию, показывая ее как непрерывный диалог стихотворных размеров и, следовательно, человеческих жизней, исторического опыта, — если здесь, во Франции, Шекспир уже переведен прозой или верлибром? Никакого смысла в этом нет, потому что никто не понимает, ни с чего все это началось, ни к чему пришло, ни самого процесса, ни смешной, ни трагической составляющей того, что я называю «воссозданием», а на самом деле это никакое не воссоздание, а буквально пересадка дерева без корней, то есть обреченного на гибель.
Сколько раз я слышал от своих друзей, театральных режиссеров, этот вопрос: «Ну зачем ты переводишь стихами? Получается искусственно». Может быть, им хочется сказать: «получается коряво» — и это правда так, ведь когда переводишь стихами, приходится выставлять на всеобщее обозрение свои слабости — каждая мелочь тут на виду, и малейший промах становится приговором всему тексту. К тому же есть и более серьезная проблема: ведь текст, скажем, Шекспира, в моем переводе получается намного сложнее, чем в любом другом. Сложнее в том смысле, что этот текст требует внимания, он не позволяет актеру обращаться с ним свободно (по крайней мере, не сразу, не при первом прочтении).
Но есть кое-что и похуже: нечто общее, что относится ко всем современным переводам Шекспира на французский, их главное качество. Они дают прямой выход к тем чувствам, что несет в себе произведение, к его мысли, к действию. Текст не становится преградой для непосредственного восприятия пьесы, а, наоборот, помогает ему. И мы получаем современного Шекспира, сделанного под нас. Но на английском Шекспира читать очень трудно, и дело здесь даже не только в его языке — да, нам тоже нелегко читать его французского современника — Монтеня. Ведь вся риторика, вся культура, словом, вообще все у нас другое, и нужно знать, как подойти к делу. Но с Шекспиром на английском проблема не в этом — его бы может и хотели сыграть «на современный лад», но сам язык становится препятствием, и, что бы кто ни говорил, нельзя же переписывать Шекспира, так же как, например, невозможно переделывать тексты Мольера или Расина, даже если очень хочется. Поэтому по-английски Шекспир ни в коем случае не звучит «естественно».
Итак, чем я занимаюсь? Я перевожу иностранных авторов на язык, в котором нет ни малейшего интереса к иностранному стихосложению, в такой момент развития культуры, когда никто или почти никто ничего в стихосложении не понимает и никто не считает его подходящей темой для разговора — ни в театре, ни где бы то ни было еще, — и вся моя работа служит одной-единственной цели: создать как можно больше препон читателю и в результате делать вид, что так и нужно. Мало сказать, что я чувствую себя одиноким в своем деле, я продолжаю эту работу потому, что не могу иначе, я год за годом говорю сам с собой, и благодаря горстке понимающих людей, которых, вопреки первому впечатлению, становится все меньше, добавляю все новые и новые тексты, и каждый из них еще больше отдаляет меня и от моего времени, и от моего языка. И в итоге не только я сам оказываюсь все дальше от моего языка и моего времени, но и те авторы, которых я перевожу.
10 февраля 2014 Перевод: несколько основных принципов, о которых можно было бы и не говорить
Я перевожу не для того, чтобы сделать произведение французским. В переводе меня интересует как раз обратное: сделать так, чтобы наш язык, французский, показался как будто немного иностранным; привить ему такие формы, такие воспоминания, каких у него раньше не было. И чтобы по-французски эти заимствования прозвучали в полный голос, показали все свои возможности, насколько это вообще выполнимо.
В переводе французский язык должен чувствовать себя не то чтобы иностранным, — а таким, будто ему задали хорошую встряску, и он удивился: смотри-ка, оказывается, можно это сказать вот так, как еще не говорил ни один французский писатель. Да, можно. Но это же не по-французски… Да, не по-французски. А можно вообще не сравнивать ни с каким французским писателем? Да, и это можно. Что бы там ни говорили критики, я, воссоздавая жестокий стиль Достоевского, не превращаю его в Селина; я пытаюсь придумать, как бы он, на мой взгляд, написал по-французски, а писал-то он по-русски, для русских читателей, и, когда писал, плевать ему было на то, что его станут переводить.
Ни Шекспир, ни Достоевский, ни другие писатели не обязаны под нас подстраиваться? Нет, это мы должны искать к ним дорогу. Наше дело — узнать их и признать…
* * *
Не знаю, в какую эпоху живу. Не знаю, что такое современная литература. И что такое наше время? Ведь время перевода, время памяти — это не только дни или годы, это и пространство: путь от одного отражения к другому, от одного отзвука к другому. «Нет, никогда ничей я не был современник», — написал Мандельштам. И Господи, как же это правильно.
Перевод позволяет человеку выбрать, чьим современником быть. Постараться, чтобы зазвучал голос каждого автора — или то, что вам кажется его голосом. И я не желаю знать, что в современной французской поэзии нельзя всерьез писать рифмованным стихом, потому что был Рембо и так далее (хотя и в самом деле был Рембо и так далее). Я сам, когда пишу стихи, не рифмую (только сонеты пишу в рифму). Но, честно говоря, переводить Данте не терцинами, по-моему, просто бессмысленно. Я не утверждаю, что стоит только его перевести терцинами, и все, перевод удался. Я говорю, что терцины — это условие sine qua non, без которого перевод не состоится. Самое первое условие, но, само собой, далеко не единственное. И то же самое с онегинской строфой.
* * *
Вот говорю я все это — а что толку? Глас вопиющего в пустыне…
26 июля 2015 Пушкин во французских переводах Цветаевой
Я нашел текст, который написал в 1987 году, о французских переводах, сделанных Мариной Цветаевой. Перечитав его тридцать лет спустя, я понял, что, за вычетом стиля, все это я мог бы повторить и сейчас. Вот этот текст.
Для меня французские переводы Цветаевой — трагическая тема, более трагическая, чем все ее творчество, которое трагично по своей сути, как и ее судьба. Но здесь приходится говорить о полном крахе и о полном одиночестве.
Как появились эти переводы? Это одиннадцать стихотворений. Они были сделаны в 1936–1937 годах, когда в СССР отмечали сто лет со дня смерти Пушкина. Дело в том, что не только СССР, но и эмиграция чествовала Пушкина, и во Франции были устроены торжества по этому поводу — в присутствии всех писателей-эмигрантов, они собрались почти все, и ожидалось, что Поль Валери произнесет речь. Нужно было познакомить его с творчеством Пушкина: Валери, естественно, его не читал (я имею в виду стихи). И Цветаева решила, что попробует перевести на французский несколько любимых с детства стихотворений, перевести само свое детство, и не для одного Поля Валери, а вообще — для Франции. И она послала ему эти переводы. Валери, если я правильно помню, ей даже не ответил. И в 1937 году об этих стихах так никто и не узнал. (Одновременно она писала по-русски прозу: «Мой Пушкин» и «Пушкин и Пугачев»).
Я уж не знаю, откуда потом вынырнули цветаевские тексты — но знаю, что в самом начале 80-х Ефим Григорьевич Эткинд показал мне копию этих переводов (где он ее взял, мне не известно) и напечатал несколько в своей «Антологии», которую мы делали для издательства «Maspero». Потом все эти тексты вошли в книгу переводов Евы Мальре, опубликованную после ее смерти, в 1987 году, она называлась «Попытка ревности и другие стихотворения», сборник всех переводов из Цветаевой, сделанных Евой, — эта книга, словно памятник на ее могиле. Тем дело и кончилось.
А Валери не ответил Цветаевой по серьезным причинам — помимо того, что он был весьма почтенный господин, как и полагается великому французскому поэту, и просто не считал нужным отвечать каждой поэтессе, вздумавшей докучать ему своими излияниями, будь она француженка или иностранка. Но первая причина, и первое, что поражает, когда читаешь эти стихи, — это то, что Цветаева делает ошибки во французском. Например, здесь:
Poète suis et rien n’y puis, Tout m’est transport, tout m’est supplice. Ainsi le moindre des indices Est maître de mes jours et nuits [8]. ПриметыЯсно, что здесь[9] нельзя было пропускать второе «de mes». Или:
— Va toujours, cocher! — Barine! Choses vont de mal en pis. La bourrasque m’enfarine Mes deux yeux et mes esprits [10]. БесыЗдесь, конечно, только «les choses», и никак иначе. Или можно писать как угодно, но это уже будет не по-французски.
Подобные ошибки обнаруживаются почти во всех стихотворениях: можно предположить, что сама Цветаева в своей увлеченности работой просто их не замечала и рядом не оказалось человека, который бы ей помог и внимательно вычитал французские тексты; в сущности, она была совсем одна. Это и потрясает сильнее всего — ее одиночество. Рядом с ней не нашлось никого, кто мог бы подсказать ей такую простую вещь: пропуск артикля в этой строфе — не оригинальность, а ошибка. Ни одного читателя-француза, с которым она могла бы просто посоветоваться. И естественно, такая ошибка перечеркивает все стихотворение — хуже того: она дискредитирует автора.
Возьмем другой перевод — «К морю», первая строка гениальна:
Adieu, espace des espaces!..А дальше вот что:
Pour la dernière fois mon œil Voit s’étirer ta vive grâce Et s’étaler ton bel orgueil[11].«Pour la dernière fois mon œil!..» — и все насмарку![12] И дело здесь даже не в самом этом «mon œil», ведь такое выражение во французской поэзии действительно встречается — например, у Жерара де Нерваля:
Depuis, mêlée à tout comme un signe de deuil, Partout, sur quelque endroit que s’arrête mon œil, Je la vois se poser aussi, la tache noire! Le point noir[13]Прочтите вслух стихотворение, которое получилось у Цветаевой, и вы поймете, что по-французски это невозможно.
* * *
Да, ошибки во французском отпугивают читателя, но все это ерунда по сравнению с другой проблемой: переводы Цветаевой написаны стихами. А во Франции в то время почти не было переводов, сделанных с сохранением рифмы. Но Цветаева-то — из России, и, как я уже много раз говорил, в традиции русского перевода просто невозможно не воспроизводить форму стиха — тогда это вообще не перевод. Для русского переводчика это так, а для французского — нет.
К тому же Цветаева не просто переводит стихами — она воссоздает на французском русскую силлаботонику.
Если считать, что перевод должен производить впечатление максимально близкое к тому, как действует на читателя оригинал, то это новаторство, которое Цветаевой кажется совершенно естественным, — потрясающий ход. К примеру, в «Бесах» звучание оригинала, написанного хореем, волшебным образом воспроизводится в переводе — и для человека, знающего русский, этот французский перевод звучит так, словно это и есть стихотворение Пушкина. Все передано безукоризненно точно. Но французская поэзия такого стиха не знает — во французском иная просодия, и регулярность стихового ударения звучит для французского уха как навязчивый ритм, что-то механическое, будто стук колес… Поэтому по-французски такой стих невозможен. И в этом — снова одиночество Цветаевой: она одна между двух миров.
* * *
И все-таки можно ли считать этот опыт Цветаевой неудачей, тупиковым путем? В этих стихах все равно ощущается сила, богатство звука — в них есть мощь и энергия, есть блеск.
Там, где у Цветаевой безусловные удачи, кажется, что текст весь выстроен на основе звукописи: она начинает с самых верхних нот — то есть с открытых гласных («Adieu, Espace des espaces!») и находит слова, подчас весьма далекие от оригинала, но они гораздо ближе к нему, чем это бывает в «нормальном» переводе, к которому мы привыкли. Так, пушкинская строфа:
Для берегов отчизны дальной Ты покидала край чужой: В час незабвенный, в час печальный, Я долго плакал пред тобой.У Цветаевой звучит так:
Pour ton pays aux belles fables Tu reprenais la vaste mer. Peine indicible, inénarrable, J’ai tant pleuré, j’ai tant souffert![14] —и заканчивается восклицательным знаком, которого в русском оригинале нет, как нет и восклицательной интонации (вообще, восклицательный — это знак, близкий самой Цветаевой, а не Пушкину). Здесь основа стиха, если коротко, состоит в том, чтобы пройти путь от -i- (в слове «pays») к гласным -è- и -а- (которые можно считать более-менее близкими по звучанию). A «belles fables» здесь звучит, если можно так выразиться, как хиазм (симметричная фигура-перевертыш) по отношению к «vaste mer» (bElles fAbles-vAste mEr), и такой же перевертыш представляет собой сочетание «inÉnarrAble» и «j’ai tAnt souffErt». И эта система ассонансов усиливается, словно вторым голосом, симметричной системой аллитераций: перекличка согласных звуков -р- и -b-, а еще - f- и - v-, из-за которой «vaste» напоминает нам о «faste», а за «souffert» слышится «ouvert» — эти слова-отзвуки, проступающие в подтексте, делают стих крепким, а перевод — бесспорным.
Цветаева воспроизводит не только ритм и звуковую материю стиха, но и его структуру, и ямбические приливы и отливы, в которых можно отыскать жанровые истоки этого стихотворения — в данном случае, это романс.
Цветаева, как и в своих собственных русских стихах, доводит все до крайности, иногда — почти до срыва. Так в этой строфе слово «inénarrable» оправдано лишь ритмом и звуком (а значит, оправдано!), хотя оно очевидно относится к другому миру. Сюда оно вписывается с трудом, буквально втиснуто насильно, оно одновременно и звучит и не звучит — это слово Цветаевой удалось укротить.
В один миг читатель получает представление о Пушкине: да, поэт, который подви́г переводчика на такую кристальную точность звука, причем с такой легкостью, словно не затрачивая никакого труда, может быть, только… Но как его опишешь? Эпитеты здесь бесполезны — они уступают место иной очевидности: этот поэт просто есть, и больше ничего не скажешь. Другие переводы, в которых нет ошибок, натыкаются на эту стену: как перевести поэта, который не говорит ничего? «Да он банален, ваш Пушкин», — писал Флобер Тургеневу. И в самом деле, почитайте современные французские переводы из Пушкина — почти во всех сталкиваешься с худшим из грехов переводчика — банальностью.
Цветаева доказывает, если это еще нужно доказывать (а я думаю, очень даже нужно), что стихотворение нельзя перевести, не вернувшись к тому интуитивному поиску, который позволил ему сложиться из чего-то, что было до слов, — из первичной словесной материи, из их звукового поля.
Только в этом пространстве могут существовать такие формулы:
Comme j’aimais tes indolences, Tes fauves pas, tes rythmes lents, L’intensité de tes élans, L’immensité de tes silences…[15], К морюхотя в русском тексте сказано не совсем это:
Как я любил твои отзывы, Глухие звуки, бездны глас, И тишину в вечерний час И своенравные порывы!Кстати, тут Цветаева позволила себе роскошь — не поставить восклицательный знак там, где он есть у Пушкина.
В этих переводах поэт обретает буйный нрав своих предков. Мы слышим Пушкина-«африканца». Конец стихотворения «Свободы сеятель пустынный» звучит как удар кнута:
Paissez, ô foules bien heureuses! L’honneur n’est point pour les troupeaux. Le couperet et la tondeuse, Hélas, voilà ce qu’il vous faut: Le joug qui sied aux têtes creuses, Le coup de fouet qui vous tient chaud[16].И мы инстинктивно чувствуем: да, это — Пушкин. Цветаевой было достаточно отказаться от обычного для того времени стиля: чувства меры, приглушенности эмоций — ей нужно просто быть собой, чтобы перевод получился.
Compagne de mes longues veilles — O ma colombe aux cheveux blancs[17] —пишет она, переводя «Няню». И это абсолютно точно, несмотря на то что Пушкин не наделял голубку волосами. Между прочим, не так уж просто перевести это по-другому: начинаешь обдумывать это пушкинское выражение, «голубка дряхлая» — вариантов немного: ma colombe vieillie (моя постаревшая голубка) или toute vieille (старенькая голубка); здесь встречаются два века — Пушкин и Цветаева, и один говорит словами другого, точнее, оба они, по взаимному согласию, в любви и взаимопонимании, произносят смиренные слова признательности, обращенные к старенькой няне.
Вот этот перевод целиком:
Compagne de mes longues veilles — O ma colombe aux cheveux blancs! — Dans tes forêts, toujours pareilles, De lustre en lustre tu m’attends. A ta fenêtre, pleuve ou vente, Tu guettes, guettes l’attardé, Et tes aiguilles se font lentes Et glissent de tes doigts ridés. Par le portail d’antiques âges Tu vois s’enfuir le grand chemin. Tourments, pressentiments, présages Oppressent ton fidèle sein… Tu vois venir…[18]Не обращайте внимания на это «pleuve ou vente»[19], не смотрите на «d’antiques âges» (это должно было значить «d’un âge antique»)… И просто прочтите вслух. Это настоящий Пушкин, и это русские стихи на французском — звучащие так, как на самом деле должен Пушкин звучать на французском, обогащая наш язык, даря ему новые оттенки.
Но это ничего не изменило.
Примечания
1
Франсуаза Морван — переводчик, писатель, литературовед, жена А. Марковича. (Здесь и далее, кроме оговоренного случая, — прим. перев.).
(обратно)2
Уже после перестройки оказалось, что несколько человек сохранили стихи этого поэта, сегодня уцелевшие тексты опубликованы.
(обратно)3
Продолжение стихотворения по-русски таково:
Мне, безрукому, остаться С пацанами суждено, И под бомбами шататься Мне на хронику в кино. Кто скитался по Мильенке, Жрал дарма а-ля фуршет, До сих пор мы все ребенки, Тот же шкиндлик, тот же шкет. Как чаинки, вьются годы, Смерть поднимется со дна, Ты, как я, — дитя природы И прекрасен, как она. Рослый тополь в чистом поле, Что ты знаешь о войне? Нашей общей кровью полит Ты порубан на земле. И меня во чистом поле Поцелует пуля в лоб, Ветер грех ее замолит, Отпоет воздушный поп. Вот и в гроб тебя забрали, Ох, я мертвых не бужу, Только страшно мне в подвале, Я еще живой сижу. Сева, Сева, милый Сева, Сиволапая свинья… Трупы справа, трупы слева Сверху ворон, сбоку — я. (обратно)4
«Дом Мольера» — неофициальное название «Комеди Франсез» (труппа Мольера выступала в этом здании с 1661-го по 1673 год, то есть до самой смерти драматурга).
(обратно)5
Антуан Витез (1930–1990) — выдающийся французский театральный деятель, с 1988 г. до конца жизни руководил театром «Комеди Франсез».
(обратно)6
Правила, принятые при чтении стихов вслух, в частности, на французском языке. Элизия: если слово в стихе кончается на гласную, а следующее за ним начинается с гласной, то первая гласная не читается. Диереза: два гласных, стоящих в слове рядом, произносятся как два отдельных слога, если этого требует размер.
(обратно)7
Модуляция (термин Г. Шенгели) — своеобразное изменение ритма стиха, ощутимое особенно при чтении вслух, например, при сравнении строк «Адмиралтейская игла» и «Пред бунчуком и булавой» (Пушкин).
(обратно)8
Мечтанью вечному в тиши Так предаемся мы, поэты; Так суеверные приметы Согласны с чувствами души. (обратно)9
Имеется в виду словосочетание «de mes jours et nuits».
(обратно)10
«Эй, пошел, ямщик!..» — «Нет мочи: Коням, барин, тяжело; Вьюга мне слипает очи; Все дороги занесло». (обратно)11
Прощай, свободная стихия! В последний раз передо мной Ты катишь волны голубые И блещешь гордою красой.Букв.: Прощай, пространство пространств! / В последний раз мой взор / видит, как раскинулась твоя яркая красота / и как далеко простирается твоя прекрасная гордость.
(обратно)12
«Mon œil» (буквально: «мой глаз» — метонимия, заменяющая здесь «я» — по цепочке: «мои глаза», «мой взор» и просто «я») по-французски может прочитываться еще и как просторечное восклицание в значении: «как бы не так! как же! вот еще!» и, хуже того: «дудки! дожидайся! держи карман шире!». Возможность такого прочтения конфликтует с возвышенной тональностью стихотворения и сводит ее на нет. В оригинале же этого глаза (взора) — просто нет.
(обратно)13
Ср. с предыдущей строфой этого стихотворения Нерваля («Черная точка») в переводе Ю. Денисова:
Так молодость моя когда-то прямо, смело Лишь несколько секунд на Славу посмотрела — И черной точкою был помрачен мой взор. (обратно)14
Букв.: Чтобы вернуться в твою страну прекрасных сказок, / Ты отправлялась в дальний путь по морю. / Несказанная, непередаваемая боль — / Я так плакал, я так страдал!
(обратно)15
Букв.: Как я любил твое безразличие, / Твою хищную повадку, твой медленный ритм, / Силу твоих порывов, / Безмерность твоей тишины.
(обратно)16
Букв.: Паситесь, о блаженные толпы! / Честь стаду ни к чему. / Нож мясника или ножницы стригаля — / Это, увы, и все, что вам нужно. / Ярмо, подходящее для пустых голов, / И удар бича, которым вас гонят.
(обратно)17
Букв.: Спутница моих долгих бессонных ночей/ — О моя седовласая голубка…
(обратно)18
Букв.: Спутница моих долгих бессонных ночей, / О моя седовласая голубка, / В твоих лесах, которые никогда не меняются, / Давным-давно ты меня ждешь. / Ты сидишь у окна, за которым то дождь, то ветер, / Высматриваешь, караулишь своего запаздывающего, / И твои спицы двигаются медленнее, / И выскальзывают из морщинистых пальцев. / Через старинные ворота / Ты видишь, как уходит вдаль широкая дорога. / Тоска, предчувствия, предзнаменования / Сдавливают твою верную грудь… / Ты видишь, как приходит…
(обратно)19
Грамматика здесь требует «qu’il pleuve ou qu’il vente». (Прим. автора.)
(обратно)


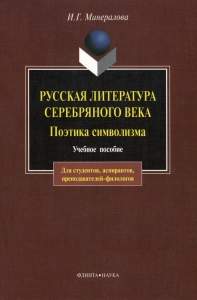


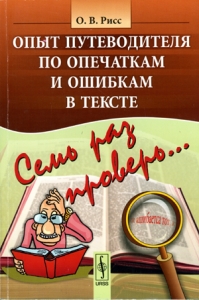
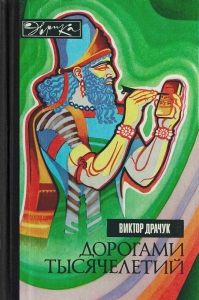
Комментарии к книге «Хроники: из дневника переводчика», Андре Маркович
Всего 0 комментариев