Набоков Владимир Эссе и стихи из журнала 'Карусель'
Сдав весной 1922 г. выпускные экзамены в Кембридже, Владимир Набоков возвращается в Берлин, посвящает иного времени литературной работе, наряду со стихами пишет прозу. Его первое крупное опубликованное в 1922 г. прозаическое сочинение — «Николка Персик» — перевод на русский язык книги Р. Роллана «Кола Брюньон». В конце 1922 г. выходит сборник стихов Набокова — «Гроздь», а в начале 1923 г. — еще один стихотворный сборник — «Горний путь». В том же 1923 г. увидел свет и другой перевод Набокова — на сей раз это была книга Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», названная Набоковым «Аня в Стране чудес». В мае 1923 г. Набоков едет на юг Франции, в имение Больё, принадлежавшее Соломону Крыму — другу его отца. Там он работает на фруктовых плантациях, пишет стихи и стихотворные драмы, а осенью возвращается в Берлин, где сотрудничает с Иваном Лукашом — они готовят драматический монолог, призванный служить вступлением к симфонии композитора-эмигранта В. Ф. Якобсона.
В 1922 г. в Берлине, на Курфюрстендамм, открылось русское кабаре од названием «Карусель». Директором его был Борис Эвелинов. Это кабаре издавало тонкий журнал-программу на трех языках: немецком («Karussel»), французском («Carousal») и английском («Carrousel»). Журнал носил рекламный характер, состоял из коротких эссе, стихов, фотографий отдельных сцен из программы кабаре, рисунков костюмов участников представления, иллюстраций к эссе.
На одном из экземпляров «Карусели» есть дарственная надпись Бориса Эвелинова редактрисе газеты «Телеграф», написанная по-французски; датирована надпись октябрем 1923 г. В ней он пишет: «[…] жизнь — это большая карусель. То же мы наблюдаем в искусстве. Мы — изгнанники, всегда в дороге, как „вечный жид“, […] но все-таки мы остаемся верными нашей настоящей любви — нашему искусству Пусть это — скромное искусство, […] пусть оно наивно и просто».
В журнале сотрудничали художники Г. Пожидаев, К. Богуславская, Р. Арто и друге. Целью журнала было пробудить интерес зрителя к русским народным традициям, и русской культуре и искусству. В 1923 г., во втором номере этого журнала (английском его варианте) были опубликованы стихотворение Набокова «Русская песня» («The Russian Song», под псевдонимом Vladimir Sirine) и два его эссе. Одно называлось «Смех и мечты» («Laughter and Dreams» за подписью Vladimir V. Nabokoff), другое — «Расписное дерево» («Painted Wood», подписанное V. Cantaboff).
Биограф Набокова — новозеландский ученый Брайен Бойд — считает эти эссе первым образцом использования Набоковым английской прозы в художественных целях. [1]
Н. И. Толстая
Смех и мечты
Искусство — это вечное чудо, чародей, умеющий сложить два и два так, чтобы получилось пять, или миллион, или одна из тех огромных блестящих цифр, что слепят и преследуют разум, корчащийся в бреду математического кошмара. Искусство берет простой земной предмет и лепит его, придавая удивительную форму, затем накладывает краску и делает из флорентийских цветочниц Мадонн, превращает негромкое пение птиц и ручейков в великолепную симфонию, Избитые слова, наши мелочные заботы и мечты становятся волшебными на сцене, когда Искусство, этот прихотливый чародей, трогает помадой губы жизни. Ибо Искусство знает, что нет ничего на свете простого или абсурдного или уродливого, что не может, при определенном освещении, стать прекрасным, и Русское Искусство — среди всех прочих — с особым успехом это доказывает.
Говоря так, я не имею в виду писателей типа Гоголя, этого гения гротеска, проникшего в тайну высокой комедии в грязной луже унылого городишки или в обрюзгшей физиономии провинциального чиновника; у меня и в мыслях нет рассуждать о мрачных блужданиях Достоевского среди извращений и безумств, Мне хочется поговорить о некой побочной сценической ветке.
Русская душа обладает способностью вдохнуть собственную жизнь в те различные формы Искусства, которые она встречает у других народов; случилось так, что французское кабаре (место встреч поэтов, актеров и художников) приобрело в России ярко выраженный национальный оттенок, не утратив при этом своей легкости и блеска. Фольклор, песня и игрушка волшебным образом были вызваны к новой жизни, напомнив мне те покрытые лаком и разрисованные яркими красками фигурки, которые ассоциируются у меня с первыми голубыми днями русской весны.
Я отлично помню те дни, тот веселый праздник — «Вербу» с его живой, трепетной земной радостью, Из деревни привозят в город пушистую, жемчужно-серую вербу и продают ее пучками на бульваре, по обеим сторонам которого тянутся деревянные прилавки, построенные по случаю вербного базара. Между ними движется бесконечный поток покупателей, и глянцевитая лиловая слякоть под их ногами усеяна просыпавшимся конфетти. Уличные торговцы в фартуках наперебой предлагают свой товар: матерчатых чертиков и красные пищалки — раздуешь их, и они издают особенный тонкий писк; стеклянные трубки, наполненные подкрашенным спиртом, в которых танцует бутылочно-зеленый чертик, стоит лишь нажать на резиновую грушу, которой заканчивается трубка. А на прилавках, под капель сверкающих на мартовском солнце коричневых берез, чего только не увидишь! Тут и вафли с кремом, восточные сладости, золотые рыбки, канарейки, искусственные хризантемы, чучела белок, пестро вышитые рубахи, пояса, платки, гармоники, балалайки и игрушки, игрушки, игрушки без конца… Среди моих любимых — набор из дюжины пустотелых деревянных «баб», каждая размером чуть меньше следующей, так что их можно вставлять друг в дружку.
Мне особенно нравилась игрушка, представлявшая собой две резные деревянные фигурки — медведя и мужика. Они по очереди били молотом по наковальне. Были там и занятные, ярко расписанные пузатые куклы, в которые был вставлен кусочек свинца, так что ни за что на свете нельзя было их удержать в лежачем положении: качающимся, проворным движением они выпрямлялись снова и снова… И над всем этим светилось блестящее голубое небо, и влажные крыши сияли, как зеркала, и золотой перезвон церковных колоколов смешивался с пронзительными криками вербного базара.
Этот мир игрушек, красок и смеха — или, вернее, сгущенное впечатление от этого мира, как по волшебству, ожило на сцене русского кабаре. Я заговорил о «Вербе» лишь для того, чтоб показать, чтo я понимаю под романтикой русского фольклора, воплощенной в ярких, привлекательных деревянных игрушках. В них вдохнули жизнь и заставили плясать на сцене, Искусство раскрыло самую душу их сверкающих оттенков. Но это еще не все. Есть иная, глубинная красота, иное очарование в сокровенной сути России; оно передается с помощью искусства, — ведь кабаре в сущности разновидность искусства, выражение разнообразных настроений — смеха и мечты, солнечного света и сумерек. И если русские головные уборы и церковные купола расцвечены на удивление ярко, то есть и другая сторона русской души, которую в живописи выразил Левитан, в поэзии — Пушкин и другие поэты, Это тот смутный, печальный распев народных песен, «нежнейший на земле», как определил его один английский поэт. Они звучат, эти песни, на безлюдных дорогах, на закате солнца, вдоль берегов больших рек. И есть еще странное очарование бледной северной ночи, когда она скользит, подобно призраку, по воображаемому городу. И быть может, глубже, чем что-либо иное, звучит здесь мелодия цыганской любви с ее таинственной силой страсти.
Это заставляет зрителя то смеяться, то мечтать. Деревянные солдатики, румяные куклы, мужики, похожие на бородатые самовары, танцуя, проходят перед его глазами, а затем бледнолицый романс захватывает вас словами о бессонных ночах и далеких странах.
А что есть сама жизнь, как не то же кабаре, где слезы и улыбки сплетаются в одну чудесную многоцветную ткань.
Владимир В. Набокофф
Расписное дерево
Японские бабочки, эти пленительные хвостатые создания, чьи крылышки с тонко прочерченными жилками, словно обрызганные переливчатыми красками, всегда кажутся слетевшими с японских вееров или ширм, подобно сизому вулкану в этой стране, который обречен повторять свой образ, нарисованный карандашом. И есть что-то такое в толстых маленьких бронзовых идолах, в их мягких, округлых формах и восточной пухлости, что при виде их сразу вспоминаются рыбы — эти мерцающие духи тропических морей, грезящие в радужной дымке, поводя круглыми глазами, пристально рассматривая все вокруг. Искусство сопрягается с природой столь удивительным путем, что трудно сказать — то ли закаты создали Клода Лоррена, то ли Клод Лоррен создал закаты. Меня так же поражает связь между русскими деревянными игрушками и влажными грибами и ягодами, которые в изобилии водятся в густой чаще северных лесов. Мне так и видится русский крестьянин, бессознательно впитывающий их лиловые, синие, алые тона, а затем вспоминающий о них, когда он вырезает и расписывает игрушку для своего ребенка.
Я где-то читал, что несколько веков тому назад в русских лесах водилось множество разновидностей фазанов, они сохранились до нашего времени в народных сказках в виде Жар-птицы, а также передали кое-что из своих ярких красок замысловатым украшениям на крышах деревенских домов. Эта чудо-птица произвела такое впечатление на народное воображение, что ее золотое трепетанье стало истинной душой русского народа; мистицизм обратил серафима в длиннохвостую птицу с рубиновыми глазами, золотыми когтями и необыкновенными крыльями, и ни один народ на земле не любит так страстно павлиньи перья и флюгера-петушки.
Клюква, красные грибы и исчезнувшие ныне фазаны объединились, чтобы создать самый веселый вид искусства. При своем зарождении оно, вероятно, носило черты гениальности, подобные тем, что мы усматриваем в изысканных изображениях животных, оставленных нам доисторическим художником на стенах его пещеры — пещеры, открытой в южной части Франции. А сравните тех скачущих оленей и рыжих буйволов, изящно нарисованных охрой, черной и алой красками, сравните их с банальными животными в современных книжках с картинками! Тот подвид homo sapiens'а знал, как осчастливить свое семейство.
То же самое произошло и с национальным русским искусством. Год за годом, на протяжении нескольких поколений мужик вырезал и расписывал куклы, шкатулки, чашки и сотни других вещиц, пока, в конце концов, первоначальный образ, который смеялся и сверкал в его мозгу, не начал гаснуть и отдаляться, потому что он счел ненужным поддерживать огонь своего вдохновения, коль скоро ему надо было только копировать труд своих предшественников. И жизнь покинула его искусство, оставив лишь волнистые линии и углы на ярко расписанном дереве. Стало чем-то вроде дурного вкуса украшать свои дома в национальном, или «петушином» стиле, как с презрительной усмешкой называли его. Высмеивались русские наряды, вышитые платки, пояса, бусы, высокие сапоги и тому подобное. Русские дети предпочитали теперь играть с мишкой или черной лупоглазой куклой-растрепкой и с заводной железной дорогой, а не с глупыми маленькими деревянными игрушками с подкрашенными глазами; никому и в голову не приходило держать папиросы или вышивание в шкатулке с изображением тройки на крышке, за которую англичанин охотно бы выложил несколько фунтов: да, столь разительна была перемена!
Но вот внезапно подул чудодейственный ветер, веселый и бодрящий, он заставил солнце подпрыгнуть, поднял в воздух сухие листья и превратил их в маленьких ярких птичек… Проснулись деревянные игрушки и умершие герои русских сказок, потянулись и — глядите! — они снова здесь, они смеются, танцуют, блестящие и новехонькие. Человек, бредущий по улицам большого города с сырыми каменными домами, внезапно натыкается на вывеску их нового жилища — «Русский Театр Кабаре». А если он войдет внутрь, то обнаружит там кружащиеся в вихре чудеса неведомого ему искусства. Чудеса для него, но не для нас. Мы устали от наших игрушек, они не воплощают собою истинно русскую Идею. Стоя за кулисами, мы подмигиваем друг другу, пока иностранец впивает восхитительный обман. Впрочем, искусство всегда чуточку лукавит, а русское искусство — в особенности.
Если взять все это во внимание, то не удивительно, что для жителей других стран столь притягательны наши деревянные куклы, оживающие на сцене. Парижские кабаре могут предложить вам длинноволосых поэтов в бархатных пиджаках, которые декламируют красивые стихи о кошках, попугаях и тропических странах; Италия больше преуспевает по части серенад и concetti [2]; Германия разражается смехом, слыша пустой, грубоватый юмор. Но Русское Кабаре — оно одно способно превратить самые безумные мечты в действительность, способно открыть перед вами ошеломляющие дали, полные танцующих гротесковых фигур.
В. Кантабофф
Перевод с английского Н. И. Толстой
The Russian Song Русская песня
I dream of simple tender things: Мне колокольцев снится звон
a moonlit road and tinkling bells. тосклива песня ямщика,
Ah. drearily the coachboy sings, дорогой лунной мчится он…
but sadness into beauty swells; О, как сладка его тоска!
swells, and is lost in moonlight dim… Со вздохом умолкает вдруг,
the singer sighs, and then the moon и песня падает во тьму,
full gently passes back to him но недопетой песни звук
the quivering, unfinished tune. луна несет вослед ему
In distant lands, on hill and plain, О той далекой стороне
thus do I dream, when nights are long, — я вижу сны во тьме ночной,
and memory gives back again и возвращает память мне
the whisper of that long-lost song. далекий отзвук песни той.
Vladimir Sirine Владимир Сирин
Перевод с английского Сергея Степанова
Примечания
1
B. Boyd Vladimir Nabokov. The Russian Years. London, 1990, р. 218.
(обратно)2
Вычурные метафоры (ит.).
(обратно)

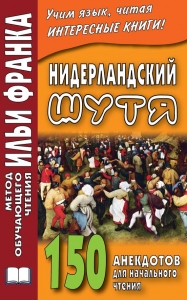

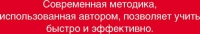


Комментарии к книге «Эссе и стихи из журнала «Карусель»», Владимир Владимирович Набоков
Всего 0 комментариев