Владимир Алпатов Языкознание От Аристотеля до компьютерной лингвистики
Введение
В течение многих лет, которые я занимаюсь лингвистикой, мне не раз приходилось сталкиваться с тем, что большинство людей, даже высокообразованных, не представляют, чем занимаются специалисты в этой области. Не говорю уже о том, что сейчас (вероятно, под влиянием английского языка) многие стали приравнивать слово лингвистика к «изучению иностранных языков» (в Москве Педагогический институт иностранных языков для солидности назвали Лингвистическим университетом, хотя он продолжает готовить не столько лингвистов, сколько преподавателей языков и переводчиков). Но и те, кто в курсе того, что существует такая наука, нередко не очень понимают ее предназначение. Лингвистика часто кажется наукой, оторванной от практических забот, служащей исключительно для удовлетворения человеческого любопытства, или даже интеллектуальной игрой. Но, вероятно, все науки выросли из тех или иных практических потребностей людей. Да и сейчас лингвистика имеет немало прикладных применений, о которых я буду еще говорить. И даже исследования, прямо не связанные с практикой, могут помочь людям понять, что такое человек, как он связан с окружающим миром и как люди общаются между собой.
Обо всём этом хочется по мере сил рассказать в этой книге. Данное сочинение — не учебное пособие, рассчитанное на школьников и студентов. Моя задача — рассказать о языкознании (или лингвистике) людям, которые ей специально не занимаются; здесь я во многом опирался на курс истории лингвистических учений, который читаю уже более 20 лет в МГУ и РГГУ. При этом мне приходится не только пересказывать более или менее общепринятые идеи и концепции, но и обсуждать дискуссионные проблемы, где я не могу не высказывать личную точку зрения. Я старался по возможности охватить все наиболее существенные, на мой взгляд, проблемы науки о языке, рассмотреть ее прошлое и настоящее, но, разумеется, трудно сохранять при этом необходимый баланс между теми или иными областями лингвистики. Возможно, и у меня есть «перекосы» в ту или иную сторону. Кроме того, в наибольшей степени я затрагиваю изучение общих проблем науки о языке, объем работы не позволил мне в должной мере осветить развитие частных областей этой науки, изучающих конкретные языки или группы языков.
Для тех, кто хочет более подробно познакомиться с теми или иными затрагиваемыми здесь проблемами, я даю список наиболее существенной литературы на русском языке.
Я выражаю благодарность С. Д. Серебряному, подавшему мне идею написания такой работы, и В. А. Плунгяну, высказавшему ряд полезных критических замечаний.
1 Зачем надо изучать языки
Наука, о которой здесь пойдет речь, имеет три названия: лингвистика, языкознание и языковедение. Все три названия равнозначны, хотя слово «языковедение» сейчас стало несколько устаревшим, и все они обозначают науку, изучающую человеческий язык; такое определение общепризнанно.
Но зачем вообще надо изучать язык, если люди бессознательно овладевают своим языком (реже сразу двумя или тремя языками) в раннем детстве? Как писал замечательный отечественный ученый Евгений Дмитриевич Поливанов (1891–1938), «родной язык выучивается (в основных своих элементах) в том возрасте, для которого не существует декретов и циркуляров». Потом человек может прожить всю жизнь, не замечая свой язык и пользуясь им автоматически. О языке обычно вспоминают лишь тогда, когда процесс общения (коммуникации) оказывается затруднен. Бывает, что слышишь слово и не знаешь, что оно значит. Или, наоборот, хочешь что-то сказать и не знаешь, какие слова употребить. Мне однажды пришлось видеть, как целая группа японских туристов, увидев редких для Японии животных, несколько минут не могла сдвинуться с места, вспоминая, как они называются. Все были в полном замешательстве. И сколько было радости, когда один вспомнил: яги. Встречаются и еще более трудные ситуации, когда с собеседником не находится общего языка в самом буквальном смысле. Издавна люди сталкивались с нежелательным для них явлением множества языков, делались попытки объяснения его истоков вроде известного библейского мифа о Вавилонской башне. Но само по себе существование «чужих» языков, пожалуй, нигде не привело к формированию науки о языке. В случае необходимости язык соседей или завоевателей выучивался столь же стихийно, как и материнский язык (хотя обычно не во всех своих деталях, о чём мы еще поговорим). А многие люди, жившие традиционной жизнью, просто не знали о существовании других языков или игнорировали их. Русское слово немец или греческое варвар (буквально «бормочущий») появились в среде тех, для кого существует только один — «наш» — язык.
Со временем в жизни людей появилось новое явление, потребовавшее обратить внимание на язык: возникли разные системы письма. В отличие от устного языка, письменный язык может выучиваться только сознательно. Появились школы и учителя, обучавшие письму (первоначальным значением слова грамматика в Древней Греции было «обучение буквам»). А само формирование письменностей уже требовало определенных размышлений над устройством языка. Если письмо иероглифическое, то надо было как-то осмыслять и строение, и значение знаков. Если письмо фонетическое (алфавитное), то оно должно было основываться на тех или иных представлениях о звуках языка. Когда в начале ХХ в. сформировалась фонология — наука о лингвистической роли звуковых единиц (о ней будет говориться специально), то не раз ученые указывали, что первыми, еще стихийными фонологами были создатели алфавитов. Однако в то время такие спонтанные представления еще не получили выражения в каких-либо текстах, а обучение чтению и письму считалось скорее ремеслом, чем наукой или искусством. В ряде древних культур, где существовала письменность, не сложились развитые лингвистические традиции (по крайней мере, мы ничего о них не знаем). Так было, например, в Древнем Египте.
Традиции изучения языка сложились прежде всего в связи с появлением особых языков культуры, которым надо было учиться. Языки формировались в разное время и могли иметь разные свойства (например, одни были в первую очередь языками религии, другие имели и светское использование), но между ними было определенное сходство. Прежде всего, они получали ту или иную обработку и норму. Примерами языков культуры могут служить древнегреческий, латинский, санскрит, классический арабский, древнееврейский, церковно-славянский, вэньянь в Китае и сопредельных странах. Эти языки имели вненациональный характер и обслуживали целые культурные ареалы, часто связанные с определенной религией. Лишь иногда в силу особых причин язык культуры обслуживал только один народ; так произошло в обособленной морями Японии, где язык культуры (бунго) не вышел за пределы Японских островов.
Если язык культуры не слишком отличен от разговорного, то обучаться ему можно было и стихийно, через подражание речи «хороших» писателей и ораторов (здесь и дальше, говоря о речи или тексте, я буду иметь в виду и письменную, и устную реализацию языка). В классической Древней Греции философы очень интересно размышляли о природе языка или его происхождении, но эти размышления не породили каких-либо развитых способов работы с конкретным языковым материалом. Иное дело, когда языку культуры надо учиться «с нуля». Важно подчеркнуть, что такое обучение не осознавалось так же, как сейчас в основном осознается обучение иностранным языкам. Латынь для средневекового немца или язык Корана для современного мусульманина независимо от национальности — «свой» язык, только самый «высокий» его вариант. Чтобы эффективно учить такому языку, надо было предварительно его описать. И показательно, что греческая традиция изучения языка сложилась не в классический период, когда по-гречески говорили и писали в основном греки, а в эпоху эллинизма, когда после походов Александра Македонского (конец IV в. до н. э.) греческий язык (койне) стал языком культуры на обширных территориях. И центром формирования этой традиции стала Александрия в Египте. Также и арабская традиция сложилась в VIII в., вскоре после образования Арабского халифата. Ее центром стали не исконные области жизни арабов, а территория современного Ирака, где арабский язык должно было осваивать население иного происхождения, главным образом ираноязычное. Бывало и так, что свой язык культуры постепенно стал значительно отличаться от разговорного языка. Так произошло в Японии, где к XVII–XVIII вв. собственный язык культуры (бунго), основанный на том, как говорили при императорском дворе в Киото в IX–XII вв., уже настолько разошелся с разговорным языком, что его надо было специально учить и изучать. И лишь в это время появилась самостоятельная японская лингвистическая традиция, по-видимому самая поздняя из существующих.
Особая ситуация сложилась в Китае и других странах китайского культурного ареала (куда первоначально входила и Япония). Изучение вэньяня, не имевшего устного функционирования, было неотделимо от изучения письма, основанного на иероглифике. На первом этапе развития китайская традиция (которая сложилась на рубеже новой эры) связывалась исключительно с изучением иероглифов. Позже, однако, в Китае стали изучать и звуки.
Могли быть и другие причины формирования лингвистических традиций. В Древней Индии языку культуры санскриту тоже надо было специально учиться. Но очень важной представлялась и иная задача: правильного построения ритуальных текстов. С высшими существами надо было говорить по определенным правилам, иначе коммуникация не состоится. И самая замечательная грамматика санскрита — грамматика Панини (около IV в. до н. э.) — создавалась для этих целей. В других традициях такие задачи могли не стоять или стоять иначе. Так, в Европе риторика — наука о построении «хороших» текстов (в основном светских) — была отделена от грамматики, опиралась на ее результаты, но основывалась на иных, менее строгих правилах.
На развитие многих традиций повлияла такая задача, существенная для многих народов, как стихосложение. В разных традициях правила сочинения стихов могли по-разному влиять на изучение фонетики, особенно ударений, а иногда и грамматики. Вот один пример. В Японии существовал поэтический жанр рэнга, где один автор начинал предложение, другой заканчивал его и начинал другое предложение, третий (или опять первый) продолжал, и так далее — текст мог быть сколь угодно длинным. Но в бунго существовало правило (не сохранившееся в современном языке), согласно которому главное сказуемое (которым в японском языке всегда заканчивается предложение) должно согласоваться с теми или иными частицами, употребленными перед этим в предложении. Поэтому, чтобы закончить предложение, форму сказуемого надо было согласовать с ранее употребленной другим человеком частицей. И из такого вроде бы искусственного приема в Японии выросло учение о глагольном спряжении.
Еще одна причина — филологическая, текстологическая деятельность. Тексты на языке культуры из-за временно́й дистанции уже довольно сложно понять точно, их надо толковать. Уже в Александрии толковали Гомера, жившего на несколько веков раньше, но филология становится наиболее важной на более поздних этапах развития традиций, когда накапливается большое количество не вполне понятных текстов. Так было и в Китае, и в Японии, а в Европе такой процесс вышел на первый план начиная с эпохи Возрождения (XV–XVI вв.). В течение нескольких веков языкознание (как и литературоведение) рассматривалось как часть филологии, что до сих пор у нас по традиции сохранилось в номенклатуре ученых степеней и в выделении в университетах единых филологических факультетов.
2 Как описывать язык культуры?
Вернемся на ранние этапы развития лингвистических традиций. С самого начала отметим, что исходная практическая задача определяла подход к языку. Грамматика Панини очень непохожа на сочинения древнегреческих и римских грамматистов, хотя строй санскрита не так уж отличается от строя древнегреческого и латинского языков. Но на особенности традиции мог оказывать влияние и строй соответствующего языка культуры. Японская традиция отделилась от китайской прежде всего потому, что строй японского и китайского языков очень различен.
Если задача состоит в построении правильных текстов, то естественный путь заключается в выработке правил их конструирования из исходных единиц. В грамматике Панини и аналогичных индийских грамматиках имеется набор первичных элементов — корней и аффиксов, который должен быть по возможности исчерпывающим; далее формулируются правила, действующие для тех или иных классов элементов. Эти правила из первичных элементов формируют слова, а из слов — предложения. В результате применения правил получаются правильные высказывания. Особо формулируются также фонетические правила. Такой путь исключает обсуждение вопроса о норме: соответствует норме то и только то, что получено в результате применения правил; во многом Панини считается создателем санскритской нормы. Таким образом, индийская традиция пошла по пути синтеза, построения целого из частей, а не по пути анализа. Этот подход моделирует деятельность говорящего человека, который из смысловых «блоков» строит тексты. Еще одна особенность индийской традиции заключалась в том, что в связи с принятыми там культурными установками она была устной (что довольно трудно себе представить европейцу). Грамматика Панини была сочинена устно и передавалась (а иногда передается до сих пор) через заучивание от учителя к ученику; хотя сейчас, разумеется, существуют и ее издания и даже перевод на английский язык (на русский язык переведена созданная под влиянием Панини грамматика Патанджали). Все иные известные нам традиции были целиком или преимущественно письменными. Устное функционирование индийских грамматик, которые надо было заучивать наизусть, требовало очень большой краткости, компактности и строгости изложения, в этом отношении они и сейчас остаются непревзойденным образцом. Там же, где сочинения о языке писали, они могли быть очень длинными, иногда многотомными.
Если задача состояла в обучении уже существующему языку, обладающему набором текстов, то традиции шли не по пути синтеза, а по пути анализа. Для них набор правильных текстов — не конечный результат, а исходный материал. Задача состоит в другом: разделить тексты на части, приписать этим частям тот или иной смысл и дать их классификацию. То есть моделируется не деятельность говорящего, а деятельность слушающего человека, который извлекает из текстов смысл. Этим путем пошли и в арабском мире, и в Китае, в Японии и в Европе.
Европейская традиция, как говорилось выше, впервые сформировалась в Александрии в III–II вв. до н. э. Первым дошедшим до нас трудом стала грамматика Дионисия Фракийца (II в. до н. э.). Уже в I в. до н. э. эта традиция перешла от греков к римлянам, которые приспособили ее к латинскому языку. Затем традиция параллельно развивалась в течение многих веков в двух вариантах; уже в Средние века от них иногда отпочковывались особые варианты, как это было в православном славянском мире, где описывался церковно-славянский язык.
На основе никогда не прерывавшейся греко-римской традиции постепенно была создана наука о языке, иногда с добавлением каких-то черт других традиций (один пример будет приведен ниже). В XIX–XX вв., когда в этой науке появились строгие методы работы с материалом, всё сделанное в предыдущие столетия стало рассматриваться как нечто «донаучное», в лучшем случае как «предыстория» «настоящей науки». Однако такой подход многое упрощает.
Если сравнить лингвистику с другими гуманитарными науками, то бросается в глаза одна ее особенность. В ряде наук в течение веков менялись представления и о самом их предмете, и об их задачах и целях. Но если мы сравним грамматику Дионисия Фракийца и современный школьный учебник русского языка, то обнаружим много общего. Сходна сама задача — научить правильному языку. Сходно понимание языка — как некоторой системы правил, извлекаемой из множества уже существующих, а не конструируемых автором текстов. Сходно выделение основных изучаемых областей языка: фонетика, морфология, синтаксис (они и изучаются в этом порядке); при этом основное внимание там и там уделяется грамматике. Сходны многие основные понятия и термины (русские термины часто представляют собой кальки с древних языков): звук, гласный звук, согласный звук, слово, предложение, часть речи, глагол, наречие, местоимение, падеж, лицо, наклонение, залог и т. д. Некоторые из них появились даже до Александрии; например, первым выделил части речи Аристотель в IV в. до н. э. Лишьсинтаксическая терминология современного учебника отсутствовала в александрийский период и появилась намного позже. Но и она разработана еще в XIII–XVI вв. Также в античности еще не было представления о значимых частях слова — корне, суффиксе и т. д. Но и оно появилось в XVI–XVII вв.
Конечно, задачи современной лингвистики гораздо шире и многообразнее задач, стоявших перед александрийскими грамматистами. Ясно, что прикладных задач становится всё больше с развитием культуры и науки. Скажем, до недавнего времени не надо было думать об общении человека и машины. Но появление новых задач не отменяет старые. Существеннее то, что современная наука о языке больше не сводится к решению практических задач вроде обучения языку и поддержания языковой нормы. Лингвистика уже несколько веков развивается в первую очередь как «чистая» наука, независимая от практики (хотя практические задачи не раз стимулировали развитие тех или иных идей и методов, а эти идеи и методы затем помогали практике). Однако и процесс отделения науки от чисто практических проблем начался достаточно давно. Даже если отвлечься от рассуждений древнегреческих философов, то уже «философские грамматики» схоластов XIII–XIV вв. относились к «чистой» науке.
Перечисленные выше привычные свойства учебника свойственны и многим научным сочинениям нашего времени, хотя не все из них столь общеприняты сейчас, как, скажем, сто лет назад. Аналитический подход к описанию языка, который наш выдающийся ученый, академик Лев Владимирович Щерба (1880–1944), называл пассивной грамматикой, а Игорь Александрович Мельчук в 1960-е гг. — путем от текста к смыслу, сейчас уже не считается единственно возможным. Однако он явно преобладает в описаниях конкретных языков. Почему, понятно: тексты нам даны, а смыслы нам еще надо предварительно выявить. Грамматика оставалась центральным разделом науки о языке до XIX в., потом на первый план стало выходить изучение звуковой стороны языка (сначала историческая фонетика, затем фонология). Сейчас в теоретической науке наблюдается новый перенос центра внимания на грамматику, только уже не на морфологию, как когда-то, а на синтаксис. Однако если обратиться к конкретным описаниям языков, то и в наши дни чаще всего основную часть их объема занимает грамматика, а в России особенно морфология. И в настоящее время «описание языка» и «грамматика языка» часто выступают как синонимы. Порядок рассмотрения в современных грамматиках и сейчас обычно соответствует античному: фонетика (теперь чаще фонология) — морфология — синтаксис, хотя он уже и не единственно возможный. Традиционное понятие звука сменилось еще в первой половине ХХ в. понятием фонемы, но, по сути, оно скорее уточняет традиционные представления о звуках, чем предлагает что-либо принципиально новое. Классификация звуков стала более детальной, но противопоставление гласных и согласных остается основополагающим. Попытки обойтись без понятия слова с ХХ в. иногда встречаются, но всё же не преобладают, особенно в России. Современные концепции частей речи и грамматических категорий значительно ушли вперед по сравнению с античностью, но строятся на базе понятий, выработанных еще тогда. То же относится и к появившейся уже в позднее средневековье концепции членов предложения.
Все эти привычные для нас свойства лингвистики, так или иначе восходящие к античности или средневековью, вовсе не могут считаться универсальными, что показывают иные лингвистические традиции. О синтетическом подходе индийцев (пути от смысла к тексту; активной грамматики, по Щербе) говорилось выше. Китайская традиция до ее европеизации в конце XIX в. не знала грамматики, основным видом описания в ней был словарь (но японская традиция должна была независимо от китайского влияния самостоятельно строить грамматику). Арабская традиция шла не от морфологии к синтаксису, а в обратном направлении. В Китае и Японии до знакомства с европейской наукой не было понятия, соответствующего звуку (фонеме): в Китае основной фонетической единицей был слог, а в Японии — единица, промежуточная между звуком и слогом (примерно то, что у античных авторов называлось морой). В арабской традиции выделялись согласные звуки, но гласные не рассматривались как отдельные сущности. Единица, соответствующая слову, по-видимому, существовала во всех традициях (к этому вопросу я еще вернусь), но свойства этих единиц могли быть различными. Например, в китайской традиции слова совпадали с корнями и соответствующие понятия не различались. Кроме того, в ней были всего две части речи: «полные слова» и «пустые слова», что примерно соответствует знаменательным и служебным словам, но не выделялись даже имена и глаголы. Отмечу еще одно явление, на котором подробнее остановлюсь дальше: современная англоязычная или франкоязычная лингвистика отошла от идей Дионисия Фракийца больше, чем российское языкознание; по-видимому, это связано с тем, что строй русского языка изменился по сравнению с классическими языками не так значительно.
Оказывается, многие привычные для нас свойства науки о языке обусловлены тем, как описывали язык еще в Александрии и Риме последних веков до новой эры. Во многом они предопределены, помимо свойств античной культуры, особенностями структуры древнегреческого (и близкого к нему по строю латинского) языка. Чем дальше язык по строю от этих языков, тем менее соответствующая традиция походила на европейскую. Дальше всего из языков культуры, ставших основными языками традиций, от древнегреческого и латинского языков отстоял китайский вэньянь, поэтому китайская традиция не похожа на европейскую более всего. Еще более эти две традиции отделяет друг от друга различие между иероглифической и фонетической письменностью. А в Европе существуют разные национальные варианты некогда общей традиции, отражающие тот или иной строй соответствующего языка.
3 Как развивалась лингвистика
Итак, преемственность между очень древними свойствами европейской традиции и свойствами современной (уже ставшей интернациональной) науки о языке несомненна. Вряд ли, скажем, в современной исторической науке столь много сохранилось от Геродота и Фукидида и даже от Карамзина. Разумеется, за два тысячелетия, особенно за два последних столетия, в лингвистике появилось много нового, о чём дальше будет говориться. Но общая линия непрерывного развития прослеживается. Заметим, что и другие традиции могли как-то вносить свой вклад в общее развитие лингвистики. Например, появление лишь в Новое время в Европе понятий корня и аффикса, по-видимому, связано с влиянием арабской и еврейской традиций, где они были давно; в Европе эти понятия впервые фиксируются в древнееврейской грамматике немецкого ученого Рейхлина (1506).
Развитие науки о языке нельзя рассматривать как однолинейный процесс постоянного движения вверх. Широко известный образ спирали как метафоры научного развития очень хорошо подходит к лингвистике. В разные эпохи на первый план выходили то одни, то другие проблемы. Приведу лишь несколько примеров.
Исконно все традиции, включая европейскую, изучали язык как неизменное явление. Обычно считалось, что язык либо дарован человеку высшими силами, либо (как в Библии) создан человеком под руководством тех же высших сил. Такой язык нельзя развивать или совершенствовать, можно лишь забывать или портить. И долго все изменения языка рассматривались как «порча», а наиболее авторитетными считались самые старые памятники. Такой взгляд не менялся до установления в науке о языке идеи историзма, которое произошло в XVIII в. Весь XIX в. научная лингвистика считалась исторической наукой, а изучение современных языков, разумеется не прекращаясь, считалось скорее практической, чем научной задачей, недостойной университетских профессоров. Эти языки в основном описывали либо педагоги, авторы гимназических учебников и нормативных словарей (если речь шла о языках «культурных народов»), либо миссионеры или чиновники колониальной администрации (если речь шла об «экзотических» языках); исключения были очень редкими.
Но в начале ХХ в., особенно после появления в 1916 г. знаменитого «Курса общей лингвистики» швейцарского ученого Фердинанда де Соссюра (1857–1913), изданного уже после смерти автора, приоритеты изменились. Системное изучение языков без обращения к истории (синхронное, по терминологии Соссюра), прежде всего в их современном состоянии, стало рассматриваться как основная задача лингвистики, а исторические штудии ушли на второй план. Так было в структурной лингвистике, расцвет которой пришелся на 1920–1960-е гг. Это сохранилось и в пришедшей ей на смену генеративной лингвистике, созданной не менее знаменитым, чем Соссюр, американским ученым Ноамом Хомским в 1950–1960-е гг. Он посчитал, что «внутри вида[1], как представляется, никакой изменчивости нет…. Речь идет о единообразной системе, а значит, со времени ее появления никакой значительной эволюции не было». То есть в языковой истории было лишь одно значительное событие — появление языка, а с тех пор «единообразная система» принципиально не менялась.
В настоящее время в науку возвращается отвергнутая многими столетие назад идея о том, что пониманию современных явлений могут помогать данные исторической лингвистики. Как писал в 1980-е гг. видный российский лингвист, член-корреспондент РАН Александр Евгеньевич Кибрик (1939–2012), «С исторической точки зрения сомнительно наличие в языке немотивированных связей между значением и формой, кажущееся отсутствие мотивации следует объяснять тем, что эта связь стерта, демотивирована, и необходимо найти исходное мотивированное состояние». Вот что еще раньше писал выдающийся лингвист ХХ в. Роман Якобсон (1896–1982; родом из России, он в 1920–1930-е гг. работал в Чехословакии, с 1940-х гг. в США): «Статичная синхрония — это абстракция, необходимая лингвисту для определенных целей, а согласованное с фактами, исчерпывающее синхронное описание должно последовательно учитывать его динамику».
Другая проблема, к которой в разные эпохи относились по-разному, связана с тем, что именно изучает лингвистика: язык вне его отношения к другим языкам или в сопоставлении с другими; ее иногда называют проблемой языка и языков. Все традиции основывались на изучении одного языка — языка «своей» культуры. Другие языки на ранних этапах развития традиций могли рассматривать даже не как полноценные языки, а как «бормотание» варваров — так долго думали в Древней Греции и в Китае, поэтому никакие языки, кроме своего, не изучались. Идея сопоставления языков долго была чужда всем традициям и сформировалась лишь в Европе в эпоху Возрождения в связи со становлением новых национальных языков, постепенно вытеснявших латынь из культурного обихода. С XVI–XVII вв. была поставлена задача разграничения общих свойств языка и особых свойств отдельных языков. Особенно яркое воплощение эта идея получила в так называемой «Грамматике Пор-Рояля» (1660, Франция) Антуана Арно (1612–1694) и Клода Лансло (1616–1995).
Затем весь XIX в. прошел под знаком сопоставительных исследований как в генетическом плане (сравнительно-историческое языкознание), так и независимо от языкового родства (историческая типология). Большую часть ХХ в. (эпоха структурной лингвистики) лингвисты стремились охватить своими методами как можно больше языков, идея же их сопоставления уже не была приоритетной. А основатель нового этапа в развитии лингвистики, уже упоминавшийся Ноам Хомский, ограничил сферу своих исследований и сферу исследований большинства ученых его школы английским языком. Он выдвинул в качестве основной задачи лингвистики построение общей теории языка, удобным материалом для которой, естественно, выступает родной язык лингвиста; лишь после этого могут строиться частные теории, учитывающие особенности отдельных языков. А если исходить, как Хомский, из того, что язык — «единообразная система», то любое сопоставление языков в лучшем случае второстепенно. С другой стороны, во второй половине ХХ в. на новой основе активизировалось и типологическое сопоставление языков, выявляющее общие и особенные свойства языков вне зависимости от их родства, о котором далее еще будет специально говориться.
Другая проблема, по-разному решавшаяся в разные эпохи, — связь лингвистики с другими науками. В лингвистике можно видеть как периоды сближения с другими науками, разработки пограничных проблем, так и периоды ее обособления от других наук, выработки собственно лингвистических методов. В античный период, особенно до Александрии, а затем снова в Средние века языкознание считалось частью философии, в Европе XVI–XVIII вв. оно не отделялось от филологии — науки о текстах и их толковании. Обособление впервые четко выразилось в первой половине XIX в., когда разрабатывался первый строгий лингвистический метод — сравнительно-исторический, позволявший сопоставлять родственные языки и реконструировать лежащие в их основе праязыки. Филологу, например филологу-классику, изучающему древнегреческий или латинский текст, важны сведения о личности автора и исторических обстоятельствах создания текста, а лингвисту, изучающему тот же текст, это неважно, зато лингвисту, исходившему из сравнительно-исторического метода, нужны параллели с родственными языками (например, греческого или латинского языка с санскритом или старославянским), несущественные для филолога.
Затем, когда к концу XIX в. обнаружился кризис исторического языкознания, стали активно сближать лингвистику с историей, психологией, физиологией, социологией и даже с географией. Но после появления книги Ф. де Соссюра начался длительный период нового, еще более радикального обособления лингвистики от всех наук (исключая лишь математику, сближение с которой науки о языке началось именно в этот период). Считалось, что лингвистика должна основываться исключительно на собственно лингвистических методах. Основатель ведущей американской лингвистической школы того времени, школы дескриптивистов, Леонард Блумфилд (1887–1949) утверждал, что предмет изучения лингвистики — «шум, производимый органами речи». Другой виднейший структуралист, датчанин Луи Ельмслев (1899–1965), писал в 1953 г.: «Лингвистика должна попытаться охватить язык не как конгломерат внеязыковых (т. е. физических, физиологических, психологических, логических, социологических) явлений, но как самодовлеющее целое». Представители разных школ структурной лингвистики сходились в том, что связь лингвистики с другими науками если и может быть, то лишь односторонней: другие науки могут и даже должны использовать результаты, полученные лингвистикой, но последняя от них совершенно независима.
Однако Хомский в 1960-е гг. объявил лингвистику частью психологии познания. И в последнее время лингвистика всё более сближается с самыми разными, преимущественно гуманитарными науками; развиваются пограничные дисциплины (социолингвистика, психолингвистика, нейролингвистика, лингвистическая поэтика и др.). Как писал Кибрик, «то, что считается "не лингвистикой" на одном этапе, включается в нее на следующем. Этот процесс лингвистической экспансии нельзя считать законченным». И сравнительно-историческое языкознание, и структурализм по-разному сокращали объект своей науки, что дало возможность значительно развить методы в тех областях, которыми они занимались, однако сейчас лингвистика характеризуется расширением объектов исследований и всё более тесными связями с другими науками.
Можно отметить и уже упоминавшееся преимущественное внимание то к одной, то к другой стороне языковой системы. Изучение звуковой стороны языка играло очень малую роль в европейской традиции до начала XIX в. (классификация звуков долго не шла дальше их разделения на гласные и согласные), но затем вышло на первый план. Это достигло своего предела в эпоху классической фонологии, в 1920–1930-е гг. Теперь же оно уже не столь приоритетно. Морфология исконно была центральной частью лингвистического описания, но во второй половине XIX в., в период господства сравнительно-исторического языкознания, уступила ведущую роль истории звуков. Затем в структурной лингвистике она вновь привлекала к себе внимание, пик в ее развитии наблюдался в 1940–1950-е гг. а потом, начиная с Хомского, морфология опять отошла на второй план. В последние 10–15 лет снова наблюдается некоторый всплеск интереса к ней, хотя параллельно с этим активизировались попытки объединить ее с синтаксисом (появилось даже наименование морфосинтаксис). Синтаксис же очень долго отставал в своем развитии от фонетики (фонологии) и морфологии. После короткого периода повышенного внимания к нему в начале ХХ в. (у нас это проявилось у А. А. Шахматова, А. М. Пешковского и др.) синтаксис почти не исследовался в структурной лингвистике. Например, представители Московской фонологической школы не любили синтаксис и в своих лингвистических курсах даже его опускали. Зато Хомский объявил его центральной областью лингвистики, и современная американская наука о языке занимается прежде всего именно синтаксисом. А семантика — дисциплина, изучающая языковые значения, — всегда была самой неразвитой в лингвистике. Лишь в последние 20–30 лет она стала активно развиваться. Типология, популярная большую часть XIX в., к концу века почти сошла на нет, а с 1920–1930-х гг. возродилась на новой основе.
Всё сказанное не означает, что области лингвистики и научные подходы, временно отошедшие на периферию, никем не развиваются. Они даже могут быть количественно распространенными. Например, и в ХХ в. многие ученые занимались историческим, в том числе сравнительно-историческим языкознанием, перешло оно и в XXI в., но ту ведущую роль, которую играло в XIX в., оно утеряло. Тематика лингвистики неуклонно расширяется, и ни одна лингвистическая проблема не исчезает. Были случаи, когда некоторые вопросы объявлялись «ненаучными» и табуировались; так с конца XIX в. поступали с проблемой происхождения языка на основании того, что для ее решения нет позитивных данных. Однако всё равно кто-то продолжал ей заниматься, в последние же два десятилетия она вновь стала привлекать внимание серьезных ученых, о чём еще будет здесь сказано. Проблема символической связи между звучанием и значением (исключая узкую сферу звукоподражаний), казалось бы, после Ф. де Соссюра была снята с научной повестки дня, но интересные работы в этой области продолжают появляться, в том числе и в нашей стране. Даже те направления, которые кажутся в настоящее время тупиковыми, могут когда-нибудь возродиться.
Однако нельзя считать, что возрождение интереса к какой-то проблеме означает простое возвращение к тому, что было когда-то. Возвращение всегда происходит на новом уровне, с учетом того, что сделано за прошедший период, в том числе в других лингвистических дисциплинах и за пределами лингвистики.
4 Язык — система и язык — деятельность
Учитывая упомянутые выше различия между разными лингвистическими традициями, следует отметить и одну их общую черту, сохранившуюся и в большинстве направлений лингвистики вплоть до наших дней. При синтетическом и аналитическом подходе к языку в учебных и в научных сочинениях язык постоянно рассматривался и рассматривается как система правил. Начиная от самых простых правил в учебниках вроде «У слов, обозначающих действия предметов, бывают приставки, а не предлоги» (и потому их надо писать слитно) и кончая сложными правилами современных исследований, использующих изощренный математический аппарат, предполагается выделение в языке некоторых постоянных свойств, подчиняющихся правилам (такие правила могут включать в себя и исключения). Лингвисты (теоретики и практики) ищут в сложном многообразии наблюдаемых явлений речи некоторые постоянные, стабильные, повторяющиеся единицы и структуры, воспроизводимые разными людьми одинаково или с незначительными вариациями, которыми можно пренебречь. Эти единицы и структуры фиксируются в грамматиках и словарях.
Так неосознанно поступали все лингвистические традиции. Еще школьники Древнего Вавилона во втором тысячелетии до н. э. упражнялись в записывании привычных для всех нас парадигм склонения и спряжения вроде стол, стола, столу… (в европейской традиции парадигмы сложились в Александрии). Правила формулировали Панини, арабы, японцы, авторы европейских грамматик Нового времени. Этот бессознательный и не всегда последовательный подход был четко сформулирован Ф. де Соссюром в знаменитом «Курсе общей лингвистики». Максимально широкое понятие речевой деятельности разделяется Соссюром на важнейшую часть — язык — и всё остальное — речь. В том числе все процессы говорения и слушания относятся к речи.
Соссюр полагал: «Надо с самого начала встать на почву языка и считать его основанием для всех прочих проявлений языковой деятельности…. Язык — только определенная часть, — правда, важнейшая часть — речевой деятельности. Он является социальным продуктом, совокупностью необходимых условностей, принятых коллективом, чтобы обеспечить реализацию, функционирование способности к речевой деятельности, существующей у каждого носителя языка». Язык — «социальный аспект речевой деятельности, внешний по отношению к индивиду». Специально подчеркнуто: «Язык не деятельность говорящего. Язык — это готовый продукт, пассивно регистрируемый говорящим». В другом месте «Курса» сказано: «Языковой коллектив не имеет власти ни над одним словом: общество принимает язык таким, какой он есть».
Для пояснения противопоставления языка и речи Соссюр использовал аналогию с шахматами. Происхождение шахмат из Индии, материал, из которого они сделаны, внешний вид фигур — всё это характеристики, аналогичные речевым. Языку здесь соответствуют правила игры, которые и являются для шахмат определяющими признаками. И язык в смысле Соссюра описывается через правила.
Согласно Соссюру, язык — то, что нужно изучать в первую очередь. Всё функционирование языка — речь — можно отодвинуть на второй план или «на потом». Соссюр противопоставил внутреннюю лингвистику, изучающую язык, и внешнюю лингвистику, исследующую прочие виды речевой деятельности. Лекция о речи в его курсе для студентов, положенном в основу книги, имелась в плане, но так и не была прочитана. Идеи Соссюра позволили более строго и последовательно заниматься теми проблемами, которые и раньше находились в центре внимания лингвистов, когда они писали грамматики и составляли словари. Поэтому противопоставление языка и речи было принято большинством ученых первой половины ХХ в., как и предложенная им расстановка приоритетов. На этом постулате основывалось большинство школ структурной лингвистики, господствовавшей в мировой науке о языке в 1920–1950-е гг. (в нашей стране ее расцвет пришелся на 1960–1970-е гг.). Но и языковеды, не принадлежавшие к структурному лагерю, обычно занимались теми проблемами, которые Соссюр отнес к языку.
Однако задолго до Соссюра данной точке зрения была противопоставлена принципиально другая. Первым ее выдвинул великий немецкий мыслитель Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835) еще в первой половине XIX в. В знаменитой работе «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества» (написана в 1830-е гг., издана посмертно в 1848 г.) он предложил иное понимание языка. Гумбольдт указывал на относительность всяких правил и классификаций: «Всё это многообразие явлений… как его ни классифицируй, всё же предстает перед нами обескураживающим хаосом». Нельзя ограничиться фиксацией этого хаоса, надо «определить, что следует понимать под каждым языком». И далее он пишет: «По своей действительной сущности язык есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый данный момент преходящее. Даже его фиксация посредством письма представляет собой далеко не совершенное мумиеобразное состояние, которое предполагает воссоздание его в живой речи. Язык есть не продукт деятельности (ergon), а деятельность (energeia) …. Язык представляет собой постоянно возобновляющуюся работу духа, направленную на то, чтобы сделать артикулированный звук пригодным для выражения мысли. В подлинном и действительном смысле под языком можно понимать только всю совокупность актов речевой деятельности…. По разрозненным элементам нельзя познать то, что есть высшего и тончайшего в языке; это можно постичь и уловить только в связной речи…. Расчленение языка на слова и правила — это лишь мертвый продукт научного анализа».
Гумбольдт подчеркивал «языкотворческую силу в человечестве»: «В языке следует видеть не какой-то материал, который можно обозреть в его совокупности или передать часть за частью, а вечно порождающий себя организм, в котором законы порождения определенны. Но объем и в известной мере также способ порождения остаются совершенно произвольными. Усвоение языка детьми — это не ознакомление со словами, не простая закладка их в памяти и не подражательное лепечущее повторение их, а рост языковой способности с годами и упражнением».
Идеи Гумбольдта, безусловно, серьезны и убедительны. Однако их дальнейшая судьба довольно точно охарактеризована современным автором Борисом Гаспаровым: «Несмотря на то, что идеи Гумбольдта сохраняли высокую авторитетность на протяжении как большей части XIX в., так и ХХ в., в конкретных описаниях истории и структуры различных языков они фактически не отразились». У Гумбольдта были очень интересные мысли, но не было научного метода. Языковеды просто не знали, как можно изучать язык-деятельность. Зато можно было, как и прежде, заниматься «расчленением языка на слова и правила» и совершенствовать это расчленение. А слова Соссюра о том, что язык — не деятельность, а готовый продукт, безусловно, полемичны по отношению к не упомянутому им в его «Курсе» Гумбольдту.
Однако и в эпоху наибольшего успеха идей Соссюра находились ученые, продолжавшие идеи Гумбольдта. В 1929 г. в Ленинграде вышла книга «Марксизм и философия языка», происхождение которой до сих пор загадочно. Ее автором был обозначен Валентин Николаевич Волошинов (1895–1936), однако соавтором или даже единственным автором сейчас признается его значительно более известный друг Михаил Михайлович Бахтин (1895–1975). Скорее всего, книгу писал Волошинов, но многие ее идеи могут принадлежать Бахтину. Книга была полемична по отношению ко многим идеям Соссюра, прежде всего к идее о разграничении языка и речи. Само существование языка в смысле Соссюра подвергается сомнению: «Субъективное сознание говорящего работает с языком вовсе не как с системой нормативно тождественных форм. Такая система является лишь абстракцией, полученной с громадным трудом, с определенной познавательной и практической установкой. Система языка — продукт рефлексии над языком, совершаемой вовсе не сознанием самого говорящего на данном языке и вовсе не в целях непосредственного говорения». Реально существует лишь речь (высказывания, в терминологии Волошинова). Выделение же абстрактной системы «уводит нас прочь от живой становящейся реальности языка и его социальных функций». Хотя «язык в процессе его практического осуществления неотделим от своего идеологического или жизненного наполнения», лингвисты стремятся расчленить их, что иногда может быть оправдано практическими задачами, но искажает «реальность и функции языка».
Указывается, что такой неадекватный подход свойствен не только последователям Соссюра (у них он лишь выражен наиболее четко), но большинству языковедов начиная с античности, исключая лишь последователей Гумбольдта. Это не случайно, поскольку такой подход вырабатывался с практическими целями: «расшифровывания чужого мертвого языка» (имеется в виду филология) и «научения ему». Идея о связи традиционного подхода с преподаванием языков (сначала языков культуры, позже и современных языков), безусловно, правильна. Именно на начальном этапе обучения незнакомому, в частности иностранному, языку правила, скажем правила склонения или спряжения, абсолютно необходимы. Однако, по мнению автора книги, они ничего не дают для «понимания и объяснения языковых актов в их жизни и становлении». Не искусственно выделяемые слова и предложения, а «единичные высказывания являются действительною конкретною реальностью языка, и … им принадлежит творческое значение в языке».
Итак, изучать надо речь во всем ее многообразии, а язык в смысле Соссюра — искусственное понятие, пригодное лишь для педагогических и филологических целей. В книге «Марксизм и философия языка» правильными признаются идеи Гумбольдта и его последователей, к которым только предлагается добавить изучение диалога и социального взаимодействия его участников. Однако метода, который бы позволил изучать язык как деятельность, не предложено и здесь. По-видимому, и в 1929 г., как и за столетие до этого, такая задача еще была преждевременной.
Вновь и по-новому ее поставил Ноам Хомский. Впервые это он сделал в книге «Синтаксические структуры» (1957, этот год часто считается началом новой эпохи в развитии лингвистики). Однако наиболее четко его идеи выражены в книгах «Аспекты теории синтаксиса» (1966) и «Язык и мышление» (1968), к которым я и обращусь, отвлекаясь от последующих изменений его теории, достаточно значительных, но, как представляется, не затронувших ее суть.
В «Аспектах теории синтаксиса» Хомский ввел важные понятия компетенции и употребления, оба понятия связаны с носителем языка. Компетенция — знание языка говорящим-слушающим, а употребление — использование языка в конкретных ситуациях. «Задачей лингвиста, как и ребенка, овладевающего языком, является выявить из данных употребления лежащую в их основе систему правил, которой овладел говорящий-слушающий и которую он использует в реальном употреблении». Однако компетенция — не то же самое, что язык у Соссюра. Хомский обращается к иным традициям: «Противопоставление, вводимое мною, связано с соссюровским противопоставлением языка и речи; но необходимо отвергнуть его концепцию языка как только систематического инвентаря единиц и скорее вернуться к гумбольдтовской концепции скрытой компетенции как системы порождающих процессов». Сам термин «порождение» Хомский взял у Гумбольдта, писавшего о «порождающем себя организме», имеющем «законы порождения». Хомский определил: «Лингвистическая теория… занимается обнаружением психической реальности, лежащей в основе реального поведения».
В книге «Язык и мышление» эти идеи выражены еще четче: лингвистика — «особая ветвь психологии познания»; «лингвист занимается построением объяснительных теорий на нескольких уровнях… Лингвистика, охарактеризованная таким образом, есть просто составная часть психологии»; «эта подзадача относится к той ветви психологии, которая известна под именем лингвистики». Хомский резко выступил против сужения объекта своей науки, свойственного структурной лингвистике: она и подобные ей науки «в значительной степени просто имитируют поверхностные черты естественных наук; их научный характер во многом был достигнут путем ограничения предмета исследования и путем сосредоточения на довольно периферийных вопросах». Концепция, исходящая из того, что «язык в конкретном смысле… является… суммой слов и сочетаний слов, при помощи которых любой человек выражает свои мысли», разработанная Соссюром, названа «убогой и совершенно неадекватной». Эта концепция не может объяснить, каким образом «говорящий использует бесконечным образом конечные средства» (о чем писал еще Гумбольдт).
Хомский определяет язык как «рекурсивно порождаемую систему, где законы порождения фиксированы и инвариантны, но сфера и специфический способ их применения остаются совершенно неограниченными». «Вильгельм фон Гумбольдт… твердо придерживался взгляда, что в основе любого человеческого языка мы найдем систему, которая универсальна, которая просто выражает уникальные интеллектуальные свойства человека», то есть компетенцию.
Таким образом, «возникает необходимость обратиться к некоторому совершенно новому принципу. Этот новый принцип имеет "творческий аспект", который яснее всего наблюдается в том, что может быть названо "творческим аспектом использования языка", т. е. специфически человеческая способность выражать новые мысли и понимать совершенно новые выражения мысли на основе "установленного языка", языка, который является продуктом культуры».
Отвергнув подход структурной лингвистики, Хомский расширил рамки лингвистического анализа, но вовсе не беспредельно. Компетенция — более широкое понятие, чем язык по Соссюру, однако это опять-таки множество правил, лежащих в основе речевой деятельности человека. Употребление выводится Хомским за пределы актуальной области внимания лингвиста. Современный американский последователь Хомского Дж. Бейлин предлагает такую аналогию: одни науки занимаются способностью птиц летать, другие — конкретными особенностями их полета (погода, направление и сила ветра и пр.); лингвистика последователей Хомского (генеративная лингвистика) соответствует первым наукам; науки же другого типа опираются на данные генеративной лингвистики.
Такое сужение проблематики и несоответствие постановки проблем и реальной практики у Хомского и его последователей вызывает критические отзывы. Крупнейший отечественный историк лингвистики Владимир Андреевич Звегинцев (1910–1988) писал, что теория Хомского «в конечном счете, сводится всё к тем же описательным процедурам и ставит своей целью дать описание абстрактной структуры лингвистической компетенции — в идее, но не в исполнении взаимодействующей с другими видами психического поведения человека». То есть, испытав влияние Гумбольдта, Хомский опять-таки предложил новый вариант конструирования «мертвого продукта научного анализа», пусть усовершенствованный по сравнению с прежними вариантами. Этот вариант активно разрабатывается в современной американской науке и в меньшей степени в науке других стран (в России последователей Хомского не так много).
Однако после появления теории Хомского (его приверженцы любят говорить о «хомскианской революции») были сняты многие имевшие место ограничения и табу. Наука стала выходить и за более широкие рамки, установленные Хомским. Активно изучаются, например, общественное функционирование языка, коммуникативный аспект языка, проблемы диалога и др.; об этом дальше будет говориться. Лингвистика всё более начинает подступаться к тем проблемам, которые ставили Гумбольдт и автор (или авторы) книги «Марксизм и философия языка». Это, однако, не означает того, что старые проблемы потеряли свое значение или являются псевдопроблемами. Точка зрения Волошинова о том, что надо изучать лишь высказывания, а не слова и предложения, была слишком крайней; кстати, в своих поздних работах 1950-х гг. Бахтин от нее отказался. Проблематика лингвистики разнообразна, и, как уже было сказано, ни одна из лингвистических проблем не исчезает. Однако надо отдавать себе отчет в том, что традиционная, привычная для нас проблематика языкознания, включая и проблематику структурной лингвистики, охватывает весьма ограниченный круг самых простых вопросов.
5 Как работают лингвисты Полевая лингвистика
Задачи любой науки, непосредственно познающей мир (философию и математику оставим в стороне), включая, разумеется, и лингвистику, можно на самом общем уровне разделить на два класса. Это, во-первых, получение и первичное исследование нового фактического материала, во-вторых, обобщения, построение объяснительных теорий. А наука делается людьми, и кому-то, может быть, ближе одна задача, а кому-то другая.
В 1913 г. или 1914 г. в московской частной гимназии Е. А. Репман учитель истории, рассказал ученикам о «двух типах историков, из которых представители одного занимаются подготовкой фактического материала, анализом письменных источников, дешифровкой надписей, папирусов, клинописи и т. д., а другие — обобщениями социологического характера». Двое из его учеников в то время мечтали стать историками. Учитель одному из мальчиков предсказал будущность историка первого типа, другому — второго.
Конечно, два типа бывают и среди лингвистов (дешифровка — скорее лингвистическая задача), а научные обобщения не обязательно имеют социологический характер. В итоге лингвистом стал как раз первый из гимназистов — Пётр Саввич Кузнецов (1899–1968), один из создателей Московской школы фонологов, о которой еще будет идти здесь речь (и автор цитируемых воспоминаний). Он всегда отличался большой эрудицией и энциклопедичностью, любил подробности, но жил во время, когда больше ценилось умение строить теории. И он сумел это сделать.
Тот факт, что одни ученые преуспели (или не преуспели) в обнаружении фактов, а другие — в обобщениях (кто-то сразу и в том, и в другом), разумеется, может иметь разные причины, и склонности человека — лишь одна из них. Они важны, но не всегда могут реализоваться. Ученый может попасть в научную среду, где ценится совсем не то, к чему он склонен, тогда ему придется либо приспосабливаться к приоритетам окружающих, либо идти на конфликты и обрекать себя на одиночество в профессиональной сфере. Наконец, нельзя не учитывать и разный уровень индивидуальных способностей, возможность или невозможность получения должной подготовки и многое другое.
В самой истории мировой науки мы видим постоянную смену приоритетов. Едва ли не в каждой дисциплине чередуются периоды интенсивной работы теоретической мысли и следования устоявшимся канонам, открытия новых фактов и стремления переосмыслить то, что уже известно. И в одни периоды (конечно, при прочих равных условиях) легче работать тому, кто склонен к «подготовке фактического материала», а в другие эпохи ценятся любители обобщать. Как правило, первые выходят на авансцену в спокойные этапы развития уже сложившейся науки, вторые — на самых ранних этапах формирования той или иной дисциплины и в эпохи смены научных парадигм. Играют роль и воздействия извне, и общий «климат эпохи».
Например, немецкая наука первой половины XIX в. была связана с именами Августа и Фридриха Шлегелей, Гумбольдта, Ф. Боппа, Я. Гримма, А. Шлейхера. Все эти ученые выдвигали широкие теории, не подкреплявшиеся или подкреплявшиеся в небольшой степени конкретными примерами. Не только вышеупомянутый Гумбольдт, но и сравнительно — историческое языкознание того времени любило делать обобщения о происхождении языка, прогрессе и регрессе языков и связи языка с культурой. Все это распространялось и на их последователей, в том числе русских. Уже в 1880-е гг. петербургский профессор, теоретик языка и индолог Иван Павлович Минаев (1840–1890), например, из «символического значения» гласных звуков в семитских языках (имеется в виду то, что там корень состоит из согласных, а гласные выражают грамматическое значение) выводил единобожие семитов. Выдвигал он (и не только он) и идеи о связи строя языка и языкового родства с расой, «антропологическими типами», что современная наука полностью отрицает.
Но уже в те годы, когда Минаев читал свой курс, приоритеты стали меняться. Развитие науки требовало, с одной стороны, более тщательного изучения фактов, с другой стороны, отказа от всякой «метафизики», под которой в конце XIX в. и начале XX в. (иногда и позже) понимались любые теории, которые нельзя проверить фактами. Например, никто кроме дилетантов уже не занимался происхождением языка. Распространилось «преклонение перед "фактом", понятым… как что-то незыблемое и устойчивое», по выражению В. Н. Волошинова. Член-корреспондент Российской академии наук Александр Иванович Томсон (1860–1935) говорил: «Об общих вопросах имеет право рассуждать только тот, кто сам годами барахтался в разрешении частных вопросов и потому может говорить по опыту, не с чужих слов». В это время еще преобладал исторический подход и преобладало изучение истории языка на основе анализа дошедших до нас памятников, причем предполагалось, что исследователь должен сам скрупулезно изучать эти памятники, и это его главная задача. При взгляде на эту деятельность вспоминается то, что писал о поэзии В. В. Маяковский: «Та же добыча радия. В грамм добыча, в год труды». Интерпретация добычи либо занимала второстепенное место, либо вообще считалась чем-то не очень научным.
Новый виток развития науки обозначился во втором десятилетии XX в., опять-таки большую роль сыграл «Курс общей лингвистики» Соссюра. Резко возросло стремление строить теории. Ученые новой научной парадигмы если и интересовались, например, рукописями, то не как основным объектом исследования, а в качестве источника сведений по исторической фонологии языка, их влекла интерпретация. Ученые старшего поколения просто не понимали происходящее. Тот же Томсон писал о Трубецком и близких ему по направленности ученых: «Что это все означает? Искание новых путей? Которые, однако, заведомо избегают углубления. По-моему, лишь одно: слабосилие. Не могут больше преодолевать подготовительной работы по изучению накопившихся данных по истории языков, особенно по сравнительному языковедению… Очевидно, силы истощены. Вместо изучения реальных фактов — высокопарное беззастенчивое переливание из пустого в порожнее».
Но процесс был необратим. И сбором, и первичной обработкой фактов наука не в состоянии ограничиться: она неизбежно опирается на некоторую теорию, пусть это не всегда осознает исследователь. Он может думать, что теория ему не нужна, но он всегда, в частности, должен из моря фактов производить отбор, а этот отбор всегда опирается на некоторую теорию, хотя бы на ту, которая содержится в когда-то им прочитанном школьном учебнике. Но учебники обычно отражают уже пройденный этап развития науки. А теории в большинстве своем приближают нас к истине, пусть не полностью и с разных сторон.
Бурное развитие теоретической лингвистики к 1940–1950-м гг. в ряде стран (например, в США этот процесс был более очевиден, чем в СССР) стало сменяться новым сосредоточением на фактах, которое, однако, имело иной характер, чем у ученых, изучавших старинные тексты. Речь шла об изучении современных языков в полевых условиях. Огромное количество языков мира оставалось неописанным, и американские ученые, в большинстве принадлежавшие к уже упоминавшийся школе дескриптивистов, поставили перед собой задачу их описания на основе разработанных Блумфилдом и его последователями методов. Они отправлялись в районы распространения языков и там работали с носителями этих языков — информантами. Разрабатывалась специальная методика работы с информантами, возникла особая лингвистическая дисциплина — полевая лингвистика.
Как пишет современный американский исследователь, «до Хомского американский лингвист был почти что обязан провести один-два года среди носителей индейского языка и написать его грамматику. В североамериканской лингвистике это было чуть ли не обрядом посвящения». Однако смена научной парадигмы проявилась и здесь. Тот же автор отмечает: «Сам Хомский не занимался полевыми исследованиями и тем не менее, очевидно, обнаружил в языке больше интересного, чем любой полевой исследователь». Добавлю, что Хомский, как уже упоминалось, был принципиально сосредоточен на материале английского языка.
Разумеется, нельзя в духе Томсона понимать всякого лингвиста-теоретика как человека, который только интерпретирует. Многие ученые успешно совмещали роли собирателя фактов и создателя теорий, обычно, однако, стремясь преодолеть «преклонение перед фактом» и рассматривать факты в системе. Так, Соссюр задолго до создания «Курса» в книге «Мемуар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках» (написанной им в возрасте 21 года!), рассматривая реконструкции праиндоевропейских звуков, старался выявить в них строгую систему. Еще одним примером лингвиста, совмещавшего эти роли, был выдающийся американский лингвист, культуролог и этнограф Эдвард Сепир (1884–1939). Много занимаясь полевым изучением индейских языков США и Канады, он использовал свои материалы для построения теорий, в частности в области типологии, о чём дальше будет сказано.
В наше время сбор фактов, в частности полученных полевым путем, производится в расчете и на расширение объекта лингвистических исследований, и на использование полученных материалов для развития понимания природы языка. Многие полевые исследования описывают вымирающие языки; уже не раз бывало, что вскоре после экспедиций изученные языки исчезали. Видный японский лингвист С. Хаттори (1908–1995) говорил о проведенных под его руководством в 1950-е гг. исследованиях диалектов айнского языка на острове Хоккайдо: «Мы успели на последний автобус». Если нельзя спасти язык, то можно хотя бы сохранить данные о нем. Бывает и так, что на основе этих данных делаются попытки возрождения языка: потерявшие язык айны (а иногда и японцы) учат его на основе записей японских специалистов и русского ученого Н. А. Невского. Но, разумеется, и для развития лингвистики полевые данные значат очень много. Как уже говорилось, мировая наука о языке, выросшая из европейской традиции, первоначально основывалась на материале одного или двух языков, затем — на материале примерно десятка языков Европы, далее количество изучаемых языков неуклонно увеличивалось, но всё равно для понимания того, что есть в языке, нужно знать о языках как можно больше.
Одним из успешных примеров полевых исследований являются экспедиции кафедры теоретической / структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ, проводимые с 1967 г.; их основателем и многолетним руководителем был уже упоминавшийся Кибрик. В них участвуют не только уже сформировавшиеся лингвисты, но и студенты, являющиеся полноправными участниками. Через экспедиции прошли многие ныне известные лингвисты, работающие как в России, так и за рубежом. Перед их участниками ставятся две задачи: исследовать язык и обучить студентов полевым методам. Экспедиции за полвека охватили более 40 языков СССР и России, а теперь ученики Кибрика проводят экспедиции и в Индии, Вьетнаме и других странах.
Методика работы с информантами бывает различной. Один способ получения результатов был разработан дескриптивистами. «Обряд посвящения» заключался в том, что лингвист несколько лет жил в местах обитания носителей изучаемого языка и старался с помощью информантов им овладеть, его деятельность обычно бывала индивидуальной. Иначе строится работа в экспедициях МГУ. В ней участвует целый коллектив исследователей, в который входят преподаватели и студенты; на начальном этапе они изучают язык как бы с чистого листа, ничего про него не зная; да и позже за довольно короткий период работы (обычно во время летних каникул) у них нет времени его изучить досконально. Тем не менее «на выходе» неоднократно удавалось получить вполне серьезное описание системы языка или его фрагмента. Это удается сделать благодаря разработанной методике полевых исследований.
Как писал Кибрик, «кажется, что легче изучать язык, когда о нем предварительно многое известно. Однако следует иметь в виду, что всякая традиция навязывает некоторое априорное видение фактов. Усвоенная до знакомства с фактами, она их заменяет в нашем сознании, гипнотизируя творческую волю и мешая увидеть факты в их непосредственной данности. Впоследствии, под давлением языкового материала, начинается мучительное преодоление традиции, на что затрачивается много лишних усилий». Поэтому «наиболее благоприятная исследовательская ситуация» — работа «с языками, не имеющими глубокой лингвистической традиции описания».
Как показывает опыт экспедиций МГУ, преимущества имеет и коллективный метод работы. Кибрик формулировал это так: он позволяет ускорить этап сбора фактов, дает возможность эффективно использовать каждого участника на видах работы, где он может приносить наибольшую пользу, обеспечивает взаимодействие участников. По его выражению, коллективный метод «собирает группу партнеров по интересам, и их профессиональное взаимодействие создает комфортную творческую среду и является мощным психологическим стимулятором».
Как получать нужные сведения от информантов? Используются два способа: анализировать получаемые от информантов в естественных условиях спонтанные тексты (фольклор, рассказы о жизни и т. д.) и стимулировать информанта на порождение текстов, желательных для исследователя. Методика дескриптивистов ориентировалась лишь на первый способ получения информации, однако два способа дополняют друг друга, и каждый из них должен использоваться.
Бывают спокойные периоды, когда наука сосредоточена на конкретном фактическом материале и на шлифовке методов его получения. Но неизменно наступают времена кризиса и перелома, когда необходим прорыв в теории, нередко приобретающий характер научной революции, когда не всегда нужно искать новые факты, достаточно по-новому интерпретировать то, что известно. Словом, на первый план в развитии науки выходит то описание, то объяснение. Между тем одни ученые по складу характера любят одно, другие — другое. И споры теоретиков и фактографов вечны. А современная лингвистика дает тем и другим возможности реализовать свои склонности.
6 Говорящий и слушающий
В процессе речи участвуют как минимум два человека. Это говорящий (пишущий) или слушающий (читающий). Разумеется, количество участников речевого общения не ограничено: их может быть сколь угодно много. Но в нормальной ситуации это не может быть один человек. Щерба писал: «Монолог является в значительной степени искусственной языковой формой. Подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в диалоге». О том же писал и Бахтин: «Язык живет только в диалогическом общении пользующихся им. Диалогическое общение и есть подлинная сфера жизни языка». Это, конечно, не значит, что участники диалога должны обязательно находиться в одном и том же месте. Диалогом в широком смысле является и письменное общение, когда читатель отделен от автора в пространстве и во времени (мы можем читать сочинения, написанные несколько тысячелетий назад), и устное общение по телефону, радио, телевидению, в интернете.
Как указывал Бахтин, «высказывание с самого начала строится с учетом возможного ответа. Высказывание строится для другого. Мысль становится действительной мыслью лишь в процессе ее сообщения другому, сознание становится практическим сознанием для другого…. Цель высказывания — в ответной реакции. Высказывание никогда не бывает самоцелью». Разумеется, здесь не имеется в виду внутренняя речь, которую мы сейчас не рассматриваем. Но звуковая и письменная речь имеет вид монолога лишь в маргинальных случаях (сами с собой разговаривают обычно пьяные или психически больные) либо в особых ситуациях: заучивание наизусть, отработка роли актером. Л. Н. Толстой писал «дневник для одного себя», который в конце концов стал достоянием многих.
Важно и такое указание Бахтина: «Всякое высказывание, кроме своего предмета, всегда отвечает (в широком смысле слова) в той или иной форме на предшествующие ему чужие высказывания…. Но высказывание связано не только с предшествующими, но и с последующими звеньями речевого общения…. Высказывание с самого начала строится с учетом возможных ответных реакций, ради которых оно, в сущности, и создается».
Но отношения между говорящим и слушающим многообразны и в устной, и в письменной речи. Могут быть выделены два полярных класса ситуаций. С одной стороны, говорящий (пишущий) обращается к известным и конкретным собеседникам: текст предполагает ответ или, по крайней мере, допускает его (разговор, беседа, личная переписка). С другой стороны, может происходить обращение к абсолютно неопределенному собеседнику, при этом ответ не предполагается (научная литература, газетная информация, авторский текст художественных произведений); такой тип ситуаций чаще реализуется на письме. Может быть выделен и промежуточный тип ситуаций. В этом случае множество собеседников также не определено, однако задаются некоторые его характеристики (обращение к женщинам, пассажирам, политическим единомышленникам, потребителям рекламируемого товара и пр.). Говорящий, обращаясь к массе, в то же время обращается как бы к каждому собеседнику лично; ответ также не предполагается. Примеры таких ситуаций: устная и письменная реклама, выступление телеведущего или телекомментатора, агитация на предвыборном митинге, статья женского раздела газеты, объявление по радио в метро. Ситуации двух последних типов значительно расширились с появлением радио и телевидения, но и общение с конкретным собеседником приобрело новые возможности: оно перестало быть преимущественно устным, как еще было недавно (интернет, СМС-сообщения и пр.). Каждый из трех типов речевого общения может быть условно назван соответственно индивидуальным, массовым и индивидуально-массовым (или квазииндивидуальным).
Другой признак — единичность или множественность говорящих и слушающих. Разумеется, реальный говорящий при устном общении бывает один (исключая особые ситуации вроде пения хором), но на письме возможны коллективные сочинения, а устный текст (как и письменный) может предполагать наличие анонимного коллектива, от имени которого он распространяется. Сложнее ситуация со слушающими, число которых может варьироваться от одного человека до всего человечества.
Два эти признака, по-видимому, не следует считать абсолютно независимыми: ситуация, при которой одна сторона только говорит или пишет, другая сторона только слушает или читает, в принципе предполагает множественность, точнее, неопределенное количество слушающих или читающих. Могут быть, конечно, исключения вроде случая, когда просят пройти из очереди «следующего», однако подобный речевой акт уже занимает промежуточное положение: ответная реплика возможна и здесь. Взаимный же речевой акт, разумеется, не требует, чтобы собеседников было всегда двое; однако их количество должно быть сравнительно невелико и их состав точно определен.
В зависимости от типа общения могут употребляться или менять значение те или иные слова и формы языка. Например, в русском языке местоимение ты и соответствующие глагольные формы употребляются только по отношению к младшим, подчиненным или близким людям. Можно считать, что соответствующие компоненты составляют часть их значения. Но при массовом типе общения эти компоненты исчезают, как это происходят в плакатных высказываниях типа Не уверен — не обгоняй или Гаси (окурок). Однако при квазииндивидуальном типе общения происходит иное: телекомментатор к взрослому зрителю будет обращаться на вы.
Есть языки, где такого рода различия более очевидны, чем в русском языке. Это, например, японский язык, в котором развита система так называемых форм вежливости (термин, общепринятый в японистике, но точнее их называть формами этикета). Здесь в глаголах, прилагательных и связках противопоставляются формы вежливости и невежливости по отношению к собеседнику (собеседникам): ёмимасу «читаю, читаешь, читает…» (вежливо), ёму (тот же перевод, но невежливо).
Однако таким образом формы противопоставлены лишь при наличии определенного собеседника или собеседников. При квазииндивидуальном общении почти всегда используются вежливые формы (для глагола с суффиксом — мас-). Например, в большинстве японских газет эти вежливые формы стандартны, если предполагается какой-то ограниченный некоторыми рамками круг читателей: колонки для садоводов, рыболовов, специальные женские страницы и пр. Здесь говорящий обращается как бы к каждому собеседнику лично и относится к нему с этикетным уважением. А в случае обращения к совсем неизвестному читателю есть только невежливые формы, которые здесь не имеют собственно невежливого значения и употребляются потому, что пишущий вообще не ориентируется на собеседника (играет роль, видимо, и формальная простота невежливых форм, имеющих, кроме связки, нулевой показатель). Орган японской компартии газета «Акахата» все материалы печатает с использованием вежливых форм: авторы, разумеется не зная всех собеседников, обращаются к ним как к единомышленникам. В других же газетах при обращении к «читателю вообще» используются простые формы глаголов и прилагательных и соответствующая связка. То же происходит и с повелительными формами глагола, как и в русском языке.
Каждый акт речи представляет собой, по выражению английского египтолога и теоретика языка сэра Алана Гардинера (1879–1963), «драму в миниатюре», персонажами которой являются говорящий, слушающий, система языка, которой оба они владеют, и содержание речи. Роли и интересы говорящего и слушающего различны. Говорящий исходит из смысла и создает текст, а слушающий, воспринимая текст, извлекает из него смысл. Выше уже говорилось, что привычный для нас тип грамматики моделирует деятельность слушающего, тогда как грамматики какого-либо языка, ориентированной на деятельность говорящего и называемой иногда активной грамматикой (термин Щербы), в сколько-нибудь полном виде до сих пор нет, если не считать созданных до нашей эры древнеиндийских грамматик Панини и его последователей.
О противоречиях между потребностями говорящего и слушающего писали многие, в том числе И. А. Бодуэн де Куртенэ и его ученик Поливанов. Последний указывал: «Для достижения цели говорения (т. е. коммуникации): мы говорим настолько громко и настолько внятно, чтобы быть услышанными и понятыми, но обычно — не слишком громче и не слишком явственнее, чем это нужно». «Стремление уменьшить (сэкономить) расход трудовой энергии — это общая черта для всевозможнейших видов продуктивно-трудовой деятельности человечества. В виде общего признака (для всесторонних разновидностей продуктивного и имеющего определенную цель труда) можно установить и границы такой экономии энергии: экономия трудовой энергии склонна осуществляться (и фактически осуществляется) именно лишь до тех пор, пока сокращение энергии не угрожает бесплодностью всего данного трудового процесса (т. е. недостижением той цели, для которой данный труд вообще предпринимается). Напр., в процессе письма от руки пишущие естественно (именно в силу вышеуказанной тенденции к экономии трудовой энергии) упрощают начертание отдельных букв, сокращают число черт, а в связи с этим и число мускульных движений руки, нужных для данных словонаписаний, но все это делается лишь в позволительных пределах, т. е. постольку, поскольку почерк остается все-таки читаемым. То же самое и с устной речью». Поливанов указывал на то, что в случае приветствия на ходу мы не произносим здравствуйте, а сокращаем это слово до двух-трех звуков. Название месяца, имевшее в латыни вид augustus, во французском языке сократилось до одного звука у (графически aoȗt). Излишний расход сил невыгоден говорящему, но если он недостаточен, это становится невыгодно для слушающего. В случае приветствия слово восстановится, исходя из ситуации, но не всегда это бывает возможно.
После Поливанова этот вопрос в 1950-е гг. рассматривал Якобсон. Он писал, используя терминологию теории информации: «Две точки зрения — кодирующего и декодирующего, или, другими словами, роль отправителя и роль получателя сообщений должны быть совершенно отчетливо разграничены. Разумеется, это утверждение — банальность; однако именно о банальностях часто забывают. А между тем оба участника акта речевой коммуникации подходят к тексту совершенно по-разному». Например, проблема синонимии существенна для говорящего, который среди синонимов должен выбрать наиболее подходящий. Слушающему же подбирать синонимы воспринимаемого слова не нужно. Проблема омонимии, наоборот, важна только для слушающего, который должен эту омонимию снять. «Для воспринимающего речь характерен неосознанный статистический подход»: пониманию текста и снятию омонимии способствуют вероятностные характеристики, несущественные для говорящего. Для лингвиста важны оба пути, но недопустимо их смешение. В связи с этим Якобсон вспоминал методологический принцип дополнительности, сформулированный крупнейшим физиком ХХ в. Нильсом Бором (с которым они вели совместный семинар по вопросам взаимодействия наук в Массачусетском технологическом институте»).
Развивая эти идеи, видный отечественный языковед Михаил Викторович Панов (1920–2001) писал об «антиномии говорящего и слушающего», приводя примеры противоречий между их потребностями: «В интересах говорящего упростить высказывание мысли, в интересах слушающего упростить процесс восприятия высказывания. Эти два устремления часто оказываются конфликтными. Например, аллегровое[2] произношение удобно для говорящего, но для слушателя оно приемлемо лишь в некоторых условиях речевого общения: когда нет сильных звуковых помех, например, шума многолюдного собрания. В интересах говорящего пользоваться всем привычным для него словарем, независимо от его общеупотребительности; слушатель "не принимает" некоторых слишком индивидуальных словоупотреблений. Следовательно, интересы слушателя ограничивают интересы говорящего; развитие языка противоречиво, так как идет то в пользу слушателя, то в пользу говорящего; победа одной из конфликтующих сторон впоследствии вызывает компенсацию для другой стороны (например, если достигнута большая степень редукции флексий и тем самым удовлетворены интересы говорящего, то грамматикализуется место слова в предложении, чтобы возместить убытки слушателя)». В последнем примере имеется в виду историческое развитие многих языков, в том числе английского или французского: когда-то там, как и в русском или латинском языках, было много окончаний (флексий) с грамматическим значением, потом они большей частью отпали, но это компенсировалось установление строгого порядка слов.
С этим связано еще одно явление, на которое также обратил внимание Панов. Говорящий, стремясь выразить тот или иной смысл, обычно не задумывается о том, насколько его речь соответствует норме, и нередко от нее отклоняется. Но его собеседник четко ощущает всё то, что для него непривычно. Поэтому говорящий склонен к новациям, которые могут затем закрепиться в языке, а слушающий склонен к консерватизму, поэтому закрепляется не всё.
Потребности говорящего и слушающего нередко противоречат друг другу. Однако эти противоречия, как и многие другие противоречия, объективно существующие в языке, способствуют развитию языка.
7 Основные вопросы лингвистики и пути их решения
Сильно огрубляя и схематизируя круг проблем лингвистики, их можно свести к трем главным вопросам: «Как устроен язык?», «Как функционирует язык?» и «Как развивается язык?».
Из этих вопросов первый, поднятый еще Панини и александрийцами, изучен лучше всего, хотя, разумеется, многое еще остается неясным. Существуют развитые научные теории, предложенные в структурной и генеративной лингвистике, детально разработаны и методы работы с языковым материалом. Много занималась лингвистика и третьим вопросом, здесь, однако, имеется значительный разрыв между прекрасно разработанными методами (сравнительно-историческим и филологическим) и весьма скудной и уязвимой для критики теорией языковых изменений. Вопрос же о функционировании языка, не раз ставившийся в науке начиная от Гумбольдта, и сейчас изучен крайне слабо, хотя за последние 20–30 лет его исследование активизировалось. Накоплен немалый фактический материал, но и теория, и методы пока лишь начинают разрабатываться, и имеются лишь более или менее правдоподобные гипотезы и догадки.
Как уже говорилось, лингвистические традиции, ставя перед собой те или иные практические задачи, неизбежно обращались к изучению устройства, структуры языка. По сути, наука о языке с самого начала была структурной, пусть этот структурный анализ был еще несовершенным и многого не охватывал. Метод работы с языковым материалом мог быть тщательно разработанным и изощренным, как у Панини. В Европе он также стихийно шлифовался, хотя и не дошел до такого уровня, как в Индии или даже у арабов. Начиная со схоластов XIII–XIV вв., предпринимались и попытки построения тех или иных теорий устройства языка; одну из самых интересных можно видеть в «Грамматике Пор-Рояля». Однако с начала XVIII в. вплоть до начала ХХ в. методы работы с языковым материалом, кроме методов, подчиненных историческим задачам, совершенствовались мало, а лингвистические теории почти не создавались (Гумбольдт — редкое исключение), хотя накопление фактов, конечно, шло. В это время наука обратилась к изучению ранее игнорировавшегося вопроса: «Как развивается язык?» Долго казалось, что именно он — главный или даже единственный объект изучения языкознания. Лишь в конце XIX в. и начале ХХ в. вопрос об устройстве языка вновь начал ставиться всерьез; здесь надо выделить двух замечательных русско-польских ученых — Николая Вячеславовича Крушевского (1851–1887) и Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ (1845–1929), а также датского ученого Отто Есперсена (1863–1943). После Соссюра вопрос языкового устройства надолго стал центральным. И сейчас он остается на первом месте, хотя многие лингвисты и у нас, и за рубежом стараются выйти за его пределы.
Несмотря на критику самой идеи языка как системы правил (Гумбольдт, Волошинов и Бахтин и др.), важность такого подхода к языку, по-видимому, неоспорима. Нельзя лишь считать этот подход единственно возможным и исчерпывающим. Эту важность подтверждает и многовековая история лингвистических традиций, и роль лингвистики для решения практических проблем (это не только обучение языкам, но и составление письменностей на научной базе, и методы дешифровки, и диалог человека с машиной и др.; обо всем этом далее пойдет речь). Ее подтверждают и исследования того, что происходит «на самом деле» в человеческом мозгу, о чем специально будет говориться в разделах 18 и 19.
Подтверждается и одно свойство, издавна присущее европейской традиции, но обычно отвергавшееся в ХХ в. Считалось, что надо разграничивать собственно слова и их преобразования, «отпадения» (отсюда термин «падеж» — калька латинского casus). Именительный падеж первоначально не считался падежом, он считался просто именем, а остальные падежи рассматривались как преобразования имени. И это (опять-таки, разумеется, бессознательно) отражало тот факт, что в мозгу, как правило, хранятся не все формы слова, а лишь некоторые исходные. На уровне же операций со словами наряду с синтаксическими правилами сочетания слов есть и морфологические правила преобразования исходных форм слов в другие формы. Современная лингвистика обычно трактует слово (словоформу) кошками как сочетание корня кошк- и окончания —ами, но исследование речевых расстройств (афазий) показывает, что психологически адекватнее долго казавшаяся наивной точка зрения древних греков и римлян, согласно которой кошками — модификация исходного слова кошка. Кстати, независимо от Европы такое же описание для глаголов придумали и в Японии.
А самое главное то, что система порождения речи — это действительно набор правил, оперирующих с исходным словарем первичных элементов. В соответствии с этими правилами, первичные элементы могут модифицироваться (морфология) и сочетаться между собой (синтаксис). В результате получаются высказывания. Такой подход в неявной форме содержался еще у Панини, а наиболее четко он сформулирован у Хомского и в основанной им генеративной лингвистике. Генеративный подход не надо понимать как модель деятельности говорящего (против этого предостерегал сам Хомский), но он представляет собой попытку сформулировать правила, аналогичные тем, которыми пользуется носитель языка.
Правилами грамматики носитель языка, уже ими овладевший, пользуется бессознательно, автоматически (отсюда и иллюзия того, что правила не существуют и лишь придумываются исследователем, к чему пришел Волошинов). Это относится и к говорящему, и к слушающему. Как пишет современная исследовательница речевых процессов мозга Татьяна Владимировна Черниговская, «языковая деятельность человека базируется на имплицитных процедурах и выведенных алгоритмах». Осознаваться правила могут лишь в случае неполного ими владения, когда надо выработать стратегию компенсации внешних или внутренних помех. Это может быть и в случае каких-то затруднений в пользовании родным языком (о чем здесь говорилось в самом начале), и при речевых расстройствах, но наиболее явно у обычного человека это проявляется в двух случаях. Во-первых, это бывает на ранних этапах обучения языку (как иностранному, так и нормативному варианту своего языка) — именно в связи с этим школьников заставляют заучивать парадигмы: стол, стола, столу и т. д. Во-вторых, это бывает при расшифровке непонятных или не полностью понятных текстов (будь то секретный код или древнерусский памятник). Волошинов верно указал на эти две ситуации, но из этого не следует, что в иных ситуациях правила не нужны.
Изучение правил, на основании которых говорящий преобразует смысл в текст, используя исходные единицы (слова и их эквиваленты), преобразуемые и комбинируемые необходимым образом, а слушающий движется в обратном направлении, совершенно необходимо. В то же время нельзя сводить изучение языка к изучению правил (или даже к изучению правил вместе с базовыми единицами, аналогичными тем, которые хранятся в мозгу). А именно к этому сводили свои задачи представители структурной лингвистики. Некоторые наиболее крайние структуралисты, как американский ученый Зелик Харрис (1909–1992), шли еще дальше и отказывались от изучения языкового значения, сводя лингвистику к изучению регулярностей в распределении звуков и звуковых последовательностей. Такой подход получил название дешифровочного подхода: он имитирует деятельность дешифровщика на раннем этапе работы, когда смысл изучаемого текста еще неизвестен. Но ясно, что он крайне сужает исследовательские возможности лингвиста, а отказ от изучения значения был просто иллюзией: лингвист изучал регулярные явления в языке, совершенно ему не известном, но при этом задавал вопросы двуязычному носителю этого языка (информанту), который, разумеется, опирался на значения известных ему слов и грамматических конструкций. Хомский (кстати, ученик Харриса) легко смог показать неэффективность и необоснованность подобных идей.
Но и более умеренные структуралисты, не отказывавшиеся от изучения значения, исследовали лишь небольшую часть лингвистических проблем. Они, в сущности, унаследовали очень давнюю традицию, но ограничили область своих исследований осознанно и строго. Швейцарский последователь Соссюра и один из издателей (вместе с А. Сеше) его знаменитой книги Шарль Балли (1865–1947) в 1913 г. формулировал это следующим образом. Чтобы у исследователя «появился некоторый шанс уловить реальное состояние языковой системы», «он не должен иметь ни малейшего представления о прошлом этого языка, он должен полностью игнорировать связь языка с культурой и обществом, в котором этот язык функционирует, чтобы все внимание исследователя было сосредоточено на взаимодействии языковых символов».
Как часто бывает в истории науки, такое сужение проблематики на каком-то этапе даже полезно: ученые сосредотачиваются на сравнительно узком секторе с четко очерченными границами, что дает возможность значительно уйти вперед в изучении проблематики внутри этого «плацдарма». Поэтому введенное Соссюром жесткое разграничение языка и речи было шагом вперед для своего времени, а глубокие (хотя несколько максималистские) идеи Волошинова оказались несвоевременными. Не случайно его книга в 1929 г. прошла почти не замеченной и у нас, и за рубежом, зато с 1970-х гг. ее перевели на многие языки и активно изучают.
Вопрос: «Как устроен язык?» — целесообразно подробнее рассмотреть на материале фонологии, наиболее разработанной структурной дисциплины.
8 Пример структурного подхода Фонология
По всеобщему признанию, наибольших успехов структурная лингвистика достигла в области изучения звуковой стороны языка, где в 1920–1960-е гг. активно развивалась дисциплина, получившая название фонологии. Известный математик Владимир Андреевич Успенский пишет (речь идет о 1950-х гг.): «Лингвисты… неоднократно говорили мне, что есть одна область лингвистики, настолько передовая, что в ней всё уточнено и чуть ли не аксиоматизировано. Это фонология». Она стала полигоном для выработки структурных методов изучения языка. И это было не случайно: именно здесь многообразие явлений речи легче всего подводится под типовые правила.
Как уже говорилось, создатели фонетических (алфавитных) систем письма были «стихийными фонологами», поскольку учитывали не всякие звуковые различия, а лишь те, которые существенны для системы языка. Но в XIX в. с развитием науки появилась тенденция как можно точнее установить все характеристики звуков. Особенно к этому стремились диалектологи: диалекты обычно похожи друг на друга и на литературный язык, но имеют и различия, и надо строго зафиксировать их особенности. Еще больше расширились знания о многообразии звуков с появлением во второй половине того же века экспериментальной фонетики. Первые, еще очень несовершенные приборы показали, что звуков и звуковых различий гораздо больше, чем мы себе представляем. В это же время разрабатывались фонетические транскрипции, дававшие возможность единым способом фиксировать всё звуковое многообразие. Но языковая функция звуков в этом многообразии пропадала.
Выход в конце XIX в. предложил замечательный русский (и одновременно польский) ученый Бодуэн де Куртенэ. Он предложил разделить до того единую фонетику на две дисциплины, для которых в дальнейшем закрепились названия «фонетика» и «фонология». Первая из этих дисциплин изучает артикуляционные и акустические свойства звуков речи, фиксируя как можно более точно любые их различия, вторая же дисциплина, по мнению ученого, должна рассматривать «фонационные представления» в человеческой психике. Фонетика лишь косвенно связана с лингвистикой, а фонология — важная часть этой науки. Единица фонологии — фонема. Этот термин ввел Бодуэн де Куртенэ, определив фонемы как «единые, непреходящие представления звуков языка». То есть фонема — минимальная психическая единица языка: различия между фонемами осознаются говорящим, а чисто фонетические различия в произношении звуков — нет.
Следующий шаг в развитии фонологии был сделан в 1920-е гг. Николаем Феофановичем Яковлевым (1892–1974), Николаем Сергеевичем Трубецким (1890–1938) и уже упоминавшимся Якобсоном, окончательные формулировки были предложены Трубецким в его знаменитой книге «Основы фонологии», вышедшей посмертно (1939). Все трое учились в Московском университете и дружили со студенческих лет, но потом судьба их развела: Трубецкой и Якобсон эмигрировали, а Яковлев остался в СССР, однако их научные взгляды были близки. Эти ученые сохранили разграничение фонетики и фонологии и понятие фонемы. Однако они отказались от психического понимания фонемы, поскольку оно субъективно и не дает критериев для процедур выделения фонем. Ими (впервые Яковлевым в 1923 г.) было сформулировано понятие фонемы как смыслоразличительной единицы. Трубецкой писал: «Слова по необходимости состоят из комбинаций различительных элементов…. При этом, однако, допустимы не все мыслимые комбинации различительных элементов. Комбинации подчиняются определенным правилам, которые формулируются по-разному для каждого языка. Фонология должна исследовать, какие звуковые различия в данном языке связаны со смысловыми различиями, каковы соотношения различительных элементов… и по каким правилам они сочетаются друг с другом в словах». Он указывал, что «ни один звук не может рассматриваться просто как фонема. Поскольку каждый такой звук содержит, кроме прочих признаков, также и фонологически существенные признаки определенной фонемы, его можно рассматривать как реализацию этой фонемы. Фонемы реализуются в звуках речи». Наряду с главной — смыслоразличительной — функцией фонемы Трубецкой выделял еще две: одна из них выделяет вершину слова (в русском языке ударные гласные отличаются от безударных), другая указывает на границы слов (в русском языке на конце слова не противопоставлены звонкие и глухие согласные, различаемые в ряде других позиций).
Наряду с Пражской школой, в которую входили Трубецкой и Якобсон, большой вклад в развитие фонологии внесли и другие лингвистические школы, среди которых надо особо отметить две. Это Московская фонологическая школа, близкая по подходам к Пражской (В. Н. Сидоров, П. С. Кузнецов, А. А. Реформатский, Р. И. Аванесов), и дескриптивная лингвистика в США, наиболее детально разработавшая процедуры выделения и отождествления фонем (Л. Блумфилд, Б. Блок, Дж. Трейджер и др.). Расцвет обеих школ пришелся на 1930–1950-е гг.
При частных различиях школ и направлений многое в методике «классической» фонологии первой половины ХХ в. было общим. Прежде всего, фонологический анализ сводился к двум процедурам: сегментации — делению текста на фонемы, отграничению фонемы от сочетания фонем — и дистрибуционному анализу — объединению множества звуков в единую фонему. Термины «сегментация» и «дистрибуционный анализ» были свойственны дескриптивной лингвистике, но аналогичные процедуры были и в пражской, и в московской фонологии.
Рассмотрим вторую из этих процедур, которой обычно уделялось наибольшее внимание. Самый наглядный способ разграничить фонемы — подбор минимальных пар, в которых слова или морфемы различаются одним звуком, выступающим в функции различителя смысла, ср.: дом — ком — лом — пом. — ром — сом — том (можно добавить и редкие слова вроде жом или ном). Очевидно, что здесь выделяются разные фонемы.
Однако минимальные пары — достаточный, но не необходимый признак различения фонем. Важно выделить позицию фонемы (в начале слова, внутри слова, перед гласным, после звонкого согласного и т. д.) и ее окружение, то есть допустимую для данного языка совокупность соседствующих звуков. Если два звука в одном и том же окружении различают смысл слов (минимальные пары — частный случай этого), то мы имеем дело с разными фонемами. Если они в одинаковом окружении не меняют смысла слова, то это варианты одной фонемы. Скажем, в русском языке фонема р может произноситься по-разному: кто-то картавит, кто-то грассирует, кто-то произносит «обычный» звук, но на смыслоразличение это не влияет. И если два звука, имеющие некоторое фонетическое сходство, не могут встретиться в одной позиции (дополнительная дистрибуция, по терминологии дескриптивистов), то они могут рассматриваться как варианты одной фонемы. Особенно важно такое отождествление, если эти два звука заменяются друг на друга автоматически в зависимости от позиции в одной и той же морфеме. Например, в японском языке звук т перед у автоматически меняется на ц: мат-анай «не ждет», но мац-у «ждет», стало быть, в этом языке эти звуки могут рассматриваться как варианты одной фонемы.
Система фонем специфична для каждого языка. В русском языке те же т и ц — безусловные фонемы (тело — цело). С другой стороны, в русских словах этот и эти первые звуки произносятся несколько по-разному: лингвисты говорят, что здесь имеются соответственно открытое э и закрытое э. Но во французском языке более или менее схожие звуки различают смысл: est (слово из одного открытого звука) «есть» — et (слово из одного закрытого звука) «и»; следовательно, они принадлежат к разным фонемам. Во многих языках мира, например в тюркских, звуки, сходные с русскими и и ы, представляют разные фонемы. В русском же языке эти достаточно разные звуки распределены по позициям: и после мягких согласных, после гласных и в начале слова, ы после твердых согласных. Поэтому ряд лингвистов рассматривал их как варианты одной и той же фонемы (эта точка зрения, правда, не была общепринятой: некоторые фонологи исходили из того, что звуковые различия здесь слишком велики).
Но последний пример связан еще с одной трудностью. Если распределение русских и и ы в позиции после согласных очень жестко, то в начале слова мы можем произнести не только и, но и ы, что может быть использовано для смыслоразличения. В третьем издании Большой советской энциклопедии имеется пять слов, начинающихся с буквы ы, из них три имени собственных. В русском языке эти слова представляют собой заимствования из корейского, якутского и кумыкского языков. Скажем, есть слово ыр — название жанра кумыкской поэзии (ср. Ир). Считать ли эти слова «нормальными» словами русского языка? Большинство фонологов, независимо от позиции по вопросу и — ы, их игнорировали, но правильно ли это? И в японском языке т и ц были безусловными вариантами одной фонемы 60–70 лет назад, а теперь появились отдельные заимствования, нарушающие указанную выше закономерность, вроде цайтогайсуто «дух времени» из немецкого Zeit Geist. Эти слова пока также находятся на дальней периферии языка, но в истории языков часто массовые заимствования приводят к появлению новой фонемы. Так, в русском языке когда-то не было фонемы ф, хотя соответствующий звук как позиционный вариант фонемы в (например, на конце слова), видимо, существовал; но в результате многочисленных заимствований появилась особая фонема (точнее, две фонемы: твердая и мягкая): вар — фар.
Фонемы языка составляют систему, основанную на оппозициях. Как указывал Трубецкой, «в фонологии основная роль принадлежит не фонемам, а смыслоразличительным оппозициям. Любая фонема обладает определенным фонологическим содержанием лишь постольку, поскольку система фонологических оппозиций образует определенный порядок или структуру». Трубецкой дал подробную классификацию оппозиций. Бывают оппозиции изолированные (скажем, оппозиция л — р во многих языках) и пропорциональные, проходящие по всей языковой системе (для русских согласных это твердость — мягкость и звонкость — глухость). Есть оппозиции, где два члена логически равноправны, например, б — д, различающиеся местом образования, но очень важны так называемые привативные оппозиции, один член которых характеризуется наличием, другой — отсутствием признака: звонкие — глухие, носовые — неносовые и т. д. Наконец, есть постоянные оппозиции, сохраняемые во всех случаях, и нейтрализуемые оппозиции. Последние сохраняются в одних позициях и нейтрализуются в других. Скажем, в русском языке оппозиция а — о сохраняется лишь под ударением, оппозиции звонких и глухих согласных нейтрализуются на конце слова. Разумеется, внешне одинаковые оппозиции играют разную роль в системах разных языков. Например, оппозиция л — р изолирована в английском или немецком языке, но не в русском, где имеется парная к ней оппозиция соответствующих мягких фонем; в корейском же языке такой оппозиции нет вообще, поскольку соответствующие звуки входят в одну фонему: л бывает на конце слова и перед согласными, а р — перед гласными.
Можно видеть, что понятия оппозиции и ее видов не содержат в себе ничего специфически фонологического и могут использоваться в грамматике (оппозиция грамматических форм, скажем, падежных или временных) или в семантике (оппозиция компонентов значений и пр.). Это действительно происходило; например, еще в 1936 г. Р. О. Якобсон предложил подобным образом описывать систему русских падежей. Он выделил три семантических признака: периферийность, объемность и направленность, которым соответствуют три привативные оппозиции. Восемь русских падежей (включая второй родительный (кусок сахару) и второй предложный) образуют регулярную систему противопоставлений, которая графически может быть представлена в виде куба. Например, дательный падеж — направленный, периферийный и не объемный, он противопоставлен творительному направленностью, винительному периферийностью, второму предложному (в лесу) отсутствием объемности, другим падежам он противопоставлен по двум признакам, а всеми тремя признаками он противопоставлен родительному падежу.
Теоретическое значение «классической» фонологии было очень велико. Она показала, как можно гигантское звуковое многообразие речи сводить к ограниченному числу параметров, выделять в речевом хаосе нечто постоянное и значимое, членить текст на минимальные повторяющиеся единицы, сводить варианты к единому инварианту. Оказалось, что эта, казалось бы, абстрактная наука имеет и прикладное значение. Как раз в это время в СССР развернулась работа по созданию письменностей для многих языков. К конструированию алфавитов были привлечены многие видные фонологи, в том числе Яковлев и Поливанов. В отличие от «стихийных фонологов» прошлого они применяли научную теорию; Яковлев даже разработал «математическую формулу построения алфавита». Было создано более 70 алфавитов, многие из них весьма удачно. С другой стороны, материал разнообразных языков народов СССР давал базу для дальнейшего развития теорий.
Пример с алфавитами показывает, что фонологи уточняли и представляли в явном виде те методы, которыми неосознанно, интуитивно пользуются носители языка. Отказ фонологов от психологического подхода не означал того, что Бодуэн де Куртенэ был неправ: безусловно, «фонационные представления» в психике существуют, и «классическая» фонология пражцев или дескриптивистов строила (не всегда осознанно) некоторые модели этих представлений.
В то же время не всё значимое для носителей языка в звуковой области может быть сведено к смыслоразличению (даже с добавлением двух других функций Трубецкого). Не случайно более всего не принимали фонологию диалектологи, для целей которых фонологический анализ мог оказаться недостаточен. Они знали, что два диалекта одного языка могут иметь одинаковую систему фонем, но существенно различаться фонетическими реализациями этих фонем. И для носителей одного диалекта носители другого могут ощущаться как «чужие», хотя их речь в основном будет понятна. Свидетельство этого — многочисленные дразнилки, комически представляющие речь «чужого», часто отличающуюся от «нашей» речи не противопоставлением фонем, а именно их реализациями (в одной деревне свекровь посадила взятую из другой деревни невестку в погреб до тех пор, пока она не научится «правильно говорить»). И иностранный акцент чаще всего отличается не столько выделяемой из речи иностранца системой фонем, сколько произнесением тех или иных звуков. Таким образом, даже в области фонетики структурный подход учитывал не всё.
Тем более трудности усиливались, когда разработанные в фонологии методы переносились в другие сферы лингвистики. Описание русских падежей у Якобсона выглядит очень красиво, но сама идея существования у каждого русского падежа некоторого общего значения далеко не очевидна и принимается не всеми лингвистами. Недостаток данного описания не в применении метода оппозиций, а в исходных пунктах теории, на которые Якобсон опирался. Чем сложнее область исследований лингвистов, тем труднее было сводить факты языка к жестким схемам, применявшимся фонологами, и ограничиваться «взаимодействием языковых символов».
И в период господства структурализма находились лингвисты, указывавшие на ограниченность подобного взгляда на язык. Видный иранист и интересный теоретик языка Василий Иванович Абаев (1900–2001) в 1960 г. писал, что язык — одновременно знаковая и познавательная система, а структуралисты переоценивают знаковость языка, игнорируя его «познавательную систему» (в наши дни чаще употребляют синоним «когнитивная система»). Это может давать результаты там, где «чистые отношения» в языке преобладают (фонология), но мешает изучать языковые значения. И действительно, структурная лингвистика достигла немалых успехов именно в фонологии, а не в семантике.
И тем не менее нельзя игнорировать того, что было разработано в структурной лингвистике. Это признавали и ее противники. Так, видный историк русского языка академик Олег Николаевич Трубачев (1930–2002) писал: «Следует спокойно признать…, что в каждом из нас, хоть, наверное, в разной степени, засели зерна структурализма, непротиворечиво согласующиеся с исследовательской практикой (оппозиции всякого рода, нейтрализация оппозиций, etc.), и было бы неблагодарностью отрицать это». С этими словами перекликаются и формулировки Н. Хомского: структурная лингвистика «подняла точность рассуждений о языке на совершенно новый уровень», и структурные методы нужно использовать.
В разрешении вопроса: «Как устроен язык?» — структурные методы дали немало. Чрезмерными были лишь их претензии на всемогущество (как до того претензии сравнительно-исторического языкознания). В наши дни видны границы их применимости. Ограниченное понимание лингвистики как науки о языковой структуре (то есть науки, моделирующей правила, преобразующие смысл в текст и текст в смысл), закономерное для первой половины ХХ в., уже устарело. Показательно появление в конце 1990-х гг. в журнале «Вопросы языкознания» совместной статьи российского и зарубежного ученых под симптоматичным названием «Расставаясь со структурализмом».
9 Письмо
Все мы знаем, что язык существует и в устной, и в письменной форме. Именно благодаря письменности мы передаем речевую информацию на расстоянии и закрепляем ее во времени. Хотя письменный вариант языка возник много позже, чем устный, но он стал в большинстве обществ не менее важен, чем его устный вариант. Правда, с XIX в. стали появляться и другие, визуальные средства передачи информации: фотография, кино, телевидение, видеоустройства, а также способы передачи информации в устной форме: телефон, звукозапись. Однако роль письма остается значительной, а сейчас, с появлением компьютерных технологий, она даже выросла: общение с помощью компьютера большей частью происходит в письменной форме (об изменениях в языке в связи с этим речь пойдет ниже).
В то же время в целом можно сказать, что письмо изучено хуже, чем устная речь. И исследуется оно чаще всего под иным углом зрения, чем звуковая система. Это происходит отчасти по культурным и идеологическим причинам, отчасти в связи с объективными обстоятельствами. Изучение устной речи требует обращения к современному ее состоянию, вполне доступному для наблюдения; даже в XIX в., когда языкознание считалось исторической наукой, сложилась не связанная с историей языка дисциплина — экспериментальная фонетика. Письменность же по своей природе тесно связана с культурой того или иного народа, возникновение и развитие систем письма — необходимый компонент исторического анализа. Поэтому изучение письма до недавнего времени, а отчасти и сейчас обращено чаще всего в прошлое. Ученые разных стран много и успешно занимались происхождением различных систем письма, их изменениями, разрабатывались филологические методы изучения памятников. Замечательные открытия были связаны с дешифровкой ранее непонятных систем письма. Имена Жана Франсуа Шампольона (1790–1832), понявшего устройство египетских иероглифов, Георгия Фридриха Гротефенда (1775–1853), дешифровавшего древнеперсидскую письменность, Майкла Джорджа Френсиса Вентриса (1922–1956), открывшего структуру древнейшей греческой письменности, Юрия Валентиновича Кнорозова (1922–1999), который расшифровал письмо индейцев майя, прочно вошли в историю науки. Отмечу, что исследования по истории письма велись не только в Европе. Школа национальной науки в Японии в период, когда она была закрытой страной (XVII–XIX вв.), досконально выяснила всю историю создания и развития национальной азбуки — каны — на протяжении тысячелетия. При этом японские филологи ничего не знали о европейской науке; когда с ней в XIX в. познакомились японцы, всё основное в области развития национальной азбуки было сделано. Этот пример (как и многие другие аспекты деятельности этой замечательной школы) опровергает распространенное сейчас мнение о том, что наука — явление чисто европейское, а другие народы могли ее только заимствовать.
Однако такие вопросы, как структура письма, его единицы, функционирование письменности, в современном обществе изучены значительно хуже, чем это сделано для устного варианта. Недостаточно исследовано и соотношение устного и письменного вариантов языка. Дисциплина, занимающаяся письмом в плане его структуры (грамматология), развита намного хуже, чем фонология. Многие ученые, в том числе такие крупные, как Соссюр, игнорировали письменность. Соссюр говорил, что она «сама по себе чужда внутренней системе языка»: это лишь «техника, с помощью которой фиксируется язык»; значение письма в лингвистике именуется «незаслуженным». Вряд ли с этим можно согласиться, но надо разобраться, с чем была связана такая точка зрения.
Одно различие, влиявшее наряду с другими на такие представления, было связано с тем, что, как писал крупнейший в нашей стране исследователь истории письма Игорь Михайлович Дьяконов (1915–1999), «для классификации видов письма важна не форма знаков…, а характер передачи знаками элементов речи». Но фонология, особенно структурная, большое место уделяет именно форме знаков (фонем). Классификация же знаков, к примеру, кириллического или латинского письма по форме мало интересна для лингвистики, поскольку человек, полностью овладевший письменной системой, воспринимает букву как единое целое. Однако она может быть существенной, например, для психологии чтения: какие-то знаки можно спутать из-за сходства их формы, а какие-то нет. Известно, например, что расположение латинских букв на клавиатуре компьютеров далеко не идеально: частотная буква a, скажем, находится на самом краю, тогда как удобнее такие буквы иметь в центре (что соблюдено в кириллической клавиатуре). Но, конечно, у людей уже выработались привычки, из-за которых менять этот порядок не более реально, чем изменить, безусловно, неудобную английскую орфографию. Однако это особый случай.
Как пишет Дьяконов, «существует 4 основных вида письма: идеографический, словесно-слоговой (логографически-силлабический), собственно силлабический и буквенно-звуковой (алфавитный)». Идеографический вид передает некоторое значение независимо от фонетики и грамматики. Такое письмо было ограничено в своих возможностях, существуя как переходный этап от чисто рисуночного (пиктографического) письма к более развитым его видам. Так писали, например, в Шумере в начале 3 тысячелетия до н. э.
Следующий этап — иероглифика в обычном своем виде. Наиболее известны иероглифические системы: египетская с конца IV тысячелетия до н. э., шумерская с середины III тысячелетия до н. э., китайская с II тысячелетия до н. э., майя с I тысячелетия до н. э. Из них китайская — единственная система, известная в течение более трех тысячелетий и существующая по сей день. Китайский иероглиф одновременно выражает некоторое значение и обозначает слово или корень с этим значением. Иероглиф вовсе не является неразложимой «картинкой». Все иероглифы, кроме немногих самых простых, состоят из элементов, соединенных определенным образом, и каждый из них может входить в состав большого числа знаков. Некоторые из этих элементов указывают на чтение иероглифа, другие — на класс его значений. Например, иероглифы, обозначающие птиц или рыб, включают в свой состав определенный элемент, который значит птица или рыба. Еще около двух тысяч лет назад китайская лингвистическая традиция началась с каталогизации элементов, из которых они состоят, благодаря этому был установлен порядок расположения иероглифов в словарях.
Древнекитайский язык имел особую структуру, частично сохранившуюся в современном языке: там не было морфологических показателей, а слово почти всегда состояло из одного слога; как правило, иероглиф соответствовал слогу и слову. В современном языке распространены и сложные слова из нескольких корней и нескольких слогов; в таком случае иероглиф соответствует односложному корню. В VII–IX вв. китайская письменность была приспособлена к японскому языку, обладавшему иным строем: там имеется большое количество грамматических показателей. Вместе с иероглифами было заимствовано много китайских слов и корней. Однако исконно японские слова неудобно было фиксировать только иероглифами, которыми нетрудно записывать корни, но не грамматические элементы. Поэтому из упрощенных начертаний иероглифов в IX–X вв. сформировались несколько типов фонетического письма — каны, употреблявшихся наряду с иероглифами; по аналогичному пути с XV в. пошли и в Корее, где также разработали фонетическое письмо. Во всех странах, где используют иероглифы, их филологическое изучение находится на очень высоком уровне.
В настоящее время только иероглифами пишут лишь на китайском языке во всех странах его распространения. Китайский язык, однако, теперь уже нельзя признать состоящим только из знаков, употребляемых по значению: новые заимствования, в основном из европейских языков, пишутся знаками, подбираемыми по звучанию независимо от смысла. Смешанное письмо используют в Японии и Республике Корея (Южной Корее); в последней иероглифами сейчас пишут лишь китайские заимствования, и то все реже. Попытки перевести китайское письмо на латиницу предпринимались в 1930-е гг. для советских китайцев и в 1950-е гг. в КНР, но не дали результата. Не удались подобные попытки и в Японии. Но иероглифы отменили во Вьетнаме в годы, когда он был колонией Франции, и в КНДР при Ким Ир Сене. Во Вьетнаме их заменили латиницей (сохранившейся и при независимости), а в КНДР — корейским фонетическим письмом.
Следующий этап — слоговой (силлабический), при котором знак передает звучание, а не слово. Однако на этом этапе знаки не всегда соответствуют тому, что мы привыкли называть звуками. В наибольшей степени такие письменности сохранились в Индии и сопредельных с ней странах, в Японии и обеих Кореях. В индийских письменностях простые знаки передают слоги, состоящие либо из одного гласного, либо из слога типа «согласный + гласный а»; если в слоге другой гласный, то знак видоизменяется, для передачи отсутствия гласного в конце слова используется особый значок. В японской кане выделяются не слоги в нашем понимании, а особые единицы: слог, состоящий из согласного и гласного (или одного гласного), пишется одним знаком каны, но вторые части дифтонгов и долгих гласных, а также немногочисленные в этом языке конечнослоговые согласные требуют отдельного знака. Именно эта единица (он, буквально «звук»), а не заимствованная позже из европейской науки фонема является главной звуковой единицей для японцев. И когда говорят, например, что японские стихи в жанре танка состоят из 31 слога, это неточно: там такое количество онов, а слогов в нашем понимании может быть меньше. В японской кане 46 «букв», то есть их больше, чем в кириллице или латинице, но ненамного. Надо учитывать значительные ограничения на состав слога в японском языке. Именно из-за сложившихся представлений о звуковых единицах в Японии с большим трудом осваивалась латинская письменность: от знакомства с ней до ее полноценного освоения прошло более столетия. Делить последовательность «согласный + гласный» на две части японцам всегда было трудно.
Наконец, дальнейшее развитие письма привело к появлению алфавитных письменностей. Промежуточным звеном стали консонантные системы письма, где обозначаются лишь согласные звуки — или долгие (но не краткие) гласные. Первой такой системой, которая считается первичной для всех алфавитов, было древнесемитское (финикийское) письмо, появившееся в восточном Средиземноморье во второй половине 2 тысячелетия до н. э. Семитские языки обладают особой чертой в своем строе: там корни состоят из согласных, между которыми вставляются гласные с грамматическим значением. В связи с этим консонантное письмо распространилось среди носителей семитских языков. До сих пор им пользуются для арабского языка, иврита и ряда других языков. Однако для иного по строю идиша были придуманы способы обозначения гласных, а для тюркских и иранских языков, где с распространением мусульманской культуры было принято арабское письмо, в начале ХХ в. предлагались реформированные письменности с обозначением гласных, которые, однако, были в СССР вытеснены латиницей, а затем кириллицей.
Первым письмом, где обозначались как согласные, так и долгие и краткие гласные, стало греческое, происшедшее из финикийского; оно сформировалось в VIII–VII вв. до н. э. От него произошли другие европейские алфавиты, в том числе латинский и кириллический. Эти письменности используют буквы, которые в качестве общего правила соответствуют фонемам, однако такое соответствие далеко не взаимно однозначно: в русской письменности последовательности из четырех фонем йул'а на письме соответствует графическое слово из трех букв (одна из которых к тому же прописная) Юля. Конечно, учение о фонеме было разработано значительно позже, чем сложились основные алфавитные письменности, но, как уже говорилось, «стихийные фонологи» учитывали свои интуитивные представления о лингвистически значимых свойствах звуков, а в ХХ в. происходило и научное конструирование алфавитов на основе фонологических концепций.
Отмечу, кстати, что и кириллическая, и латинская письменности являются, как и, например, японская и в меньшей степени китайская, смешанными иероглифо-фонетическими. Языков, совсем не пользующихся иероглифами, видимо, не бывает. Мы постоянно пользуемся иероглифами, то есть знаками, используемыми по значению, а не звучанию (в большинстве, но не на 100 % одинаковыми для кириллицы и латиницы), например: 4, %, + (см. верхний ряд клавиатуры компьютера, состоящий из иероглифов и знаков препинания). Даже такое, казалось бы, экзотическое для нас, но широко используемое в Японии подписывание сбоку или сверху иероглифа его прочтения, когда оно, возможно, не всем известно, может встретиться и у нас. Мне пришлось видеть в Москве надпись у входа в поликлинику во время эпидемии гриппа, где людей с повышенной температурой просили проходить через отдельную дверь. Там к иероглифу, состоящему из латинской буквы t с кружком вверху справа — t°, было приписано его чтение: температурой.
Определенную связь с типом письма имеет и роль, которую письмо играло и играет в разных культурах. Особенно это относится к культурам Дальнего Востока. В Китае сложность иероглифов требовала обращать на них особое внимание. Кроме того, звуковые различия между так называемыми китайскими диалектами настолько велики, что их носители не понимают друг друга. Но в пределах всего Китая имелись единая письменность и основанный на ней язык культуры — вэньянь. Затем его место занял новый язык — путунхуа; однако и он долгое время распространялся в основном в иероглифическом виде. Мне еще в 1993 г. приходилось наблюдать в Гонконге, как высокообразованные, но умевшие говорить лишь по-пекински российские китаисты не могли разговаривать с местным населением, поскольку там распространен иной диалект. Зато читать им было несложно. Лишь после образования в 1949 г. КНР началось активное распространение через школу, радио и телевидение пекинского произношения. Отчасти та же ситуация была и в Японии: хотя там фонетическое письмо играет более значимую роль, звуковые различия диалектов и там велики.
Такая роль иероглифов требовала их исследования, и, как уже упоминалось, китайская лингвистическая традиция была с самого начала связана с изучением письма. Иероглифика вызывала особое почтение и ощущение ее эстетической значимости как в Китае, так и в Японии, Корее и Вьетнаме. Искусство каллиграфии играет заметную роль в дальневосточных культурах. Не так давно видный японский социолингвист Т. Сибата (1918–2007) писал: в Европе слово — прежде всего, нечто произнесенное, но для японца оно в первую очередь осознается как нечто написанное. И эти представления воспитываются у японцев с детства. Специалисты отмечают, что японские дети лучше и быстрее воспринимают визуальный компонент телевидения, а их американские сверстники более ориентируются на вербальный компонент и плохо реагируют на передачи без звука. При этом надо учитывать, что в визуальный компонент входит не только внеязыковое изображение, но также письменные тексты, роль которых на японском телевидении из-за иероглифики значительнее, чем в других странах. И иностранные наблюдатели замечают, что японцы, припоминая какое-нибудь слово, пишут пальцами в воздухе соответствующий иероглиф и лишь после этого произносят не столько слово, сколько его чтение.
Противоположная ситуация, как выше уже отмечалось, сложилась в индийской культуре, где даже лингвистические труды создавались и передавались устно. Европа находилась где-то посередине. С одной стороны, грамотным в обычном смысле, но далеким от лингвистики человеком письменная речь воспринимается как более важная по сравнению с устной. Как отмечала первая у нас женщина — профессор общего языкознания Розалия Осиповна Шор (1894–1939), для таких людей «основной единицей речи обычно представляется графическое слово». Звуки постоянно воспринимаются через буквы, хотя их соотношение, как уже сказано, далеко не однозначно. Вот пример: в газетном интервью актриса рассказывает, как ей пришлось по роли произносить слова по-испански, но, выйдя на сцену, она все забыла. Но «к счастью, память в последний момент включилась, и текст я произнесла, перепутав только одну букву». Ясно, что она перепутала не буквы, а звуки, но она представила себе письменный текст на неизвестном ей языке, по которому учила роль. Звуки и буквы постоянно смешивали и лингвисты, даже Гумбольдт; окончательно их разграничили в европейской науке лишь во второй половине XIX в.
С другой стороны, собственно изучение графики в отличие от изучения фонетики не играло в европейской традиции большой роли. Видимо, причиной послужила относительная простота фонетического письма (в начале книги я упоминал, что в античном мире обучение грамоте считалось ремеслом). А престиж, которым до того всё же пользовалось письмо, резко упал в эпоху романтизма, в первой половине XIX в. Тогда распространилось представление, согласно которому настоящее бытие язык имеет только в устной форме, поскольку устную речь используют все, а письменную — только сравнительно узкий круг образованных людей. Письмо стали считать «искусственной» формой, ограниченной в своем функционировании. Такое представление, появившееся в период, когда в Европе было еще много неграмотных, сохранялось и тогда, когда грамотность стала всеобщей. По-видимому, отсюда происходит смешение двух разных противопоставлений в языке: устного письменного и разговорного книжного, о чём дальше пойдет речь. С этим было связано и другое мнение: письменность — лишь вспомогательная перекодировка устной речи, практически необходимая, но не играющая самостоятельной роли. Так, как мы видели, считал в начале ХХ в. и Ф. де Соссюр. Лингвисты приравнивали письмо к другим, действительно вспомогательным системам коммуникации вроде сигнализации флажками и телеграфной азбуки Морзе, считая, что язык при разных способах реализации (как иногда это называют лингвисты, в разных манифестациях) остается тем же самым. Так вслед за Соссюром считали в большинстве своем и структуралисты.
При этом многое не учитывалось, хотя, безусловно, в разных языках соотношение устного и письменного вариантов языка может быть различным. Значительнее всего оно в языках с иероглифической письменностью. Рассказывают о таком случае. 15 августа 1945 г., когда император Хирохито выступил по радио (впервые в истории страны) с заявлением о капитуляции, многие слушатели его не поняли, а некоторые даже решили, что он объявляет о победе в войне. Дело было, прежде всего, в том, что в японском языке, особенно среди многочисленных заимствований из китайского языка, весьма распространена омонимия, снимаемая на письме благодаря иероглифам, но неустранимая в устной речи. Когда в Японии в 1920-е гг. появилось радио, первоначально в радиопередачах просто читали уже написанные тексты, например статьи из газет, которые отличались сильно выраженной книжностью с громадным количеством китаизмов, и статьи эти невозможно было адекватно воспринять на слух. А император читал именно письменный текст.
И сейчас в Японии можно постоянно наблюдать, как, например, письменный текст научного доклада, розданный участникам конференции, не вполне соответствует тому, что говорится с трибуны или кафедры. Термины (в большинстве составленные из китаизмов), записанные последовательностями иероглифов, заменяются в устном тексте либо описательными выражениями, либо словами, взятыми из английского языка: на слух это понятнее. А на телевидении, если диктор читает новости, принято их дублировать на табло или бегущей строкой: если зритель что-то не поймет на слух, то сможет прочесть. Однако тексты вовсе не идентичны: обычно устный текст новостей более развернут, письменный же — сжат и содержит только главную информацию.
В японском языке играют важнейшую роль и формы вежливости (этикета), упоминавшиеся в разделе о говорящем и слушающем. Эти формы по-разному функционируют в устной речи и на письме. В письменном тексте при изложении точки зрения какого-нибудь уважаемого ученого может не быть никаких форм вежливости, но при чтении текста эти формы почти обязательно добавляются: при устном общении правила этикета намного жестче. В устном тексте могут добавиться и не обязательные в письменном докладе этикетные формулы по отношению к собеседникам.
Русский язык, казалось бы, не имеет столь больших расхождений. Но, разумеется, мы ощущаем, что наиболее привычные для нас разновидности письменных текстов (деловые, газетные, научные и др.) имеют отличия от типичных устных текстов, отличающихся непринужденностью и чаще связанных с бытовыми темами. В связи с этими отличиями говорят о разговорных и книжных текстах. Предполагается, что разговорные тексты должны иметь устную реализацию, а книжные — письменную; исключение составляет разве что имитация разговорной речи в диалогах художественной литературы. Для разграничения разговорной и книжной речи, по-видимому, значимы темы общения (для разговорной речи бытовые, для книжной — интеллектуальные) и разное отношение к языковой норме (норма эксплицитнее и выдерживается строже в книжной речи). Разговорная речь обычно спонтанна и направлена на определенного собеседника (выше это было названо индивидуальным общением), а книжная заранее подготовлена и связана с массовым и квазииндивидуальным общением. Книжный текст обычно синтаксически сложнее, чем разговорный, и содержит специфическую книжную лексику.
Однако все эти признаки не всегда соответствуют различию устного и письменного каналов общения. Устный текст может быть заранее подготовлен (лекция, приветственная речь и пр.; крайний случай — воспроизведение текста наизусть), а письменный спонтанен (обмен записками между студентами на лекции, интернет). Массовое общение распространено и при использовании устного канала: лекция, научный доклад, речь на митинге. Наконец, записки или общение в интернете могут быть разговорными, а произнесенный «по бумажке» или даже «без бумажки» научный доклад — книжным. Как писал еще в 1962 г. Панов, «разговорный стиль чаще всего воплощается в устной речи (хотя не только в ней), а книжный — в письменной речи (однако не всегда именно в ней)»
Однако и в русском языке, как и во всяком другом, пусть в меньшей степени, чем в японском, имеются и различия именно устного и письменного вариантов языка, независимые от противопоставления «разговорный — книжный». Они проявляются, например, когда читается вслух написанный текст: книжные особенности при этом сохраняются, а особенности письменного варианта — нет.
Наиболее явный случай — инициалы. В любом письменном тексте от философского трактата до записки на лекции их употребление вполне нормально и стилистически не маркировано. Однако в устной речи их употреблять не принято (их использование здесь воспринимается либо как шутка, либо как плохое владение правилами). Когда мы читаем письменный текст вслух, инициалы либо опускаются, либо заменяются на полные имя и отчество. Это происходит автоматически. Или, скажем, распространенное в устных книжных текстах словосочетание конец цитаты. На письме оно вряд ли встречается, поскольку цитата передается кавычками. Есть и случаи, когда устное функционирование текста практически невозможно: сложные математические формулы могут не иметь полных устных эквивалентов, и часть информации выражается только на письме. Невозможно также в устной речи, даже при чтении вслух, адекватно передать различие между прямым шрифтом и курсивом, прописными и строчными буквами, а в письменной речи — интонационные различия. Всё это не зависит от стиля и жанра. А как еще передать стилистические эффекты в связи с использованием в тексте разных алфавитов? Такое смешение в русском языке бывает реже, чем, например, в японском, но сейчас становится всё более частым.
До недавнего времени всё перечисленное, однако, оставалось более или менее периферийным. Но теперь с распространением переписки по интернету и СМС-сообщений ситуация меняется и в России, и в других странах.
Если книжная устная речь всегда была распространена, то письменная разговорная речь в русском и ряде других языков до недавнего времени встречалась сравнительно редко, так что исследователи могли ее игнорировать. Но теперь по всему миру на многих языках распространились интернет и СМС-сообщения. Это письменные тексты, всегда сохраняющие свои признаки вроде инициалов, но среди них, наряду с книжными, много и разговорных. У одной журналистки я встретил высказывание: «Интернет-русский — это же типичная запись устной речи».
Но это не вполне так. Здесь стали наблюдаться явления, которые принципиально возможны лишь в письменной разговорной речи. Русские тексты в СМС-сообщениях или социальных сетях, как уже хорошо известно, отличаются не только специфической лексикой, но и намеренными нарушениями орфографии, которые просто не могут иметь эквивалентов в устной разговорной речи. В итоге создаются особые коды, понятные лишь посвященным; здесь ярко проявляется социальная функция языка. Также распространены смешанные кириллическо-латинские тексты. Любопытно и здесь сопоставить русский язык с японским. Там также появляются нестандартные виды письма, распространенные у молодежи, особенно у девушек. Если для русского языка распространены языковые игры с орфографией, но не с графикой, то в японском «девичьем письме» графически видоизменяются письменные знаки (как иероглифы, так и каны). Всё это стало изучаться в лингвистике лишь в самое последнее время.
Таким образом, «устный — письменный» и «разговорный — книжный» — два разных противопоставления, и их различия не следует игнорировать, тем более что в последнее время они для многих языков стали увеличиваться.
Еще один вопрос, который нужно рассмотреть в связи с устройством языка, — вопрос о сопоставлении устройства различных языков.
10 Общее и особенное в языках
Идея сравнения языков, как уже говорилось, появилась в европейской науке сравнительно поздно. Лишь в XVI–XVII вв., когда уже был накоплен материал по ряду языков, прежде всего европейских, была поставлена задача разграничения общих свойств языка и особенностей конкретных языков (или, выражаясь терминами Хомского, глубинных и поверхностных структур). В «Грамматике Пор-Рояля» была четко сформулирована идея о том, что существует общая логическая структура для всех языков. Однако в конкретных языках она может отражаться по-разному, иногда прямо, а иногда достаточно сложным образом. Каждый язык выражает некоторое мыслительное содержание, в принципе единое для человечества; это содержание должно передаваться везде, но не все свойства конкретных языков соотносятся с этим содержанием. Например, род неодушевленных существительных — свойство чисто «поверхностное», в разных европейских языках род не совпадает. Идеи, высказанные в XVII в., были очень глубокими, но ограниченным был языковой материал, которым тогда владели в Европе. Авторы «Грамматики Пор-Рояля» в основном использовали лишь материал латинского и французского языков, в меньшей степени — древнегреческого, испанского и итальянского. Универсальная логическая система понималась как контаминация систем реальных языков Европы, включая древние. Например, эталонной, «логической» системой падежей признавалась латинская система, поскольку там падежей было больше всего. Во французском же языке признавалось, что родительный падеж выражается предлогом de, винительный — постановкой имени после глагола, звательный — опущением артикля и т. д. С другой стороны, в «логическую» систему включались определенный и неопределенный артикли, хотя как раз в латыни их не было, здесь эталоном считалась французская система, более логичная и «правильная», чем испанская или итальянская. Вопрос же о «логическом» порядке слов вообще не рассматривался, поскольку во всех известных авторам грамматики языках основным или по крайней мере возможным был порядок «подлежащее — сказуемое — дополнение».
В XVII–XVIII вв. еще не поднимался вопрос о систематическом сравнении языков по их свойствам. Его поставили уже в начале XIX в. в Германии братья Август (1767–1845) и Фридрих (1772–1829) Шлегели, а затем упоминавшийся Вильгельм фон Гумбольдт. Они заложили основы лингвистической дисциплины, которую сейчас принято называть типологией. В ней сопоставляются языки вне зависимости от родственных связей, на основании их структурных свойств. Типологи выявляют и общие свойства всех языков, и индивидуальные особенности отдельных языков, но более всего их интересуют промежуточные явления: те или иные черты, которые встречаются не во всех, но во многих языках мира. В типологии языки сопоставляются по различным параметрам, которые могут принимать разные значения, а также по отношениям между этими параметрами.
Основатели типологии обратились к морфологии, которая тогда была самой развитой в Европе областью языкознания. Исходя из посылок, впоследствии отвергнутых наукой (братья Шлегели и Гумбольдт пытались найти в разных языковых типах разные стадии развития человеческого мышления), они выделили некоторые существенные параметры для сопоставления языков. Братья Шлегели разделили языки на флективные, агглютинативные и аморфные (последние были позже переименованы в изолирующие). Гумбольдт добавил еще один класс — инкорпорирующие языки. Эти понятия до сих пор, несмотря ни на что, сохранились в лингвистике.
Флективные, агглютинативные и изолирующие языки образуют некоторую шкалу, где класс агглютинативных языков как бы находится посередине между двумя другими. Каждый из классов обладает некоторой совокупностью признаков, в основном морфологических. Эталонные флективные языки — древние индоевропейские (древнегреческий, латинский, санскрит), близок к этому эталону и русский язык. В этих языках хорошо выделяются слова; каждое слово обычно грамматически оформлено, распадаясь на корень (корни) и аффиксы; значимые части слова тесно срастаются друг с другом и обычно имеют несколько вариантов; обычное явление — выражение одним и тем же аффиксом разных грамматических категорий (скажем, окончания русских прилагательных сразу обозначают род, число и падеж). Эталонные агглютинативные языки — тюркские и монгольские; близки к ним по строю финно-угорские, дравидийские, отчасти корейский и японский. В этих языках слово также состоит из корня (корней) и аффиксов, но связь между ними менее тесна, а их границы очевидны; в связи с этим не столь очевидны границы слов и различия между аффиксами и служебными словами; аффикс обычно обозначает лишь одну грамматическую категорию. В изолирующих же языках (китайский, вьетнамский и др.) слова обычно грамматически не оформлены и имеется тенденция к совпадению корня со словом (в ряде этих языков есть и служебные слова, с трудом отделимые от знаменательных); аффиксы и обязательные грамматические категории отсутствуют, а грамматические отношения передаются порядком слов и служебными словами. Если двигаться от типичных флективных к типичным изолирующим языкам, то всё более четкими становятся границы морфем (в том числе корней) и всё менее четкими — границы слов. Инкорпорирующие языки не стоят в одном ряду с другими классами. К ним относят, например, чукотский язык, некоторые языки индейцев Северной Америки. В этих языках слово часто совпадает с предложением: в глагол включаются элементы, обозначающие подлежащее и дополнения.
Как и другие лингвистические дисциплины, типология имела периоды «приливов» и «отливов». Идея о том, что разные типы языков различаются по степени совершенства (самыми совершенными считались флективные языки) и отражают стадии человеческого мышления, была отвергнута еще во второй половине XIX в. После этого несколько десятилетий типология почти не развивалась. Ее возрождение началось в 1921 г., когда появилась книга уже упоминавшегося Эдварда Сепира «Язык». В 1920–1930-е гг. были выдвинуты две важные идеи, изменившие характер типологии. В отличие от ученых XIX в., для которых типологическая классификация языков была принципиально единой, отражавшей стадии движения человеческого духа, Сепир определил такую классификацию как выделение разных параметров, свободно комбинирующихся друг с другом. Это, в частности, позволило найти место инкорпорирующим языкам, которые «не влезали» в традиционную шкалу. Если флективные (фузионные, в терминах Сепира), агглютинативные и изолирующие языки противопоставлены по степени спаянности морфем между собой, то инкорпорирующие языки (названные Сепиром полисинтетическими; современные лингвисты, впрочем, разграничивают эти два класса) имеют максимальное значение по признаку выражения грамматических значений внутри слова. Им противопоставлены синтетические языки (русский, турецкий), где слово обычно грамматически оформлено, но подлежащее и дополнения выражаются отдельными словами, и аналитические (китайский, английский), где грамматические отношения обычно выражаются вне слова.
Уже в 1930-е гг. чешский лингвист Владимир Скаличка (1909–1991) выдвинул другую важную идею — языка-эталона. Раньше считалось, что языки делятся на классы и каждый язык обязан относиться к какому-то из классов. Однако в языках, как правило, сосуществуют черты разных типов. Скажем, и в русском языке есть агглютинативные аффиксы (например, — ка в давай-ка), а в японском языке существительные целиком агглютинативны, но в глаголе немало флективных черт. Скаличка выделил изолирующий, флективный и пр. эталоны как набор признаков, которые по-разному могут присутствовать в реальных языках. Языки редко полностью соответствуют этим эталонам, но по-разному к ним приближаются. В эти же годы типология перестала быть дисциплиной, основывавшейся лишь на морфологии. Появились фонологические, синтаксические классификации языков; одним из основателей синтаксической типологии стал советский языковед, академик Иван Иванович Мещанинов (1883–1967). Несколько позже начали предприниматься и попытки семантической типологии, исследующей, как выражаются в языках те или иные значения.
Однако для развития типологических исследований есть два очень существенных препятствия. Хотя количество исследуемых языков всегда росло и сейчас несопоставимо со временами «Грамматики Пор-Рояля», для типолога всегда очень трудно решить, насколько его исследование охватывает все языки или хотя бы представительную их часть. На Земле еще есть неизученные территории, где могут найтись абсолютно неизвестные языки. Особенно это относится к джунглям Амазонки и Новой Гвинее. Но даже если язык известен по названию, он может быть совсем не описан. В Юго-Восточной Азии и на юге Китая есть языки, имеющие более миллиона носителей, о которых лингвистам совсем ничего не известно (отмечу, что в Китае сейчас очень активно открывают для науки такие языки).
Но даже в случае, когда описания того или иного языка существуют, встает вопрос о сопоставимости описаний разных языков. Вот совсем анекдотический, но показательный случай. В 1970-х гг. был составлен справочник грамматических показателей в тюркских языках (оставшийся неопубликованным), в котором среди них выделялись языки с инструментальным падежом, языки с орудным падежом и языки с творительным падежом. На самом деле это три разные названия одного и того же падежа, встречающегося в тюркских языках (типологически очень похожих друг на друга). «Орудный падеж» — русская калька термина «инструментальный падеж», который может встречаться в отечественных грамматиках и в виде прямого заимствования. Но в русском языке значение инструмента (писать пером, рубить топором и пр.) свойственно творительному падежу, поэтому тюркский падеж со сходным значением тоже может именоваться творительным. В советских грамматиках разных тюркских языков, материал которых использовался в справочнике, могли употребляться различные термины, что создавало иллюзию принципиального различия между языками. Этот случай — сравнительно простой, но зачастую оказывается нелегко понять, когда за разными терминами скрывается разное содержание, а когда — одинаковое. И наоборот, может оказаться, что один термин в разных грамматиках используется для обозначения совсем разных явлений.
Надо учитывать то, что привычная для нас лингвистическая терминология формировалась на материале древнегреческого и латинского языков, затем была перенесена (иногда с некоторой модификацией) на другие языки Европы. Разумеется, русский язык не во всём похож на латинский и тем более на английский язык. Но, например, в грамматике европейских языков имеют немало общих черт, часто имеющих общее происхождение (из государственных языков Европы все, кроме турецкого, финского, эстонского, венгерского и мальтийского, принадлежат к индоевропейской семье и хотя бы отдаленно родственны друг другу).
Вот один пример. Каждый, кто учил западные языки, знает, что одну из грамматических трудностей составляет употребление времен. И английская, и французская система времен (значительно отличающиеся и друг от друга) сложнее русской системы, времен там больше. Однако во всех индоевропейских языках Европы есть общее свойство: глаголы имеют разные формы для обозначения прошлых, настоящих и будущих действий и состояний. Везде можно говорить, что есть грамматическая категория времени в глаголе (притом что существительные и прилагательные по временам не изменяются). Самое первое в Европе определение глагола, принадлежащее Аристотелю (IV в. до н. э.), было: «сочетание звуков, обозначающее время». И очень долго казалось, что так должно быть в любом языке. Но в других языках всё может быть иначе.
Например, в японском языке, во-первых, времен всего два: прошедшее и непрошедшее (настояще-будущее), во-вторых, по временам изменяются не только глаголы, но и прилагательные. В этом языке, помимо форм со значением «большой» или «красный», есть формы тех же прилагательных со значением «был большим», «был красным». Но там все-таки имеется грамматическая категория времени (так в современном языке; в древнеяпонском языке, скорее всего, ее не было, а была лишь категория вида). Однако на севере той же Японии (Хоккайдо), на Сахалине и на Курильских островах еще недавно существовал загадочный по происхождению айнский язык, чьи родственные связи остаются неизвестными. Сейчас он исчез, полностью вытесненный японским языком, однако исследователи успели его описать. И в этом языке, обладавшим довольно сложной морфологией, вовсе не было категории времени; одна и та же грамматическая форма могла относиться и к прошлому, и к настоящему, и к будущему. Нет такой категории и в китайском, и в других изолирующих языках, где грамматические категории в обычном смысле отсутствуют или почти отсутствуют. Это, конечно, не надо понимать в том смысле, что значения, связанные с прошлым, настоящим или будущим, нельзя выразить в таких языках. Там может быть сколько угодно слов со значениями «раньше», «сейчас» или «завтра». Но это лексика, а не грамматика.
Однако очень многие авторы грамматических описаний «экзотических» языков исходили из того, что в любом языке глаголы обязательно изменяются по временам, которых должно быть не меньше трех. И в изолирующих языках, скажем, служебное слово со значением законченности действия могли трактовать как окончание прошедшего времени. А выдающийся отечественный японист Николай Иосифович Конрад (1891–1970) в грамматике 1937 г. выделил в японском языке грамматические формы трех времен. При этом он указывал, что формы будущего времени могут иметь также значение некатегорического настоящего, а формы настоящего времени — значение категорического будущего. То есть и те и другие формы могут употребляться и в отношении настоящего, и в отношении будущего, различаясь степенью категоричности. Кроме того, существуют (хотя употребляются редко) и формы некатегорического прошедшего, которые Конрад проигнорировал. Как сейчас уже признали в большинстве японских грамматик, там существуют две грамматические категории. Одна из них действительно время, но времен только два. Другая категория обозначает степень реальности действия с точки зрения говорящего (он читает, он читал — он, наверно, читает; он, наверно, читал). Но она отсутствует как грамматическая в европейских языках, поэтому ее долго игнорировали.
Как быть здесь типологу, если он не специалист по японскому языку? Если бы по японскому языку существовала лишь одна грамматика, где выделялась одна категория с тремя временами, то он, скорее всего, использовал бы эту информацию в своих построениях. Правда, из самого текста грамматики можно понять, что значение форм — не временнóе (хотя очевидно, что значение будущего часто совмещается со значением предположения). Однако Конрад не упоминал о формах предположительного (некатегорического) прошедшего, существование которых типолог никак не мог бы восстановить. Для японского языка всё можно скорректировать на основании других грамматик, которых, к счастью, много. Но для очень многих языков существует лишь по одному описанию, часто составленному еще миссионерами в XIX в. или в начале ХХ в., исходившими из европейских шаблонов. А бывало и так, что данные о языке просто оказывались неверными. Например, еще недавно типологи часто использовали данные языка аранта, одного из языков австралийских аборигенов, введенные в научный оборот в 1920-е гг. норвежским лингвистом А. Соммерфельтом. Казалось, что этот язык дает очень важную типологическую информацию. В частности, утверждалось, что в нем только одна гласная фонема, что более не было зафиксировано ни в одном языке мира. И некоторые индоевропеисты предлагали реконструкцию индоевропейского праязыка с одной гласной, полагая, что раз так есть в аранта, то так могло быть и в языке древних индоевропейцев. Но потом выяснилось, что данные по языку аранта просто недостоверны и там нет такой особенности.
Тем не менее, несмотря на все такого рода помехи, лингвистика ХХ в. значительно расширила свои горизонты за счет материала большого числа языков разного строя. Крупнейший французский лингвист Эмиль Бенвенист (1902–1976) писал об этом: «Теперь уже не поддаются так легко, как прежде, соблазну возвести особенности какого-либо языка или типа языков в универсальные свойства языка вообще…. Все типы языков приобрели равное право представлять человеческий язык…. Индоевропейский тип языков отнюдь не представляется больше нормой, но, напротив, является скорее исключением».
При этом, однако, привычные термины и схемы описания, вполне подходящие для «наших» индоевропейских языков, продолжают сохраняться. Отказываться от них нецелесообразно, но материал иных языков требует их уточнения. Как быть с упоминавшимися выше японскими прилагательными? С одной стороны, по значению они соответствуют основным прилагательным европейских языков: большой, маленький, длинный, короткий, белый, зеленый, холодный, горячий и т. д. Эти значения традиционно принято называть качественными. К тому же эти японские слова по морфологическим свойствам отличаются от глаголов: имеют особые окончания, не имеют некоторых глагольных форм, например повелительного наклонения. С другой стороны, они могут быть сказуемыми без связки, они изменяются по временам, по степени категоричности, что сближает их с глаголами. Европейская традиция рассматривала прилагательные как слова, близкие к существительным (отсюда восходящие к древности школьные термины «имя существительное», «имя прилагательное»); в античной системе частей речи вообще выделялась лишь единая часть речи: имя. Но уже японский материал заставляет либо считать данные японские слова глаголами особого типа, либо пересмотреть понятие прилагательного (а языков, где слова с качественным значением сходны с глаголами, немало). Какой вариант выбрать? Есть аргументы в пользу и того и другого подхода, и оба действительно встречаются в лингвистике. Такого рода спорные проблемы постоянно встают перед лингвистами.
Нельзя сказать, что все эти проблемы решены. Введение в оборот нового материала (как материала неизвестных языков, так и фактов, ранее не замечавшихся в известных языках) может увеличить хаос в науке, который преодолевается построением разного рода объяснительных теорий и моделей, упорядочивающих этот материал. Лингвистическая типология за последние десятилетия значительно продвинулась вперед. И многие полученные результаты интересны.
11 Что может типология?
Типология — область лингвистики, соприкасающаяся, с одной стороны, с общей теорией языка, с другой стороны, — с исследованием конкретных языков. Она изучает, что возможно и что невозможно в языках. То есть исходит из принципа, согласно которому существуют общие свойства всех языков мира. Этот принцип, выдвигавшийся авторами «Грамматики Пор-Рояля», В. фон Гумбольдтом и многими другими учеными, подвергался сомнению в некоторых направлениях структурной лингвистики, особенно в дескриптивизме в США. Там считали, что в каждом новом языке лингвист может найти что угодно и нет никаких универсалий языка, универсален лишь научный метод. Однако вся история лингвистики показывает, что пределы языкового разнообразия ограничены, хотя они, разумеется, значительнее, чем это казалось два или три века назад. Едина человеческая природа, едины физиологические возможности человека (строение голосового аппарата и пр.), а, главное, язык нужен каждому человеку для одних и тех целей; этот вопрос здесь еще будет рассматриваться. Как пишет современный российский лингвист Яков Георгиевич Тестелец, «за последние десятилетия было получено много результатов первостепенного значения, в первую очередь эмпирических обобщений, ограничивающих допустимое разнообразие языков. Гипотеза о том, что языки могут по своему строю отличаться друг от друга неограниченным образом по неограниченному множеству параметров, ныне повсеместно оставлена».
Традиционная, так называемая таксономическая типология стремилась классифицировать языки по различным параметрам. В ней производится отбор параметров, устанавливаются типы возможных реализаций каждого такого параметра в разных языках. В идеале такая лингвистическая типология, по мнению ряда лингвистов, должна строиться в виде некоторых универсальных исчислений. На основе предварительного изучения многих языков предлагается единая система признаков, в рамках которой каждый язык получает ту или иную характеристику (в том числе, может быть, и нулевую).
В реальности единственное такое универсальное исчисление было построено еще более полувека назад для фонологии. Это система так называемых дифференциальных признаков. Ее авторами были известные лингвисты Роман Якобсон и Морис Халле (оба — уроженцы России, работавшие к моменту создания теории в США) вместе со шведским акустиком Гуннаром Фантом. Данная система основывалась на теории оппозиций, о которой уже говорилось, разработанной Трубецким при активном участии Якобсона. Дифференциальные признаки — акустические свойства звуков, которые могут противопоставлять их друг другу. Например, д и т противопоставляются по признаку звонкости-глухости. Фонема в данной концепции понимается как «пучок дифференциальных признаков», то есть множество звуков с единым набором таких признаков (все прочие звуковые характеристики признаются несущественными). Например, фонема д в русском языке характеризуется как негласная, согласная, звонкая, компактная, высокая, нерезкая. Все эти признаки с помощью акустика Г. Фанта получили акустическую интерпретацию. Данная фонема также характеризуется признаком ненапряженности, но он для русского языка несуществен (все напряженные фонемы одновременно глухие), хотя в каких-то других языках он может быть дифференциальным.
В данной классификации выделяется около двух десятков дифференциальных признаков, на основе которых принципиально можно описать фонологическую систему любого языка. На каждую такую систему накладывается единая сетка дифференциальных признаков, при этом в том или ином языке какая-то часть признаков может оказаться несущественной. В худшем случае может оказаться, что в каком-то новом языке отыщется ранее не введенный признак, необходимый для описания системы, но опыт применения ее для большого числа языков привел лишь к небольшому ее усложнению. В итоге получилась универсальная система описания (универсальное исчисление), независимая от особенностей конкретного языка; если такие особенности есть, они могут повлиять на набор используемых в языке дифференциальных признаков, но не меняют саму систему.
Якобсон придавал очень большое значение теории дифференциальных признаков, полагая, что она вскрывает сущность фонем и их систем. С этим согласились далеко не все фонологи. Однако как полезный инструмент для единообразного описания фонологических систем и для их сравнения в фонологической типологии такой подход очень удобен.
Неоднократно предпринимались попытки построить подобное универсальное исчисление для других уровней языка или хотя бы для отдельных их фрагментов. Однако оказалось, что сделать это во много раз сложнее ввиду значительно большей сложности самих систем. Если набор фонем в любом языке очень невелик (в пределах нескольких десятков), то уже набор грамматических элементов — окончаний, служебных слов и т. д. — значительно больше и не поддается пока даже приблизительному подсчету. Однако в последнее время ученые приблизились к разработке универсальных параметров для морфологии.
Значительно больше сделано для типологического изучения отдельных существенных фрагментов грамматики языков. Один из примеров — упоминавшаяся выше классификация языков на флективные, агглютинативные и изолирующие, которая по-прежнему сохраняет силу. Другой пример — изучение глагольных категорий, более четырех десятилетий развиваемое Ленинградской (ныне Петербургской) типологической школой, основанной крупнейшим отечественным типологом, японистом и кореистом Александром Алексеевичем Холодовичем (1906–1977).
Холодович опирался на идеи, выдвинутые еще в 1940-е гг. Щербой. Эти идеи так формулировали ученики Щербы Лев Рафаилович Зиндер (1910–1995) и Юрий Сергеевич Маслов (1914–1990): «Вся грамматика мыслится… не как учение о формах, а как сложная система соответствия между смыслами, составляющими содержание речи, и внешними формами выражения этих смыслов, их (смыслов) формальными показателями». Эти соответствия Холодович предложил изучать на материале грамматических категорий глагола, связанных с синтаксисом предложения. За прошедшие десятилетия были подготовлены коллективные труды, посвященные типологии каузативных (побудительных), пассивных, императивных (повелительных), условных, уступительных и др. конструкций на материале достаточно большого числа языков. Во всех случаях для изучения отбираются значения, достаточно часто получающие в языках мира грамматическое выражение в глаголе, но привлекается и материал языков, где нет специализированных глагольных форм, однако соответствующие значения как-либо передаются в синтаксисе и / или лексике. Тем самым реализуется принцип движения от значения к форме и отражается деятельность говорящего. Пока этот принцип не реализован на материале языка в целом, это дело неблизкого будущего. Однако отдельные фрагменты изучаются таким способом уже сейчас. Такой подход дает возможность учитывать семантическую мотивированность многих синтаксических и морфологических характеристик языка, неслучайность тех или иных формальных средств выражения тех или иных значений, распространенность в языках мира одних грамматических способов и нераспространенность других.
В виде примера рассмотрим вышедшую в 2004 г. под руководством ученика Холодовича, Виктора Самуиловича Храковского, книгу «Типология уступительных конструкций». Такие конструкции имеются в очень многих (хотя, возможно, не во всех) языках. Во вводной статье Храковского дается некоторое общее определение уступительной конструкции, представляющей собой частный случай синтаксической конструкции, состоящей из двух частей: синтаксически независимой и синтаксически зависимой. Каждая из частей отражает некоторую ситуацию, а в конструкции в целом отражена некоторая связь между ситуациями. Уступительные конструкции, как пишет Храковский, «отображают ненормальное (неестественное) сосуществование или следование ситуаций». Эти конструкции делятся на два класса: причинно-уступительные, или просто уступительные (русские конструкции с хотя), и условно-уступительные (русские конструкции с даже если), часто имеющие различия в выражении в тех или иных языках. Выделяются также некоторые более частные случаи. Наряду с классификацией значений производится формально-синтаксическая классификация уступительных конструкций: знакомые нам по школьному учебнику сложноподчиненные предложения, осложненные предложения, сложносочиненные предложения, простые предложения (где зависимая часть представляет собой уступительное обстоятельство), сверхфразовые единства (последовательности формально самостоятельных предложений). Далее выделяются способы связи в тех или иных конструкциях: в сложноподчиненных предложениях это союзная связь (обычная для русского языка), связь с помощью других служебных слов, бессоюзная связь. В осложненных предложениях зависимая часть обозначается особыми глагольными формами — деепричастиями и причастиями, которые могут быть специализированными с уступительным значением, но могут иметь общее значение; особо рассматриваются разные возможности употребления времен в каждой из частей конструкции. Выделены также лексические единицы с уступительным значением, сопутствующие тем или иным синтаксическим способам. В итоге предлагается два исчисления теоретически возможных уступительных и условно-уступительных конструкций; первых насчитывается 27, а вторых — 54. В реальности, однако, встречается менее половины из них.
Далее в книге даются 20 очерков уступительных конструкций в языках разных семей и типов, в основном языков Европы и Азии (реально количество привлекаемых языков больше, например один из очерков посвящен сразу многим тюркским языкам). Выделяются языки с преобладанием в данном значении сложноподчиненных предложений (славянские, романские, германские, финно-угорские, китайский, индонезийский и др.) и языки с преобладанием осложненных предложений (тюркские, дагестанские, японский и др.), лишь в последних языках бывают специальные уступительные формы глагола. В особый класс выделен древнегреческий язык, где уступительные конструкции обычно представляют собой осложненные предложения, а условно-уступительные конструкции — сложноподчиненные предложения.
Современные типологические исследования во многом отличаются от трудов братьев Шлегелей и Гумбольдта или даже Сепира, однако в некоторых отношениях наблюдается и возврат к подходам основателей типологии начала XIX в. Эти ученые понимали типологию как объяснительную науку, позволяющую понять закономерности развития человеческого мышления. Они понимали свою дисциплину очень широко и ставили перед собой важнейшие проблемы, однако их априорная идея стадий в языке не подтвердилась. В течение большей части ХХ в. типология была, наоборот, чисто описательной наукой, ограничиваясь констатацией того, что бывает (или чего не бывает) в языках. Сейчас вновь ставится задача объяснительной типологии. Как писал Кибрик, «на смену безраздельного господства… КАК — типологии приходит объяснительная ПОЧЕМУ — типология, призванная ответить не только на вопросы о существовании, но и о причинах существования / несуществования тех или иных явлений». Такой поворот наметился и у нас, и в США и Европе с 1970–1980-х гг. При этом объяснения могут быть и чисто структурными, и выходящими за пределы внутренней лингвистики в смысле Соссюра.
Например, в агглютинативных языках в одном слове возможно большое количество суффиксов, порядок которых является очень строгим. Эти правила порядка некоторые современные типологи объясняют тем, что расположение суффиксов относительно корня повторяет степень семантической связанности между ними. Например, значение числа более тесно семантически связано со значением слова, чем значение падежа, поэтому показатель числа во многих языках с преобладающей суффиксацией стоит перед показателем падежа, то есть ближе к корню, обратный же порядок не встречается. Такое объяснение не чисто формально, оно связано с семантикой, но обходится рассмотрением устройства языка, не прибегая к учету его функционирования. Однако могут встречаться (и встречаются в современной лингвистике всё чаще) объяснения, учитывающие обстоятельства использования или приобретения языка человеком, о них речь пойдет ниже.
Многое в устройстве языка и сейчас еще не познано. Однако всё более ясно становится, что в языке всё взаимосвязано. Этот тезис декларативно высказывается уже давно, но он обычно на практике сводился к рассмотрению либо ограниченных фрагментов системы, либо такого сравнительно простого языкового уровня, как фонологический. Между тем связанными неслучайной связью могут быть явления самых разных уровней языка. Впервые на это обратил внимание еще в 1960-е гг. американский лингвист Джозеф Гринберг (1915–2001). Он показал, что тот или иной преобладающий порядок слов может быть не случайно связан с другими свойствами того же языка. Например, в языках, где главное сказуемое находится строго в конце предложения (тюркские, дравидийские, японский и др.), развита суффиксация и мало развита или вообще отсутствует префиксация, бывают послелоги, а не предлоги и т. д. Современная наука уже выделила много подобных соотношений. Очевидное соотношение между фонологией и грамматикой видно в двух географических зонах мира: в Восточной и Юго-Восточной Азии (китайский, вьетнамский и другие языки) и в Западной Африке. Здесь в фонологии наблюдаются очень строгая структура слога (вспомним, что именно слог был первичной единицей в китайской традиции) и наличие тонов, а в грамматике — изолирующий строй. Оказывается, что все эти характеристики очень жестко связаны между собой и ни одна из них не встречается в языках мира порознь. Причины этого, однако, пока до конца не ясны, о них продолжаются споры.
Итак, и в области типологии структурный подход не исчерпал своих возможностей. Однако чисто структурное исследование, ограничивающееся вопросом: «Как устроен язык?», слишком многое не объясняет, что становится особенно ясным в последние десятилетия. Оно наиболее автономно в области фонологии, если ее понимать как науку о фонемах, но уже такое фонетическое явление, как интонация, тесно связано с функционированием языка. Но прежде чем перейти к вопросу о функционировании, нужно рассмотреть еще один важнейший вопрос лингвистики: «Как развивается язык?».
12 Как и почему изменяется язык?
Как уже говорилось, лингвистические традиции не обладали представлением об изменении языка. Языки либо считались неизменными, либо трактовались как частично испорченные людьми; задача ученых понималась в том, чтобы избавляться от этой порчи. Широко известное слово греческого происхождения этимология стало пониматься в современном смысле — как изучение истории слов — лишь в XIX в., а до того, начиная с античности, этимологи старались выяснить «истинное» значение слова, всегда существующее, но забытое или искаженное.
Причины этого были не только в представлении о языке как божьем даре. В период господства языков культуры задача лингвистической традиции заключалась в поддержании и совершенствовании нормы этих языков. А норма любого языка, включая и современные литературные языки, должна быть устойчивой и определенной, в идеале неизменной. Как писал про идеал языковой нормы видный русский лингвист Александр Матвеевич Пешковский (1878–1933), «из всех идеалов это единственный, который лежит целиком позади». Сама идея изменения языка, особенно нормативного языка, с трудом усваивается людьми. Поливанов приводил высказывание одного интеллигентного, но далекого от лингвистики человека: «Разве язык изменяется? Ведь мы, когда учимся говорить, просто-напросто заучиваем тот язык, на котором говорили наши родители, а они в свою очередь усвоили речь своих родителей и т. д., и т. п. Нашей задачей в нашем детстве, как и задачей наших родителей и их предков в их период обучения языку, было — научиться говорить именно так, как говорят взрослые, а отнюдь не переиначивать их слова».
Тем не менее изменения языков — факт, не вызывающий сомнения. Это наглядно видно при сопоставлении современного языка с языком предшествующих эпох. Уже у Пушкина мы понимаем не все слова и даже не все грамматические формы. Тем более мы многого не поймем в древнерусских текстах, хотя что-то в них опознается. В XVII–XVIII вв., когда языкознание во многом объединилось с филологией, воспринимавшейся тогда как наука не о текстах вообще, а лишь о старых текстах, эти различия стали осознаваться. Идея борьбы с искажениями неизменного языка сменилась иной идеей: в языке всё изменяется.
Успехи филологии, позволявшей толковать старые тексты, а затем формирование сравнительно-исторического метода привели к господству представлений, прямо противоположных тем, которые были раньше. Весь XIX в. считалось, что изучение языков без углубления в их историю находится вне науки или в лучшем случае относится к «описательной» науке. Объяснить же тот или иной факт — то же самое, что выявить его историю и происхождение. Такой взгляд на язык соответствовал традициям многих наук в XIX в. В лингвистике его наиболее четко сформулировал в 1880 г. немецкий ученый Герман Пауль (1846–1921). Он писал: «Как и всякий продукт человеческой культуры, язык — предмет исторического рассмотрения». Историческая грамматика у него противопоставляется описательной, которая «регистрирует все грамматические формы и правила, употребительные в данной языковой общности в данное время»; указано, что «историческая грамматика произошла от старой, чисто описательной грамматики». То есть вне истории возможна лишь регистрация фактов, а объяснение этих фактов может быть только историческим. Такой подход господствовал до появления «Курса» Соссюра, есть у него сторонники даже сейчас.
Все наиболее строгие методы в науке XIX в., используемые и в наши дни, были связаны с историческим изучением языка. Были филологические методы, позволявшие по тем или иным особенностям текста (например, по ошибкам писца, бессознательно вносившего в текст на языке культуры черты родного диалекта) вскрывать историю языка в письменные эпохи. Ближе к концу века появились методы лингвистической географии, фиксировавшие территориальное распространение тех или иных явлений языка в тот или иной период, в том числе и современного языка; однако нужно это было более всего ради точного выявления путей исторического развития. Интерес к изучению современных диалектов был во многом обусловлен тем, что в них могли сохраняться какие-то языковые реликты, которые остались не зафиксированными в памятниках. Но главным и наиболее престижным методом науки XIX в. стал сравнительно-исторический метод.
Задолго до формирования этого метода были замечены значительные сходства между многими словами многих языков Европы. Латинское frater, немецкое Bruder, английское brother, русское брат похожи друг на друга и по звучанию, и по значению. Идея о том, что регулярные звуковые соответствия между языками свидетельствуют о языковом родстве, высказывалась уже учеными XVIII в., например в «Русской грамматике» (1763–1764) выдающегося немецкого историка и лингвиста Августа Людвига Шлёцера (1733–1809), долго жившего в России. Но строгий метод, позволяющий работать с разнообразным материалом, тогда еще не был выработан.
Толчком к формированию метода послужило в конце XVIII в. сообщение о свойствах языка культуры древних индийцев — санскрита, которое сделал в 1786 г. англичанин Уильям Джонс. Хотя об этом языке что-то знали и раньше, Джонс впервые показал, что многие санскритские слова похожи на слова с теми же или близкими значениями европейских, особенно классических, языков и что можно установить регулярные звуковые соответствия между этими языками. Основателями сравнительно-исторического метода стали немецкие ученые Франц Бопп (1791–1867), Якоб Гримм (1785–1863) и датский ученый Расмус Раск (1787–1832). Их первые публикации появились в 1810-х гг. (раньше всех в 1816 г. появилась книга Боппа). К середине века сравнительно-историческое языкознание (или компаративистика) стало господствующим направлением науки о языке во многих странах Европы, в России его основателем стал А. Х. Востоков (1781–1864). В начале второй половины XIX в. значительный вклад в его развитие внес немецкий ученый Август Шлейхер (1821–1868). В конце XIX — начале ХХ вв. во главе мировой компаративистики стояли так называемые младограмматики; к их числу относились немецкие ученые Бертольд Дельбрюк (1842–1922), Август Лескин (1840–1916), Герман Остгоф (1847–1909), Карл Бругман (1849–1919) и уже упоминавшийся Г. Пауль. В начале ХХ в. большой вклад в нее внес французский лингвист Антуан Мейе (1866–1936).
Метод компаративистики основан на выявлении регулярных соответствий между языками. Если не только в словах брат и frater, но и в ряде других слов русскому б соответствует латинское f, а русскому р в латыни соответствует тоже r, то можно говорить о регулярных соответствиях между языками. При этом помимо принципа регулярности соответствий важны еще несколько принципов. Сравнивать надо не целые слова, а отдельные морфемы (корни, аффиксы), поскольку слова могли сформироваться позже из комбинации древних морфем. Не все морфемы равно показательны: некоторые из них легко заимствуются, а заимствование (которое может происходить и из родственного, и из неродственного языка) — процесс, не свидетельствующий о родстве и, наоборот, мешающий его установить. Впрочем, заимствования могут компаративисту не только мешать, но и помогать, если они пришли в известный нам язык из языка, от которого не сохранились иные данные. Прежде всего, легко заимствуется культурная лексика в широком смысле, включая слова и духовной, и материальной культуры. Такую лексику можно включать в сравнительные исследования лишь с большой осторожностью. Но зато с трудом заимствуются имена родства, числительные первого десятка, названия основных частей тела, местоимения и др. Их прежде всего привлекают для сравнения. Уже в середине ХХ в. американский лингвист Моррис Сводеш (1909–1967) составил список из ста слов, наиболее показательных для компаративиста. Этим списком, иногда в немного измененных вариантах, пользуются современные ученые. Но и в XIX в., когда списка Сводеша еще не было, ученые в основном умели отделять показательную лексику от не показательной.
Самое же убедительное для индоевропеиста — регулярные соответствия в грамматических морфемах, особенно в окончаниях словоизменения; именно их установил еще Ф. Бопп. Сходство таких морфем во многих индоевропейских языках еще в первой половине XIX в. позволило доказать их родство. Потом, однако, выяснилось, что значительная устойчивость морфологических показателей — скорее особенность индоевропейской семьи, чем общая закономерность.
На основе очень сложной и разработанной методики ученые еще в XIX в. научились реконструировать корни и аффиксы праязыка, не засвидетельствованные в письменных источниках. Иногда, хотя и не часто, бывали случаи, когда реконструированную форму потом удавалось найти в памятнике. Так получилось еще в середине XIX в. с так называемой народной латынью — языком-предком современных романских языков (классическая латынь — несколько более раннее состояние этого языка). Такие примеры подтвердили правильность сравнительно-исторического метода. Однако чаще реконструируют слова и формы, относящиеся к той эпохе, когда еще не было и не могло быть письменности. По современным представлениям, индоевропейский праязык существовал в V–IV тысячелетиях до н. э. Тем не менее уже Шлейхер сумел дойти в своих реконструкциях до этого праязыка, он даже решил, что восстановил этот язык настолько, что можно писать на нем тексты, и сочинил басню «Овца и кони». Теперь очевидно, что полностью восстановить праязык нельзя хотя бы потому, что какие-то слова и грамматические формы могли не сохраниться ни в одном известном нам языке-потомке, следовательно, их неоткуда взять. Тем не менее ряд реконструкций Шлейхера актуален и для современной компаративистики.
Уже к середине XIX в. состав индоевропейской семьи был в основном установлен, а к концу века было в общих чертах построено гигантское здание индоевропеистики, хотя достройка его не окончена и сейчас. Лишь в первой половине ХХ в. была доказана индоевропейская принадлежность давно не существующих, но известных по памятникам языков хеттской и тохарской групп. Их материал заставил во многом пересмотреть ранее полученные реконструкции. И сейчас в районе Гиндукуша и западных Гималаев есть, несомненно, индоевропейские, но недостаточно изученные бесписьменные языки.
Развитие компаративистики никогда не прекращалось, в ХХ в. она перестала ограничиваться индоевропеистикой и распространилась на многие семьи, а затем и макросемьи. Но еще в конце XIX в. и особенно в начале ХХ в. сравнительно-историческое языкознание и историческое языкознание в целом оказались в теоретическом кризисе. Как писал в 1920-е гг. советский лингвист Григорий Осипович Винокур (1896–1947), «европейская лингвистика находится ныне в состоянии некоторого внутреннего разброда…. Мы присутствуем при подлинном кризисе лингвистического знания». Его причиной был разрыв между мощным и развитым сравнительно-историческим методом и слабой сравнительно-исторической теорией.
Компаративная теория может быть сведена к нескольким положениям, из которых интуитивно исходили все ученые, начиная с Боппа, но наиболее четко сформулированы они были Августом Шлейхером в 1850–1860-е гг. Главное из них — идея так называемого родословного древа. Она основана на выделении двух разнонаправленных процессов: языки развиваются от первоначального единства к множеству, а исследователь идет в обратном направлении — от множества языков-потомков к единому праязыку (языку-основе). Согласно концепции родословного древа, языки лишь расходятся и никогда не сходятся, а контакты между языками могут как-то повлиять на их развитие, но не могут изменить ни для одного языка его исходную принадлежность к той или иной семье и группе. Все достижения компаративного метода за два столетия исходят из этих идей.
Теоретические основы компаративного метода всегда были уязвимыми, но его реальные достижения трудно было оспаривать. Об этом писал еще в 1908 г. выдающийся швейцарский лингвист, ученик Соссюра Альбер Сеше (1870–1946): «Эта регулярность фонетических законов, эта проверенная эмпирически и так удачно использованная грамматистами гипотеза нуждалась в рациональном обосновании. Такая попытка была предпринята, но и здесь проявилось отставание теории от практики, и следует признать, что эта попытка так до сих пор и не увенчалась успехом. И если мы по-прежнему верим в плодотворность этого принципа, то потому, что он существует и приносит пользу, а совсем не потому, что мы его поняли». Если серьезных попыток опровержения сравнительно-исторического метода никогда не было, то предложенное Шлейхером его «рациональное обоснование», то есть теоретические принципы, не раз подвергалось критике в разные эпохи. Особо надо отметить таких ученых, как Бодуэн де Куртенэ и Трубецкой.
Главным недостатком компаративистики Бодуэн де Куртенэ считал неучет факта смешения, схождения языков. Свою статью 1901 г. он полемически назвал «О смешанном характере всех языков». Он постоянно указывал на языки, для которых концепция «родословного древа», по его мнению, неверна. Это пиджины и креольские языки, которые он понимал достаточно широко: «Особую группу при классификации языков составляют смешанные языки.… В том же ряду стоят такие консолидированные, определившиеся уже языки, как: еврейско-немецкий говор[3], китайско-русский язык в Кяхте и Маймачине или китайско-английский на южном побережье Китая[4] и т. д. На эти языки мы смотрим свысока, презрительно называя их «жаргонами», но не следует забывать, что подобные жаргоны иногда вырастают в очень уважаемые и могучие языки. Достаточно назвать английский язык. Вообще мы имеем право сомневаться в чистоте очень многих языков». Как подчеркивал Бодуэн де Куртенэ, «нет и быть не может ни одного чистого, не смешанного языкового целого». Уже у ребенка, как он указывает, происходит смешение языков взрослых. Пусть в каких-то (далеко не во всех) языках один из источников смешения более значим, чем другие, но всё равно отказ от признания смешения языков, согласно Бодуэну де Куртенэ, — сильное упрощение реальности.
Что такое пиджин? Как писал российский лингвист Виктор Алексеевич Виноградов (1939–2016), это «не результат естественного исторического развития языка, а результат вторичного преобразования его в условиях регулярных и массовых этноязыковых контактов»; они «используются как средство межэтнического общения в среде смешанного населения». Чаще всего они возникали либо в условиях рабского труда на плантациях, либо в сфере торговли. На послевоенном рынке в Кенигсберге / Калининграде можно было слышать русско-немецкие фразы вроде: Фюнф хундерт рублей или: Вифиль костет твое барахло? Языками, вступающими в контакт, могут быть как родственные, но не взаимопонятные языки (например, русский и немецкий), так и языки разных семей и разного строя, связанные с разными культурами. В последнем случае обычно преобладает лексика социально господствующего языка, но она переосмысляется под влиянием другого языка; грамматика в любом случае упрощается. Примером может служить известная фраза из русско-китайского пиджина (употреблявшегося также в общении русских с коренным населением Дальнего Востока; на нем говорил, например, Дерсу Узала в книге В. К. Арсеньева): Моя твоя не понимай. Здесь слова моя и твоя заменяют не только притяжательные, но и личные местоимения соответственно 1-го и 2-го лица в любой грамматической форме, а форма императива вытесняет все остальные формы глагола.
Пиджины легко появляются и легко исчезают, но если носители пиджина, находящиеся в сходных условиях (например, рабы или жители колоний), начинают его использовать в общении между собой и передавать его детям, то пиджин может превратиться во вполне стабильный язык, именуемый креольским. Например, язык ток-писин на основе смешения местных языков с английским стал государственным языком Папуа — Новой Гвинеи, а гаитянский язык на основе смешения африканских языков с французским господствует в Гаити. Компаративисты обычно считают, например, ток-писин германским, а гаитянский язык — романским, но о регулярных соответствиях тут говорить не приходится. А английский язык, в чьей общепринятой принадлежности к германским языкам сомневался Бодуэн де Куртенэ, после норманнского завоевания испытал в XI–XIV вв. сильное влияние французского языка, из-за чего этот ученый считал его смешанным германо-романским языком.
В 1930-е гг. другой знаменитый языковед, Николай Сергеевич Трубецкой (не только фонолог, но и крупный компаративист), подверг сомнению обычное понимание языкового родства: «Предположение о едином индоевропейском праязыке нельзя признать совсем невозможным. Однако оно отнюдь не является безусловно необходимым, и без него прекрасно можно обойтись…. Для объяснения закономерности языковых соответствий вовсе не надо прибегать к предположению общего происхождения языков данной группы, так как такая закономерность существует и при массовых заимствованиях одним языком у другого». «Нет, собственно, никакого основания, заставляющего предполагать единый индоевропейский праязык, из которого якобы развились все индоевропейские языки. С таким же основанием можно предполагать и обратную картину развития, то есть предполагать, что предки индоевропейских ветвей первоначально были непохожи друг на друга и только с течением времени благодаря постоянному контакту, взаимным влияниям и заимствованиям значительно сблизились друг с другом, однако без того, чтобы совпасть друг с другом. История языков знает и дивергентное и конвергентное развитие. Порою бывает даже трудно провести грань между этими двумя видами развития».
Таким образом, возможны два предположения, объясняющие причины сходства, например, индоевропейских языков: дивергенция (разделение) единого праязыка и конвергенция (то есть скрещение) первоначально не обязательно родственных языков (эти предположения абсолютно не исключают друг друга: скрещиваться могут и ранее разошедшиеся языки). «Между тем до сих пор при обсуждении "индоевропейской проблемы" учитывается только предположение чисто дивергентного развития из единого индоевропейского праязыка. Благодаря этому одностороннему подходу всё обсуждение проблемы попало на совершенно ложный путь…. Стали рассуждать о местожительстве, культуре и расе индоевропейского "пранарода", между тем как этот пранарод, может быть, никогда и не существовал». Трубецкой фактически вообще «закрывал» проблемы, связанные с реконструкцией ненаблюдаемых лингвистических объектов прошлого. Если соотношение двух противоположных процессов подвержено множеству случайностей и может быть каким угодно, то нет возможности выработать какой-либо строгий метод.
С этим подходом, однако, не согласны все сколько-нибудь значительные современные компаративисты. Сравнительно-исторический метод, основанный на спорной гипотезе о родословном древе, работал и работает, дал и продолжает давать науке много нового. А построить сколько-нибудь равноценную методику на основе какой-либо иной теории не удалось. Теоретические идеи Бодуэна де Куртенэ были очень разумными, но как на их основе работать с массами языкового материала, осталось неясным. Трубецкой же вообще снимал всю проблему с повестки дня, хотя ряд результатов, полученных компаративистами, слишком впечатляющ.
Наоборот, в ХХ в. традиционная компаративная методика была усовершенствована. Особенно надо отметить крупнейшего российского компаративиста Сергея Анатольевича Старостина (1953–2005), деятельность которого опережала мировой уровень этой дисциплины. Он продолжил и значительно продвинул начатые в середине ХХ в. Владиславом Марковичем Илличем-Свитычем (1934–1966), Ароном Борисовичем Долгопольским (1929–2012) и Владимиром Антоновичем Дыбо, ныне академиком, исследования дальнего родства языков. В рамках ностратики выявляются связи между индоевропейской семьей и другими семьями: уральской (финно-угорские языки, а также ненецкий и ряд других языков севера Сибири), алтайской (тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, японский и корейский языки), картвельской (грузинский и другие языки Закавказья) и, возможно, некоторыми другими. Всё это, по мнению упомянутых лингвистов, — часть более обширной ностратической макросемьи. Школа С. А. Старостина выдвигает и обосновывает и другие гипотезы о древнейших родственных связях языков мира. Не все лингвисты принимают эти гипотезы, как и ностратику, но исследования такого рода позволяют углубиться в языковое прошлое вплоть до 8–10 тысяч лет до н. э. И вопрос о прародине индоевропейцев продолжает обсуждаться.
«Родословное древо» — это не краеугольный камень теории, а методическое правило, заведомо идеализирующее реальность. До сих пор лингвисты имеют развитую методику движения в сторону схождения языков, но не могут двигаться в сторону их расхождения. Лингвист на первом этапе должен исходить из презумпции верности данного правила, но бывает, что идеализация оказывается слишком значительной и далее приходится вводить коррективы. Иногда, однако, корректировать требуется столь много, что пока компаративисты по-настоящему не охватили некоторые языки своим методом. Так, по-видимому, обстоит дело с креольскими языками. Показательно, что, например, в сравнительных грамматиках германских языков всегда присутствует английский язык, но игнорируются идиш, африкаанс (язык буров Южной Африки на голландской основе) и тем более ток-писин и другие креольские языки. Попытки же видеть в концепции родословного древа «божью правду» могут приводить к исторически не оправданным решениям, против которых предостерегал Трубецкой.
Вопрос о компаративной теории, адекватной методу, однако, остается открытым, и лишь в последнее время наши ведущие компаративисты начинают им заниматься. Кроме того, существуют специальные процедуры, помогающие увеличить достоверность реконструкций. К их числу относятся вероятностные обоснования тех или иных реконструкций, в которых используют данные типологии. Если в результате реконструкции получается система, не зафиксированная ни в одном реальном языке (вроде упомянутой выше системы с одной гласной фонемой), то вероятность существования такой системы очень мала. Желательно провести реконструкцию так, чтобы ее результаты не противоречили типологическим данным и укладывались с некоторой вероятностью в рамки того, что бывает в языках.
Еще одним вопросом, вызвавшим значительные дискуссии среди компаративистов и теоретиков языка, стал вопрос о понятии закона в историческом языкознании. Ученые второй половины XIX в., заимствовав понятие закона из естественных наук, придавали ему очень большое значение. Видные представители школы младограмматиков Г. Остгоф и К. Бругман писали: «Каждое звуковое изменение, поскольку оно происходит механически, совершается по законам, не знающим исключений, то есть такое изменение происходит во всех словах, где имеется тот или иной звук». Это положение подвергалось критике со стороны многих ученых: чуть ли не из каждого закона, выделявшегося младограмматиками, находились исключения, иногда многочисленные. Из этого, однако, не вытекает, что понятие закона должно быть отброшено. Сейчас оно уже не имеет столь глобального значения, как во времена младограмматиков, но столь же неустранимо из компаративистики, как и представление о родословном древе. Из элемента теории (что было весьма уязвимо для критики) оно превратилось в чисто методическое правило. Как и понятие родословного древа, это — некоторый идеал. Ясно, что законы могут иметь исключения, но компаративист должен исходить из презумпции поиска законов, не знающих исключений. На их основе объясняется максимум фактов, а затем приходится думать, как объяснять то, что никак не подпадает под действие законов. Об этом хорошо сказал еще в 1933 г. Абаев: «Исследование, основанное на рабской вере в непогрешимость звуковых законов, обесценивается наполовину; исследование, вовсе игнорирующее эти законы, не имеет вообще никакой цены». Опять-таки критики понятия звукового закона бывали правы, но, как и в случае с родословным древом, столь же «работающей» альтернативы ему выработать не удалось.
Другая важнейшая проблема, оказывавшая влияние на снижение интереса к исторической лингвистике, была связана с причинами исторических изменений в языках. Лингвисты умели отвечать на вопрос «как», но не на вопрос «почему». Как писал уже упоминавшийся Винокур, вместо истории языка изучалась история звуков, а открытые учеными звуковые законы не раскрывали культурно-историческое содержание языка. Например, известно, что в древнерусском языке был особый звук (фонема), записывавшийся специальной буквой «ять». Удалось установить, что это было закрытое э (звук более узкий, чем э, и более широкий, чем и). Затем в большинстве великорусских диалектов, включая те, что легли в основу русского литературного языка, этот звук перестал отличаться от звука, записываемого буквой е (что и привело в конечном итоге к отмене ятя). Однако в двух противоположных концах восточнославянской зоны — на Украине и на крайнем севере России (побережье Белого моря) — он совпал с и. Украинская буква i часто пишется в тех словах, где в старой русской орфографии был ять. Это всё было описано еще в науке XIX в., а ход процесса совпадения звуков был детально изучен по памятникам. Однако вставали вопросы. Почему развитие одним путем происходило в центре зоны, а другим — на ее окраинах? Почему звук почти нигде не сохранился в виде отдельной фонемы? Почему он совпал с соседними звуками именно так, а не наоборот? Произошло ли это изменение целиком по внутренним причинам или влияли культурно-исторические факторы, внешние по отношению к языку? На все эти вопросы наука того времени отвечать не умела. Не умеет она отвечать на них и сейчас.
Как нередко бывает в истории науки, постановка проблемы, вызвавшей кризис, ведет не к ее решению, а к смене приоритетов. Кризис исторического языкознания привел, как отмечалось выше, к переносу центра внимания на вопрос: «Как устроен язык?», а теоретическое осмысление вопроса: «Как развивается язык?» — отошло на периферию. Историческое языкознание ХХ в., оставшись количественно значительным, продолжало быть по преимуществу «лингвистикой фактов», по выражению А. Сеше. Исключение составляли лишь некоторые ученые, среди которых выделяются Поливанов, Якобсон и французский лингвист Андре Мартине (1908–1999). Все они для объяснения причин языковых изменений должны были выходить за пределы языка как системы правил и обращаться к его функционированию.
Поливанов, развивавший идеи своего учителя Бодуэна де Куртенэ, специально указывал на стремление носителей языка к «экономии трудовой энергии» (по его словам, «основная пружина этого механизма» — «лень человеческая»). Говорящий бессознательно старается упростить произношение сложных звуков и сочетаний звуков, сделать систему более регулярной, освобождаясь от исключений. Каждое новое поколение усваивает уже «изношенный» в звуковом отношении скороговорочный дублет слова и само начинает сокращать («изнашивать») его далее». Однако для экономии имеются пределы: при слишком большой экономии речь становится невнятной и непонятной. Эти идеи развил Якобсон, который видел в языковых изменениях проявление противоречия между потребностями говорящего и слушающего: «Оба участника акта речевой коммуникации подходят к тексту совершенно по-разному». Говорящий старается при построении текста экономить свои усилия и устранять часть существующих в языке различий, но слушающему нужно понять текст на основе этих различий, поэтому для него полезна избыточность, дублирование одного и того же, тогда как экономия затрудняет восприятие. Тем самым потребности говорящего способствуют изменениям, а потребности слушающего предохраняют от слишком сильных изменений в языке.
В книге А. Мартине «Принцип экономии в фонетических изменениях» (1955) на материале фонологии выявляются внутренние причины изменений в языке. Автор писал: «Можно считать, что языковая эволюция вообще определяется постоянным противоречием между присущими человеку возможностями общения и выражения и его стремлением свести к минимуму свою умственную и физическую деятельность. В плане слов и знаков каждый языковой коллектив в каждый момент находит определенное равновесие между потребностями выражения, для удовлетворения которых необходимо все большее число все более специальных и соответственно более редких единиц, и естественной инерцией, направленной на сохранение ограниченного числа более общих и чаще употребляющихся единиц. При этом инерция является постоянным элементом, и мы можем считать, что она не меняется. Напротив, потребности общения и выражения в различные эпохи различны, поэтому характер равновесия с течением времени изменяется. Расширение круга единиц может привести к большей затрате усилий, чем та, которую коллектив считает в данной ситуации оправданной. С другой стороны, будет резко пресечено проявление чрезмерной инерции, наносящей ущерб законным интересам коллектива».
Особенно заметными оказываются изменения, когда значительно меняется состав носителей того или иного языка («социальный субстрат» языка, по выражению Поливанова). Люди, осваивая новый для них язык (или формируя пиджин), бессознательно переносят на него привычки, связанные с их прежним языком. Многие же черты нового языка как слишком сложные не осваиваются. Например, японский язык образовался в результате переселения на Японские острова алтайских племен, смешавшихся, передав свой язык, с аборигенным населением (так называемая культура дзёмон), говорившим, по-видимому, на одном из австронезийских языков, близком к языкам аборигенов Тайваня. Это население, освоив алтайские грамматику и базовую лексику, не до конца переняло алтайскую фонетику; в результате в фонетике японский язык резко отличается от других языков алтайской семьи.
Однако лингвистика и сейчас может что-то сказать лишь о самых общих закономерностях языковых изменений. Более конкретные случаи чаще всего пока что не поддаются объяснению. Некоторые видные лингвисты вообще отрицали возможность такого объяснения, по крайней мере в рамках языкознания. Польский ученый Ежи Курилович (1895–1978) писал: «Конкретная грамматическая система позволяет увидеть, какие «аналогические» изменения в ней возможны…. Однако лишь социальный фактор… определяет, осуществятся ли эти возможности и если да, то в какой мере…. Поскольку лингвистика вынуждена считаться с этими двумя различными факторами, она никогда не может предвидеть будущих изменений. Наряду с взаимозависимостью и иерархией языковых элементов внутри данной системы лингвистика имеет дело с исторической случайностью». Он приводил пример: более престижные диалекты влияют на менее престижные, а при наличии литературного языка он становится образцом для подражания. Но то, какой диалект престижен и какой диалект ляжет в основу литературного языка, определяется внешними по отношению к языку факторами, которые еще в меньшей степени, чем факторы внутри языка, поддаются строгому объяснению и прогнозированию.
Иной взгляд здесь высказывал Поливанов. Он считал, что лингвист должен быть, помимо всего прочего, «языковым политиком, владеющим (пусть и в ограниченных размерах) прогнозом языкового будущего». Однако пока что прогнозы языкового будущего не имеют строгой научной базы. Чаще всего они бывают построены на предположении о том, что некоторые действовавшие до настоящего времени тенденции будут сохраняться и впредь. Но не всегда так бывает.
Ясно сейчас лишь одно: если описание конкретных изменений, происшедших в прошлом тех или иных языков, основано на структурном анализе тех или иных состояний языка, то причины этих изменений нельзя понять без обращения к вопросам функционирования языка.
Еще одна проблема теории языковых изменений связана с тем, насколько они могут быть сознательными. Выше говорилось о бессознательных изменениях, часто имеющих предпосылки еще в речи маленьких детей, не вполне усвоивших язык взрослых. Были ученые (младограмматики, Ф. де Соссюр), которые считали всякие изменения в языке бессознательными. Как указывал в 1931 г. в полемике с Соссюром советский лингвист Лев Петрович Якубинский (1892–1945), если бы это было так, то всякая языковая политика вообще была бы невозможна. Он же вслед за своим учителем Бодуэном де Куртенэ отмечал случаи, когда язык изменяется или даже формируется сознательно. Уже более столетия существует язык эсперанто, сконструированный в 1887 г. польским врачом Л. Заменгофом; им владеют миллионы людей. Известны разного рода «тайные языки» (воровские, языки торговцев и др.), где специально изменяются слова в целях непонятности для непосвященных. Наконец, доля сознательности (разная в разных ситуациях) всегда присутствует при формировании литературных языков. Например, современный чешский литературный язык создавался в XIX в. как противовес господствовавшему в культурных сферах тогдашней Чехии немецкому языку, его творцы специально старались придумать как можно больше новой культурной лексики на базе исконно славянских корней. Этот литературный язык нередко упрекали в «искусственности», но он хорошо прижился, а после провозглашения в 1918 г. независимости Чехословакии стал общепринятым.
При изменении нормы любого языка сознательно усваиваемые меры играют значительную роль, что хорошо видно на примере орфографических реформ. Но в то же время и литературные языки в чем-то развиваются стихийно и бессознательно, хотя ввиду существования нормы это происходит внутри определенных рамок. Новые слова, особенно в культурной сфере, очень часто изобретаются сознательно, а их авторы бывают известны. Однако одни из этих слов приживаются в языке, другие — нет. Например, в середине ХХ в. Александр Иванович Смирницкий (1903–1954) ввел в русскую грамматическую терминологию два изобретенных им слова: словоформа и типоформа, из которых первое стало общеизвестным среди лингвистов, а второе никем, кроме самого Смирницкого, не употреблялось. Даже эсперанто — не «искусственный язык», каким его многие по инерции считают: он уже более столетия развивается независимо от сознательных устремлений его нормализаторов.
Тем не менее литературная норма влияет на развитие языков, обычно замедляя его. В конце 1920-х гг. Поливанов, отмечая, что русский литературный язык пока что не так уж сильно изменился по сравнению с дореволюционным временем, предсказывал его более существенные изменения «через два-три поколения». Он исходил из того, что «социальный субстрат» носителей этого языка после 1917 г. начал значительно расширяться за счет двух источников: людей, ранее владевших лишь русскими диалектами или просторечием, и носителей иных языков СССР. В таких случаях, как показывала история многих языков, прежние языки или диалекты оказывают значительное влияние на осваиваемый язык. Но теперь очевидно, что прогноз не оправдался: русский литературный язык за весь ХХ в. мало изменился (исключая часть лексики, всегда наиболее легко меняющейся в языке), несмотря на все социальные изменения. Это хорошо показано в книге Михаила Викторовича Панова «История русского литературного произношения». Литературные нормы русского языка были сформированы еще в XIX в., но оказались очень устойчивыми. Они могли временно расшатываться в революционные эпохи (что происходило и после 1917 г., и после 1991 г.), но затем наступала стабилизация.
И еще одна проблема, к которой пока что трудно подступиться: происхождение языка. Все реконструкции, получаемые компаративистами, основаны на предположении о том, что реконструируемые языки принципиально не отличаются по своим свойствам от реально зафиксированных языков. Ни одна реконструкция, основанная на сравнительно-историческом методе, не может ничего предложить для решения проблемы происхождения языка, хотя еще Бопп надеялся на это. Эта проблема, очень волновавшая многих в XVIII–XIX вв., потом стала вообще отвергаться и считаться ненаучной, поскольку нет никакого эмпирического материала для ее решения. Тем не менее она не может быть снята с повестки дня. Хотя в ХХ в. ей занимались меньше, чем в два предыдущих века, но в конце этого столетия она вновь стала достаточно популярной. Выше уже указывалось, какое значительное место занимает эта проблема в концепции Хомского.
Однако прямых данных о том, как появился язык, не прибавилось, и специалисты по происхождению языка могут использовать лишь косвенные данные. Если отвлечься от не подкрепленных фактами прозрений, то можно выделить четыре априорно возможных стратегии. Во-первых, это ретроспективное движение от более поздних состояний языка; как указывал Мейе, от этой идеи серьезные языковеды отказались уже к 1870-м гг. Во-вторых, это поиски сохранившихся реликтов времени появления языка: частей скелета и первобытных орудий. Однако мягкие ткани, к которым относится активный голосовой аппарат, не сохраняются, а судить об эволюции этого аппарата по черепам невозможно; трудно связать с появлением языка и находки орудий. В-третьих, это сопоставление человеческих языков с языками различных животных, в первую очередь обезьян; в последние десятилетия оно ведется очень активно. Поскольку из-за иного строения гортани человекообразных обезьян нельзя научить звуковой речи, с ними научились говорить на языке глухонемых. Однако изучается общение обезьян с людьми, разумеется владеющими языком, что нарушает чистоту эксперимента. Кроме того, выяснилось, что при этом общении обнаруживается порог, примерно соответствующий уровню двухлетнего ребенка, выше которого животное продвинуться не может. В-четвертых, это те или иные аналоги — чаще всего с детской речью и образованием пиджинов. Однако аналогия — неполна: носители пиджинов уже владеют некоторыми языковыми системами, а дети находятся в среде, уже пользующейся языком. Тем не менее разные гипотезы продолжают строить. Но на сегодняшний день убедительной реконструкции происхождения языка не предложено. Это — одна из проблем, перешедших в XXI в., и пока трудно сказать, когда она будет каким-либо образом решена.
Наконец, еще одна проблема, связанная с историческим языкознанием, но относящаяся к сферам, лежащим в иной плоскости. Сравнительно-исторический метод очень сложен, и неспециалисты редко могут оценить и проверить систему доказательств в лингвистической компаративистике. Но получаемые здесь результаты понятны каждому и связаны с проблемами, волнующими многих, даже если речь идет о далеком прошлом. Какие языки родственны нашему языку, а какие нет? Кто раньше поселился на той или иной территории — носители нашего языка или те, с кем мы сейчас в конфликте? При этом за пределами науки постоянно смешиваются родство языков и родство народов, хотя они могут не соответствовать друг другу. К тому же в этой сфере, помимо научных исследований, много дилетантских и зачастую тенденциозных сочинений, которые неспециалисту не всегда легко разграничить. Те или иные научные выводы могут влиять на поведение того или иного этноса. Не только врачу, но и языковеду следует не забывать о принципе: «Не навреди!»
13 Функции языка
Теперь посмотрим, как лингвисты изучают важнейший и самый сложный вопрос: «Как функционирует язык?» Мы уже говорили, что на этот счет существует немало гипотез и теоретических рассуждений, но разработанных методов работы с материалом пока недостаточно.
Первый вопрос, который надо здесь рассмотреть, уже давно поднимавшийся, состоит в том, для чего человеку нужен язык. Как сказано в «Тезисах Пражского лингвистического кружка» (1929), «являясь продуктом человеческой деятельности, язык вместе с тем имеет целевую направленность…. Язык есть система средств выражения, служащая какой-то определенной цели».
Какая из этих целей главная? Большинство ученых XIX и XX вв. считали, что язык прежде всего является средством общения между людьми. В этом случае говорят о коммуникативной функции языка. Например, в «Тезисах» главным в языке признавалось «социальное назначение (связь с другими)». Об этом же говорилось и в упоминавшейся выше книге «Марксизм и философия языка», появившейся в том же 1929 г.
Иную точку зрения чуть позже (1933) высказал Эдвард Сепир, занимавшийся не только типологией, но и функционированием языка. Этот выдающийся ученый, использовавший структурные методы для описания языков (он был видным исследователем индейских языков Северной Америки), постоянно спорил со слишком узким подходом структуралистов. Не отрицая, разумеется, важности коммуникативной функции языка, он выдвигал на первый план другую функцию, названную им символической (теперь ее чаще называют когнитивной, то есть познавательной). Он писал: «Язык в основе своей есть система фонетических символов для выражения поддающихся передаче мыслей и чувств…. Язык воспринимается как совершенная символическая система, использующая абсолютно однородные средства для обозначения любых объектов и передачи любых значений, на которые способна данная культура, независимо от того, реализуются ли эти средства в форме реальных сообщений или же в форме такого идеального субститута сообщения, как мышление. Содержание всякой культуры может быть выражено с помощью ее языка…. Изначально язык является звуковой реализацией тенденции рассматривать языковые явления символически…, именно это средство сделало его удобным средством коммуникации».
Итак, язык прежде всего — средство приобретения и закрепления опыта людей, человеческого познания мира. Как указывал еще Гумбольдт, «язык есть орган, образующий мысль». Но он же подчеркивал и то, что «человек понимает себя только тогда, когда на опыте убедится, что его слова понятны также и другим людям». То есть символическая функция неотделима от коммуникативной. При этом надо учитывать и непосредственное общение людей (диалог в обычном смысле), и обращение к более широкому кругу людей, включая последующие поколения. Сепир особо отмечал функцию языка, связанную с хранением и накоплением культуры. Обращение к опыту предшествующих поколений может в некоторых культурах происходить и в звуковой форме (вспомним устную передачу грамматики Панини в течение многих веков), но, разумеется, наилучшим способом хранения и накопления культуры является письменность (в ХХ в. с ней впервые начали конкурировать визуальные способы передачи информации).
Сепир обращал внимание и на другие функции языка: «Язык — мощный фактор социализации, может быть, самый мощный из существующих». В частности, язык — «символ социальной солидарности»: «Он говорит, как мы» равнозначно утверждению «Он один из наших». Сепир отмечал, что роль языка двойственна: «Несмотря на то, что язык действует как социализующая и унифицирующая сила, он в то же время является наиболее мощным и единственно известным фактором развития индивидуальности». Личность всегда в той или иной мере выражается в индивидуальных языковых особенностях, этим вопросом также занимался Сепир.
Функция, отмеченная Сепиром и позже названная Якобсоном фатической, направлена, как указывал Сепир, на «установление социального контакта между членами временно образуемой группы, например, во время приема гостей. Важно не столько то, что при этом говорится, сколько то, что вообще ведется разговор». Так называемая светская беседа — типичный пример реализации именно этой функции почти в чистом виде. Говорящий показывает свое дружелюбное отношение к собеседникам, а предмет разговора (здоровье, погода и пр.) существенной роли не играет; обычно в обществе существуют определенные шаблоны такой беседы. Разумеется, с помощью языка можно проявить недружелюбное отношение к собеседникам и сигнализировать о желании прекратить разговор.
Якобсон, развивавший идеи Сепира, отстаивал высказанную им в 1920-е гг. идею о существовании еще одной функции языка — поэтической (Сепир ее не выделял). Эта функция направлена не непосредственно к собеседнику, а «к самому знаку», то есть самостоятельную значимость приобретают свойства самого языка, особенно фонетические и интонационные: подбор и сочетаемость звуков, чередование ударных и безударных слогов, соответствия звуков друг другу (в частности, рифма), интонационные контуры и т. д. Якобсон, в начале своей деятельности выступавший как теоретик русского футуризма, сохранял и позже представления о том, что поэтический текст (в отличие от любого другого, в том числе прозаического) важен не содержанием, а формой, своими языковыми свойствами. Такой подход к поэзии разделяется далеко не всеми, но, безусловно, особая ее звуковая организация важна для порождения и восприятия поэтического текста. Даже если в стихах, как это часто бывает в наше время, нет рифмы, метра и других традиционных для европейских народов признаков поэзии, они обладают некоторой более сложной языковой организованностью.
14 О границах лингвистики
В последние десятилетия всё более меняется точка зрения по вопросу о соотношении между реальным объектом, изучаемым исследователями, и тем, что получается у лингвиста в результате его исследования.
Как уже отмечалось выше, лингвистику принято считать эмпирической наукой; любое лингвистическое исследование как-то отражает, описывает и объясняет (осознанно или неосознанно) явления, существующие объективно, помимо лингвиста. Как принято говорить в науке, строится модель некоторого явления. Модель может строиться по-разному. Значительную часть ХХ в. лингвисты широко использовали принцип, заимствованный из кибернетики, обычно называемый принципом «черного ящика». Согласно ему, модель не претендует на отражение внутренней природы явления, она лишь должна быть идентичной своему объекту в его внешних проявлениях (мы не знаем, что происходит внутри «черного ящика», имея лишь данные обо всём происходящем на его входе и выходе, что и моделируется). В лингвистике в качестве «черного ящика» представлялся человеческий мозг. Как отмечено выше, до сих пор о реальных процессах в мозгу мы знаем мало и многое пока что не поддается прямому исследованию. Казалось бы, «черный ящик» — хорошая аналогия в данном случае, и многие лингвисты, как структуралисты, так и (в меньшей степени) Хомский и его последователи, исходили из нее.
Некоторые языковеды шли еще дальше и вообще снимали с повестки дня вопрос о реальном объекте изучения. Уже Мейе отказывался (не вполне последовательно) говорить о реально существовавшем праязыке, представляя в качестве единственной реальности регулярные соответствия между языками, о происхождении которых мы достоверно не знаем. А представители структурной лингвистики могли так же подходить и к любым языкам. Ельмслев писал: «Теория в нашем смысле сама по себе независима от опыта. Сама по себе она ничего не говорит ни о возможности ее применения, ни об отношении к опытным данным. Она не включает постулата о существовании.… Экспериментальные данные никогда не могут усилить или ослабить теорию, они могут усилить или ослабить только ее пригодность».
Однако трудности, которые испытывала лингвистика при переходе от фонологии к более высоким уровням языка, особенно к семантике, заставили многих лингвистов прийти к иной точке зрения. По сути, она и раньше выдвигалась, пусть нестрого и в других терминах, — Гумбольдтом, Сепиром и др. Вот как ее формулировал Кибрик в уже упоминавшейся статье «Лингвистические постулаты» (1983–1992): «Адекватная модель языка должна объяснять, как он устроен "на самом деле". Что такое "язык на самом деле"? Это совокупность тех знаний, которыми располагает человек, осуществляя языковую деятельность на соответствующем языке. В отличие от метода "черного ящика" "естественное" моделирование языка должно осуществляться с учетом того, как человек реально пользуется языком, то есть как он овладевает языком, как хранит в своей памяти знания о языке, как использует эти знания в процессе говорения, слушания, познавательной деятельности, и т. д.… Предполагается, что различные по своему устройству объекты такого класса сложности, к которому относится естественный язык, не могут иметь идентичных "входов" и "выходов"».
Также и в современном учебнике Тестельца «Введение в общий синтаксис» говорится: «Строение языка определяется его использованием». «Язык — средство мышления; следовательно, языковые структуры должны быть "приспособлены" к решению мыслительных задач — восприятия, переработки, хранения и поиска информации. Язык — средство коммуникации; значит, устройство языка должно максимально облегчать общение коммуникантов и быть оптимальным с точки зрения параметров этого процесса».
Конечно, далеко не все из перечисленных здесь процессов сейчас могут изучаться непосредственно. О многом мы можем судить лишь по косвенным данным, а во многих случаях пока что можно лишь высказывать более или менее правдоподобные гипотезы. Но стремление к указанной в вышеприведенной цитате адекватности очень важно, а оно заставляет расширять границы науки о языке и сближать ее с другими науками о человеке.
Выше говорилось, что в истории лингвистики были периоды расширения и сужения проблематики. Сужение иногда бывало чрезмерным: Шлейхер сводил научную лингвистику к проблеме реконструкций праязыков, а некоторые школы структурализма, особенно дескриптивисты, сводили ее к изучению «шума, производимого органами речи», к построению формальных описаний фонологии и морфологии, иногда даже отрицая проблему значения как якобы избыточную. Сейчас господствует противоположная тенденция. Об этом в той же статье писал Кибрик: «При сохранении принципа "чистоты" лингвистика последних десятилетий характеризуется в то же время неуклонным расширением сферы своего влияния: от фонетики — к фонологии, от морфологии — к синтаксису и затем — к семантике, от предложения — к тексту, от синтаксической структуры — к коммуникативной, от языка — к речи, от теоретического языкознания — к прикладному. То, что считается "не лингвистикой" на одном этапе, включается в нее на следующем. Этот процесс лингвистической экспансии нельзя считать законченным. В целом он направлен в сторону снятия априорно постулированных ограничений на право исследовать такие языковые феномены, которые до некоторой степени считаются недостаточно наблюдаемыми и формализуемыми и, следовательно, признаются непознаваемыми. И каждый раз снятие очередных ограничений дает новый толчок лингвистической теории, конкретным лингвистическим исследованиям. Обнаруживаются новые, не замечавшиеся ранее связи, обогащается и вместе с тем упрощается представление о языке». Вывод: «Все, что имеет отношение к существованию и функционированию языка, входит в компетенцию лингвистики».
Можно, конечно, сказать, что и Соссюр выделял наиболее общее понятие речевой деятельности (langage), куда также попадало «всё, что имеет отношение к существованию и функционированию языка». Но он это делал не ради расширения, а ради сужения тематики лингвистических исследований: в этой деятельности выделено главное — язык, который и объявляется единственным истинным объектом лингвистики. Теперь же не случайно Кибрик упоминает о «расширении сферы влияния лингвистики» в том числе и от языка к речи.
Такой пересмотр проблематики тем значительнее, чем к более высокому уровню языка мы обращаемся. Для морфологии он важнее, чем для фонологии, для синтаксиса важнее, чем для морфологии, но особенно существен он для семантики. Недаром эта дисциплина в прошлом всегда отставала. В той же статье Кибрика говорилось по этому поводу: «К области семантики (в широком смысле) относится вся информация, которую имеет в виду говорящий при развертывании высказывания и которую необходимо восстановить адресату для правильной интерпретации этого высказывания». Семантический анализ требует обращения к коммуникативной ситуации, учета позиций говорящего и слушающего, а это опять-таки расширяет тематику науки о языке.
Современные лингвистические направления, в той или иной степени изучающие функционирование языка, относят к лингвистическому функционализму (его не надо смешивать с функциональным подходом в Пражском кружке). Функционализм, активно развивающийся, в том числе и в России, не составляет какого-то единства, но имеет некоторые общие черты. Он отказывается от того, чтобы ограничиваться изучением «языка в себе и для себя» и тем более «шума, производимого органами речи». Если генеративизм прежде всего нацелен на вечные, неизменные свойства языка, понимаемые как синтаксические свойства, то функционализм исходит из того, что адекватная модель языка должна объяснять, как он устроен «на самом деле», признаёт определяющую роль семантики, а не синтаксиса, стремится выявить семантическую мотивированность языковых форм. Тематика функциональной лингвистики неуклонно расширяется. Но при этом по сравнению с предшествующим периодом снизился уровень научной строгости.
Далее рассмотрим ряд дисциплин, по-разному обращающихся к функционированию языка.
15 Прагматика и теория речевых актов; речевые жанры
Как пишет один из современных авторов, А. К. Киклевич, «в лингвистике произошли кардинальные изменения: в сферу ее компетенции оказались вовлеченными не только формы "диалогической речи", но и многообразные типы социального взаимодействия с помощью языка, скрытые допущения речевых актов, различные виды пресуппозиций и импликатур, интенциональные состояния говорящего, вся гамма иллокутивных и перлокутивных свойств высказывания, перформативы и правила их употребления, эпистемические и когнитивные аспекты языковых выражений, текст во всем богатстве его семантического пространства, а также многое другое, в чём еще несколько десятилетий назад лингвист просто бы не увидел предмета для разговора».
В этой цитате несколько нарочито перечислены термины, употребляемые в современной лингвистике, направленной на изучение функционирования языка. Не на всех из них я смогу остановиться. Но важно то, что вся эта тематика еще полвека назад казалась лежащей за пределами лингвистики, а теперь без нее уже немыслима наука о языке.
Рассмотрим сначала два активно развивающихся направления лингвистики последних десятилетий — теорию речевых актов и прагматику. Надо сказать, что четких граней между ними не существует, и часто одни и те же проблемы могут рассматриваться в рамках того или другого направления. Но истоки у них были разными.
Термин «прагматика» был введен в 1930-х гг. американским философом Чарльзом Уильямом Моррисом (1901–1975). Он разделил семиотику, общую науку о знаках, в том числе знаках языка, на семантику — учение об отношении знаков к объектам действительности, синтактику — учение об отношениях между знаками, и прагматику — учение об отношении знаков к людям, которые пользуются знаковыми системами. К тому времени лингвистика больше всего занималась синтактикой, меньше семантикой и очень мало обращалась к прагматике, которая изучает роль языковых знаков в реальных процессах общения.
Теория речевых актов возникла независимо от прагматики. Она также сложилась в рамках лингвистической философии, но не в США, а в Великобритании уже в послевоенные годы. Ее создателем считается Джон Остин (1911–1960), прочитавший на эту тему курс лекций в 1955 г. В числе предшественников этой теории называют Бахтина, труды которого о процессе общения (1950-е гг.) были опубликованы и стали известны лишь в 1970-е гг.
Как пишет ведущий в России исследователь речевых актов Нина Давидовна Арутюнова, «в речевом акте участвуют говорящий и адресат, выступающие как носители определенных, согласованных между собой социальных ролей, или функций. Участники речевого акта обладают фондом общих речевых навыков (речевой компетенцией), знаний и представлений о мире. В состав речевого акта входит обстановка речи и тот фрагмент действительности, которого касается его содержание». Во время речевого акта происходят соотнесение высказывания с действительностью, придание ему целенаправленности, воздействие на адресата. Множество речевых актов образует дискурс. Это — также одно из основных понятий данной теории, дискурсы активно изучают.
Как отмечает Арутюнова, «при классификации речевых актов учитывается иллокутивная цель, психологическое состояние говорящего, направление отношений между пропозициональным содержанием речевого акта и положением дел в мире, отношение к интересам говорящего и адресата и др.». Под иллокутивной целью (термин Остина) имеется в виду коммуникативная цель в ходе произнесения высказывания.
В рамках теории речевых актов активно изучаются, в частности, так называемые перформативы, то есть ситуации, когда слово одновременно является делом (клятва, объявление войны или мира, вынесение приговора, открытие или закрытие собрания и т. д.).
Прагматика, имея иные истоки, пришла к изучению примерно того же круга вопросов, что и теория речевых актов. Есть, однако, проблемы, обычно изучаемые в ее рамках, к ним относится проблема пресуппозиции. Пресуппозиция — это подразумеваемая информация, общая для собеседников; бывают разные виды пресуппозиций: семантическая, прагматическая. Исследования пресуппозиции активно ведутся в лингвистике около трех десятилетий. С понятием пресуппозиции тесно связано понятие истинности и ложности высказывания.
В состав прагматики входят и такие сферы, как «модальные рамки» и правила социального взаимодействия между говорящим, слушающим и «героями» высказывания (так называемые вежливость и / или этикет), к этим правилам я еще вернусь.
И семантика впервые стала полноценным объектом лингвистических исследований лишь вместе с изучением прагматики и / или теории речевых актов. Показательно, что в нашей стране ведущая семантическая школа, связанная с именами Арутюновой, Падучевой и их учеников, одновременно является и школой прагматики и теории речевых актов. До того семантика была ограничена, как правило, лишь семантикой отдельных грамматических категорий и семантикой отдельных слов. При этом далеко не вся лексика поддавалась «абстрактно-объективистскому» анализу, причем хуже всего дело обстояло как раз с самыми употребительными и, казалось бы, простыми словами. На это еще в 1940–1950-е гг. обращали внимание исследователи, Смирницкий писал: «Лексиколог подробно останавливается на архаизмах, выискивает различные окаменелости…, но о скромных исконных словах данного языка, издавна выражавших в нем такие простые, но вместе с тем существенные понятия, как "видеть", "лежать", "стоять", "ходить", "делать", "красный", "синий", "огонь", "вода", "дерево" и т. п., лексиколог обычно говорит очень немного (если вообще говорит что-нибудь) и то лишь мимоходом…. А между тем, разумеется, если такие наиболее широко распространенные и часто употребительные слова оставлять без внимания, то нечего и думать о действительной характеристике данной лексики, о выявлении ее существенных особенностей». Совсем плохо поддавались семантическому анализу самые употребительные и, казалось бы, простые слова вроде наречий или частиц. Еще хуже обстояло с семантикой предложения, не поддававшейся строгому анализу.
С 1960–1970-х гг. ситуация изменилась. «Прагматизация значения имела далеко идущие последствия: значение высказывания стало считаться неотделимым от прагматической ситуации, а значение многих слов начали определять через указание на коммуникативные цели речевого акта.… Значение слова стало рассматриваться в связи с коммуникативной направленностью речевого акта, то есть как орудие, посредством которого мы совершаем действие…. Этот подход нашел отражение в определении значения оценочных слов» (Арутюнова, Падучева). Многие единицы языка впервые получили убедительную трактовку при данном подходе. При этом часто оказывается, что толковать надо не отдельное слово, а более протяженную единицу языка (словосочетание, предложение).
Еще одна проблема — изучение построения отрезков текста, более протяженных, чем предложение. Попытки выйти за пределы предложения и выделить такие единицы (абзацы, параграфы и пр.) предпринимались и ранее. Однако вскоре стало очевидно, что хотя в разных языках и существуют некоторые синтаксические и лексические средства, функционирующие на отрезках текста больше предложения, но связность текста обеспечивается далеко не только структурными закономерностями, а членение текста на абзацы и параграфы вовсе не обязательно маркировано структурными средствами. Опять-таки необходимо исходить из анализа дискурса, что и делается рядом лингвистов.
Следует также отметить такую область, как изучение речевых жанров, основы которой заложил Бахтин в работах, получивших известность в 1970-е гг. Он понимал жанр как типичную модель высказывания, указывая, что говорящему при построении высказывания заданы определенные рамки не только системой языка, но и системой речевых жанров; и те и другие правила он не вправе нарушать. Жанры являются жанрами диалогической речи и всегда ориентированы на тот или иной вид общения с собеседником. В качестве речевых жанров могут выделяться максимально краткие и стандартизованные реплики вроде приветствия или прощания, но и традиционные жанры художественной литературы (роман, рассказ и т. д.) также являются речевыми жанрами. В последнем случае собеседник отделен от говорящего (пишущего) и не определен, но и здесь автор ориентируется на читателя и ведет общение с ним по некоторым правилам. Изучение речевых жанров активно развивается в России, причем не столько в Москве, сколько в ряде других городов (Саратов, Волгоград, Пермь, Красноярск и др.). Предпринимаются попытки исчисления речевых жанров, исследуются как структурные, так и, прежде всего, прагматические особенности тех или иных жанров (реклама, комплимент, ссора, «разговор по душам» и пр.). В то же время критерии выделения и разграничения жанров пока что остаются не выясненными.
16 Социолингвистика
Эта область лингвистики существует уже достаточно давно. Сам термин появился в США в 1950-е гг., но интересные идеи по поводу социального функционирования языка высказывали еще с начала ХХ в. и в нашей стране (Бодуэн де Куртенэ, Поливанов, Винокур, Виктор Максимович Жирмунский (1891–1971) и др.), и в Чехословакии, где Пражский кружок активно интересовался этими проблемами (В. Матезиус, Б. Гавранек и др.). Уже более полувека интенсивно ведутся социолингвистические исследования в Японии. Но активное развитие современной социолингвистики началось в США, а затем и в других странах с 1960-х гг., уже после «хомскианской революции». Хотя сам Хомский скептически отнесся к теоретическим возможностям социолингвистики, но общий процесс переноса внимание на проблемы функционирования языка, по-видимому, сказался и здесь. Очевидно и прикладное значение социолингвистических исследований, начиная от планирования языковой политики и кончая изучением эффективности рекламы.
Под общим названием «социолингвистика» на деле скрывается несколько дисциплин, весьма различных по своей методике. Например, исследование языковых конфликтов или языковой политики напрямую соприкасается с социологией, а от собственно лингвистических методов здесь остается немного. С другой стороны, изучение социальных характеристик диалога очень близко к тому, что изучают теория речевых актов и прагматика, лишь угол зрения несколько другой. Разные области социолингвистики объединяются не методом, а проблематикой: так или иначе, изучается функционирование языка в человеческом обществе.
Любое человеческое общество неоднородно. Оно состоит из мужчин и женщин, взрослых и детей, разных возрастных групп; имеются те или иные социальные различия, в том числе различия высших, средних и низших слоев общества, различия классов; играют роль также различия территориальные и профессиональные; наконец, на одних и тех же территориях могут жить люди разных национальностей. Всё это как-то отражается в сфере языка. Соприкасаются, контактируют и влияют друг на друга разные языки. Одни люди знают только свой материнский язык, другие вынуждены владеть двумя или тремя языками. Но и в пределах одного языка существуют те или иные различия: сосуществуют и взаимодействуют литературный язык (в свою очередь, подразделяющийся на функциональные стили), территориальные и социальные диалекты, жаргоны, сленги и т. д. Всё это входит в сферу ведения социолингвистики. Но многое из этого изучают и другие лингвистические дисциплины, однако интересы при этом иные. Например, диалект может изучаться структурно, как языковая система со своим набором фонем, грамматических категорий и пр., но может изучаться и социолингвистически — в связи с его ролью в жизни его носителей. Со структурной точки зрения нет принципиальных различий между диалектом и литературным языком, но для социолингвистики это языковые образования, по-разному функционирующие, обладающие разным составом носителей, разной престижностью и т. д. Один американский автор писал, что языки равны только перед богом и лингвистом, но перед социолингвистом (как и перед «обычным» носителем языка) они не равны.
Человек очень редко бывает полностью одноязычным: даже если он владеет только одним языком, в разных ситуациях ему бывает необходимо говорить по-разному. В наше время лишь наиболее отсталая часть населения (обычно это женщины), целиком живущая в сфере быта и общающаяся только с близкими людьми, может владеть исключительно бытовым вариантом некоторого языка. Также и бесписьменные языки обычно не имеют вариантов и стилей, поскольку используются лишь в бытовой сфере, хотя и у них иногда бывает особый стиль фольклора. Если же человек читает газеты и романы, пишет деловые бумаги, присутствует на богослужении, постоянно общается с людьми из других социальных групп или просто живущими в других регионах, то он вынужден владеть (активно или хотя бы пассивно) несколькими языковыми образованиями. Разновидности языка, употребляемые в зависимости от ситуации общения, называют функциональными стилями; это понятие было введено Пражским лингвистическим кружком. Четкой классификации функциональных стилей не существует, но чаще всего выделяются, помимо бытового, деловой, публицистический, научный, религиозный, поэтический стили.
Важным случаем, порождающим языковые или стилистические различия, является стремление по-разному говорить со своими и с чужими людьми. Об этом стремлении уже упоминалось в связи с идеями Сепира. Во многих коллективах от семьи или группы друзей до целого этноса существуют особые «языки для своих» и «языки для чужих». В современном мире, где большинство людей получают в школе или семье знание некоторого литературного (стандартного) языка, именно он чаще всего используется не только в сферах культуры, но и в качестве «языка для чужих». Причина очевидна: он наиболее общепонятен в рамках государства. А «языком для своих» могут быть весьма разнообразные языковые образования. Иногда он отличается от «языка для чужих» лишь небольшим количеством лексики, знание которой открывает человеку путь в коллектив. Это бывает, скажем, в молодежных компаниях или в некоторых семьях. Но нередко в качестве «языка для своих» используется диалект. Это встречается, например, в странах немецкого языка и в Японии (для России это не характерно). Кстати, ситуация в Японии показывает различие между функциональным и структурным подходом к диалектам. Противопоставление литературного языка и диалектов там очень устойчиво с функциональной точки зрения, но структурно диалекты сильно меняются под влиянием литературного языка. Многие исконные диалектные черты там исчезли, но не настолько, чтобы диалект («язык для своих») перестал отличаться от литературного языка («языка для чужих»).
Однако бывает и так, что для своих и чужих используются разные языки. Вот слова интеллигентного мегрела (но не лингвиста!) о мегрельском языке на западе Грузии: «С филологической точки зрения, это отдельный язык, но с социологической точки зрения, это диалект грузинского языка». С такими словами трудно согласиться лингвисту: эти языки, хотя и родственны, но отличаются друг от друга не меньше, чем, скажем, английский язык от немецкого. Но функционально их различие похоже на различие литературного языка и диалекта: мегрелы говорят между собой на своем этническом языке, оставшемся бесписьменным, при этом читают, пишут и говорят с «чужими» (с собственно грузинами) по-грузински. Нередка такая ситуация и в России, где немалая часть населения в семье и с соседями говорит, например, на татарском, чувашском или бурятском языке, но читать и писать умеет лишь по-русски, на этом же языке эти люди говорят и с представителями иных национальностей (не только с русскими). В отличие от мегрельского языка на этих языках существуют письменность и литература, но не всегда они используются, и часто их носители не знают орфографии этих языков.
Литературный, или стандартный, язык отличается от всех других языковых образований (диалектов, жаргонов, просторечия и пр.) рядом особенностей. Во-первых, он медленнее изменяется, о чем говорилось выше. Во-вторых, обычно он обладает развитой системой функциональных стилей. Разные языки, однако, различаются набором этих стилей. Например, русский или английский обладают всеми стилями, но многие малые языки России в советское время развили поэтический и публицистический стили, но не деловой или научный, поскольку не употреблялись и не употребляются в соответствующих сферах. Даже наиболее крупные языки СССР (кроме русского) до 1991 г. имели неполный набор стилей, что выявилось после провозглашения независимости в ряде новых государств: немедленно перевести с русского на этнические языки, например, армию или преподавание в технических вузах оказалось невозможно по языковым причинам.
В-третьих, в литературном языке иначе строится норма. Распространенное мнение о том, что лишь литературные языки обладают нормой, неверно. Наоборот, диалекты и другие нелитературные языковые образования могут, как указывал французский лингвист Жозеф Вандриес (1875–1960), иметь даже более строгую норму, нарушение которой «карается» насмешками и передразниванием, тогда как литературная норма нередко допускает варианты. Выше приводился пример того, как свекровь учила невестку норме. Но диалектная норма действует стихийно. В литературном же языке она фиксируется в грамматиках, словарях и справочниках, ей обучают в школе через сознательное запоминание правил.
В-четвертых, различие литературного языка и других языковых образований значимо с точки зрения и языкового содержания, и самой когнитивной (символической) функции языка. Развитие науки, философии, техники невозможно без использования литературных языков. Как писал выдающийся итальянский мыслитель (лингвист по образованию) Антонио Грамши (1891–1937), человеку, владеющему лишь диалектом, доступно только «обыденное сознание», на диалекте нельзя выразить сложные идеи.
Если «свой» литературный язык обладает престижем среди его носителей и его распространение обычно не вызывает неприятия и противодействия, то гораздо больше социальных конфликтов порождает распространение «чужих» языков. Само разграничение языка и диалекта относится не столько к лингвистике, сколько к социолингвистике (хотя для бесписьменных языков оно обычно проводится извне по чисто лингвистическим основаниям). Так называемые китайские или арабские диалекты с лингвистической точки зрения — разные языки, их носители не понимают друг друга, но они традиционно считаются диалектами, поскольку так считают сами их носители и для каждого из этих языков имеется единая наддиалектная литературная норма. В Китае она до недавнего времени была лишь письменной, и носители разных диалектов могли общаться только с помощью иероглифов, однако в последние десятилетия в КНР принимаются активные меры для внедрения и устной нормы на пекинской основе. А сербохорватский язык, считавшийся единым языком еще 30 лет назад, теперь распался на три или даже четыре языка: сербский, хорватский и боснийский (язык боснийских мусульман), к которым позже добавился и черногорский. Лингвистические различия между ними остаются незначительными, но возобладало представление о том, что исповедующие разные религии сербы, хорваты и боснийские мусульмане — разные этносы, не имеющие между собой ничего общего. Борьба за права диалекта внутри государства (что в случае успеха означает превращение его в язык) также может быть, хотя встречается и не очень часто. В США существует особый афроамериканский вариант английского языка, которым некоторыми активистами предлагается заменить стандартный английский язык в своем этническом сообществе; однако эта программа разделяется далеко не всеми афроамериканцами.
Двуязычие в узком смысле (владение языками разных этносов) широко распространено в современном мире, однако оценивается по-разному. Есть даже точка зрения, согласно которой одноязычие связывается с жизненным успехом, а двуязычие — с бедностью и низкой культурой. Она распространена в США, где действительно для многих наилучшая стратегия жизни — употребление английского языка во всех ситуациях, а двуязычие свойственно либо иммигрантам в первом поколении, либо бедным национальным меньшинствам. Но совершенно иная ситуация в Индии или африканских странах, где национальная элита двуязычна, владея своим этническим языком и английским (в Индии), английским, французским или португальским (в Африке), тогда как бедные слои населения таких языков не знают.
Двуязычие (многоязычие) распространено в мире не меньше, чем одноязычие. Оно может формироваться по-разному, на что обращал внимание еще Щерба в 1940-е гг. Может быть чистое двуязычие, когда оба языка усваиваются естественным путем через общение с одноязычными носителями (Щерба вспоминал, как в России до революции детям из богатых семей с самого раннего детства нанимали гувернеров-иностранцев). Но в более частых в наше время случаях, когда второй язык усваивается в школе или вузе, получается смешанное двуязычие, при котором второй язык усваивается через первый, который даже при очень хорошем знании второго языка остается точкой отсчета.
Однако двуязычие (многоязычие) имеет и социальные аспекты. Оно может быть добровольным (так обычно бывает при изучении иностранного языка, который можно и не знать без особого ущерба для социального статуса) и вынужденным. Например, в США знание английского языка, а в России знание русского языка вынужденно для тех, для кого этот язык — не родной. Есть, конечно, там и там люди, не знающие эти языки, но они занимают крайне низкое социальное положение. Вынужденное двуязычие создает разного рода проблемы, в том числе индивидуальные: не все люди обладают равными способностями для изучения чужих языков. Но прежде всего это проблемы социальные. Часто возникает неравенство: одна часть населения государства (русскоязычные у нас, англоязычные в США) может свободно пользоваться материнским языком, ограничиваясь одноязычием (или добровольным многоязычием), другая вынуждена пользоваться двумя языками и ограничена в употреблении языка своего этноса, который в лучшем случае устойчив в роли «языка для своих», но часто начинает вытесняться господствующим языком. Это неудобство для национального меньшинства может компенсироваться престижностью господствующего языка. Но оно порождает языковые конфликты, которые сыграли (разумеется, в совокупности с другими факторами) не последнюю роль в распаде Австро-Венгрии и СССР.
Каждое государство ведет ту или иную языковую политику, направленную на поддержание или вытеснение того или иного языка, на обеспечение языкового единства в пределах государства, на создание или сохранение того или иного баланса между языками. Разумеется, языковая политика может осуществляться сознательно или стихийно. Ведущая роль господствующего в государстве языка независимо от его юридического статуса поддерживается экономической и политической ситуацией в стране. Скажем, во Франции французский язык имеет государственный статус более двухсот лет, а статус английского языка в США на общегосударственном уровне никогда не закреплялся юридически (теперь закреплен в нескольких штатах), однако реальная роль этих языков как господствующих одинакова. В современной России внедрение законов рынка объективно способствует распространению русского языка и вытеснению малых языков, чему можно противодействовать лишь сознательной и целенаправленной государственной политикой, которой пока что почти нет.
Неоднородность использования языка в зависимости от социальных факторов может иметь и совсем иной характер. Наряду с языковыми образованиями, которыми пользуется один и тот же человек в зависимости от ситуации общения, имеются и разновидности языка, жестко закрепленные за разными членами языкового коллектива. В последние десятилетия активно развивается так называемая гендерная лингвистика, изучающая особенности мужской и женской речи. Есть языки, где эти различия бросаются в глаза, как, например, японский. Там имеются две разновидности языка с разными правилами: мужчины и женщины пользуются разными личными местоимениями, разными восклицательными и модальными частицами, употребляют разные интонационные модели и др. Скажем, в русском языке такие различия не столь очевидны, но и они могут быть выделены. В одном исследовании афазий описывался больной, сохранивший очень ограниченный лексический запас (около двух десятков слов, включая междометия), в том числе осталось восклицание: Ой, девочки! Пол больного (больной) не был указан, но он очевиден. Мужчина так может сказать лишь в шутку. Значительные отличия может иметь и речь детей разного возраста, обычно не такие четкие возрастные различия в речи взрослых, но бывают существенными и они.
Также социальными факторами может определяться как выбор тех или иных слов и грамматических форм в конкретном общении, так и построение всего диалогического или монологического высказывания. Для каждого носителя русского языка существен выбор в диалоге между местоимениями ты и Вы. А, например, в японском языке в сказуемом каждого предложения (а иногда и в других его членах) должно быть выражено социальное отношение говорящего к собеседнику и к лицам, о которых идет речь. Имеются две грамматические категории, в каждой из которых противопоставлены вежливые и простые (невежливые) формы. Одна из этих категорий передает отношение к собеседнику, другая — к субъекту или объекту действия, обозначенного данным глаголом. Например, в одном романе жена, спрашивая у мужа, который уезжает, когда он вернется, употребляет глагол каэру «возвращаться» в форме о-каэрини наримасу. Здесь вежливость к главе семьи выражена дважды: как к собеседнику (суффикс —имас-) и как к субъекту действия (вежливый префикс о- и вспомогательный глагол нару). Муж отвечает, используя тот же глагол в простой форме каэру, где нет ни той, ни другой вежливости (точнее, следовало бы говорить не о вежливости, а об этикете). Соответствующие значения могут выражаться не только в глаголе, но и в других частях речи. Выбор такой формы в зависимости от ситуации — весьма сложная проблема, которую постоянно приходится решать каждому японцу. Этот выбор определяется разными факторами — и собственно социальными (отношения «высший — низший»), и прагматическими. Поэтому изучение японских форм вежливости (этикета) находится на пересечении социолингвистики и прагматики. Это относится и к изучению форм такого рода в других языках, особенность японского языка лишь в их распространенности в сфере грамматики, чаще они распространены в лексике.
Социальные факторы значимы и при построении того или иного текста, и при ведении диалога. Обычно в диалоге один из участников бывает ведущим: он определяет выбор темы и переход от одной темы к другой, он задает вопросы, перебивает собеседника, а его собеседник подстраивается к нему. Роли определяются разными факторами, в том числе психологическими, но среди них могут быть социальные. В одном японском исследовании изучались диалоги среди студентов разного пола, скрыто записанные на магнитофон. Оказалось, что в каждой паре ведущим был мужчина, а роль женщины сводилась к ответам на вопросы и поддакиванию партнеру. Очевидно, что здесь сказывается традиционное низшее положение женщины в японском обществе. У нас или в США вряд ли подобное исследование дало бы такой же результат.
Наконец, следует учитывать и роль языка как мощного средства социального воздействия. Эти вопросы сейчас активно разрабатываются западными исследователями, опирающимися на идеи неоднократно здесь упоминавшейся книги Волошинова. Например, в книге английского социолингвиста Н. Ферклоу речь идет о социальном господстве правящего класса, достигаемом в том числе через дискурсное господство. В современном западном мире это господство менее явно, чем в традиционных обществах, но при уменьшении значения его внешних проявлений возрастает социальный контроль над сознанием людей. Особенно очевиден социальный характер дискурса в рекламе и средствах массовой информации, где адресату навязывается та или иная точка зрения на товар или оценку событий. В данной книге господствующий дискурс рассмотрен на примере речей бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Отмечено, например, обилие категорических модальностей в ее речи, частые сочинительные связи между местоимениями 1-го лица и словами со значением народ, использование различных способов представления себя как якобы женщины из среднего класса. Активно изучается в разных странах (теперь и в России) язык рекламы и его использование в целях воздействия на потребителей. Практическое значение таких исследований, находящихся на пересечении прагматики и социолингвистики, очевидно.
В разделе об историческом развитии языка уже шла речь о пиджинах и креольских языках. Помимо структурных особенностей вроде редукции морфологии, надо отметить и их социолингвистическую роль. Пиджины легко появляются, когда возникают контакты между людьми, первоначально не имевшими общего языка, но вырабатывающими его, если есть такая необходимость. Выше приводился пример общения русских с немцами на рынке в Калининграде. В наши дни аналогичные пиджины фиксируются, например, в приграничной торговле между Россией и Финляндией. Известен также существовавший в XIX в. и в начале ХХ в. пиджин, на котором общались на Севере русские и норвежские моряки. В подобных случаях социальный статус собеседников более или менее одинаков, поэтому лексика включает в себя слова из обоих языков, а превращение пиджина в полноценный креольский язык исключено. Иная ситуация существует при разном социальном статусе носителей языков (например, дальневосточный пиджин или пиджины плантаций). Здесь почти вся лексика формируется на основе языка более высокого статуса, и только здесь возможен, хотя и не всегда происходит переход от языка (языков) с низким статусом к креольскому языку, носители которого уже могут и не относиться к социальным низам.
17 Картины мира
Соссюр в «Курсе» указывал: «Язык дает сравнительно мало точных и достоверных данных о нравах и институтах народа, который пользуется этим языком». Он отрицал и «мнение, что язык отражает психологический склад народа», поскольку «языковые средства не обязательно определяются психическими причинами». Теперь функциональная лингвистика исходит из обратного, считая, что в языке содержится много данных о «нравах» и «складе» того или иного народа.
С этими данными сталкивается каждый человек, учивший иностранный язык, особенно язык далекой культуры, скажем восточный. Он знает, что значительные на первых порах трудности в освоении фонетики, графики и формальной грамматики постепенно отступают на задний план, а самыми существенными начинают становиться трудности в семантике и в освоении чужих представлений о мире. Текст на уровне лексики и грамматики бывает более или менее понятен, но что хотел сказать автор, остается неясным.
На этом основано изучение так называемых языковых картин мира. Такое изучение восходит к идеям Гумбольдта, который писал: «Человек… живет с предметами так, как их преподносит ему язык…. И каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка». Позже, в 1920–1930-е гг., этот вопрос вновь подняли уже не раз здесь упоминавшийся Сепир и его ученик Бенджамен Уорф (1897–1941). Сепир писал: «Мы видим, слышим и вообще воспринимаем окружающий мир именно так, а не иначе, главным образом благодаря тому, что наш выбор при его интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего общества». Уорф пошел еще дальше, выдвинув так называемую гипотезу языковой относительности, в соответствии с которой даже «сходные физические явления позволяют создать сходную картину вселенной только при сходстве или по крайней мере при соотносительности языковых систем». У нас в 1930–1940-е гг. эти вопросы ставил Абаев, употреблявший термин «идеосемантика».
С тех пор лингвисты всё чаще обращаются к подобной проблематике. Она долго оставалась на периферии их внимания, поскольку многие опять-таки считали: «Это не лингвистика». Другие ученые отказывали гипотезе в праве на существование, считая, что для ее опровержения достаточно указания на возможность взаимопонимания между носителями разных языков и перевода с одного языка на другой. Однако после «хомскианской революции» и такие исследования стали распространенными и в силу общего расширения лингвистической проблематики, и из-за несомненной убедительности многих примеров. Конечно, нельзя эту гипотезу формулировать в самой крайней ее форме (до которой не доходили ни Гумбольдт, ни Сепир, а Уорф доходил лишь в отдельных формулировках).
Вот широко известный пример, который приводил Уорф, столкнувшийся с ним в своей практике работы в страховой компании. Люди, проявлявшие осторожность в обращении с цистернами с бензином, становились беспечны возле пустых (empty) бензиновых цистерн, хотя такие цистерны, содержащие пары бензина, не менее опасны. Это привело к взрыву. Здесь на поведение людей повлияла семантика английского слова empty (имеющаяся и в русском пустой). И таких фактов накопилось много для различных языков. Уорф поднимал и вопрос о сравнении подобных примеров для разных языков, указывая, что языки Европы здесь отличаются друг от друга не очень сильно, но, например, индейские языки Северной Америки имеют кардинальные различия по сравнению с ними.
За последние десятилетия развернулись исследования картин мира, основанные на материале различных языков. Они основаны на представлении о том, что необходимо различать научную картину мира, принципиально выразимую на любом языке (идеи Уорфа об особой «картине вселенной» для каждого языка являются слишком крайними), и «бытовые», «наивные» картины мира, в разной степени специфичные для разных языков. В научной картине мира Земля вращается вокруг Солнца, но в «наивных» картинах, например для русского языка, Солнце восходит, заходит, движется по небу, то есть отвергнутая наукой геоцентрическая картина мира продолжает сохраняться. В данном простом примере одинаковым образом устроены многие языки, но существуют и многочисленные случаи различной, как говорят современные лингвисты, концептуализации мира. Даже в европейских языках, о сходстве картин мира в которых писал Уорф, концептуализация мира далеко не совпадает. В частности, уже неоднократно русский язык сопоставлялся и с западноевропейскими, и с другими славянскими языками. Отмечалось, что именно для русской языковой картины мира специфичны такие понятия (концепты), как удаль, воля (в противоположность свободе); правда и истина в русском языке — не точные синонимы, но их различие не может быть однозначно представлено в западноевропейских языках. Особенно много писала о разных языковых картинах мира и сопоставляла их друг с другом известная австралийская лингвистка польского происхождения, иностранный член Российской академии наук Анна Вежбицка, которая даже выработала специальный формальный язык, позволяющий единообразно записывать те или иные концепты.
Очень многие примеры, приводимые в тех или иных работах, весьма убедительны. Для значительного числа языков накоплен богатейший материал, который невозможно игнорировать. Он, в частности, касается того, как в разных языках членится мир: нескольким не синонимичным словам одного языка соответствует единое слово в другом языке. Приведу лишь некоторые примеры.
Часто обращают внимание на то, что русскому слову рука в языках Западной Европы соответствуют два слова, обозначающих разные части руки: английские hand и arm, французские main и bras. В русском или английском языке верхняя часть тела обозначается лишь одним словом: голова, head. Но в японском языке в этом месте лексической системы имеются два слова: атама (голова без шеи) и куби (голова + шея). В русском или английском языке известное вещество в жидком состоянии независимо от температуры именуется единым словом: вода, water; но в японском языке различаются мидзу (от точки замерзания примерно до температуры тела человека) и ю (выше до точки кипения). Правда, в русском языке есть слово кипяток, но оно относится лишь к воде, которая по температуре близка к точке кипения, что для ю не обязательно; к тому же кипяток — одновременно и вода, а мидзу и ю представляются как разные сущности. А русскому давать или английскому to give в японском языке соответствуют целых пять не синонимичных глаголов, противопоставленных по двум параметрам: направлению действия (даю я или дают мне) и степени вежливости (этикета) к тому, кто дает или кому дают. Не надо думать, что русский язык отличается особой недифференцированностью значений: английскому to wash соответствуют русские не синонимичные мыть и стирать.
В лингвистике ведутся споры о том, существует ли в языке так называемая безэквивалентная лексика, не имеющая соответствий в других языках. Иногда считают, что любое значение можно передать в любом языке, хотя, может быть, в каком-то языке лишь описательно. Однако известно, что, например, японский язык обладает большим количеством междометий и звукоподражаний. И уже упоминавшийся в разделе о типологии Холодович в 1930-е гг. обратил внимание на то, что в это время они могли встречаться даже в японских военных текстах. Это происходило в двух случаях: при характеристике воздействия отравляющих газов и для передачи звучания разрыва снарядов разного типа. В русском языке в принципе можно передать такое звучание (бах, бух, трах и пр.), но это немыслимо в военном тексте не только по стилистическим причинам (такая лексика слишком «несерьезна»), но и потому, что в русском языке такие слова строго не закреплены за теми или иными звуками, они передают лишь общее впечатление. А на вопрос о том, как по-русски передать эффект от воздействия газов, по-видимому, придется ответить: никак. Еще пример на ту же тему. В японском языке есть специальное звукоподражание, передающее храп, и в одном из составленных в Японии японско-русских словарей оно было переведено как пхи-пуа. Такое слово вызывает удивление у носителей русского языка, но оно действительно встречается в рассказе А. П. Чехова, который, видимо, его придумал. Если бы оно закрепилось в языке, то заняло бы пустое место в системе, но этого не произошло.
Но и там, где описательная передача значения возможна, она свидетельствует о не очень большом месте этого значения в системе языка. В этой книге уже не раз затрагивался вопрос о центре и периферии в языке. Например, в русском языке звук ы в начале слова, возможный лишь в немногих заимствованиях из тюркских, корейского или финно-угорских языков, находится на дальней периферии в отличие от того же звука после твердых согласных. То же и в лексике (противопоставление центра и периферии, конечно, не жестко, могут быть разные степени периферийности). В русском языке, например, безусловно, центральными являются обозначения разводимого в России скота: корова, бык, коза, козел и пр. Это проявляется в непроизводности этих слов, а также в наличии переносных значений, производных слов, фразеологизмов. В японском же языке одним словом именуются коровы и быки (ср. в русском языке явно более периферийное крупный рогатый скот), а при необходимости уточнения присоединяется единый для любого животного префикс о- для самцов или мэ- для самок. В самом начале книги я приводил пример с группой японских туристов, забывших слово яги. Непонятными животными были… коза с козлятами (характерно, что это редкое слово там производно, буквально «горная овца»). Для носителей русского языка такая забывчивость немыслима.
Такого рода примеров в лингвистике накоплено очень много. Они показывают, что язык действительно описывает вокруг своих носителей круг. Но как трактовать эти примеры? Иногда объяснения достаточно очевидны, часто различия картин мира (что признавал и Уорф) прямо зависят от условий жизни соответствующего народа. Горная Япония, в которой мало пастбищ, никогда не была страной развитого скотоводства, а козы там почти не разводились (тогда как лексика, связанная с морским промыслом, в том же языке очень богата). Но как объяснить богатство японских звукоподражаний и их сравнительную бедность в языках Европы?
Важно, что всё перечисленное выше — это именно языковые различия, отражающиеся в речи каждого носителя языка независимо от его политических, философских и прочих взглядов. Это не значит, что картина мира в том или ином языке одна и та же: различия здесь могут быть связаны с историческими изменениями языка и с его неоднородностью в один и тот же момент времени (литературный язык, диалекты, просторечие). Но, скажем, Ленин и Бердяев при различии их идеологий были носителями русского литературного языка, принадлежали к одному поколению, и языковые картины мира у них были идентичны: они находились внутри одного и того же круга, по Гумбольдту.
Необходимо различать два принципиально различных явления, которые в русском издании Гумбольдта 1984 г. переведены как мировидение и мировоззрение, а Абаев называл идеологией, выраженной в самом языке, и идеологией, выраженной с помощью языка. Идеология, «выраженная с помощью языка» (а без языка ее выразить невозможно), может быть идеологией в обычном смысле (либеральной, консервативной, коммунистической и др.) и «житейской идеологией», по выражению Волошинова, свойственной в той или иной мере каждому человеку (патриархальной, потребительской и пр.). Но она более или менее эквивалентно может быть выражена на любом языке (в нем может быть не выработана нужная лексика, но в случае необходимости она появляется) и направлена на сознание. Наоборот, носители одного языка могут иметь разные мировоззрения, что очевидно. «Идеология, выраженная в языке», основанная на языковой картине мира, не осознается, и поэтому ее воздействие более эффективно (примеры приводились в разделе о социолингвистике: реклама, речи Тэтчер). Известно, например, что реклама, направленная на потребителя, владеющего некоторым языком, может не быть эффективной, когда тот же товар предлагается носителям другого языка.
Два данных явления не разделены непроходимой гранью, различия мировоззрения могут отражаться и в мировидении. Например, свойственное некоторым религиям, в том числе христианству, представление о собаке как нечистом животном отражается и в языках соответствующих народов. В русском языке переносные значения слова собака и включающие его фразеологизмы обычно имеют отрицательную окраску. Однако многие современные исследователи четко не разграничивают эти два принципиально различных явления. Наряду с безусловно языковыми примерами (переносные значения слов, фразеология) рассматривают семантику текстов русской классической литературы, где может отражаться мировоззрение того или иного писателя, а оно, как известно, у них бывало очень разным. Не только мировоззрения в обычном смысле, но и «житейские идеологии» у носителей одного языка в одно время могут быть различными, а многие исследователи, особенно в нашей стране, ставят своей целью через лингвистические исследования дойти до единой «житейской идеологии» народа, пытаясь, например, в «специфике русской коммуникации» обнаружить некие русские нравственные категории. Именно поэтому столь популярен анализ слов типа удаль или воля. По языковым данным выявляют отношение к жизни носителей русского или английского языка и др.
И в самом языке при исследовании картин мира встает ряд проблем. Одна из них — разграничение того, что входит в систему языка, и индивидуального словотворчества вроде вышеупомянутого пхи-пуа. Еще более важную проблему отмечал в 1940-е гг. Абаев: «Каждый раз может возникать вопрос: является ли вскрытая анализом идеосемантика актуальной, живой или же отжившей, т. е. отвечает ли она нынешним, действенным и в данный момент нормам познания и мышления, или она отражает нормы более или менее отдаленного прошлого и до нашего времени донесла только свою форму, тогда как питавшее эту форму содержание уже потускнело, выветрилось?» Ответить на этот вопрос современные исследования языковых картин мира не могут, а их критики указывают на то, что в этих картинах современный взгляд на мир может отождествляться с взглядом далекого прошлого. Например, лингвист Анатолий Янович Шайкевич, рассматривая пример с собакой, указывает на то, что у носителей русского языка за последние десятилетия отношение к этому животному заметно изменилось в лучшую сторону, но языковая картина мира здесь вряд ли стала другой. Как известно, язык изменяется медленнее, чем «выраженная с его помощью идеология». И даже если получить по языковым данным некоторую гипотезу о русских нравственных категориях, то как доказать, что это современные категории? Например, можно ли считать, что современным носителям русского языка свойственна удаль, а волю они предпочитают свободе? Кроме того, нередко примеры кажутся неубедительными, особенно когда лингвист обращается к неродному языку. Так, работы Вежбицкой, сопоставлявшей польскую и русскую картину мира, вызывали несогласие у российских специалистов именно в своей русской части.
Всё, по сути, упирается в одно: исследования языковых картин мира пока что не выработали адекватного метода. Ситуация похожа на то, что очень долго происходило и во многом происходит сейчас и с другими интересными идеями Гумбольдта: теория опережает метод. Фактов много, но нет строгих критериев их отбора и установления их иерархии. Ссылаясь на Уорфа или Вежбицку и найдя подходящие к той или иной схеме факты, можно высказывать какие угодно идеи, которые пока нельзя ни строго доказать, ни строго опровергнуть. Например, в одной японской книге особенности японского общества по сравнению с американским и канадским обществами выводились из языковых различий между японским и английским языками. Там указывалось, что в английском языке силовое ударение, отделяющее слова друг от друга, и четкая членимость предложения на группу подлежащего и группу сказуемого будто бы определяют индивидуализм американского общества. А характер японского музыкального ударения и не жестко бинарная структура японского предложения ведут к японским «гармоничности» и коллективизму. Всё это мало убеждает, но пока и опровергнуть это невозможно. И другие науки пока что мало чем могут здесь лингвистике помочь.
И еще одна проблема, связанная с неразличением мировоззрения и мировидения. Попытки лингвистов изучать то и другое сразу — одно из проявлений экспансии лингвистики в сферы других наук. Мировоззрение (индивидуальное и коллективное) изучается социологией, психологией, литературоведением и другими науками, которые, разумеется, рассматривают материал, выраженный на некотором языке, но имеют другие цели и задачи. И в связи с этим встает вопрос о границах лингвистики. Безусловно, не следует заранее оценивать те или иные проблемы как лежащие внутри или вне науки о языке, но расширение границ лингвистики не означает, что она должна поглотить чуть ли не всю гуманитарную проблематику.
Всё это не значит, что изучение языковых картин мира бесперспективно. Глубокие идеи Гумбольдта о познании мира через призму языка очень существенны, а сложности в освоении чужого языка это подтверждают. И, безусловно, данные исследования показывают важнейшую роль языка как части культуры того или иного народа. Многие культурологи игнорируют язык, рассматривая его лишь как средство познания той или иной культуры. Но, как подчеркивали такие крупнейшие ученые, как Гумбольдт, Сепир и Трубецкой, язык — не внешняя форма, а важнейший компонент человеческой культуры. Просто ввиду особой сложности объекта такого рода исследования, хотя ведутся уже давно, пока находятся в самом начале пути.
18 Что происходит в мозгу
Попытки выйти за пределы «черного ящика» и посмотреть, что происходит «на самом деле», предпринимаются уже давно, но более всего этим занимаются в последние десятилетия; обращаются к этим вопросам и функциональная, и генеративная лингвистика.
Работа органов речи доступна для изучения сравнительно легко. Поэтому исторически первой областью изучения процессов, происходящих «на самом деле», стала экспериментальная фонетика, которая развивается уже около полутора столетий. Всё это время активно изучались и изучаются характеристики звуков, как акустические, так и артикуляционные (связанные с физиологией речи). Во второй половине XIX в. и в начале ХХ в. изучение звуковой стороны языка (помимо сравнительно-исторического) понималось как исключительно экспериментальное. Как пишет автор статьи «Фонетика» в энциклопедии Брокгауза и Ефрона (1902) Сергей Константинович Булич (1859–1921), ее знание «на Западе составляет общее достояние каждого начинающего лингвиста», и она «является необходимым фундаментом исторической и сравнительной фонетики, без которого последняя неизбежно должна ограничиться чисто описательным отношением к своему предмету и отказаться от всяких попыток объяснения тех звуковых изменений или "переходов", которые происходят в человеческих языках». Однако в эпоху структурализма с 1920-х гг. вырвалась вперед фонология, потеснив фонетику, которая, разумеется продолжая развиваться, отошла на периферию науки о языке. Фонология была «бумажной», прямо не связанной с экспериментом дисциплиной.
Ситуация стала меняться в последние десятилетия. Как пишут в учебнике «Общая фонетика» Сандро Васильевич Кодзасов (1938–2014) и Ольга Федоровна Кривнова, «в современную эпоху традиционные фонологические модели, ориентированные на классификационные задачи описательного языкознания, оказываются недостаточными. На первый план выдвигается моделирование реальных процессов производства и восприятия звуковой речи. Многие из них получают естественное переосмысление в прикладных разработках, связанных с компьютерной имитацией звуковых процессов — синтезом и распознаванием речи».
Гораздо хуже, чем производство звуков, изучены механизмы слухового восприятия. Но сложнее всего подступиться к исследованию речевых механизмов мозга. Их прямое изучение и сейчас делает только первые шаги. В течение долгого времени данная дисциплина, так называемая нейролингвистика, изучала свой объект лишь по косвенным данным, без проникновения в мозг. Такие данные предоставляет, в частности, изучение афазий — речевых расстройств. Речевой механизм человека может выйти из строя не целиком, а частично; из этого был сделан вывод о том, что он состоит из отдельных «блоков», которые могут перестать действовать при повреждении тех или иных участков мозга. Еще в XIX в. исследователи пришли к выводу, что разные виды афазий вызваны поражениями определенных зон коры головного мозга.
Очень интересны проведенные еще более полувека назад исследования нашего выдающегося ученого Александра Романовича Лурии (1902–1977). В годы Великой Отечественной войны он занимался лечением людей, получивших на фронте повреждения мозга. В книге «Травматическая афазия» (1947) он описал материал различных речевых расстройств. Одно из них — так называемый «телеграфный стиль». Вот образец речи такого больного (попытка рассказать содержание фильма): Одесса! Жулик! Туда… Учиться… Море…. Эх! Ми-ли-ци-о-нер… Эх! Знаю! Касса! Папиросы. Можно видеть, что его речь состоит из назывных и инфинитивных предложений, состоящих из одного слова. Как правило, больной произносил существительные в форме именительного падежа, а глаголы — обычно в форме инфинитива. Иногда в его речи появлялись и словосочетания, но лишь в виде устойчивых штампов. Например, в ответ на вопрос о том, кем он был на фронте, больной отвечал: Начальник радиостанции. Однако он не мог ни свободно сочетать слова, ни склонять или спрягать их. При этом словарный запас больного оставался тем же, что до ранения.
В книге описано и противоположное по характеру расстройство: больной свободно сочетал слова без ошибок в грамматике, но словарный запас оказывался крайне обедненным. Вот пример речи такого больного (попытка рассказать о своем состоянии): Мне прямо сюда… и всё… вот такое — раз. Я не знаю… вот так вот… И уже не знаю… Когда я тут — и никак… ничего… никак… Сейчас ничего… А то — никак… Я когда-то… ох-ох-ох! Хорошо! А сейчас никак. Остающиеся слова используются «иероглифически» без возможности расчленить их на звуки или буквы. Больная данным видом афазии журналистка без затруднений произносила слова Москва, «Правда», «Известия», революция и т. д., но не могла назвать буквы.
Сейчас одним из центров нейролингвистики является петербургский коллектив во главе с Татьяной Владимировной Черниговской. Она также, в частности, отмечает, что при нарушениях механизмов мозга обоих вышеописанных типов «морфологические процедуры почти не производятся: в ментальном лексиконе слова хранятся целиком, списком, без осознания их структуры»; служебными морфемами становится невозможно оперировать. В то же время среди носителей русского языка «даже лица с речевыми нарушениями обязательно используют какие-либо окончания». Вспомним и знаменитую фразу из русско-китайского пиджина: Моя твоя не понимай, где уже нет морфологии, но какие-то окончания остаются.
Другой источник сведений — исследование детской речи; здесь, наоборот, механизм только постепенно вырабатывается и начинает действовать. Оно также активно ведется, в том числе и в России (Стелла Наумовна Цейтлин и др.). Исследователи отмечают, что на раннем этапе развития (когда уже пройдена стадия произношения отдельных звуков и слогов) сначала возникают слова-предложения. В это время грамматически полные фразы составляют лишь небольшой процент высказываний; при восприятии речи также из высказываний окружающих выхватываются отдельные слова, на которые происходит реакция. Таким образом, на этом этапе есть слова, которые, по выражению Цейтлин, имеют вид «замороженных словоформ» без возможности соединять их. Это напоминает «телеграфный стиль», но на данном этапе еще и бедна лексика, которая, однако, быстро пополняется. Использование слов без окончаний и здесь невозможно. На последующих этапах дети, осваивающие русский язык, начинают сочетать слова, однако изменение слов осваивается не сразу, и в это время особую роль играет порядок слов. Для людей, окончательно овладевших этим языком, он обычно грамматически не значим, но дети какое-то время не могут различить фразы: Покажи ключом гребешок и Покажи гребешком ключ. У детей всё начинается со слов, тогда как представление о морфемах (корнях, окончаниях) вырабатывается поздно, при афазиях выделение морфем быстро разрушается, но всё кончается словами.
Анализ подобных примеров указывает на существование по крайней мере двух, а то и трех разных компонентов речевого механизма человека. Имеются набор хранимых в мозгу элементов и множество операций с этими элементами, то есть правил, в нормальной ситуации действующих неосознанно. При «телеграфном стиле» поврежден участок мозга, ведающий операциями, а хранение элементов функционирует. При другом повреждении, наоборот, затронут набор элементов, а операции с ними сохраняются. Может быть выделен и третий компонент — морфологический, который позволяет не хранить в памяти все формы клонения и спряжения, а образовывать их от исходной формы. Для имен это, естественно, форма именительного падежа единственного числа; если слово не имеет форм единственного числа или формы множественного числа много употребительнее, исходной может быть форма именительного падежа множественного числа (больной при «телеграфном стиле» употреблял формы усы, папиросы). Для глагола в русском языке это инфинитив, который традиционно и дается в словарях, хотя эта форма не самая употребительная; по мнению Черниговской, это происходит потому, что от этой формы глагола легче образовать все другие.
Подобный материал указывает на психологическую адекватность некоторых традиционных подходов лингвистики. Подтверждается традиционное разграничение двух типов описания языка: грамматики и словаря; словари моделируют (разумеется, неосознанно) деятельность участка мозга, хранящего набор элементов, а грамматики — участка мозга, ответственного за операции. Подтверждается и издавна свойственная науке о языке идея слова как центральной единицы языка, о чём будет специально говориться в следующем разделе.
Современная нейролингвистика уже не ограничивается изучением афазий и детской речи на основе наблюдения за поведением исследуемых и экспериментов над ними. В последние десятилетия ученые переходят и к прямым исследованиям мозга, для которых долго не была выработана специальная методика. Как пишет Черниговская, «появились способы исследовать мозговую активность объективными инструментальными методами, начиная с ЭЭГ[5] и метода вызванных потенциалов и заканчивая томографиями — позитронно-эмиссионной и функциональной, основанной на анализе магнитного резонанса во время выполнения когнитивных задач». Кроме того, используются приборы, фиксирующие микродвижения глаз; они также дают информацию о том, что происходит в мозгу. Всё это дает «возможность подробно регистрировать физиологические процессы, обеспечивающие память, внимание и обработку разных типов информации».
Один из важных инструментальных методов связан с изучением функций двух полушарий мозга: с помощью электрошока временно подавляется деятельность одного из полушарий, и далее выясняется, что изменяется в речи, когда действует только одно из них. Речь ни в каком случае не исчезает, но в каждом из случаев изменения оказываются различными.
При этом возникают спорные проблемы. Например, во многих языках, включая русский и английский, имеются правильные глаголы, спрягающиеся по общим правилам, и неправильные глаголы, спряжение которых индивидуально и требует особого запоминания. Любопытно, что при обучении английскому или французскому языку всегда большое внимание уделяется запоминанию спряжения неправильных глаголов, а в учебниках русского языка о них могут и не вспоминать, хотя их немало; данные нейролингвистики показывают, что это не случайно.
В современной нейролингвистике много внимания уделяется процедурам обработки регулярной и нерегулярной морфологии; исследуются степень их сохранности при афазиях разного типа и формирование у детей. Как отмечают Черниговская и ее сотрудники, здесь конкурируют два подхода. Многие исследователи считают, что в языке существует два механизма: «регулярные глаголы выводятся в соответствии с символическими правилами, а нерегулярные извлекаются из памяти целиком»; такая точка зрения чаще встречается в США у сторонников генеративизма. Однако петербургский коллектив, изучающий носителей русского языка, пришел к выводу, согласно которому «не существует принципиальной разницы в обработке и хранении регулярных и нерегулярных форм».
Исследования детской речи показывают, что носители русского и английского языков формируют морфологию по-разному. Если дети, овладевающие русским языком, на одном из этапов овладения говорят, как уже упоминалось, «замороженными словоформами», постепенно осваивая словоизменение, то американские исследователи отмечают на соответствующем этапе «телеграфную речь», в которой отсутствуют не только служебные слова, но и аффиксы. И исследования афазий показывают, что в английском языке регулярные формы прошедшего времени с элементом — ed (который по традиции принято считать аффиксом) составляются из компонентов (производятся), а не хранятся в готовом виде (воспроизводятся); формы неправильных глаголов, однако, воспроизводятся. То есть получает подтверждение точка зрения о разных механизмах для регулярных и нерегулярных форм. Показательно, что когда-то некоторые представители американской дескриптивной лингвистики предлагали выделять, например, в формах английского глагола со значением «брать» take и took корень t-k и вставляемые внутрь него аффиксы. Однако эта точка зрения не прижилась для английского языка, хотя во многих «экзотических языках» аналогичные трактовки были распространены среди дескриптивистов. Видимо, мешала интуиция носителей языка.
Особо следует остановиться на изучении функций полушарий мозга. Уже более столетия существует гипотеза, согласно которой правое полушарие связано с образами, а левое полушарие — с логическими операциями. О раздельности этих функций уже давно, независимо от нейролингвистики, накапливался немалый материал.
Например, по-видимому, при восприятии письменного текста неодинаково обрабатываются иероглифы и буквы. Здесь любопытен материал японского языка, где (в отличие от китайского, в котором используются только иероглифы) сосуществуют заимствованные из Китая иероглифы и две изобретенные на их основе в самой Японии азбуки: хирагана и катакана. В соответствии с общей нормой, корни слов (кроме новых заимствований из английского и других, в основном западных языков, которые пишут катаканой) пишутся иероглифами, а окончания и служебные слова — хираганой. И многие из тех, кто хорошо владеют языком, отмечают, что иероглифы и знаки азбуки воспринимаются разным образом. Вот что писал Конрад: «Когда я бегло просматривал эти книги, переворачивая одну страницу за другой, у меня возникло ощущение, будто я погружаюсь в мир каких-то понятий. Так как я только перелистывал книгу, а не читал ее, что в ней говорится, я уловить не мог, но о чем говорится, мне было совершенно ясно.… Первое, что хочет знать человек, открывая новую для себя книгу, это — о чем в ней написано; получается, что наличие иероглифов дает на это быстрый и точный ответ при одном взгляде. При европейской системе письма мы должны были бы прочитать весь текст или по крайней мере отдельное слово всё полностью. При японской же системе письма первая, начальная информация получается наиболее быстрым и экономичным путем через одни иероглифы». А недостающую информацию дают знаки азбуки, требующие для восприятия вчитаться в текст. То есть иероглиф — образ, запоминаемый «при одном взгляде», а фонетическое письмо (кириллическое, латинское, хирагана или катакана) воспринимается последовательно, с помощью логической операции.
Как уже отмечалось в разделе «Письмо», всё это не значит, что иероглиф — чистый образ, «картинка». Он имеет на самом деле четкую структуру. И даже в наши дни китаец или японец может столкнуться с неизвестным ему знаком, который приходится анализировать, а затем искать в словаре (еще недавно в Японии в портфеле было принято носить карманный иероглифический словарь, который теперь имеется в телефоне или ноутбуке). С другой стороны, и в привычных для нас языках с алфавитным письмом только малограмотные люди читают по буквам или по слогам. В мозгу существует и определенный образ если не каждого слова, то наиболее значимых слов. Так что если предполагать, что образами ведает правое полушарие, а логическими операциями — левое, то придется признать, что оба полушария воспринимают и иероглифы, и знаки японской азбуки. Однако, по-видимому, предпочтительна ситуация, когда при фонетическом письме глаз движется по строкам (в японском языке чаще по столбцам), а в тексте, содержащем иероглифы, сразу выхватывает «ударные» знаки. Об этом писал Конрад, и на этом основана японская реклама.
Непосредственные исследования полушарий мозга в целом подтверждают данную гипотезу. Черниговская пишет: «…[в ходе эволюции человека] левое полушарие стало регулировать наиболее сложные и одновременно ключевые компоненты языка — анализ и синтез фонологических цепочек, морфологию и синтаксис, в то время как к правому полушарию отошла функция регулирования процессов смыслообразования и прагматические аспекты речи». Как выявляется при опытах той же петербургской группы, в которых испытуемым предлагается классифицировать слова, при работе только правого полушария ориентируются на смысловые связи, игнорируя грамматику, а при работе только левого полушария обращаются прежде всего к форме. Логические умозаключения легко делаются, если действует левое полушарие, а если оно отключено, то приходится ориентироваться лишь на жизненный опыт. Например, когда испытуемые воспринимали предложения: Во всех реках, где ставят сети, водится рыба и На реке Нева ставят сети, им предлагалось ответить на вопрос: Водится в Неве рыба или нет? При работе левого полушария ответ не вызывал затруднений, а если действовало лишь правое полушарие, следовали ответы вроде: Да, я сам варил (жарил, ел), то есть предложения не связывались между собой.
И обнаружено, что если человек овладевал языком, ориентируясь только на систему правил (а так у нас обычно учат язык в школах и вузах), то оказывается задействованным лишь левое полушарие, тогда как при обучении прямым методом, через общение с носителями языка (аналогично тому, как происходит овладение материнским языком) действуют оба полушария. Именно поэтому, как уже говорилось, второй язык при сознательном обучении неизбежно смешивается с первым языком. И поэтому операции, производимые левым полушарием, можно освоить и при школьном методе; можно, например, научиться говорить без акцента, не ошибаться в грамматике. Однако семантика оказывается обедненной. Может быть, поэтому так мало крупных писателей, использовавших неродной язык (речь не идет о тех из них, кто, как Набоков, с самого раннего детства оказывался в атмосфере нескольких языков).
И, как уже говорилось в связи с разными системами письма, не следует считать, что противоположность функций двух полушарий абсолютна. Как указывает Черниговская, далеко идущие противопоставления вроде «правополушарная культура — искусство и Восток», «левополушарная культура — наука и Запад» упрощают реальную ситуацию. Она также указывает, что, с одной стороны, нельзя говорить о распределении всех функций по всему мозгу, но, с другой стороны, «в нейролингвистических исследованиях… сама идея локализации функций становится все менее популярной». Эта идея сменяется представлением о том, что «нейроны из разных областей коры могут быть одновременно объединены в общий функциональный блок».
Нейролингвистика находится на очень ранней стадии развития, многое еще предстоит сделать. Но уже ясно, что она представляет собой важнейшую область науки о языке, без знания результатов которой мы не можем иметь полного представления ни о строении, ни о функционировании языка.
19 От нейролингвистики к устройству языка
Представляется, что часто многие аспекты устройства языка не могут быть объяснены без обращения к его функционированию, в том числе без обращения к механизмам мозга. Это уже не раз говорилось выше, но теперь можно рассмотреть эту проблему с учетом представленного в предыдущем разделе материала.
Один из таких аспектов — проблема слова. Как известно, слово всегда рассматривалось в лингвистике как центральная единица языка. Соссюр говорил: «Слово, несмотря на все трудности, связанные с определением этого понятия, есть единица, неотступно представляющаяся нашему уму как нечто центральное в механизме языка». Эта идея до начала ХХ в. принималась без доказательств, потом стали предприниматься попытки ее доказать и точно определить, что такое слово, но они оказались безуспешными.
Трудности в определении слова ни сто лет назад, ни сейчас так и не преодолены. В 1973 г. крупный исследователь русского языка (впоследствии академик) Дмитрий Николаевич Шмелев (1926–1993) писал: «Уже предложено бесчисленное количество определений слова, которые существенно отличаются друг от друга и редко использовались кем-нибудь, кроме (и то не всегда) самих их авторов…. Сама возможность появления приемлемой для большинства лингвистов дефиниции слова представляется, по крайней мере, сейчас, довольно сомнительной». Современный шведский лингвист Эстен Даль пишет: «Несмотря на выдающуюся роль понятия слова в нашем повседневном осмыслении языка, наше понимание природы слов все еще ограничено».
В разных определениях слова могут учитываться самые разные и неоднородные признаки, которые достаточно часто, но не всегда встречаются у слов. Разные лингвисты могли понимать слово как последовательность, имеющую единое ударение, как минимум предложения, как единицу с неотделимыми друг от друга частями, как особую семантическую единицу и еще каким-либо способом. Выяснилось, что слова разных классов могут не вполне совпадать по своим свойствам, и дать такое определение слова, которое бы полностью выделяло те и только те единицы, которые мы привыкли отделять пробелами, не представляется возможным.
Кроме того, базовые единицы других лингвистических традиций, как уже отмечалось в разделе 1, по своим лингвистическим характеристикам могут отличаться от того, что мы называем словом. В китайской традиции они соответствуют корням, а в японской традиции знаменательные единицы чаще всего сходны с тем, что мы называем основной слова, тогда как в число служебных базовых единиц попадает и большинство грамматических аффиксов.
Представляется, что продвинуться в изучении проблемы слова можно, если обратиться к механизмам человеческого мозга. Ряд примеров приводился в предыдущем разделе. Все эти исследования, в том числе исследования афазий и детской речи, подтверждают центральную роль слова в порождении и восприятии речи. Такой вывод на основе анализа афазий сделал еще Лурия: «Основным динамическим единством нормальных артикуляторных процессов является слово».
Черниговская и ее сотрудники пишут: «Можно говорить о "слоях", составляющих язык: это лексикон — сложно и по разным принципам организованные списки лексем, словоформ и т. д.; вычислительные процедуры, обеспечивающие грамматику (морфологию, синтаксис, семантику и фонологию), механизмы членения речевого континуума, поступающие извне, и прагматика».
Таким образом, нормой является хранение в памяти некоторых средних по протяженности единиц: они больше морфемы (или равны ей), но меньше предложения (или равны ему). Слова как норма хранятся в мозгу человека и в большинстве случаев в процессе речи берутся в готовом виде. Это не исключает, с одной стороны, хранения устойчивых словосочетаний вроде начальник радиостанции (что показывает их сохранение и у больных с «телеграфным стилем»), с другой стороны, конструирования новых сложных слов из составных частей; они могут в дальнейшем закрепиться в системе языка и войти в лексикон, но могут и остаться разовым использованием.
Строго лингвистическое определение слова, которое полностью бы совпадало с традицией, по-видимому, невозможно: традиция не строго последовательна. Но из этого не вытекает отказ от понятия слова, которое скорее надо понимать как психолингвистическое.
Выше уже говорилось о том, что наука о языке по-разному относилась к содружеству с психологией. Концепции языка второй половины XIX в. и начала ХХ в. были во многом психологическими; пример — подход к фонеме как «психологическому отпечатку звука» у Бодуэна де Куртенэ. Потом структурная лингвистика, стремившаяся к точности и проверяемости результатов, отказалась от слишком нестрогого психологического подхода. И тем не менее, говоря о слове, часто, пусть в неявном виде обращались к психологии. Например, Панов писал: разнообразные определения «улавливают отдельные, обычно не самые существенные признаки слова», тогда как «у всех у нас есть уже сложившееся практически представление о слове, и все наши теории приходится сверять с этим общепринятым и устойчивым представлением». Но «устойчивое представление» — это именно элемент психики.
Однако решить проблему слова структурными методами так и не удалось, в связи с чем в ряде работ (на Западе чаще, чем в России) проявился отказ от понимания слова как центральной единицы. Но теперь появилась возможность опираться на нейролингвистические исследования, которые эту роль подтверждают.
Другая проблема, которую следует здесь рассмотреть, — проблема классов слов, то есть частей речи. Как уже говорилось, в каждой лингвистической традиции слова распределялись по тем или иным классам; чаще всего разграничивались, во-первых, знаменательные и служебные слова, во-вторых, имя и глагол (кроме Китая); иногда, как в Европе, выделялись и некоторые иные классы: прилагательные, наречия и другие. Для их выделения применялись разные критерии: морфологические, синтаксические, семантические. В целом традиционная система частей речи (скажем, содержащаяся в школьном учебнике) неоднородна по своим основаниям не меньше, чем традиционное выделение слов.
Особую точку зрения еще в 1928 г. высказал не раз здесь упоминавшийся Щерба. Он писал: «Самое различение "частей речи" едва ли можно считать результатом "научной" классификации слов.… В вопросе о "частях речи" исследователю вовсе не приходится классифицировать слова по каким-нибудь ученым и очень умным, но предвзятым принципам, а он должен разыскивать, какая классификация особенно настойчиво навязывается самой языковой системой. … Едва ли мы потому считаем стол, медведь за существительные, что они склоняются, скорее потому мы их склоняем, что они существительные». Ученый подчеркивал, что «ученых и умных» классификаций слов может быть много, но «истинная» классификация одна. Но что такое «навязываются самой языковой системой»? Вероятно, здесь в неявном виде речь шла о влиянии психолингвистического механизма. Носители языка ощущают неоднородность слов, хранящихся в их памяти, и опознают их как принадлежащие к тем или иным группам. Такой вывод прямо не был сделан Щербой, но позднее он появился у некоторых ученых. Белорусский лингвист Адам Евгеньевич Супрун писал в 1965 г.: «Слова, являющиеся по соображениям лингвистов, подтверждаемым психологами и психофизиологами, теми языковыми единицами, которые хранятся в памяти, во многих (а может быть и во всех) современных языках в той или иной мере специализированы в своих грамматических функциях. Естественно поэтому предположить, что одно из членений тотального множества слов языка на подмножества для облегчения и ускорения их поиска в памяти основывается на этой грамматической специализации слов».
Современные исследования афазий и детской речи в целом подтверждают эти предположения. В одной из американских публикаций 2010 г. говорится о существовании особых долей мозга, ответственных за представления размера, цвета, структурных черт воспринимаемого; они действуют и при произнесении или восприятии их именных обозначений. Другие доли мозга ответственны за планирование, выполнение и перцептивное понимание действий; они, вероятно, встречаются и при обработке глаголов. В статье указывается, что это не зависит от языка и свидетельствует об универсальности противопоставления существительных и глаголов. Впрочем, есть языки, где это противопоставление слабо выражено: в китайском языке даже слово со значением «собака» может в определенном контексте приобретать значение «выполнять функции собаки». Недаром китайская традиция не разграничивала существительные и глаголы.
Можно предполагать, что в памяти человека слова хранятся в виде нескольких групп, имеющих общие свойства. Особенно важны такие словесные группировки для восприятия речи, кода полученные сигналы сопоставляются с их аналогами в памяти. Хранимые в памяти группы слов могут быть не вполне однородны по своим свойствам, но для разных языков типично использование некоторых наиболее характерных опознавателей, позволяющих их идентифицировать. Таким опознавателями во многих языках бывают морфологические признаки (склонение, спряжение и пр.), могут быть значимы и синтаксические свойства групп слов. Все эти признаки могут иметь разную значимость в языках разного строя. Например, морфологические признаки являются определяющими для русского языка и играют меньшую роль для английского или французского.
И здесь мы имеем дело еще с одной проблемой, на которую не всегда обращают внимание лингвисты: как строй языка влияет на тот или иной национальный вариант лингвистической традиции. Об этом будет говориться в следующем разделе.
20 Строение мозга и национальные традиции
В начале книги уже обращалось внимание на особенности подходов, в том числе к грамматике, в разных традициях: индийской, арабской, китайской, японской и европейской. Во многом эти особенности были связаны со строем базового языка, изучение которого создало традицию. Но оказывается, что различия проходят и внутри лингвистики, восходящей к античной традиции. Хотя европейская традиция имеет общие истоки, она делится на разные варианты, разделяемые не столько национальными границами, сколько базовыми языками (русским, английским, французским и др.). Сразу должен оговорить, что речь не будет идти о политических или идеологических различиях, я не буду говорить о неязыковых аспектах культуры и не собираюсь давать этим вариантам каких-либо оценок. Всё здесь в конечном итоге обусловлено строем базового языка, а я не считаю научными популярные сейчас попытки «доказать», что, например, русский язык лучше или хуже английского. Но разный строй этих языков, о котором упоминалось в разделе о типологии, — объективная реальность: русский язык (как и древние языки, бывшие первоначально базовыми для традиции) — синтетический, английский и французский — аналитические.
Почему английский и французский (в меньшей степени немецкий) языки так значительно изменили свой строй в ходе исторического развития, а русский язык в целом сохранил прежние особенности? Как уже говорилось в разделе об исторической лингвистике, вопрос о причинах исторических изменений пока с большим трудом поддается решению, и современная наука в данном случае может лишь констатировать факт. Вот так случилось. А последствия этого значительны, в том числе для развития науки о языке в разных странах. Я буду в основном говорить об актуальном в наши дни противопоставлении русскоязычного и англоязычного вариантов лингвистики. Но сначала стоит привести показательный, как представляется, пример рассуждений французского ученого.
Еще в 1903 г. Антуан Мейе, рассматривая строй древних индоевропейских языков, писал: «Индоевропейский морфологический тип был чрезвычайно своеобразен и вместе с тем крайне сложен. … Слово являлось в нем лишь в сочетании со словоизменительными элементами. … В латинском языке для значения «волк» нет ни слова, ни выделяемой основы; есть только совокупность форм: lupus, lupe, lupum, lupī, lupō, lupōs, lupōrum, lupīs[6]. Нет ничего менее ясного, чем подобный прием. … Все индоевропейские языки в большей или меньшей степени, одни раньше — другие позже, обнаружили склонность упразднить словоизменение и довольствоваться словами как можно менее изменяемыми, а в конце концов и вовсе неизменяемыми». То есть для лингвиста — носителя французского языка равное основе неизменяемое слово — норма, а развитое словоизменение — «своеобразный», «сложный» и «неясный» тип, от которого нужно избавляться.
Автор комментариев к русскому изданию книги Мейе Розалия Осиповна Шор справедливо писала: «Как понимание структуры отдельного слова… так и понимание структуры предложения древнейших индоевропейских языков не представляет с точки зрения русского языка — языка синтетического строя — тех затруднений, которые оно представляет с точки зрения французского языка — языка аналитического строя». Для носителей русского языка здесь нет ничего неясного.
И, по контрасту, высказывание Александра Ивановича Смирницкого (1950-е гг.): «Слово с лексической точки зрения не есть какой-то обрубок. Слово окно как лексема, как единица словаря, есть все же окно или, в известных случаях, окна, окну, окна, но не окн-». Норме у Мейе соответствует «обрубок» у Смирницкого. Этот ненаучный эпитет точно передает интуицию носителя русского языка, для которого слово должно быть оформлено, то есть иметь показатель словоизменения (хотя бы нулевой); «неоформленное» же слово, равное основе, ощущается как исключение, свойственное либо периферийной лексике, либо служебным словам, которые как бы и не совсем слова. Отмечу, что Смирницкий по лингвистической специализации был германистом и много занимался как раз английским языком, но в общелингвистических работах исходил из представлений, привычных для носителя русского языка.
Такие представления могут влиять на то, как тот или иной лингвист исследует свой объект. Еще более полувека назад Андрей Анатольевич Зализняк и Елена Викторовна Падучева писали: «Естественно… что когда лингвист переходит от описаний родного языка к построению общей теории языка, основные понятия построенной им теории часто сохраняют тесную связь с фактами, которые хорошо представлены в его родном языке». Это может проявляться и в подходе к языкам, по строю отличным от родного.
Русский национальный вариант европейской лингвистической традиции в основном начал формироваться в XVIII в. B. E. Адодуровым, В. Г. Тредиаковским, М. В. Ломоносовым. Поначалу в нем имело место сильное влияние греко-латинского эталона; например, Ломоносов рассматривал по античному образцу имя как единую часть речи, но ученые XIX в. уже выделяли существительные и прилагательные, поскольку в русском языке они склоняются по-разному. Постепенно вырабатывался эталон, основанный на строе русского языка, к концу XIX в. он уже окончательно сложился. Аналогичные процессы шли с разной скоростью в английском, французском и других вариантах европейской лингвистической традиции, которые сложились на одно-два столетия раньше, но изменения здесь оказались более существенными.
Можно привести немало примеров влияния строя базового языка на лингвистическое описание. Особенно они наглядны в области морфологии, о которой писали в приведенных выше цитатах Мейе и Смирницкий.
Подобные представления отразились, например, в русской японистике. В русской традиции принято считать, что любая грамматическая категория, включая падеж, определяется, как сказано в русской грамматике 1970 г., «совокупностью словоформ (парадигмой)». То есть хотя бы некоторые из падежей того или иного языка должны выражаться внутри именной словоформы, прежде всего с помощью окончаний слов. Возможны в каких-то языках падежи, выраженные префиксами или чередованиями звуков в корне, но они не могут выражаться другим словом, в том числе служебным. Точнее, могут (традиция признаёт так называемые аналитические формы), но лишь при условии, что они входят в систему вместе с синтетическими формами. В русском языке, правда, нет аналитических падежей, но есть аналитические формы глагола вроде буду писать, которые входят в единую систему с формами вроде пишу, напишу и др. Если же ни один падеж не выражен словоизменением, то в языке нет падежей, а есть лишь грамматические конструкции со сходным значением.
Японская падежная система вполне соответствует данному названию с точки зрения функции падежей, однако споры вызывал вопрос о трактовке падежных показателей — это отдельные слова или аффиксы. Японская национальная традиция, как и англоязычная японистика, всегда считает их отдельными словами, для чего есть серьезные основания. Они в некоторых случаях могут отделяться от существительных: например, в газетной заметке обозначен персонаж, далее в скобках указываются его возраст, место жительства и работы, и только после этого стоит показатель именительного падежа. Но если падежные показатели — слова, то с традиционной русской точки зрения в японском языке нет грамматической категории падежа, есть только послеложные конструкции. Но всё выглядит иначе, если признать японские падежные показатели аффиксами, что и сделал уже не раз мной упоминавшийся Поливанов в 1930 г. Эта точка зрения существовала только в российской японистике, одно время господствовала, но во второй половине XX в. была оставлена.
При рассмотрении японского языка разные привычки носителей русского языка вступают в противоречие: в «нормальном» языке должны быть, с одной стороны, падежи, с другой стороны, грамматическое оформление слова. То и другое совмещалось в концепции падежного словоизменения, которая никогда не приходила в голову англоязычным японистам. Однако понятие падежа в японском языке устояло ценой отказа части российских японистов от общелингвистического определения падежа, слишком ориентированного на особенности языков с развитым словоизменением. Для лингвиста, исходящего (может быть, и бессознательно) из русского языка как точки отсчета, кажется естественным случай, когда и в исследуемом языке слово «оформлено», если имеет в своем составе грамматические аффиксы. Если же такого аффикса нет, то более естественным может казаться трактовка его отсутствия как нуля, чем как совпадения слова с основой. А для носителя другого языка «оформленность» слова — вовсе не обязательный его признак; как мы видели, Мейе считал ее экзотикой, для него естественнее было отсутствие словоизменения.
Влияние родного языка может проявляться и в фонологии. Общепризнанно, что в фонологической системе русского языка важнейшее место занимает противопоставление согласных фонем по наличию — отсутствию признака палатализации (мягкости). Нас этому учат с первых классов школы, рассказывая о том, что русские согласные разделяются, во-первых, на твердые и мягкие, во-вторых, на звонкие и глухие (прочие их дифференциальные признаки в школе не рассматриваются). Но если признак звонкости-глухости встречается в огромном количестве языков мира, включая английский, то признак твердости-мягкости (в научной терминологии непалатализованности-палатализованности) не особенно част в мире, в том числе на фонологическом уровне его нет во многих европейских языках. Но есть серьезные основания относить японский к языкам с палатализацией, которая, как и в русском языке, проходит через всю систему согласных. В России, начиная с Поливанова, такая точка зрения господствует и отражается в разработанной этим ученым кириллической транскрипции японских слов. Однако англоязычные японисты не замечают мягких согласных и трактуют разные элементы единой системы по-разному. Некоторые из японских палатализованных согласных имеют более заднюю («шепелявую») артикуляцию, которая воспринимается в России как дополнительный, а в США как основной признак. Отсюда последовательностям ся, тя в кириллической транскрипции Поливанова соответствуют sha, cha в стандартной латинице, разработанной для японского языка в конце XIX в. американским миссионером Дж. К. Хэпбёрном. Отсюда разнобой в современном русском языке, когда одновременно встречаются непосредственные заимствования из японского (суси, Хитати) и заимствования через посредство английского (суши, Хитачи). В изданном в 1970 г. «Большом японско-русском словаре» есть только суси и сасими, но сейчас вместе с распространением исходящей в основном из США культуры глобализации уже стали привычными слова суши и сашими — запись русскими буквами английских sushi, sashimi. Если же звуки различаются только палатализацией, то носители английского языка слышат их как сочетания с йотом: мя, кя в кириллице и туа, куа в латинице. В англоязычной японистике однотипные противопоставления рассматриваются то как противопоставления фонем, то как противопоставлении фонем их сочетаниям с йотом. Носителям языка, где нет мягкости (палатализации) согласных, ее услышать трудно, тогда как для носителей русского языка ее выделение представляется естественным.
Два приведенных примера из области японистики показывают, что базовый язык, ощущаемый как эталон «нормального» языка, может дать (в рассматриваемом случае одному и тому же исследователю — Поливанову) и верную, и неверную подсказку. Со временем влияние национальной традиции может ослабевать, как это произошло с трактовкой японских падежей. Но признания палатализации в англоязычной японистике не произошло: слишком мало там знают российскую лингвистику и русский язык.
Различия видны и в синтаксисе. В отечественной традиции синтаксис обычно понимается как совокупность слов (членов предложения) и синтаксических отношений между ними. Еще в школе нас учат проводить стрелки от главного слова к зависимому; такое представление синтаксической структуры называют грамматикой зависимостей. Направление анализа — от слова к предложению, а порядок слов существенной роли не играет: при изменении порядка синтаксические связи остаются теми же самыми. В западной науке такое представление структуры предложения встречается, его изображения с помощью стрелок называют «графами Теньера», поскольку их предложил французский лингвист Люсьен Теньер (1893–1954); он был славистом, изучал работы русских лингвистов и мог использовать их идеи.
Однако там, особенно в англоязычной лингвистике, преобладает иное представление синтаксиса, именуемое грамматикой составляющих, впервые разработанное Л. Блумфилдом. Предложение на каждом шагу делится на две части (составляющие), они, в свою очередь, делятся на части и т. д. Такая схема наглядно представляется не с помощью стрелок, а в виде скобок. Каждая пара скобок включает составляющую, пары скобок вкладываются друг в друга, но не пересекаются. Направление анализа — от предложения к меньшим единицам, часто при этом конечными единицами оказываются не слова, а морфемы.
Грамматика зависимостей принципиально не меняется при перемене порядка слов, при изменении порядка изображаемые стрелками синтаксические связи остаются теми же самыми. Это, вероятно, соответствует привычкам людей, для которых родной язык — русский. Но грамматика составляющих исходит из того, что составляющие в норме должны быть непрерывны, что, видимо, естественно для носителей английского языка, для которых существенно представление о корреляции между степенью синтаксической и линейной близости слов. Свободный порядок слов не предусмотрен в каноническом варианте грамматики составляющих и требует ее усложнения. С другой стороны, грамматика зависимостей требует обязательного членения текста без остатка на слова, что не всегда легко сделать. В грамматике же составляющих можно вообще обойтись без обязательного выделения слова.
В этом проявляется различие строя базовых языков. Зализняк и Падучева в упомянутой выше статье 1964 г. писали: «Ясно, что русский язык, с относительно свободным расположением слов, менее удобно анализировать по непосредственным составляющим, чем английский; аналогично, для английского языка понятие дерева зависимостей является менее естественным, чем для русского». По-видимому, грамматика зависимостей кажется естественной носителям русского языка, где слова обычно четко выделяются, их грамматические функции очевидны благодаря их «оформленности», а их порядок почти всегда свободен. Но грамматика составляющих естественнее для носителей английского языка с жесткими правилами словесного порядка и менее ясными границами слов. Здесь, в отличие от русского языка, слова часто получают синтаксическую роль лишь в зависимости от места в предложении.
Далее следует рассмотреть традиционную синтаксическую терминологию. Трудно дать стандартный и общепонятный английский перевод для привычных в России терминов знаменательное слово, служебное слово, словосочетание, главное предложение, придаточное предложение. Синтаксически несамостоятельные слова могут называть particles или clitics, но можно ли так называть, скажем, вспомогательные глаголы? А русский термин частица уже по значению, чем particle. Общего же термина для самостоятельных слов, не являющихся particles или clitics, в английском варианте традиции просто нет.
С другой стороны, до недавнего времени не имели точного русского эквивалента англоязычные термины phrase и clause. Первый из них — не то же самое, что фраза в русской традиции: фраза — более или менее — то же самое, что предложение, но phrase может быть словосочетанием и даже словом. Русскому термину словосочетание точнее всего соответствует как раз phrase, но не наоборот: словосочетание не может равняться одному слову. Такой подход, с точки зрения носителя русского языка, стирает важное различие между словом и словосочетанием. А термины sentence и clause покрываются термином предложение, не будучи синонимами: sentence может состоять из нескольких clause, но не наоборот. Термин clause близок к русскому придаточному предложению, но не идентичен ему: сложносочиненное предложение делится на clauses, но не на придаточные предложения. Наконец, термину главное предложение, как и термину знаменательное слово, нет принятого эквивалента в английском языке.
Таким образом, мы имеем два ряда терминов: sentence — clause — phrase — word и предложение — словосочетание — слово. Точного соответствия нет. Правда, в самое последнее время в некоторых школах российской лингвистики распространился термин клауза, но это уже прямое влияние англоязычной традиции, всё более становящейся международной.
И дело не просто в терминах. Для носителя русского языка синтаксис — это прежде всего согласование и управление, выражаемые словоизменением. Такое представление, естественно, отражается и в том, что компонентами предложения признаются слова (любые или только знаменательные), но не словосочетания. Однако носитель английского языка, по-видимому, не привык находить опору в формах слов, тогда как их порядок для него почти всегда важен, а синтаксически наиболее тесно связанные компоненты в норме должны и стоять рядом. Поэтому русская традиция пошла по пути грамматики зависимостей и по пути разграничения главных и придаточных предложений, а англоязычная — по пути грамматики составляющих и выделения phrase.
Наконец, русский вариант европейской традиции устойчиво сохраняет представление о центральной роли слова среди единиц языка. Оно было таковым во всей европейской традиции тогда, когда она исходила из греческого и / или латинского эталона. Однако в западноевропейских вариантах традиции с XX в. слово начало отходить на задний план; позже оно стало вообще исчезать. Показательны включение морфологии в состав синтаксиса в генеративизме и некоторых других направлениях западной лингвистики и идея ряда современных западных лингвистов о едином морфосинтаксисе. Но в русском варианте традиции это встречается много реже.
Такие особенности, по-видимому, имеют психолингвистические корни. В разделе 18 говорилось о речевых расстройствах и развитии детской речи у носителей русского языка. Эксперименты в том числе показывают, что для них базовая единица — прежде всего словоформа, почти всегда включающая аффиксы в свой состав. «В русском языке операции с флексиями задействованы всегда; иными словами, даже лица с речевыми нарушениями обязательно используют какие-либо окончания, не оставляя глагол морфологически неоформленным».
Исследования детской речи показывают, что носители русского и английского языков формируют морфологию по-разному. Если дети, овладевающие русским языком, на одном из этапов овладения говорят «замороженными словоформами», постепенно осваивая словоизменение, то американские исследователи отмечают на соответствующем этапе «телеграфную речь», в которой отсутствуют не только служебные слова, но и аффиксы. И исследования афазий показывают, что в английском языке регулярные формы прошедшего времени с элементом — ed (который по традиции принято считать аффиксом) составляются из компонентов (производятся), а не хранятся в готовом виде (воспроизводятся); формы неправильных глаголов, однако, воспроизводятся. Показательно, что когда-то некоторые представители американской дескриптивной лингвистики предлагали выделять, например, в формах английского глагола со значением «брать» take и took корень t-k и вставляемые внутрь его аффиксы. Однако эта точка зрения не прижилась для английского языка, хотя во многих «экзотических языках» аналогичные трактовки были распространены среди дескриптивистов. Видимо, мешала интуиция носителей языка.
То есть получает подтверждение вышеупомянутая точка зрения о разных механизмах для регулярных и нерегулярных форм. Но это верно лишь для таких языков, как английский. Как пишет Черниговская, «можно предположить, что резкое противопоставление регулярного и нерегулярного механизмов в русском языке не является продуктивным».
Надо, конечно, при этом учитывать, что и в странах английского языка лингвистика первоначально имела латинскую основу, а древнеанглийский язык был, как и латинский, синтетическим. Поэтому и в англоязычном варианте европейской традиции возможны представления, восходящие к его более раннему этапу: например, на представления о границах слова может влиять давно установленная орфография. Для маленьких детей —ed, по-видимому, отдельное слово, но последующее обучение грамоте, вероятно, может изменить представления.
В прошлом, по-видимому, и английский язык, имевший развитое словоизменение, обладал морфологическими механизмами, теперь в них уже нет необходимости, а формы неправильных глаголов, реликт былого словоизменения, хранятся в памяти в готовом виде. Многие из вышеупомянутых отличий национальных вариантов традиции могут прямо или косвенно вытекать отсюда.
Итак, многие различия вариантов европейской лингвистической традиции могут получить психолингвистическое объяснение. Носители любого языка имеют в своем распоряжении лексикон (набор базовых единиц) и правила порождения из них предложений (при афазиях бывает, что один из этих механизмов выходит из строя). Однако в русском языке базовые единицы сложнее по своему составу, чем в английском (и, по-видимому, во французском, о чём косвенно свидетельствуют рассуждения Мейе). Процесс порождения предложений для английского языка в основном сводится к соположению базовых единиц на основе правил порядка, а в русском языке помимо синтаксических механизмов имеются и морфологические, порождающие не базовые словоформы. Если лексикон и синтаксис абсолютно необходимы для носителей любого языка, то морфологический механизм, по-видимому, не столь универсален. Если в европейской традиции именно он ввиду его особой сложности первоначально описывался более всего (что сохранилось и в русском варианте), то его редукция в английском языке влияет и на англоязычные теории.
Если лингвист исследует чужой для него язык, то он сознательно или чаще бессознательно выбирает решение, более естественное с точки зрения родного языка, а дальнейший анализ может его подтвердить или не подтвердить. Русский язык всегда лежал в основе лингвистических теорий, создававшихся в русской науке. Даже лингвисты, специально не занимавшиеся этим языком, как германист Смирницкий, в первую очередь опирались на его данные. В то же время за пределами России он мало учитывался при построении теорий (исключение составляли игравшие важную роль в мировой лингвистике XX в. эмигранты из России и изредка слависты вроде Теньера). Излишняя ориентация на типологические особенности русского языка нередко встречалась в советское время при изучении других языков СССР, а сейчас в связи с глобализацией всё чаще начинают исходить из особенностей английского языка. В последнее время этот язык стал возводиться в ранг всеобщего эталона, тогда особенности русского языка вроде свободного порядка слов рассматриваются как отклонения от базовых принципов языка или вообще игнорируются. Однако остается проблема разграничения общих свойств языка, поставленная еще в XVII в. в «Грамматике Пор-Рояля»; здесь может помочь сопоставление национальных лингвистических вариантов.
Хотя современная лингвистика старается отойти от слишком большой ориентации на родной язык исследователя или наиболее престижный для него язык, но отрешиться от нее весьма трудно. Еще раз процитирую Кибрика: «Для отечественного языкознания характерен русоцентризм, для американского — англоцентризм, на фоне чего европоцентризм можно уже считать высоким уровнем языкового кругозора». С этим не всегда легко бороться, но делать это совершенно необходимо.
21 Прикладная лингвистика Компьютерная лингвистика
На протяжении всей книги речь постоянно заходила о прикладной деятельности лингвистов. В том числе уже отмечалось, что в своих истоках все лингвистические традиции были ориентированы на прикладное использование: прежде всего на обучение языку культуры, а также на правильное построение ритуальных текстов, стихосложение и другое. Но и, казалось бы, чисто теоретическое исследование может иметь прикладное применение. Уже упоминавшийся пример — фонология как база для конструирования алфавитов, что в условиях СССР 1920–1930-х гг. имело важное практическое значение.
Некоторые практические задачи языкознания существовали всегда и сохраняют свое значение и теперь. Прежде всего это задача обучения языкам в разных вариантах: языкам культуры, нормативным вариантам материнского языка или иностранным языкам. Методика обучения языкам — давно сложившаяся и имеющая значительные традиции прикладная дисциплина. Необходимо назвать и составление словарей и практических грамматик, которые могут быть не только учебными, но и справочными.
Однако в конце XIX в. и еще больше в XX в. прикладная деятельность лингвистов и ученых смежных специальностей (например, психологов и физиологов речи) значительно расширилась, и это расширение продолжается. В разных главах книги говорилось о конструировании алфавитов, лечении речевых расстройств, методах речевого воздействия, в том числе в пропаганде и рекламе, и др. Некоторые виды этой деятельности существовали давно, но развивались стихийно. Теперь же они получили научную базу.
Заметно расширились прикладные фонетические исследования. Если Реформатский в 1970 г. среди областей практического применения фонетики упоминал лишь технику связи, то в наши дни разрабатываются многие виды речевых технологий. Вот перечень некоторых из них в уже упоминавшемся учебнике Кодзасова и Кривновой: «…создание человеко-машинных интерфейсов с устным вводом / выводом информации; речевое управление компьютером и другими техническими устройствами… организация информационно-справочной службы, позволяющей получать и выдавать различную информацию из базы данных в условиях, когда вопрос задается голосом… создание устройств для приема и озвучивания различных сообщений… многоязычный устный ввод / вывод речевой информации с автоматическим переводом; разработка приспособлений и компьютерных систем для помощи инвалидам… создание "автоматической машинистки"… озвучивание корректур и исправление орфографических ошибок; помощь в обучении иностранному языку (автоматические фонетические тренажеры)». Если для конструирования алфавитов классической фонологии было достаточно, то перечисленные задачи могут решаться лишь на основе экспериментальных методов.
Но особое значение с середины ХХ в. получили разного рода прикладные исследования, так или иначе связанные с общением человека и вычислительной машины. Данная область исследований получила название компьютерной, или вычислительной, лингвистики. Самая известная даже среди неспециалистов, хотя далеко не самая массовая область работ такого рода — создание систем автоматического (машинного) перевода.
Уже вскоре после появления в 1940-е гг. электронно-вычислительной техники начались первые попытки такого рода. Впервые эксперимент в этой области состоялся в США в 1954 г. и охватывал 250 слов, а в СССР его провели годом позже. Поначалу задача автоматического перевода рассматривалась как в основном техническая, в США она разрабатывалась инженерами без участия лингвистов, но затем выяснилось, что их привлечение также необходимо. В нашей стране лингвисты, в том числе Мельчук, участвовали в разработках с самого начала.
В 1950-х гг. и начале 1960-х гг. исследователи еще не представляли себе всей сложности задачи. Казалось, что достаточно ввести в машинную память двуязычный словарь, и машина сможет каждому слову на входе приписывать на выходе его переводной эквивалент. То есть системы производили пословный перевод. Однако выяснилось, что таким образом нужные практические результаты не могут быть получены прежде всего из-за проблемы неоднозначности реальных предложений любого языка. Уже на морфологическом уровне, например, в русском языке мы видим значительную омонимию. Форма двери может быть формой пяти падежей: родительного, дательного, предложного падежей единственного числа, именительного, винительного падежа множественного числа. Разумеется, носители языка снимают омонимию благодаря контексту, но машина этого сделать не может, если ей не задать алгоритм морфологического анализа. Еще больше неоднозначности в синтаксисе. Разработчики первых советских систем машинного перевода приводили такую фразу с несколькими видами неоднозначности: Недовольство рабочих бригад вызвало осуждение товарища Иванова. Или вот строка из стихотворения: Педагог в руках с указкой. Взрослый носитель языка даже при нестандартном порядке слов поймет, что речь идет об учителе, который держит указку. Но возможно и другое прочтение, более соответствующее порядку слов: некто держит учителя и указку. Но это заметит разве что ребенок, у которого еще не выработался автоматизм синтаксического анализа. А как это распознавать машине? Оказался необходимым и синтаксический анализ. А многие случаи требовали и обращения к семантике.
К 1960-м гг. выяснилось, что помимо собственно перевода необходимыми процедурами являются механизмы анализа исходного языка и синтеза языка, на который осуществляется перевод. Механизмы анализа и синтеза могут не быть жестко привязаны к одной конкретной системе и использоваться для разных систем, в которых участвует данный язык. Между структурами входного и выходного языков в систему включался так называемый язык-посредник, на который после анализа переписывался входной язык и с которого затем проводилась запись на выходной язык. Такие системы назывались системами второго поколения.
В отличие от грубых систем пословного перевода, мало связанных с собственно наукой о языке, разработка анализа и синтеза требовала решения многих теоретических вопросов лингвистики. Выше уже не раз говорилось о том, что начало второй половины ХХ в. проходило в лингвистике (структурной, затем генеративной) под знаком формализации и математизации. Научные поиски, связанные с формальной лингвистикой, стимулировались прикладными задачами. При разработке систем машинного перевода постоянно оказывалось, что достигнутый к тому времени уровень формализации недостаточен для эффективного машинного анализа и синтеза, а это требовало разрабатывать и лингвистические проблемы. При этом уровень теоретичности в США и СССР был неодинаков. Американские лингвисты, вместе с инженерами занимавшиеся машинным переводом, не отличались интересом к разработке лингвистической теории. Чаще лингвисты старались применить на практике влиятельные теоретические идеи, однако, несмотря на огромное влияние идей Хомского, они почти ничего не дали для машинного перевода и других областей компьютерной лингвистики. Больше для этого оказались пригодны концепции лингвистов, работавших вне хомскианской парадигмы, таких как Чарльз Филлмор (1926–2014). В СССР ситуация была иной: Мельчук, Апресян и другие лингвисты-теоретики активно занимались машинным переводом и прочими прикладными проблемами, между направлениями их деятельности была двусторонняя связь.
Первая половина 1960-х гг. была периодом больших ожиданий в отношении автоматического перевода, что нашло отражение даже в художественной литературе. Вот ранняя повесть братьев Стругацких «Попытка к бегству» (1962), где люди из коммунистического общества XXIII в., один из которых лингвист, попадают на чужую планету, и перед ними встает проблема общения с инопланетянами, которую лингвист, разумеется, успешно решает. Ему удается произвести дешифровку и разработать систему машинного перевода на язык внеземной цивилизации и наоборот. Разумеется, было естественно полагать, что деятельность, казавшаяся реализуемой в ближайшем будущем, через три столетия станет рутиной.
В действительности всё оказалось сложнее. В 1966 г. в США пришли к выводу о том, что существовавшие к тому времени системы машинного перевода не оправдали надежд, а обычный ручной перевод оставался дешевле машинного. После этого государственное финансирование данных работ было свернуто, хотя частные кампании его могли и продолжать, поскольку многие заказчики при очень большом объеме технической документации были заинтересованы в любых способах поиска информации, даже низкого качества. В СССР же развитие исследований продолжалось, и с 1970-х гг. начали работать промышленные системы машинного перевода. Часть из них не пережила кризис 1990-х гг., но некоторые системы разрабатываются десятилетиями, как система японско-русского перевода под руководством Зои Михайловны Шаляпиной в Институте востоковедения РАН.
Всё же современные исследователи вынуждены признать, что первоначальные надежды оказались завышенными. Разумеется, никто не ставит вопрос об автоматическом переводе художественных текстов, но и соответствующий перевод научно-технических текстов пока что за редчайшими исключениями не может осуществляться без непосредственного участия человека, хотя бы на уровне предредактирования и постредактирования. О состоянии машинного перевода (МП) пишет автор учебника «Введение в прикладную лингвистику» Анатолий Николаевич Баранов: «В настоящее время системы МП успешно функционируют в тех областях, где либо не требуется абсолютная точность перевода, либо существуют серьезные ограничения на использование структур естественного языка, где входной язык нормирован и упрощен». Используются либо системы, где не требуется высокое качество перевода, либо, если такое качество необходимо (например, при переводе официальных документов), возрастает роль этапа постредактирования. Чуть ли не единственной целиком автоматизированной системой является канадская система, переводящая тексты метеосводок с английского языка на французский; здесь перевод происходит в рамках очень сильно стандартизированного подъязыка.
Предполагалось, что с 1970-х гг. появятся системы третьего поколения, где будет не только производиться морфологический и синтаксический анализ и синтез (эта проблема более или менее решалась уже во втором поколении), но и вступят в действие семантические компоненты, в конечном итоге являющиеся главными. Надеялись на создание универсального семантического языка-посредника; если бы он был создан, то получилось бы что-то вроде универсальной логической структуры в «Грамматике Пор-Рояля» XVII в. или глубинной структуры у Хомского. Но такого языка нет и сейчас, а проблема неоднозначности решена лишь частично, поскольку она в значительной степени является семантической.
Однако компьютерная лингвистика отнюдь не сводится к трудной и лишь частично решенной проблеме машинного перевода. Здесь на полюсе, связанном с максимальной сложностью объекта, находится машинный перевод, однако далеко не всегда нам для практических нужд необходимо анализировать и переводить весь текст. На другом полюсе находятся значительно более простые и вполне решаемые проблемы, например когда нужно из большого массива текстов выбрать те тексты, в которых содержатся интересующие нас ключевые слова. В промежутке между двумя полюсами имеются системы, решающие разные другие практические задачи, не охватывающие систему языка в целом. Обычно в таких случаях говорят об информационно-поисковых системах (ИПС). Такие системы в больших количествах создавались в советских ведомственных НИИ в 1960–1980-е гг.
Эти системы так или иначе связаны с обработкой массивов текстов на естественном языке. В них не ставится задача сохранения всей имеющейся в текстах информации. Тем или иным способом осуществляется ее редукция, позволяющая найти во множестве документов то, что соответствует данному запросу. В том числе такие системы на основе заданных параметров обеспечивают составление рефератов и аннотаций обрабатываемых документов. Документы могут описываться на особом формальном информационно-поисковом языке; составляется словарь дескрипторов — слов, обозначающих категории и понятия области, в которой ведется поиск. На основе этого словаря информационная система должна выделить среди обрабатываемых текстов те, которые имеют запрашиваемое содержание. Более простые системы только выделяют нужную лексику, но в других системах может в определенных пределах проводиться и грамматический анализ.
Наряду с прикладными направлениями, сложившимися в рамках формальной лингвистики, большое место в последние десятилетия занимают и направления работ, связанные с функционализмом. Среди них надо особо выделить корпусную лингвистику.
Как определяют создатели Национального корпуса русского языка (НКРЯ), лингвистический корпус — это «информационно-справочная система, основанная на собрании текстов на некотором языке в электронной форме. Национальный корпус представляет данный язык на определенном этапе (или этапах) его существования и во всем многообразии жанров, стилей, территориальных и социальных вариантов». Такого рода представления, конечно, создавались и раньше, прежде всего при составлении словарей. Известны огромные картотеки, вручную формировавшиеся десятилетиями на основе расписки большого количества текстов. Но теперь они создаются в электронном виде и постоянно пополняются.
Впервые лингвистический корпус был создан в США в 1960-е гг. Первые корпуса были невелики по объему, стандартом считался объем в миллион слов, что было недостаточно. Значительное развитие корпусная лингвистика получила с 1980-х гг. в связи с дальнейшим развитием вычислительной техники. В настоящее время НКРЯ (формируется с начала 2000-х гг.) содержит более 600 млн словоупотреблений, и эта цифра постоянно растет. Важна представительность и сбалансированность корпуса, в который должны включаться не только письменные, но и устные тексты. Конечно, наряду с корпусами, представляющими язык в целом, распространены и корпуса, специализированные для какой-то его части; корпуса могут отражать лишь современный язык, но могут, как НКРЯ, включать в себя и тексты на протяжении того или иного периода времени. Наряду с одноязычными корпусами существуют и многоязычные.
Корпус — не то же самое, что просто электронное собрание текстов большого объема. При его создании необходимо провести ряд операций, именуемых разметкой. Нужно разделить тексты на слова, привести каждое слово к его словарной форме, провести морфологический, синтаксический, акцентологический анализ. Серьезную проблему составляет то, что при обширном объеме корпуса в ответ на запрос может быть выдано столь большое число в основном ненужной информации, что ее невозможно охватить. Поэтому нужны также системы группировки поиска.
Данные корпусов могут использоваться в самых разных областях лингвистики. Если раньше для получения нужной информации лингвист должен был самостоятельно расписывать значительное количество текстов при отсутствии гарантии того, что удастся найти то, что нужно, то теперь всё можно узнать очень быстро. С помощью корпуса можно получить достоверные данные статистического характера. Материалы корпуса, сгруппированные по времени создания текстов, дают сведения об исторических изменениях в языке. Корпуса используются и в педагогических целях, на них все больше ориентируются учебные программы. Выдающийся американский лингвист Чарльз Филлмор писал: «Работа с любым корпусом, каким бы малым он ни был, предоставляла мне данные, которые я не смог бы найти никаким другим способом».
К настоящему времени, помимо НКРЯ, созданы корпуса для крупнейших языков мира, для большинства языков мира, для ряда языков России. Подготовка и пополнение корпусов продолжается.
22 Итоги
В кратком очерке мы не смогли охватить даже небольшую часть актуальных проблем лингвистики. Мы старались выделить главное, но, конечно, наш подход очень субъективен, и другие лингвисты укажут на многие пробелы и посчитают, что в первую очередь надо было бы отметить совсем другое. Однако вряд ли можно в таком очерке чего-то не упустить. В нашу задачу входило лишь выделить основные, с нашей точки зрения, проблемы, стоящие перед наукой о языке начиная с ее истоков и кончая нашими днями, рассмотреть как «вечные» проблемы, так и проблемы, появившиеся лишь недавно, сопоставить идеи, выдвигавшиеся учеными разного времени. Лингвистика — очень старая, существующая не одно тысячелетие наука, но в то же время именно сейчас ее горизонты значительно раздвинулись и продолжают раздвигаться.
Как писал Ноам Хомский в книге «Язык и мышление», «внимание к языку будет оставаться центральным моментом в исследовании человеческой природы, как это было и в прошлом. Любой, кто занимается изучением человеческой природы и человеческих способностей, должен так или иначе принять во внимание тот факт, что все нормальные человеческие индивиды усваивают язык». И далее он указывал: «Я старался обосновать мысль о том, что использование языка вполне может, как и предполагалось традицией, предложить весьма благоприятную перспективу для изучения умственных процессов человека». Человек не может существовать без языка, и все другие науки о человеке тесно связаны с языкознанием и не могут полноценно развиваться без учета его данных, хотя не всегда этот учет осознается. Лингвистика двух последних столетий достигла значительных успехов, но чем дальше эта наука развивается, тем очевиднее становятся ограниченность наших знаний о языке и неумение лингвистики ответить на важнейшие вопросы. Но все-таки эта ограниченность, как надеются лингвисты, постепенно уменьшается.
Тезаурус
А
Алфавит — совокупность знаков (букв) письменности, основанных на фонетическом принципе, расположенных в установленном порядке.
Аффикс — часть слова, имеющая грамматическое значение.
Б
Бунго — язык культуры в Японии на основе придворного языка Киото IX–XII вв.
В
Вэньянь — язык культуры в Китае, основанный на иероглифике.
Г
Говорящий — активный участник речевого процесса, преобразующий некоторый исходный смысл в текст (устный, письменный и др.) и передающий его слушающему.
Грамматика — 1) часть структуры языка, включающая морфемы, слова, их структуру и сочетаемость (в отличие от фонетики и лексики); 2) разделы лингвистики, ими занимающиеся (в отличие от фонологии и лексикологии); 3) тип лингвистического описания, где не описываются единицы языка по отдельности, а даются типовые правила, охватывающие множества единиц (в отличие от словаря).
Грамматика Дионисия Фракийского — первая полностью дошедшая до нас древнегреческая грамматика (Александрия, II в. до н. э.).
Грамматика Панини — древнеиндийская грамматика I тысячелетия до н. э. (точное время создания неизвестно), сочиненная в устной форме и содержащая правила, определяющие структуру санскрита.
«Грамматика Пор-Рояля» — лингвистическое сочинение Антуана Арно и Клода Лансло, изданное во Франции в 1660 г., в котором предпринималась попытка выделить общие свойства человеческого языка в противоположность частным особенностям отдельных языков.
Д
Дескриптивная лингвистика — американская разновидность структурализма, господствовавшая в науке США в 1930–1950-е гг.
Диалект — языковая система, рассматриваемая не как отдельный язык, а как одна из разновидностей некоторого языка, имеющая особенности, но не столь большие, чтобы говорить о разных языках. Критерии разграничения языка и диалекта могут быть различными.
И
Иероглифика — письмо, знаки которого передают некоторое значение, не являясь чисто фонетическими.
Индоевропейские языки — наиболее изученная из больших языковых семей, включает родственные друг другу группы языков: славянские, германские, романские, кельтские, индоарийские, иранские и некоторые другие, а также обособленные языки: греческий, армянский, албанский.
История языка — лингвистическая дисциплина, изучающая историческое развитие языков. Включает в себя сравнительно-историческое языкознание и собственно историческое языкознание, изучающее последующее развитие языков, главным образом по письменным памятникам
К
Картины мира — обыденные (наивные) представления носителей некоторого языка, отражаемые в языке и восстанавливаемые по языковым данным.
Коммуникация — процесс общения между людьми с помощью тех или иных знаковых систем (устная речь, письмо, жесты, визуальная передача информации и пр.).
Компаративная (или сравнительно-историческая) лингвистика — раздел исторической лингвистики, сопоставляющий родственные языки и восстанавливающий исторически не засвидетельствованные формы праязыка, от которого эти языки произошли.
Компьютерная лингвистика — важнейшая часть прикладной лингвистики, позволяющая оптимизировать процессы общения человека и машины, облегчить процессы коммуникации и поиска информации.
Корпус языка — информационно-справочная система, основанная на собрании текстов на некотором языке в электронной форме и позволяющая быстро получить значительное количество информации об этом языке.
Креольские языки — языки, образовавшиеся в результате дальнейшего развития пиджинов; в отличие от пиджинов имеют постоянных носителей; часть из них получила и литературную норму.
Л
Латинский язык — язык, преобладавший в Древнем Риме, в Средние века — язык культуры западноевропейской традиции.
Лингвистика — 1) наука, изучающая человеческий язык; 2) изучение иностранных языков. Границы лингвистики в смысле 1 исторически менялись. В настоящее время наука о языке характеризуется стремлением к максимальному включению в ее состав всего, что как-то связано с языком.
Лингвистические традиции — совокупность способов описания языкового материала, принятых в той или иной культуре. Каждая традиция складывалась на основе изучения какого-либо языка культуры и имела особенности, связанные со строем этого языка. Наиболее известные традиции — индийская, античная (затем — европейская, разделившаяся на латинскую и греческую), китайская, арабская, японская.
Литературный (или стандартный) язык — нормированный язык, используемый в школьном обучении и различных культурных сферах, в отличие от языка культуры имеющий национальный характер и обычно приближенный к разговорным разновидностям языка.
М
Морфология — 1) круг явлений языка, связанный со свойствами морфем и слов и со структурой слова; часть грамматики в смысле 1; 2) лингвистическая дисциплина, изучающая эти явления.
Морфосинтаксис — встречающееся в современной, преимущественно западной лингвистике общее название для морфологии и синтаксиса (в обоих значениях); то же, что грамматика.
Н
Нейролингвистика — дисциплина, непосредственно изучающая речевые процессы (говорение, восприятие, хранение языковых единиц) в человеческом мозге. Начала активно развиваться лишь со второй половины ХХ в.
П
Пиджин — тип языков, не имеющих исконных носителей и включающих в себя элементы различных контактирующих языков; используются как средство межэтнического общения.
Письмо — знаковая система, позволяющая с помощью графических элементов передавать речевую информацию в пространстве и времени. Чаще всего фиксирует устную речь, но может быть и в значительной степени независимым от нее (особенно в языках с иероглификой).
Полевая лингвистика — лингвистическая дисциплина, занимающаяся методикой работы с носителями изучаемого языка в условиях их повседневной жизни.
Прикладная лингвистика — совокупность областей практического применения лингвистических знаний. Наиболее важные из них: методика преподавания языков, конструирование и совершенствование письменностей, компьютерная лингвистика.
Р
Речь — 1) конкретное говорение в звуковой, письменной и пр. формах; реализация системы языка; 2) результат этого говорения; то же, что текст.
Риторика — дисциплина, изучающая правила построения текстов, а также приемы воздействия на собеседника с помощью текстов. В отличие от большинства областей лингвистики не ограничивается рамками отдельных предложений.
Рэнга — жанр японской поэзии XVI–XVII вв., создаваемый более чем одним автором; при сочинении таких стихов надо было закончить начатое другим автором предложение и начать следующее. Жанр требовал понимания устройства японской грамматики и способствовал развитию лингвистической традиции.
С
Санскрит — язык культуры в Индии.
Семантика — 1) то же, что языковое значение; 2) (или семасиология) — лингвистическая дисциплина, его изучающая.
Синтаксис — 1) круг явлений языка, связанных с сочетаемостью слов, структурой словосочетаний и предложений; 2) лингвистическая дисциплина, изучающая эти явления.
Слово — основная единица языка. Интуитивное представление о слове имеет любой носитель языка, что отразилось в лингвистических традициях, затем в лингвистической науке. Однако определения слова связаны с большими трудностями и даются разными учеными по-разному. По-видимому, понятие имеет психолингвистическую основу: слова в норме хранятся в мозгу как целые единицы и сочетаются друг с другом.
Слушающий — один из участников речевого процесса, воспринимает речь собеседника и преобразует ее в своем мозгу в смысл. Говорящий и слушающий постоянно меняют свои роли в диалоге.
Социолингвистика — лингвистическая дисциплина, изучающая разнообразные аспекты социального функционирования языка.
Сравнение языков — выявление общностей и различий в разных языках. Два основных вида — генетическое сравнение родственных языков и типологическое сравнение, которое может производиться с любыми языками.
Структурализм — ведущее направление мировой лингвистики ХХ в., понимавшее язык как знаковую систему, состоящую из четко выделяемых элементов и отношений между ними. Структуралисты стремились к строгому формальному описанию устройства языка, описывая свой объект с позиции извне, без учета интуиции и психологии; они старались выработать собственно лингвистические методы, не опирающиеся на методы других наук, кроме математики. Во второй половине века уступил место генеративизму, созданному Хомским, и функционализму.
Т
Типология — лингвистическая дисциплина, сопоставляющая языки вне зависимости от их родственных связей, на основании их структурных свойств. Она выявляет и общие свойства всех языков, и индивидуальные особенности отдельных языков, но более всего ее интересуют те или иные черты, которые встречаются не во всех, но во многих языках мира; языки сопоставляются на основе этих черт.
Ф
Философские грамматики — грамматики западноевропейских авторов XIII–XV вв. Они отделили научное изучение языка от практического и поставили вопрос об общих свойствах языка, выработали основные понятия синтаксиса. Однако они изучали лишь латинский язык и не отграничивали его особенности от общих свойств языка.
Фонетика — изучение звуков речи. В отличие от фонологии стремится выявить все свойства звуков независимо от их роли в процессе коммуникации. Со второй половины XIX в. является экспериментальной дисциплиной и основана на данных, полученных с помощью приборов.
Фонология — лингвистическая дисциплина, изучающая звуки речи с точки зрения их лингвистической значимости, роли в процессе коммуникации. Была ведущей областью исследований в структурализме, методы которого разрабатывались на ее материале.
Функции языка — употребление, назначение языка в человеческом обществе. К числу основных функций языка относятся познавательная (когнитивная, символическая), создающая у людей определенные представления о мире, коммуникативная, обеспечивающая общение людей, функция хранения культуры, социальная функция, способствующая включению людей в те или иные группы, функция установления контакта и пр. Изучение функций языка проводилось в некоторых направлениях структурализма (Пражская школа), но заняло ведущее место лишь в функциональной лингвистике.
Функциональная лингвистика — совокупность направлений современной лингвистики, не ограничивающихся изучением языковой структуры, а стремящихся исследовать функционирование языка. В ее рамках могут быть выделены когнитивная лингвистика, выясняющая роль языка в познании мира, и коммуникативная лингвистика, изучающая процессы речевого общения; ведущая роль и в познании, и в коммуникации отводится семантике.
Ц
Церковно-славянский язык — сформировался на основе старославянского (древнеболгарского) языка, став языком культуры для восточнославянских и южнославянских православных народов.
Я
Язык — 1) основной объект изучения лингвистики; система знаков, выражающая совокупность знаний и представлений человека о мире, предназначенная для общения людей; 2) конкретная реализация этой системы (русский, английский, китайский и др. язык).
Язык культуры — язык, получивший определенную обработку, способный использоваться в разнообразных функциях. В отличие от возникших позже литературных языков имел наднациональный характер и обслуживал целый ареал. Как правило, требовал специального обучения, для которого его нужно было изучать. На основе этого создавались лингвистические традиции. Был свойствен древним и средневековым обществам, позднее уступил место литературным языкам.
Литература[7]
Реформатский А. А. Введение в языковедение. — М.: Просвещение, 1967.
Маслов Ю. С. Введение в языкознание. — М.: Высшая школа. 1998.
Энциклопедии
Лингвистический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1990.
Работы по истории языкознания
Звегинцев В. А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях, тт.1–2. М.: Учпедгиз, 1964–1965[8].
История лингвистических учений. Древний мир. — Л.: Наука, 1980.
История лингвистических учений. Средневековый Восток. — Л.: Наука, 1981.
История лингвистических учений. Средневековая Европа. — Л.: Наука, 1985.
История лингвистических учений. Позднее средневековье. — Л.: Наука, 1991.
Березин Ф. М. История русского языкознания. — М.: Высшая школа, 1980.
Березин Ф. М. История советского языкознания. — М.: Высшая школа, 1981.
Основные направления структурализма. — М.: Наука, 1964.
Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. — М.: Просвещение, 1966.
Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. — М.: Прогресс, 1978.
Робинс Р. Х. Краткая история языкознания. — М.: Высшая школа, 2010.
Алпатов В. М. История лингвистических учений. — М.: Языки славянских культур, 2005.
К разделу 2. Как описывать язык культуры?
Щерба Л. В. Очередные проблемы языковедения // Избранные работы по языкознанию и фонетике. — Л.: ЛГУ, 1958.
К разделу 3. Как развивалась лингвистика
Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Ф. Соссюр де. Труды по языкознанию. — М.: Прогресс, 1977.
Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. — М.: Прогресс, 1984.
Волошинов В. Марксизм и философия языка. — Л.: Прибой, 1929[9].
Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. — М.: МГУ, 1972.
Хомский Н. Язык и мышление. — М.: МГУ, 1972.
К разделу 4. Язык — система и язык — деятельность
Гумбольдт В. фон. Указ. соч.
Соссюр Ф. де. Указ. соч.
К разделу 5. Как работают лингвисты. Полевая лингвистика
Кибрик А. Е. Методы коллективной полевой работы: школа филфака МГУ // Жизнь как экспедиция, том 1. — М.: Буки Веди, 2017.
К разделу 6. Говорящий и слушающий
Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Собрание сочинений. Т. 5. Работы 1940-х — начала 1960-х годов. — М.: Русские словари, 1996.
Якобсон Р. Выступление на Первом международном симпозиуме «Знак и система языка» // Звегинцев В. А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Т. 2. М.: Просвещение, 1965.
К разделу 7. Основные вопросы лингвистики и пути их решения
Балли Ш. Язык и жизнь. — М.: URSS, 2003.
Черниговская Т. В. Чеширская улыбка кота Шрёдингера: язык и сознание. — М.: Языки славянской культуры, 2013.
К разделу 8. Пример структурного подхода. Фонология
Трубецкой Н. Основы фонологии. — М.: Изд. Иностранной литературы, 1960.
Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. — М.: Наука, 1970.
Абаев В. И. Статьи по теории и истории языкознания. — М.: Наука, 2006.
Живов В. М., Тимберлейк А. Расставаясь со структурализмом // Вопросы языкозанния, 1997, № 3.
К разделу 9. Письмо
Дьяконов И. М. Письмо // Лингвистический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия,1990.
К разделу 10. Общее и особенное в языках
Сепир Э. Язык // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. — М.: Прогресс, 1993.
Новое в лингвистике. Выпуск V. — М.: Прогресс, 1970.
Бенвенист Э. Категории мысли и категории языка // Бенвенист Э. Общая лингвистика. — М.: Прогресс, 1974.
К разделу 11. Что может типология?
Якобсон Р., Фант Г., Халле М. Введение в анализ речи: различительные признаки и их корреляты» // Новое в лингвистике. Выпуск II. — М.: Прогресс, 1962.
Типология уступительных конструкций. — СПб.: Наука, 2004.
Кибрик А. Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. — М.: МГУ, 1992.
К разделу 12. Как и почему изменяется язык?
Пауль Г. Принципы истории языка. — М.: Издательство иностранной литературы, 1960.
Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. — М.: Соцэкгиз, 1938.
Бодуэн де Куртенэ И. А. О смешанном характере всех языков // Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. 1. — М.: Наука, 1963.
Трубецкой Н. С. Мысли об индоевропейской проблеме // Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии. — М.: Прогресс, 1986.
Якубинский Л. П. Ф. де Соссюр о невозможности языковой политики // Якубинский Л. П. Язык и его функционирование. Избранные работы. — М.: Наука, 1986.
Поливанов Е. Д. Где лежат причины языковой эволюции? // Поливанов Е. Д. Статьи по общему языкознанию. — М.: Наука, 1968.
Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях. — М.: Изд. иностранной литературы, 1960.
К разделу 13. Функции языка
Сепир Э. Язык // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. — М.: Прогресс, 1993[10].
Гумбольдт В. фон. Указ. соч.
Тезисы Пражского лингвистического кружка // Звегинцев В. А. История языкознания XIX и ХХ веков в очерках и извлечениях, часть II. — М.: Учпедгиз, 1960.
К разделу 14. О границах лингвистики
Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // Новое в лингвистике. Выпуск I. — М.: Изд. иностранной литературы, 1960.
Кибрик А. Е. Указ. соч.
К разделу 15. Прагматика и теория речевых актов; речевые жанры
Новое в зарубежной лингвистике, выпуск XVI. Лингвистическая прагматика. — М.: Прогресс, 1985.
Арутюнова Н. Д., Падучева Е. В. Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в зарубежной лингвистике, выпуск XVI. Лингвистическая прагматика. — М.: Прогресс, 1985.
Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М.: Наука, 1979.
К разделу 16. Социолингвистика
Беликов В. И., Крысин В. И. Социолингвистика. — М.: ГГУ, 2001.
К разделу 17. Картины мира
Уорф Б. Отношение норм поведения и мышления к языку. Отношение норм поведения и мышления к языку. Наука и языкознание // Новое в лингвистике. Выпуск I. — М.: Изд. иностранной литературы, 1960.
Гумбольдт В. фон. Указ. соч.
Абаев В. И. Указ. соч.
К разделу 18. Что происходит в мозгу?
Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Общая фонетика. — М.: РГГУ, 2001.
Лурия А. Р. Травматическая афазия. М., Изд. АМН СССР, 1947.
Черниговская Т. В. Указ. соч.
Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: лингвистика детской речи. — М.: ВЛАДОС, 2000.
К разделу 19. От нейролингвистики к устройству языка
Панов М. В. О слове как единице языка // Панов М. В. Труды по общему языкознанию и русскому языку, том 1. — М.: Языки славянской культуры, 2004.
К разделу 21. Прикладная лингвистика. Компьютерная лингвистика
Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Указ. соч.
Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику. — М.: РГГУ, 2003.
Леонтьева Н. Н. Автоматическое понимание текстов. Системы, модели, ресурсы. — М.: ACADEMIA, 2006.
Главный редактор серии Ивар Максутов
Научный редактор Владимир Плунгян
Редактор Антон Никольский
Куратор серии К. Самойленко
Дизайн обложки А. Смирнова
Руководитель проекта А. Тарасова
Арт-директор Ю. Буга
Корректоры М. Миловидова, Е. Сметанникова
Компьютерная верстка М. Поташкин
© Алпатов В., 2017
© НП «Редакционно-издательский дом «ПостНаука», 2017
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2018
© Электронное издание. ООО «Альпина Диджитал», 2018
Алпатов В.
Языкознание: От Аристотеля до компьютерной лингвистики / Владимир Алпатов; — М.: Альпина нон-фикшн, 2018. — (Серия «Библиотека ПостНауки»).
ISBN 978-5-9614-5084-2
Комментарии
1
Человеческого. — Прим. авт.
(обратно)2
Очень быстрое. — Прим. авт.
(обратно)3
Идиш. — Прим. авт.
(обратно)4
Пиджин-инглиш. — Прим. авт.
(обратно)5
Электроэнцефалограмма. — Прим. авт.
(обратно)6
Перечисляются падежные формы слова. — Прим. авт.
(обратно)7
В список литературы в основном включены работы, упоминаемые в тексте. Ряд этих работ неоднократно издавался по-русски. Здесь в основном представлены их первые издания или первые издания их окончательных авторских вариантов (для иностранных работ — первые русские издания). Стереотипные переиздания не приводятся. — Прим. авт.
(обратно)8
В этой хрестоматии можно найти ряд текстов, упоминаемых в разных главах. — Прим. авт.
(обратно)9
В ряде переизданий книга выходила под фамилией М. М. Бахтина. — Прим. авт.
(обратно)10
В список литературы включены две разные работы Э. Сепира под названием «Язык»: в разделе о типологии это монография, а здесь — статья в энциклопедии. — Прим. авт.
(обратно)



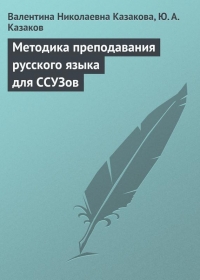
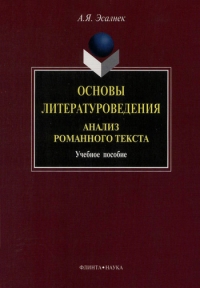
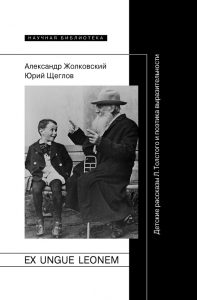

Комментарии к книге «Языкознание», Владимир Михайлович Алпатов
Всего 0 комментариев