Алексей Бушмин Салтыков-Щедрин. Искусство сатиры
Бушмин А. С. Салтыков-Щедрин. Искусство сатиры. — М., «Современник», 1976. — Б-ка «Любителям российской словесности». — 253 с. — Тираж 50000 экз.
Светлой памяти сына моего Александра Бушмина
Вступительное слово
М. Е. Салтыков-Щедрин является непревзойденным художником слова в области социально-политической сатиры. Этим определяется его особое место в русском классическом реализме, оригинальность и непреходящее значение его литературного наследия. Революционный демократ, социалист, просветитель по своим идейным убеждениям, он выступал горячим защитником угнетенного народа и бесстрашным обличителем привилегированных классов. Основной пафос его творчества заключается в бескомпромиссном отрицании всех форм угнетения человека человеком во имя победы идеалов демократии и социализма. В течение 1850— 1880-х годов голос гениального сатирика громко и гневно звучал на всю Россию, вдохновляя лучшие силы нации на борьбу с режимом самодержавия.
Художественное дарование Салтыкова-Щедрина, его сатирическое мастерство по достоинству оценены крупнейшими русскими писателями. Салтыков, по определению И. С. Тургенева, отмежевал себе в нашей словесности целую область, в которой был «неоспоримым мастером и первым человеком[1]. Л. Н. Толстой находил у Щедрина «все, что нужно», чтобы завоевать признание народа: «сжатый, сильный, настоящий язык», характерность, «веселый смех», «знание истинных интересов жизни народа»[2]. М. Горький писал о Щедрине: «Это огромный писатель, гораздо более поучительный и ценный, чем о нем говорят. Широта его творческого размаха удивительна...»[3]
По силе своего дарования и по масштабности сатирического творчества Салтыков-Щедрин является сатириком общечеловеческого значения. Он по праву стоит в ряду таких всемирно известных имен, как Арнстофан, Ювенал, Рабле, Сервантес, Свифт, Диккенс.
«Я люблю Россию до боли сердечной, — писал Салтыков-Щедрин, — и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России» (XIII, 97)[4]. Страстное служение писателя-патриота интересам народа, борьбе за счастливое будущее своего отечества определяет непреходящее значение его творчества.
Литературная деятельность Салтыкова-Щедрина оказывала огромное благотворное воздействие на общественную жизнь России. И в свое и в последующее время щедринская политическая сатира служила грозным идейным оружием в руках революционеров.
Салтыков-Щедрин был одним из наиболее ценимых К. Марксом и Ф. Энгельсом русских писателей. Острое слово Щедрина активно помогало русским марксистам в годы подготовки социалистической революции. Его идеи и образы были многократно использованы и блестяще истолкованы в работах В. И. Ленина, обращавшегося к произведениям сатирика чаще, чем к произведениям какого-либо другого писателя.
Для наших дней сохраняет всю свою силу совет В. И. Ленина: «вспоминать, цитировать и растолковывать» Щедрина[2]. Произведения сатирика и сегодня остаются незаменимым источником познания и ценнейшим средством воспитания человека.
В картинах и образах, созданных великим художником-мыслителем, правдиво и ярко запечатлена целая эпоха жизни русского народа. М. Горький писал о Щедрине: «Значение его сатиры огромно, как по правдивости ее, так и по тому чувству почти пророческого предвидения тех путей, по коим должно было идти и шло русское общество... Предвидение это объясняется тем, что Салтыков прекрасно знал психику представителей культурного общества его времени, психика эта слагалась на его глазах, он же был умен, честен, суров и никогда не замалчивал правды, как бы она ни была прискорбна... Невозможно понять историю России во второй половине XIX в. без помощи Щедрина»[6]. Произведения сатирика, напоминая о мрачной эпохе царизма, помогают лучше понять и оценить революционный подвиг русского народа, наше социалистическое настоящее.
Щедринское творчество имеет для нас, помимо исторического, и современное, живое значение. Оправдался пророческий смех сатирика, предвещавший неизбежную гибель эксплуататорского режима в России. Исчезли уродливые социальные формы жизни и человеческие типы, против которых ополчалась воинствующая сатира Щедрина. Но и в нашем обществе, свободном от мерзостей прошлого, еще встречаются люди, зараженные пороками старого времени. Поэтому сатира Щедрина продолжает служить делу нравственного воспитания народа, помогает распознавать и искоренять пережитки в сознании и психологии людей.
Социальное зло, против которого восставал и которое с великим искусством изобличал Салтыков-Щедрин, еще существует и теперь в тех или иных формах за рубежами нашей родины. Поэтому сатира Щедрина сохраняет свою боевую силу в нашей идеологической борьбе с современным буржуазным варварством, в защите интересов народных масс во всем мире.
Велико и литературно-эстетическое значение наследия сатирика. По определению Салтыкова, основное назначение литературы состоит в том, чтобы воспитывать в массах идеалы будущего и вырабатывать образ будущего человека. Он справедливо считал, что только кровная и самоотверженная преданность передовым интересам эпохи дает писателю право на общественное признание. Высокие требования, предъявлявшиеся Салтыковым к художественной литературе и к личности писателя, запечатлены в его собственной литературной деятельности. Эти требования глубоко созвучны эстетическим принципам передового искусства нашего времени. Произведения Салтыкова всей своей массой вливаются в ту плодотворную традицию русского классического реализма, от которой исходит в своем развитии и которой постоянно обогащает себя советская литература.
Щедринские традиции оказали плодотворное воздействие на многих писателей, критиков и журналистов, в частности на зачинателей социалистического реализма — М. Горького, В. Маяковского, Демьяна Бедного. Советские писатели, прибегая к сатире, неизменно находят для себя поддержку и творческое вдохновение в щедринских образцах.
Салтыков был большим и разносторонним художником; он глубоко и тонко, с редкой эстетической чуткостью находил художественные формы, соответствующие природе разнообразного жизненного материала. Творческий метод Щедрина отнюдь не замыкался в традиционные границы сатирической поэтики. Его сатира впитала в себя высшие достижения реалистического метода. Его реализм шире сатиры. Поэтому обращение к богатому художественному опыту Салтыкова поучительно не только для сатириков, но и для современных писателей вообще.
Отметим, наконец, что и сама личность писателя-гражданина во многих отношениях достойна быть примером. Самоотверженное служение интересам народа, непримиримое отношение ко всем формам угнетения человека человеком, неустанная борьба за лучшие общественные идеалы, страстное стремление содействовать искусством слова решению самых жгучих вопросов жизни — все эти моральные черты великого писателя-гуманиста, претворенные в его ярких и оригинальных произведениях, поучительны для каждого, кто желает быть полезным обществу, и характеризуют Салтыкова-Щедрина как одного из самых сильных наших соратников в борьбе за социальную справедливость, в строительстве новой культуры и воспитании человека социалистического общества.
ПУТЬ ЖИЗНИ И БОРЬБЫ
Годы учения. Первые повести. Вятская ссылка
Михаил Евграфович Салтыков родился 15 (27) января 1826 года в селе Спас-Угол Тверской губернии, в богатой помещичьей семье. В отличие, от И. С. Тургенева или Л. Н. Толстого, Салтыков не вынес из своего «дворянского гнезда» отрадных впечатлений. Обстановка в доме была суровой, мрачной, безрадостной. Отец писателя, человек образованный, но безвольный, не оказывал заметного влияния на семью. Всеми делами заправляла мать, женщина малограмотная, происходившая из необразованной купеческой семьи, но умная, деятельная, властная. Она держала в строгом повиновении и крепостных крестьян, и мужа, и детей. Все ее интересы сосредоточивались на хозяйственных приобретениях.
Когда Салтыков писал «Господ Головлевых», он придал персонажам романа некоторые особенности членов своей семьи и, в частности, наделил образ Арины Петровны чертами самовластной хозяйки имения Салтыковых.
В родительской усадьбе, как и вообще в той провинциальной помещичьей среде, где прошли первые десять лет жизни Салтыкова, будущий писатель видел все ужасы вековой кабалы в их отвратительной наготе. «Крепостное право, тяжелое и грубое в своих формах, сближало меня с подневольною массой, — писал он впоследствии, вспоминая годы своего деревенского детства. — ...Только пережив все его фазисы, я мог прийти к полному, сознательному и страстному отрицанию его» (XVII, 155). Эти строки из предсмертной «Пошехонской старины» поясняют, как глубоко запали в душу даровитого и впечатлительного мальчика картины крепостнического произвола и в каких условиях началось его формирование как непримиримого борца против всех форм рабства.
По принятому в дворянской среде обычаю, начальное образование Салтыков получил дома. В числе его первых наставников были: крепостной живописец, научивший мальчика русской грамоте, местный священник, старшая сестра, а также гувернеры и репетиторы, приглашавшиеся прижимистой матерью за недорогую цену.
В десятилетнем возрасте Салтыков поступил в третий класс Московского дворянского института, где в свое время учились Жуковский, Грибоедов, Лермонтов. Через два года Салтыков за отличные успехи был переведен в Царскосельский лицей. Это привилегированное учебное заведение, готовившее дворянских детей для службы на высоких государственных должностях, Салтыков иронически называл «рассадником министров».
В то время лицей был еще полон славой знаменитого воспитанника его — Пушкина. Воспоминание о великом поэте вдохновляло и обязывало: питомцы соревновались за право быть наследником Пушкина — и влияние литературы было в лицее очень сильно. В атмосфере этих поэтических настроений пробуждалось дарование Салтыкова. По его словам, уже в 1-м классе лицея он «почувствовал решительное влечение к литературе, что и выразилось усиленною стихотворною деятельностью» (I, 81). Стихи Салтыкова носили подражательный характер, и сам он не любил вспоминать о них. Но они не были лишены поэтических достоинств, печатались в журналах и даже давали повод сокурсникам пророчить Салтыкову роль продолжателя Пушкина.
Увлечение литературой выразилось у Салтыкова-лицеиста и в том, что он много читал, проявлял особенный интерес к статьям Белинского, испытывая его сильное влияние. «Журналы читались с жадностью, — отмечал Салтыков в автобиографии, — но в особенности сильно было влияние «Отечественных записок», и в них критики Белинского» (I, 82).
В привилегированных учебных заведениях (1836 — 1844) Салтыков получил основательное гуманитарное образование, приобщился к литературе и в совершенстве познал весь процесс официального воспитания царских сановников, и это ему пригодилось, когда он впоследствии высмеивал их в сатирических образах «помпадуров», «градоначальников», «ташкентцев» и т. д.
После окончания лицея в 1844 году Салтыков становится чиновником военного министерства, но служба его не интересовала. Растущие духовные запросы юноши, воспитанного на статьях Белинского, все более склонялись к литературе. Важным событием в идейной жизни Салтыкова во время четырехлетней петербургской службы явилось его участие в кружке революционно настроенной молодежи, руководимом М. В. Петрашевским. Члены кружка увлекались идеями утопического социализма Фурье, Сен-Симона и других французских мыслителей, вели живые беседы по политическим и нравственным вопросам. «От этих бесед, — вспоминал Салтыков, — новая жизнь проносилась над душою, новые чувства охватывали сердце, новая кровь сладко закипала в жилах» (IV, 305).
Приобщившись к учению о будущем идеальном строе, Салтыков навсегда остался его приверженцем. Вместе с тем, он не разделял мнения тех мыслителей, которые считали, что для построения социалистического общества достаточно нравственного перевоспитания людей. Салтыков был убежден, что для этого необходима еще и активная общественная борьба угнетенных масс за свои права.
Социалистические взгляды молодого Салтыкова нашли свое выражение в его новых литературных опытах. Он пишет рецензии на книги для детей, горячо пропагандируя принципы воспитания гармонически развитой личности, публикует две свои первые повести «Противоречия» (1847) и «Запутанное дело» (1848), в которых выступает решительным противником социального неравенства и защитником униженных и оскорбленных.
В лучшей из этих повестей, в «Запутанном деле», изображается бедственное положение молодого человека Мичулина. Живя в Петербурге, он не находит работы; голодное существование и издевательства вызывают у него чувство негодования против блаженствующих «мошенников». Люди богатых сословий представляются герою повести в виде стаи «жадных волков». Он жаждет их уничтожения. Но его одинокий протест бессилен. Преждевременная смерть оказывается единственным выходом из «запутанного дела».
В повести «Запутанное дело», опубликованной в журнале «Отечественные записки» в марте 1848 года, то есть сразу же после февральской революции во Франции, идеологи реакции усмотрели проповедь «гильотины для всех богатых», стремление к распространению революционных идей, потрясших уже всю Западную Европу. В апреле 1848 года Салтыков был сослан на службу в Вятку.
Молодой литератор, страстно отдававшийся передовым идейным исканиям, оказался внезапно выброшенным из столицы в глухой провинциальный город. Резкая смена впечатлении тяжело отразилась на настроениях Салтыкова. Он чувствовал себя несчастным, горько жаловался на свою жизнь в грязном обывательском болоте, на отсутствие духовно родственной среды.
Но, как впоследствии признавал сам Салтыков, продолжавшаяся около восьми лет принудительная служба в Вятке явилась «великой школой жизни». Как человек умный, образованный, деятельный, он быстро выдвинулся на видное место чиновника особых поручений в губернской администрации. Служба его была связана с постоянными разъездами по отдаленным, глухим местам Вятской и соседних губерний. Он всесторонне познал жизнь, быт, психологию разнообразных слоев населения — чиновничества, купечества, мещанства, крестьян, и это имело большое значение для его литературной деятельности, которая возобновилась тотчас же после ссылки.
Возвращение в Петербург стало возможным для Салтыкова в начале 1856 года, когда после смерти Николая I и поражения в Крымской войне самодержавие вынуждено было пойти на смягчение политического режима и заявило о согласии отменить крепостное право.
«Губернские очерки» — рождение великого сатирика
В условиях бурно начавшегося общественного подъема Салтыков создает на основе богатых жизненных впечатлений от вятской ссылки свои знаменитые «Губернские очерки» (1856—1857). Они печатались в журнале «Русский вестник» под псевдонимом Н. Щедрин, навсегда закрепившимся за писателем.
«Губернские очерки», где впервые ярко обнаружилось сатирическое дарование Салтыкова, принесли автору шумный успех и сделали его имя известным всей читающей России. О нем заговорили как о писателе, готорый воспринял реалистические традиции Гоголя и стал на путь еще более смелого и беспощадного осуждения социального зла. «Я благоговею перед Салтыковым, — писал великий поэт-революционер Тарас Шевченко, прочитав «Губернские очерки». — О, Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какою радостию возрадовалась бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих»[7].
В «Губернских очерках» Салтыков сурово и мужественно обличал неограниченный произвол властей, их надругательства над бесправной массой. В сатирической портретной галерее он живописно представил все провинциальное чиновничество — от мелкого канцеляриста до губернатора — в образах взяточников, вымогателей, казнокрадов, бездельников, клеветников, безжалостно грабивших народ. Насильники и паразиты изображены в щедринской сатире не просто дурными людьми, а как неизбежное порождение всего прогнившего, варварского самодержавно-крепостнического строя жизни.
«Губернские очерки» по объективному смыслу своему и по субъективной позиции автора принципиально отличались от широкого потока либерально-обличительной литературы того времени.
Нападки на взяточничество чиновников — исконная тема либеральных литературных обличений. Согласно либеральной концепции, взяточничество было порождением злой воли отдельных представителей административного аппарата, нарушающих, в силу своей нравственной испорченности, требования законности. В соответствии с таким пониманием природы взяточничества искоренение последнего ожидалось от самого же правительства, юридическим мероприятиям которого должны были содействовать широкие публичные обличения.
Таким образом, обличительная литература либерального направления все свое негодование направляла на взяточников, видя в них людей низкой нравственности и главных виновников «ненормальностей» бюрократической системы. Критика эта не затрагивала основ самодержавного режима и тем самым реабилитировала действительный первоисточник всех тех бедствий, терзавших общество, среди которых взяточничество было далеко не самым главным.
В «Губернских очерках» тема взяточничества не была основной и получила новое истолкование. Щедрин в одном из «Губернских очерков» («Приятное семейство») ядовито высмеял административно-юридическую программу обличений взяточничества, изложив ее в виде поучений губернатора князя Льва Михайловича Чебылкина. Его сиятельство признает, что «нехорошо взятки брать», и не возражает против обличений, но рекомендует литератору делать это так, «чтоб читателю приятно было; ну, представь взяточника, и изобрази там... да в конце-то, в конце-то приготовь ему возмездие, чтобы знал читатель, как это не хорошо быть взяточником... а то так на распутий и бросит — ведь этак и понять, пожалуй, нельзя, потому что, если возмездия нет, стало быть, и факта самого нет, и все это одна клевета» (II, 119). «Вот, например, — продолжает развивать князь свои взгляды, — я составил проект комедии, выслушайте и скажите свое мнение. На сцене взяточник, он там обирает, в карманы лезет — можно обрисовать его даже самыми черными красками, чтобы, знаете, впечатление произвесть… зритель увлечен: он уже думает, что личность его не безопасна, он ощупывает свои собственные карманы... Но тут-то, в эту самую минуту, и должна проявиться благонамеренность автора... В то самое время, как взяточник снимает с бедняка последний кафтан, из задней декорации вдруг является рука, которая берет взяточника за волосы и поднимает наверх... В этом месте занавес опускается, и зритель выходит из театра успокоенный и не застегивает даже своего пальто...» (II, 120).
Если главной заботой либеральных обличителей взяточничества было содействие «правосудию», призыв к официальному возмездию и в этих целях идеализировались строгие блюстители законопорядка, то в «Губернских очерках» взяточничество изображается прежде всего как массовое явление и как один из неизбежных спутников социально-политического строя. Другими словами, «Губернские очерки» дают глубокое объяснение исторических причин, порождающих взяточников, раскрывают социально-политический генезис взяточничества.
Сам характер либеральных обличений был проникнут сословно-классовыми предрассудками, определялся той барской идеологией, согласно которой простые люди рассматриваются как низшие, неполноценные и испорченные существа. Дело представлялось таким образом, что чем выше звание и должностное положение административного деятеля, тем полнее представлены в нем добродетели. Высших чиновников, бюрократов-законодателей эти обличители касались осторожно, а чаще вообще не касались. Это была сатира, щадящая высокие ранги не по тактическим, а по идеологическим соображениям, сатира, руководствовавшаяся принципом официального либерализма: «Законы святы, да исполнители — лихие супостаты». Соответственно такому убеждению основным гнездилищем взяточничества и других пороков и злоупотреблений представлялось мелкое чиновничество, «крапивное семя». Сюда, в эти бюрократические низы, на головы заурядных чиновников-исполнителей и были направлены в первую очередь удары обличителей, здесь обличители позволяли себе самые крайние резкости и давали полную волю своему «гражданскому» негодованию.
Иная картина наблюдается в «Губернских очерках». Степень негодования сатирика изменяется здесь в явной зависимости от различного отношения писателя-демократа к разным классам и группам общества: она не убывает, а нарастает по мере того, как сатира восходит до представителей привилегированной, господствующей верхушки общества. Чтобы почувствовать это, достаточно вспомнить, как изменяется сатирическая тональность рассказов Щедрина при переходе от типов губернских аристократов, процветающих на «безгрешные доходы», к типам бедных, забитых чиновников, преследуемых за мелкие прегрешения, на которые они вынуждены идти, чтобы не умереть с голоду. Нескрываемое презрение к первым выражается сатириком в ядовитых насмешках и разного рода зоологических уподоблениях («свиное выражение», «зверообразная лютость», «величие, свойственное индейскому петуху» и т. д.). Искалеченный обстоятельствами человеческий образ вторых, давая повод для сатирических характеристик, все же склонял сатирика прежде всего к анализу психологических мотивов поведения этих «без вины виноватых» грешников.
Низшее и забитейшее чиновничество выступает в «Губернских очерках» то в собирательном образе «бедного труженика, кроткой жертвы свирепой бюрократии» («Христос воскрес!»), то в образе «из мелких мельчайшего» канцеляриста Техоцкого («Княжна Анна Львовна»), то в образе представителя «крапивного семени» Дернова, пытающегося поправить свое бедственное положение выгодной женитьбой («Выгодная женитьба»). Наиболее показателен в этом отношении рассказ «Первый шаг», рисующий картину страшной нищеты в среде приказных и горькую судьбу чиновника, для которого проблема сапог была столь же трудной, как и проблема шинели для гоголевского Акакия Акакиевича, и который, будучи однажды вовлечен в историю с вымогательством взятки, попал под арест.
Добролюбов обратил особое внимание на гуманистическое изображение Щедриным мелкого бедного чиновничества и высоко оценил эту черту сатирика, выделяющую его из массы вульгарных обличителей. Он писал: «Никто, кажется, исключая г. Щедрина, не вздумал заглянуть в душу этих чиновников — злодеев и взяточников, да посмотреть на те отношения, в каких проходит их жизнь. Никто не приступил к рассказу об их подвигах с простою мыслью: «Бедный человек! Зачем же ты крадешь и грабишь? Ведь не родился же ты вором и грабителем, ведь не из особого же племени вышло, в самом деле, это так называемое крапивное семя?» Только у г. Щедрина и находим мы по местам подобные запросы, и зато он до сих пор остается не только выше всех своих сверстников по обличительной литературе, но и вообще выше многих из литераторов наших, увлекавших нашу публику рассказами с претензиею на широкое понимание жизни»[8]. В свою очередь и Чернышевский отмечал, что Щедрин обнаружил «редкое знание жизни и уменье ценить людей»[9], что его «Губернские очерки» вовсе не задаются целью обличать дурных чиновников и являются правдивой художественной картиной среды, в которой заклейменные сатириком отношения не только возможны, но и необходимы.
Отрицательное отношение Салтыкова-Щедрина к бюрократии вообще вовсе не исключало его сочувственного отношения к низшему, бедному чиновничеству, влачившему жалкое зависимое существование.
Глубоким гуманистическим чувством было проникнуто отношение Щедрина ко всему угнетенному человечеству, представители которого были не только в крестьянской массе, но и в чиновничестве, среди интеллигенции и городского мещанства.
Для Салтыкова-Щедрина вовсе не была характерна идеализация официального правосудия. Сатира «Губернских очерков», даже тогда, когда она, тематически сближаясь с обличительной литературой, имела в предмете чиновничьи злоупотребления и плутовство, осуждала факты за их противоречие не законности, а интересам народа. Сатира «Губернских очерков» своим основным смыслом била не по служебным злоупотреблениям, а по самим антинародным принципам всей системы узаконенного государственного грабежа.
Чернышевский назвал первую сатирическую книгу Салтыкова «благородной и превосходной», а ее автора — писателем «скорбным и негодующим». «Никто, — писал он, — не карал наших общественных пороков словом, более горьким, не выставлял перед нами наших общественных язв с большею беспощадностию»[10].
«Губернские очерки», появившиеся в разгар борьбы за освобождение крестьян, были использованы передовой русской интеллигенцией, возглавлявшейся Чернышевским и Добролюбовым, для борьбы против крепостного права и для пропаганды революционных идей.
«Губернские очерки» шли в основном русле гоголевской сатирической традиции. Салтыков-Щедрин высоко поднял знамя Гоголя, непосредственно воспринял и продолжил в новых исторических условиях и на новых идейных основаниях его эстетические принципы. Гоголевская сатира оказалась глубоко созвучна характеру дарования Салтыкова-Щедрина и сознательно поставленным им целям литературной деятельности. Поэтому из всего созданного последователями Гоголя до появления «Губернских очерков» ничто так близко не напоминало «Ревизора» и «Мертвых душ», как именно первая щедринская книга. Близость выразилась и в родственности сатирического пафоса, и в содержании, и в художественном методе.
Салтыков-Щедрин был самостоятелен и не повторял своего великого предшественника, хотя элементы вольного или невольного прямого подражания Гоголю в «Губернских очерках» встречаются. Зависимость от манеры Гоголя наиболее явно чувствуется при чтении «Введения» и «Порфирия Петровича».
«Введение» Салтыков начинает в тоне, близком тому тону, каким Гоголь открывает «Старосветских помещиков». Тот же задушевный лиризм рассказа, то же добродушно-ироническое восхваление патриархальной жизни обитателей скромных провинциальных уголков и — в довершение сходства — одна и та же у обоих писателей поэтическая ассоциация с преданием о «буколической» жизни Филемона и Бавкиды. В рассказе «Порфирий Петрович» обрисован плут чичиковской генерации с употреблением знакомых гоголевских иронических интонаций. Встречаются в «Губернских очерках» и другие гоголевские реминисценции.
Однако, следуя порой сознательно и открыто Гоголю как учителю-художнику, автор «Губернских очерков» не только остается вполне самостоятельным исполнителем своих творческих заданий, но и превосходит великого предшественника в идейном отношении. Щедринская сатира возникла на более высоком идейном уровне нового исторического этапа общественной жизни. Салтыков-Щедрин сознательно руководствовался передовыми идеалами своего времени, и вследствие этого «Губернские очерки» знаменовали новые крупные завоевания в области художественной критики социальной действительности, явились этапным произведением, открывшим собою новый и самый блестящий период в истории русской политической сатиры, сатиры революционной, вдохновлявшейся демократическими и социалистическими идеалами. Вместе с тем автор «Губернских очерков» как художник слова, конечно, не достигал еще уровня своего ближайшего предшественника в сатире. В свое время Чернышевский отмечал, что, в отличие от Гоголя, от внимания которого ускользала связь фактов взяточничества со всею обстановкою жизни, Щедрин «очень хорошо понимает, откуда возникает взяточничество, какими фактами оно поддерживается, какими фактами оно могло бы быть истреблено»[11]. С другой стороны, по мнению Добролюбова, большая часть щедринских рассказов в художественном отношении «составляет шаг назад от Гоголя»[12].
Проницательность в понимании психологии разных слоев общества, высокий гражданский пафос и темперамент борца, оригинальность художественного почерка, выставляющего типы в резких очертаниях, богатая юмористическая одаренность — все это было налицо в «Губернских очерках» и красноречиво свидетельствовало о вхождении в большую литературу нового и ярко своеобразного художника первой величины.
В работе над «Губернскими очерками» Салтыков осознал свое призвание сатирика, и это сознание нашло себе прочное подкрепление в литературных кругах и в широком общественном мнении. С этого времени Щедрина стали называть основателем и главою обличительного направления, с этого времени вошли в оборот выражения «щедринская школа», «щедринское направление», «в щедринском духе» и т. п.
В «Губернских очерках» определились важнейшие черты художественного метода Салтыкова-Щедрина. Произведения, составившие книгу, в основной своей массе относятся к жанру рассказа. Но рядом с ним идут драматические сцены, монологи, путевые заметки. В книге, таким образом, представлены опыты в нескольких жанрах, предвещающие характерное для всего последующего творчества сатирика свободное отношение к литературным формам, переходы от одного жанра к другому в пределах одного и того же цикла или даже внутри отдельного произведения.
Первая щедринская книга — сборник рассказов. Но уже здесь проявилась и такая творческая особенность художественного метода сатирика, как принцип циклизации: построение портретных галерей, объединение персонажей и рассказов и типологические группы, ветвление первоначального тематического замысла. Задумывался рассказ, в процессе работы над ним рождался замысел другого, типологически сходного рассказа, и в конце концов возникала целая серия произведений, объединенных каким-либо заглавием («Прошлые времена», «Мои знакомцы», «Юродивые», «Талантливые натуры» и т. д.), общностью персонажей, типов или образа повествователя («надворный советник Н. Щедрин»). Так, в сентябре 1856 года Салтыков печатает рассказ «В остроге», который затем разветвляется в целую серию рассказов под этим общим заглавием. В июне 1857 года появляется рассказ «Талантливая натура», а затем создается серия рассказов, для которых это заглавие становится объединяющим.
В «Губернских очерках» мы встречаемся и с мастерскими приемами зоологических уподоблений в сатирической обрисовке социальных типов, и с великолепными образцами «саморазоблачающего» сатирического диалога, и с характерными щедринскими словечками и оборотами речи, метко и быстро обнажающими сущность явления, и с целым рядом других особенностей, ставших обязательными для литературного стиля Салтыкова-Щедрина.
Вместе с тем «Губернские очерки», обозначив ярко художественную индивидуальность Салтыкова-Щедрина как сатирика, ставят нас только у начала большого и богатого художественными открытиями и достижениями идейно-творческого пути писателя. Многое, характерное для зрелого творческого метода Щедрина, в первой сатирической книге его лишь намечено, представлено только в зародыше или же является приобретением более поздних этапов литературной деятельности писателя. Иносказательная манера повествования, реалистическая фантастика, художественная гипербола, острота типологических сатирических наименований, формул, оборотов, эпитетов, своеобразный синтез элементов публицистики и художественной образности — все это сложится в многообразную и единую систему щедринского реализма в последующие годы творчества сатирика.
«Губернские очерки» навсегда определили характер литературной деятельности Салтыкова-Щедрина как сатирика-демократа. Для дальнейшего идейного развития писателя на этом пути благотворным было все большее его сближение с вождями русской революционной демократии — Чернышевским и Добролюбовым. Салтыков становится с 1860 года их соратником в «Современнике», а после смерти Добролюбова и ареста Чернышевского входит в редакцию журнала (1863—1864) и вместе с Некрасовым возглавляет его, руководствуясь заветами своих идейных учителей.
Произведения, опубликованные Салтыковым вслед за «Губернскими очерками», были собраны в две книги — «Невинные рассказы» (1857—1863) и «Сатиры в прозе» (1859—1862). Взятые в целом, эти книги дают многостороннюю и яркую картину русской общественной жизни бурной эпохи 60-х годов и вместе с тем составляют важный этап в идейно-творческом развитии Салтыкова.
Содержание произведений обоих сборников отражает острую идейную, политическую, классовую борьбу в период подготовки и проведения крестьянской реформы. Салтыков всесторонне и последовательно прослеживает настроения и действия различных социальных слоев общества и царской администрации, разоблачая идеологию, психологию и социальную практику бюрократии и дворянства, пустословие и лицемерие либералов. Все явления социально-политической борьбы он оценивает с точки зрения интересов крестьянства.
«Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе» дополнили образную галерею «Губернских очерков», хотя и не оставили таких типов, которые не были бы заслонены в памяти читателей более яркими фигурами, созданными писателем позднее. Обогащение типологии выразилось прежде всего в появлении образов крепостного крестьянства и помещиков. До этого прямых предметных картин крепостного быта в произведениях Салтыкова почти не было. В «Невинных рассказах» и в «Сатирах в прозе» развертываются картины крепостного рабства и все обостряющегося классового антагонизма, появляются рельефно и полно написанные портреты крепостных крестьян и махровых усадебных крепостников-помещиков («Госпожа Падейкова», «Развеселое житье», «Миша и Ваня», «Деревенская тишь»).
Претерпевает изменения и одна из главнейших тем «Губернских очерков» — разоблачение чиновничества. Мелкое и среднее чиновничество, преобладавшее в первой книге писателя, уступает в «Невинных рассказах» и в «Сатирах в прозе» первое место высшим представителям губернской бюрократии. Наиболее яркими ее олицетворениями служат Удар-Ерыгин и особенно генерал Зубатов, образ которого, проходя через ряд рассказов, перерастает в символ всей государственной администрации царизма. В связи с перемещением акцента на бюрократические верхи сами приемы обрисовки относящихся сюда типов становятся более резкими, бичующими.
Характерные особенности освободительной борьбы на рубеже 60-х годов и черты Салтыкова как мыслителя и художника, страстно отдававшегося этой борьбе, с наибольшей полнотой и рельефностью запечатлены в очерках «глуповского» цикла, составивших основную часть «Сатир в прозе».
Очерки о «глуповцах» (1861 — 1862) объединяет идея об исторической обреченности представителей старого крепостнического режима, о крушении их политического господства, их нравственном и физическом вырождении. Салтыков полагал, что люди крепостнических убеждений не устоят перед напором общественных демократических сил, не сумеют сохранить своих командных позиций в государстве. Демократическая интеллигенция, проявив героические усилия, сумеет добиться скорой победы. Считая сопротивление крепостников исторически обреченным на неминуемый провал, тщетным и потому глупым, сатирик присваивает приверженцам старины наименование глуповцы, называет их жителями города Глупова.
Местом действия «Губернских очерков» и целого ряда произведений, написанных Щедриным вслед за ними, был город Крутогорск. Это вымышленное название первоначально не заключало в себе иного смысла, кроме условного географического определения, и в связи с местом ссылки Салтыкова нередко воспринималось читателями как псевдоним Вятки. Неудобство такого ограничительного понимания Салтыков все более осознавал по мере того, как его сатира углублялась в общий «порядок вещей» крепостнической монархии. И недаром образ города Глупова впервые появляется именно в очерке «Литераторы-обыватели» («Современник», 1861, № 2), где Салтыков выразил внутренне назревшую к 60-м годам потребность открыто размежеваться с теми либеральными обличителями, которые, угодливо подчиняясь правительственным нормам «гласности», не шли дальше обличения отдельных фактов чиновничьих злоупотреблений и с которыми вольно или невольно смешивали Салтыкова некоторые читатели.
Таким образом, пришедший на смену Крутогорску город Глупов явился той ядовитой художественной метафорой, которая сопротивлялась локальному истолкованию и сатирически клеймила весь самодержавно-крепостнический режим.
В рассказах «глуповского» цикла («Литераторы-обыватели», «Клевета», «Наши глуповские дела», «К читателю», «Глупов и глуповцы», «Глуповское распутство») Салтыков настойчиво проводит мысль об обреченности и «умирании» старого, крепостнического мира. Здесь то и дело мы встречаемся с утверждениями следующего рода: глуповское миросозерцание «окончательно заявляет миру о своей несостоятельности»; «позволительно нынче окончательно рассчитаться с прежнего жизнью»; «для вас, — обращается Салтыков к командующим глуповцам, — остается одно только приличное убежище: смерть»; «вы находитесь накануне смерти» и т. д. Окончательное крушение крепостнических форм жизни рисовалось Салтыкову в более или менее близкой перспективе. Он сделал вывод, что наступило время, когда передовая, демократическая мысль, «доведенная до энтузиазма», продолбит «камни невежества и предрассудков» (III, 50). Многие страницы произведений «глуповского» цикла представляют собой страстные, патетические монологи, проникнутые глубокой верой автора в «волканическую силу» передовой мысли и горячим убеждением, что уже началось «обмирщение» и торжество тех общественных идеалов, носителем которых пока является «мыслящее меньшинство». Это была просветительская мечта о возможности достижения больших и скорых практических результатов без насильственного переворота, путем идеологической войны; это была попытка просветительского штурма твердынь крепостничества и самодержавия. Салтыков временно разделял иллюзии, что уже тогда, в начале 60-х годов, при пассивной поддержке народа передовые интеллигенты, опираясь на свое идейное превосходство над противником, могут достичь коренных демократических перемен мирным путем, путем героической пропагандистской деятельности.
Ход событий скоро убедил Салтыкова в том, что идейное превосходство над противником еще не обеспечивает победу в социальной и политической жизни, что передовые идеи практически побеждают только тогда, когда они находят себе подкрепление в политической сознательности и организованности борющихся угнетенных масс. В очерке «Каплуны» (начало 1862 года), который писался в качестве «последнего сказания» к циклу о глуповцах, Щедрин, исправляя свою недавнюю ошибку, выражавшуюся в излишне оптимистической оценке ближайших перспектив, скажет: «Не будем ошибаться: насилие еще не упразднено, хотя и подрыто; в предсмертной агонии оно еще простирает искривленные судорогой руки»; «насилие не упразднено, а идеалы далеко». Глупов не умер, «похороны» его отодвигались в неопределенное будущее. Борьба с ним в действительности была значительно трудней, чем ее представлял себе Салтыков, выводя его впервые в своей сатире. И сатирик, предполагавший покончить с Глуповым в начале 60-х годов, был вынужден через десять лет вернуться к нему в «Истории одного города» во всеоружии своего карающего гения.
Многие элементы содержания и формы этого знаменитого произведения восходят к первым очеркам о «глуповцах». Пытаясь на основе «устных преданий» проникнуть «во мрак глуповской жизни» и видя в ней царство «тупого испуга», автор восклицает в рассказе «Наши глуповские дела»: «О, вы, которые еще верите в возможность истории Глупова, скажите мне: возможна ли такая история, которой содержанием был бы непрерывный, бесконечный испуг?» (III, 250). Ответом на этот вопрос явилась «История одного города». Можно указать в том же рассказе немало и других мест, получивших потом развитие в «Истории одного города». Так, пушкинская «История села Горюхина», входящая в число литературных предшественников салтыковской летописи Глупова, находит в рассказе близкое соответствие в выдержках из «журнала» глуповского обывателя Флора Лаврентьича Ржанищева, в котором он «изо дня в день описывал все законные и непротивные правилам глуповского миросозерцания деяния свои» (III, 263). Страница рассказа о губернаторах добрых и злецах, повелевавших в разное время судьбами глуповцев, — это зерно будущей «Описи градоначальникам», а фольклорный мотив о Бабе Яге, пожирающей Иванушек, будет дословно воспроизведен в «Истории одного города». Таким образом, рассказы и очерки начала 60-х годов, в частности «Наши глуповские дела», намечали художественно и тематически родственную им «Историю одного города», хотя мысль о создании этого большого произведения явилась у Щедрина не теперь, а много позднее.
Связь «Истории одного города» с «Сатирами в прозе» с достаточной определенностью характеризует роль последних в развитии щедринской сатиры. Если «Невинные рассказы» в художественном отношении остаются преимущественно в пределах, обозначенных «Губернскими очерками», то «Сатиры в прозе», и прежде всего входящие сюда очерки о «глуповцах», показывают обогащение художественного метода Салтыкова, дальнейшее формирование его социально-политической сатиры. Жанровые формы эволюционируют от сюжетно построенного, «правильного» рассказа к художественному очерку, свободно сочетающему образность с элементами публицистики. Все более утверждаются такие характерные особенности литературного стиля Салтыкова, как иносказательная манера повествования, реалистическая фантастика, художественная гипербола, приемы шаржа и гротеска, острота типологических сатирических наименований, формул, оборотов, эпитетов.
Б развитии принципов сатирической типизации «Сатиры в прозе» примечательны прежде всего началом процесса создания «собирательных типов», «коллективных портретов», ставших одним из характерных признаков щедринской сатиры.
В очерке «Наш дружеский хлам», включенном в сборник «Невинные рассказы», но по своей идейно-художественной тональности сближающемся с «глуповским» циклом, представлено такое скопление губернских аристократов, какого ни в одном из предыдущих произведений Щедрина еще не встречалось. Называя в числе действующих лиц генерала Голубчикова, статского советника Генералова, в шутку прозванного генералом аристократа Рылонова, Щедрин как бы ищет для всех них одно обобщающее определение, подобающую всем им сатирическую кличку.
В очерке «Наши глуповские дела» губернская бюрократия представлена в виде «плешивого синклита»: «губернатор там был плешивый, вице-губернатор плешивый, прокурор плешивый. У управляющего палатой государственных имуществ хотя и были целы волосы, но такая была странная физиономия, что с первого и даже с последнего взгляда он казался плешивым» (III, 242).
Приведенные примеры показывают, как художественная мысль сатирика влечется логикой изображаемых явлений к собирательным образам, коллективным портретам, подготовляя почву для появления «историографов», «помпадуров», «глуповских градоначальников». Группируя в связи с каким-нибудь социально-политическим признаком множество однородных фигур, Салтыков испытывал необходимость в подыскании соответствующего сатирического определения. «Сатиры в прозе» только намечают этот генерализирующий метод типизации, но уже и здесь на основе его достигнуты яркие обличительные и разоблачительные общения. Высшие из них — Глупов и глуповцы — возникли в 1861 году в связи с просветительской верой в победу ума над глупостью и, таким образом, явились закономерным художественным выражением той позиции, которую занял Салтыков-Щедрин в годы первой революционной ситуации в России.
Именно в это время интенсивно складывается особая система «просветительской» поэтики Салтыкова, система эпитетов, метафор, зоологических уподоблений, гротескных образов и типологических обобщений, призванных, так сказать, графически, портретно заклеймить варварское миросозерцание и «скотообразие душ» крепостников: «мохнатые чудища», «кремнистоголовые», «огнепостояниые лбы» и т. д.
Обаяние идеалов, воспринятых Салтыковым от западных утопических мыслителей, от Белинского и Петрашевского, было так велико, красота их так человечна, перспектива, открываемая ими угнетенному народу, так светла, что одно это уже внушало глубокую веру в их покоряющую силу; и с высоты этих же идеалов ярко выступала перед взором сатирика вся первобытность, звериная «мохнатость понятий» крепостника — человека в «дурацком колпаке».
Можно с полной основательностью сказать, что на всем протяжении своей литературной деятельности Салтыков никогда не выступал таким убежденным просветителем, глубоко верящим в непосредственную, практическую победу передовой мысли, как на рубеже 50—60-х годов. Останется он просветителем и в дальнейшем, но уже в более высоком, в более революционном смысле. Просветительство его будет иметь задачей не достижение непосредственного практического результата, а подготовку народных масс для организованной и сознательной борьбы.
Салтыков, став уже знаменитым писателем, в течение нескольких лет продолжал служебную деятельность. Он служил вице-губернатором в Рязани и Твери (1858—1862), председателем казенной палаты в Пензе, Туле и Рязани (1865—1868). Находясь на этих должностях, он старался, насколько позволяли условия, «не дать в обиду мужика». Такое гуманное отношение к народу было необычным в высшей бюрократической среде, и сослуживцы, припоминая французского революционера-якобинца Робеспьера, называли вице-губернатора Салтыкова вице-Робеспьером.
Заниматься служебной деятельностью побуждали Салтыкова не только материальные соображения, но и намерение принести пользу обществу. Польза эта, как все больше убеждался он, оказывалась лишь бесследной каплей добра в море бюрократического произвола. Честный, с независимым характером администратор все чаще вступал в конфликт с властями. Морально угнетало Салтыкова и его двойственное положение: формально он был причастен к той правительственной системе, с которой боролся как сатирик. Человеку революционно-демократических убеждений становилось все труднее находиться на государственном поприще, и в 1868 году Салтыков совсем оставил службу и отдался исключительно литературе.
Многолетняя служебная деятельность Салтыкова дала ему богатый материал для творчества. На личном жизненном опыте он превосходно постиг официальную и закулисную стороны высшей бюрократии, и потому его сатирические стрелы так метко попадали в цель.
Годы расцвета творчества
В 1868 году Салтыков-Щедрин стал вместе с Некрасовым во главе «Отечественных записок». Этот журнал продолжал революционно-демократические традиции «Современника», запрещенного правительством в 1866 году.
Кроме собственно творческой работы, Салтыков-Щедрин много времени отдавал редакционным обязанностям, собиранию вокруг журнала и воспитанию передовых литературных сил. Журнальная работа была сопряжена также с теми трудностями, которые вызывались преследованием демократических писателей царской цензурой. «Журнальное дело, — писал Некрасов в 1875 году, — у нас всегда было трудно, а теперь оно жестоко; Салтыков нес его не только мужественно, но и доблестно, и мы тянулись за ним, как могли»[13].
Доблестно осуществлял Салтыков роль руководителя передового журнала и после того, как лишился своего главного соратника — Некрасова, умершего в конце 1877 года.
Время работы в «Отечественных записках» — с января 1868 года до их запрещения в апреле 1884 года — самая блестящая пора литературной деятельности Салтыкова, период высшего расцвета его сатиры. Окончательный разрыв с бюрократической службой, отказ от попыток использования государственного аппарата в интересах демократии позволили Салтыкову отдаться творчеству с полной внутренней свободой, и его литературная деятельность сразу приобрела необычайный размах. На страницах журнала ежемесячно появляются его произведения, привлекающие к себе внимание всей читающей России. Сатирик переживает небывалый творческий подъем. Он как бы не поспевает за огромным наплывом впечатлений, идей и картин. Продолжая ранее начатое, он торопится заглянуть в новые сферы, открывающиеся его сознанию, коснуться новых пластов, на которые наталкивается его мысль, зафиксировать новые картины, рисующиеся его могучему воображению, положить начало воплощению новых замыслов, возникающих в ходе работы над прежними темами. И все это — старое и новое — выливается в мощные параллельные тематические потоки. Временно приостановив в конце 1868 года «Помпадуров и помпадурш», сатирик отдается родившейся из них «Истории одного города», а затем, напечатав в январе 1869 года начало «Истории...» и подойдя в первых главах — «Опись градоначальникам» и «Органчик» — к исподволь назревавшему в его творчестве сказочному жанру, до конца года приостанавливает и ее, чтобы написать первые сказки («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик»), завершить «Признаки времени» и «Письма о провинции», положить начало «Господам ташкентцам». В это же время Салтыков пишет целую серию публицистических и литературно-критических статей и рецензий. Таким образом, мы можем отметить как одну из характерных особенностей Салтыкова-художника изумительный полет его мысли, сложное переплетение, столкновение и взаимопроникновение его творческих замыслов, такое их разветвление, где каждая отдельная ветвь приобретает относительную самостоятельность и в то же время восходит к какому-то общему корню. В основе этой особенности лежит темперамент борца, стремящегося охватить современность во всем многообразии ее сторон, отозваться немедленно на все вновь возникающие, тотчас же активно вмешаться в общественно-политическую битву, повлиять на ее желательный исход разными родами оружия — художественной сатирой, публицистикой, литературной критикой, — которыми он владел превосходно.
В многообразном потоке первых произведений Щедрина, опубликованных на страницах «Отечественных записок», выделилась «История одного города» (1869—1870) — самое смелое в истории русской литературы антимонархическое произведение. Оно явилось вершиной достижений за все предыдущие пятнадцать лет сатирического творчества Щедрина и обозначило вступление его сатиры в период высшего расцвета.
В начале 1870-х годов сатирик дописывает начатые еще в предшествующем десятилетии «Помпадуров и помпадурш» и «Господ ташкентцев», публикует «Итоги» и «Дневник провинциала в Петербурге», начинает крупнейший свой цикл — «Благонамеренные речи» и параллельно с ними «Господ Головлевых», «Господ Молчалиных» и т. д. Творческая активность писателя неизменно удерживалась на высоком уровне и ознаменовалась как значительным расширением проблемно-тематических границ, так и художественным обогащением щедринского реализма. Не покидая прежних тем, касавшихся преимущественно политического режима дворянской монархии, его сатира сосредоточилась теперь на процессах капиталистического развития России, экономического и нравственного распада дворянства, превращения дворянского либерализма в либерализм буржуазный, призванный обосновать и оправдать соответствующими доктринами бурно нарождавшиеся буржуазные отношения. «Дневник провинциала в Петербурге» (1872) сатирик закончил знаменательным выводом о том, что выдохшийся «старый ветхий человек» (дворянство) отходит в вечность и что место его заступает «новый ветхий человек» (буржуазия), новый деятельный тип хищника. Буржуазное хищничество вызвало к жизни буржуазно-либеральную публицистику, которой сатирик дает клеймящее наименование «пенкоснимательство». Буржуазный хищник и пенкосниматель, возводящий принцип хищничества в догмат и сочиняющий правила на предмет наилучшего производства хищничества, — вот что осознает Салтыков как главную опасность времени. Разоблачению этой опасности сатирик посвятил целый ряд произведений и прежде всего — «Благонамеренные речи» и «Убежище Монрепо». Здесь в целой серии картин и образов, увенчиваемых монументально нарисованной фигурой Дерунова, представлена русская буржуазия, растущая из мещанских и крестьянских низов,
Художественное исследование буржуазно-дворянской собственности выступило в 70-е годы на первый план в щедринской сатире, но разоблачение самодержавной государственности, бюрократизма не только не исчезло, но и приобрело более глубокий характер. «История одного города» раскрывала преимущественно административно-политический аспект самодержавия. Однако концентрация удара на высшей администрации несколько ослабляла разоблачение классового характера государственного режима. В отличие от этого, в 70-е годы сатирический анализ Салтыкова раскрывает прежде всего классовые основы государства, связь политики с экономикой, союз бюрократии с экономическими «столпами» общества. Критика бюрократического деспотизма перерастает в критику антинародной классовой природы монархической системы правления, и сатира Салтыкова, не переставая быть сатирой политической, все более становится социальной и вместе с тем социологической сатирой. Такова тенденция «Благонамеренных речей», «Убежища Монрепо», «Круглого года», «За рубежом». Салтыков не терял из вида и бюрократического аспекта самодержавия. Новым здесь было раскрытие той чрезвычайно существенной стороны бюрократического механизма, которой писатель прежде касался мало. Это — молчалинство («Господа Молчаливы»).
Наряду с принципом собственности и принципом государственности, в 70-е годы в творчестве сатирика значительное место заняло разоблачение третьего «краеугольного камня» дворянско-буржуазного общества — принципа семейственности. Прежде Щедрин сравнительно редко останавливался на изображении семейных отношений. В начале 60-х годов он заявил, что его интересует не домашнее устройство привилегированных сословий, а прежде всего их политика. Он редко и ненадолго уводил читателя в семью. Иное дело произведения 70-х годов. Распад семьи в обществе, основанном на принципе частной буржуазно-дворянской собственности, разлагающее влияние реакционной политики на семейный быт и нравственность, конфликты, порождаемые проникновением передовых идей в семейную сферу, проблема домашнего воспитания — эти вопросы заняли теперь в творчестве сатирика заметное место. Ряд заключительных глав «Господ ташкентцев», несколько очерков из «Благонамеренных речей», «Господа Молчалины», повесть «Больное место», «Господа Головлевы» — все эти произведения в значительной степени развертываются на арене семьи. При этом Щедрина привлекал не собственно семейный быт в его повседневном течении, а прежде всего проблема воспитания молодого поколения, столкновение принципов семейственности и собственности и вырастающие на этой почве драмы и трагедии как отражение, продолжение или зародыш драм и трагедий социальных и политических. Отмеченные перемены в содержании сатиры Салтыкова сказались и на художественной форме его произведений 70-х годов.
Щедринские произведения этого времени характеризуются такими новыми крупнейшими типологическими обобщениями, как молчалины, головлевы, деруновы и множеством других ярчайших образов, среди которых должны быть выделены бюрократы аракчеевской закваски Удав и Дыба, либерал-приспособленец Глумов, развязно наглый адвокат Балалайкин, продажный публицист Подхалимов. Особо примечательный факт — появление персонажа под характерной фамилией Крамольникова («Сон в летнюю ночь»). В щедринском творчестве это наиболее яркий образ массового пропагандиста, крестьянского заступника.
Б это же время щедринская галерея типических образов пополняется включением в повествование и остроумной интерпретацией литературных героев других писателей. Если в 60-е годы можно было наблюдать лишь отдельные случаи проявления этого приема, то, начиная с «Дневника провинциала в Петербурге», популярные в читательской массе персонажи русских классиков почти не сходят со страниц произведений Салтыкова, порой являются исходными для развития целых художественных концепций («Господа Молчалины») и вносят в манеру сатирика новую оригинальную черту.
Наряду и в связи с расширением общественных горизонтов и социологическим углублением сатиры происходит яркий рост изобразительной силы щедринского реализма в направлении развития психологического анализа. В 60-е годы складывалось представление, впрочем неосновательное, что психологическим анализом Салтыков владеет в малой степени, что это является слабой стороной его творческого метода, особенно заметной на фоне психологического мастерства его крупных литературных современников. Мнение это решительно опровергалось появлением «Господ Молчалиных», «Господ Головлевых», рассказов, составивших «Сборник», которые свидетельствовали о больших возможностях писателя в области художественного психологизма.
Богатое юмористическое дарование Салтыкова в свою очередь развернулось в этом десятилетии с новой силой и в весело-издевательском «Дневнике провинциала в Петербурге», и в лукаво-ироническом «Круглом годе», и в саркастических сценах книги «За рубежом», и особенно в таком шедевре щедринской юмористики, как «Современная идиллия», начатая в эти годы. И рядом с этим трагическая нота, изначально присущая щедринскому смеху, впервые ярко проявилась именно в середине 70-х годов, когда писателя, по его собственному признанию, сильно потянуло к трагическому. Это объясняется, с одной стороны, обострением противоречий в жизни русского общества, еще не освободившегося от крепостнических пережитков и уже все более вовлекавшегося в процесс капиталистического развития, а с другой — углублением идейно-художественных концепций писателя, дальнейшим ростом его реалистического мастерства, все более проникновенным постижением комедии и трагедии жизни в их реальном единстве.
Произведения, написанные в 70-е годы, открывали новые и новые доказательства многогранности художественного метода Салтыкова, эстетической чуткости писателя к свойствам того жизненного материала, с которым он имел дело в каждом отдельном случае. Тон, приемы, изобразительные средства, жанровая структура — все это, сохраняя основные черты творческой индивидуальности сатирика, в то же время изменялось и сменялось в зависимости от темы и соответственно теме. В течение десятилетия писатель далеко продвинулся вперед от той резко впечатляющей, но все же несколько однообразной по своей форме сатиры, с которой читатель познакомился в «Истории одного города».
Творчество Салтыкова в 70-е годы характеризуется крупными сдвигами и в жанровом отношении. В это время присущий Салтыкову прием построения серийных сатирических обозрений, обусловленный стремлением писателя широко и многогранно отобразить действительность в самом процессе ее исторической изменяемости, закономерно приводит к созданию ряда стройных проблемно-тематических циклов, которые в отдельных случаях приобретают жанровые признаки романа. Таковы, например, «Дневник провинциала в Петербурге», «Господа Молчалины», «Убежище Монрепо» и как высший образец — «Господа Головчевы» (1875—1880).
Знаменательно также, что в 70-е годы сатира Салтыкова вторгается в зарубежную тематику, подвергает острому и гневному разоблачению классовый характер западноевропейского буржуазного парламентаризма.
На переходе к 80-м годам стоит книга очерков «За рубежом», начатая в год окончания «Господ Головлевых». Произведение, отразившее впечатление Салтыкова от европейских путешествий, примечательно прежде всего в двух отношениях. Во-первых, оно является во всем щедринском творчестве самым блестящим экскурсом сатирика в буржуазную европейскую действительность. Во-вторых, книга «За рубежом», дописывавшаяся в обстановке наступившей в 1881 году, после убийства Александра II народовольцами, дикой правительственной реакции, отразила в себе этот крутой перелом общественно-политической ситуации. Исторический водораздел зафиксирован в шестой главе книги знаменитой драматической сценой, заклеймившей монархический террор образом «торжествующей свиньи», пожирающей правду. Май 1881 года — время появления этой сцены на страницах «Отечественных записок» — датирует начало литературной деятельности Салтыкова в полосе мрачной реакции. Последнее десятилетие многолетней борьбы Салтыкова за демократические и социалистические идеалы было для него самым трудным, но не менее блистательным по своим творческим результатам и явилось чрезвычайно важным этапом в эволюции щедринского реализма.
В борьбе с реакцией 80-х годов. Смерть на месте битвы. Итоги жизни
Бросая общий взгляд на эволюцию сатиры Салтыкова за двадцать пять лет — от «Губернских очерков» идо 80-х годов — можно сделать следующее заключение. До конца 60-х годов предметом его сатиры являлись преимущественно бюрократия и дворянство. В 70-е годы, не покидая прежних проблем, тем и типов, щедринская сатира широко захватывает буржуазию города и деревни. За два с лишним десятилетия Салтыковым были воздвигнуты монументальные сатирические памятники бюрократии, дворянству и буржуазии («Губернские очерки», «История одного города», «Помпадуры и помпадурши», «Господа ташкентцы», «Благонамеренные речи», «Господа Головлевы»). Наиболее часто практикуемые писателем приемы сатиры в этих произведениях, устремленных на разоблачение властвующей верхушки дворянско-буржуазного государства, были рассчитаны прежде всего на вылавливание крупной «хищной рыбы», заслуживавшей высшей сатирической кары. Огромную массу сатирических персонажей, созданных Салтыковым в 60—70-е годы, подытоживают и возглавляют три аккордных типа: Угрюм-Бурчеев, Иудушка Головлев и Осип Дерунов. Они с предельной резкостью олицетворяют антинародную сущность монархии, загнившего помещичьего класса и идущей на смену ему пореформенной буржуазии. Что же касается произведений 80-х годов, то они, не оставляя в покое ни бюрократии, ни дворян-крепостников, заметно активизировавшихся в это время, ни все более растущей буржуазии, характеризуются прежде всего глубокими размышлениями о судьбах человека из разночинной среды, о положении народных масс. Салтыков рисует широкую картину бедствий крестьянской России, создает разнообразную галерею типов «среднего человека» из разных классов и социальных групп, типы трудовой интеллигенции, крестьянства, городских ремесленников и полупролетариев. Эти типы появлялись у Салтыкова и раньше, но только теперь, в 80-е годы, они уже не сходят со сцены, являются постоянно действующими лицами его произведений.
Новые темы — жизнь «среднего человека» и жизнь «человека, питающегося лебедой», — выдвинулись на первый план не просто вследствие недостаточного их освещения в предыдущем творчестве Щедрина, а прежде всего потому, что писатель находил их теперь, в период тяжелой политической и общественной реакции 80-х годов, наиболее актуальными. Революционная ситуация начала 60-х годов и революционная ситуация конца 70-х годов, героизм, который проявляла в эти годы революционная интеллигенция, колебания и смятение, которые наблюдались в это время в правительственных верхах и в господствующих классах, не привели, однако, к желаемым результатам. Реакция, оправившись от потрясений, опять брала перевес. Щедрин все отчетливее понимал, что основной причиной поражения революционных борцов и торжества реакции является несознательность и неорганизованность народных масс, их идейная неподготовленность к борьбе за свои права. Писатель стремился показать основные причины слабости освободительного движения, и поэтому проблема народа заняла особое место в последних произведениях Щедрина, поэтому «настроение масс» считал он теперь главной своей темой.
В творчестве Щедрина понятие «средний человек» означает прежде всего разночинную интеллигенцию, а также и другие группы людей, занимающие по своему материальному уровню среднее положение в обществе.
Первые же произведения Щедрина, написанные в 80-е годы («Письма к тетеньке», «Современная идиллия», «Пошехонские рассказы»), — это прежде всего сатирическое повествование о среднем человеке. Захваченный в плен реакцией, вовлеченный ею в ожесточенную свалку, этот человек проделывал ту трагикомическую историю приспособлений, которую в зеркале своей сатиры Щедрин заклеймил ядовитыми словами — «современная идиллия». Изображение психологии, поведения и судеб среднего человека в разных его социально-политических модификациях дается также при помощи ряда образов,, выведенных в сказках, в особенности таких образов, как премудрый пискарь, самоотверженный заяц, здравомысленный заяц, обманщик-газетчик, либерал, вяленая вобла, карась-идеалист. В «Пестрых письмах» типы среднего человека разработаны в образах «пестрых людей»; «Мелочи жизни» развивают ту же тему в целой серии художественных портретов. Усиление внимания Салтыкова к среднему человеку было продиктовано как задачами разоблачения политической и общественной реакции, как возросшей общественной ролью среднего человека, так и стремлением помочь освобождению этого человека из плена обывательских предрассудков, воздействовать на него в революционно-демократическом духе.
Наряду со средним человеком в произведениях Салтыкова в 80-е годы все чаще появляется тот деревенский и городской труженик, который в отличие от среднего человека оставался вне культурного влияния, одевался в рубище, ютился в грязных лачугах, питался лебедой. Конечно, скорбная дума о положении народа, о его нуждах и о его будущих судьбах проходит через все творчество Салтыкова-Щедрина, является основной и постоянной темой его душевных переживаний. Во всей своей литературной деятельности он руководствовался точкой зрения народных интересов. Но как сатирик он служил народу прежде всего разоблачением его врагов. Правда, образы и картины жизни простого народа, бесправного русского крестьянства являются довольно частыми в произведениях Салтыкова-Щедрина, написанных до 80-х годов. И хотя мысль о человеке «страдательной среды» никогда не покидала писателя, все же только в последние годы эта «страдательная среда» становится более постоянным объектом его специальных наблюдений и художественного воспроизведения. О ней непосредственно идет речь во многих сказках («Соседи», «Коняга», «Кисель», «Праздный разговор», «Деревенский пожар», «Путем-дорогою», «Ворон-челобитчик»), в рассказах «Хозяйственный мужичок» и «Портной Гришка» (из «Мелочей жизни»), в целом ряде глав «Пошехонской старины», посвященных изображению крепостной массы. И вообще все идейно-тематическое многообразие произведений Щедрина во второй половине 80-х годов проникнуто одной господствующей тенденцией — стремлением всесторонне раскрыть картину народных бедствий, всю глубину тех отрицательных последствий социально-политического гнета, которые проявляются в материальном и правовом положении трудящихся, в их быту и в их сознании.
Творчество Салтыкова-Щедрина, как и любого другого великого мастера художественного слова, показывает замечательные образцы органической зависимости формы от содержания, гармонического соответствия творческих приемов, средств живописания, эмоциональных красок природе изображаемого объекта и той цели, к достижению которой стремился писатель. Естественно, что эволюция проблематики не могла не сказаться на художественной форме произведений, созданных Щедриным в 80-е годы. В процессе закономерного развития своего творчества писатель подошел к таким темам, которые потребовали соответствующих изменений в манере письма, в жанрах, в общей тональности реализма.
Для произведений, созданных Салтыковым в 80-е годы, характерно обилие трагических ситуаций. Нарастание трагического элемента в реализме Салтыкова было обусловлено, во-первых, все более тесным сближением творческих замыслов писателя с той «страдательной средой», которая испытывала весь гнет деспотизма, и, во-вторых, нарастанием трагизма в самой действительности, вызванным обострением идейных и классовых конфликтов, углублением политической и общественной реакции, усилением полицейских преследований и всяких других форм насилия. После первого марта 1881 года началась жестокая расправа самодержавия с революционерами-народовольцами. Салтыков не замедлил отозваться на это драматическими этюдами о торжествующей свинье, пожирающей правду («За рубежом»), и о суде над злополучным пискарем («Современная идиллия»). В эти этюды сатирик вложил всю силу своего презрения к реакционерам, заклеймив их уничтожающими образами, и всю глубину своего сочувствия к трагедии борцов за свободу. Но всего более художественное внимание Салтыкова в 80-е годы сосредоточивалось не на каких-либо исключительных трагических ситуациях, а на трагизме обыденной жизни, на тех социальных драмах, которые разыгрывались повседневно на широкой арене классовой борьбы и жертвами которых были люди, гибнущие в борьбе за существование. Будничный трагизм, не осознаваемый даже самими жертвами его, нашел свое выражение и в трагическом финале «Пошехонских рассказов», и в кровавой развязке многих маленьких комедий (т. е. таких сказок, как
«Самоотверженный заяц», «Здравомысленный заяц», «Карась-идеалист» и др.), и особенно в маленьких трагедиях о людях, задавленных житейскими «мелочами»
(«Мелочи жизни»).
Тенденция к изображению обыденного трагизма жизни униженной народной массы особенно наглядно проявилась в щедринских произведениях второй половины 80-х годов. В это время творчество сатирика претерпело и ряд других изменений, связанных с резким ухудшением условий его литературной деятельности.
Самодержавие, видя в лице Салтыкова своего опасного врага, подвергало все более частым репрессиям его «Отечественные записки», готовилось вообще запретить этот самый передовой журнал русской демократии, но до поры до времени воздерживалось, боясь, что эта мера против писателя, которого высоко ценили все честные люди России, вызовет общественное возмущение.
В апреле 1884 года журнал Салтыкова-Щедрина был закрыт царским правительством «за содействие революционному движению». Писатель тяжко переживал эту катастрофу. Он почувствовал, что у него «душу запечатали», что он «лишился языка», разлучен с «единственно любимым существом» — читателем. Но он не мог молчать. Борьба за преобразование жизни оружием художественного слова была его органической потребностью. Вынужденный печатать свои произведения «в чужих людях», на страницах либеральных органов (журнал «Вестник Европы», газета «Русские ведомости»), он и теперь не изменил своим прежним убеждениям. Но затрагивать остро политические темы, которые прежде всего привлекали внимание Салтыкова, и трактовать их в соответствующей сатирику резкой манере стало уже невозможно. Салтыков оказался перед необходимостью, как он выражался, произвести «ломку манеры». Понятие о ломке он конкретизировал как намерение приняться за что-нибудь бытовое. Это и нашло свое выражение в создании большой серии социально-бытовых рассказов («Мелочи жизни») и большой бытовой картины («Пошехонская старика»).
Для выяснения своеобразия этих двух последних книг Салтыкова, не имеющих себе близких соответствий во всем его предыдущем творчестве, важно также напомнить, что ко времени их написания юмор, вследствие обострившейся болезни, стал оставлять Салтыкова.
Не ослабевавший с течением времени страстный пафос идейной борьбы за социальную справедливость был могучей движущей силой художественного дарования Салтыкова-Щедрина. Этим прежде всего и объясняется тот замечательный факт, что писатель, несмотря на все постигшие его невзгоды, до конца своей жизни сохранил высокую творческую активность. Но эта активность в последние годы его деятельности уже не могла проявиться в прежних формах. Новые условия общественно-политической и личной жизни, в которые был теперь поставлен Щедрин, заставляли его менять объект своего творчества и свое оружие. Свидетельством высокой творческой активности Щедрина в последние годы является то, что, когда оружие бичующего сатирического смеха выпало из его рук, он нашел новые объекты и другие сильные художественные средства и приемы изображения.
Салтыков теперь шел к осуществлению своих замыслов преимущественно через разработку трагического материала. С другой стороны, трагический элемент, ранее подавляемый комическим, выступил теперь, ввиду резкого ослабления последнего, в качестве господствующего тона повествования. Таковы «Мелочи жизни» (1886—1887).
Основной идеей «Мелочей жизни» является страстный протест против безыдейного существования, против рабской покорности и пассивности, обрекающих огромную массу людей на слепое прозябание и напрасную гибель, и вместе с тем это горячий призыв к коллективной самозащите, к активной, самоотверженной борьбе за новый общественный строй, свободный от всех форм насилия, строй, выводящий людей из плена «мелочей жизни» на широкий простор сознательной исторической деятельности и открывающий путь к подлинно-человеческому развитию всех и каждого.
В «Мелочах жизни» Салтыков наносит удар по господствующему режиму не столько непосредственным обличением последнего, сколько косвенным путем: обнаружением все растущей «суммы страданий» (XVI, 709) в широких слоях общества, выявлением массовости зла, опутывающего в виде повседневных и повсеместных «мелочей жизни» многих людей самых разных социальных категорий и порабощающего нравственные и умственные силы человека. Разнообразные типы, выведенные в «Мелочах жизни», сгруппированы и освещены с точки зрения тех развращающих и отупляющих последствий, которые порождает классовый гнет в жизни и в нравственном облике отдельного человека и всего общества.
Монументально разработанной в «Мелочах жизни» темы Щедрин неоднократно касался в своем предшествующем творчестве. Однако прежде она оставалась только отдельным, побочным мотивом, который заглушался другими, более громкими. По самой природе своей «мелочи жизни», как глубоко укоренившиеся в массах рабские привычки, требовали особых приемов художественного изображения. Естественно, что, когда Щедрин сделал «мелочи жизни» предметом специального большого произведения, он как художник раскрылся с такой стороны, которая до этого времени оставалась почти неизвестной читателю. Новый жанр — жанр психологического социально-бытового рассказа, новая эмоциональная окраска, приемы спокойного, эпического повествования — все это создает совершенно новую, своеобразную художественную тональность «Мелочей жизни», не находящую себе точных параллелей в других произведениях Салтыкова.
Художественный замысел «Мелочей жизни» раскрывается посредством многочисленной серии психологических портретов и бытовых картин. Психологический портрет в его тесном бытовом окружении — основная структурная единица многоветвистого цикла. Художественный психологизм «Мелочей жизни», с одной стороны, идет на уровне прежних высших достижений писателя, с другой — эволюционирует в направлении раскрытия внутреннего мира «измученных жизнью людей».
Художественные особенности «Мелочей жизни» не являются, конечно, неожиданными, их можно было наблюдать и раньше, но только теперь, в связи с иным характером объекта изображения и изменившимся творческим настроением художника, все это ярко синтезировалось, приобрело значение нового качества в его реализме, новой грани в его художественном облике. Произошло расширение арены щедринского реализма в направлении многостороннего психологического изображения жизни народных масс.
Заканчивая свой творческий путь, Салтыков как художник приходит в «Мелочах жизни» в непосредственное соприкосновение со своим младшим современником — А. П. Чеховым. Первый заканчивал тем, с чего начал второй. Объяснение этого — прежде всего в тех проблемах, темах и типах, которые диктовала новая эпоха художникам слова.
Наряду с нарастанием трагического мотива, ослаблением юмора и углублением психологизма, для реализма «Мелочей жизни», а затем и «Пошехонской старины» характерно также усиление лирико-автобиографического элемента.
Сатире Щедрина, полной гнева, негодования, презрения, издевки, злой насмешки над тем, что олицетворяет собой темные силы самодержавия, всегда сопутствовали лирические отступления, в которых писатель делился своими мечтаниями, рассказывал читателю-другу о своей любви к отечеству и к народу, о своих душевных переживаниях, связанных с трудностями сатирического поприща, о своей грусти и скорби по поводу пассивности угнетенных масс и о своей глубокой вере в то, что человеческое в конце концов восторжествует, победив все неправды, коварства и насилия.
Такого рода лирические монологи автора все чаще врываются в сатирическую струю его произведений 80-х годов. Это находится в прямой связи с тем, что теперь «средний человек» и «человек, питающийся лебедой», завоевывают себе все более широкое место в качестве непосредственного объекта изображения. Соприкосновение с этим человеком дает художнику все более частые поводы: для выражения гуманистического сочувствия и для интимного разговора с читателем.
Лирические мотивы нередко перерастают в последних произведениях писателя в автобиографические эпизоды, в рассказ писателя о своей жизни. Не только по объективному смыслу написанного, но и по характеру творческих замыслов 80-е годы были для Щедрина временем итогов. Свои последние произведения Щедрин писал, будучи тяжело больным, в предвидении близкой смерти и, может быть, как казалось писателю, еще более близкого вынужденного молчания. В этих условиях он подвергает самокритическому анализу свои идейные искания, свою работу за прошедшие десятилетия, свой жизненный и литературный путь. Три произведения, написанные в последние три года жизни писателя — «Приключение с Крамольниковым» (из цикла «Сказки»), «Имярек» (из цикла «Мелочи жизни»), «Пошехонская старина», сохраняя все свое обобщающее художественное значение, не имеют во всем творчестве писателя равных себе по богатству автобиографических сведений, без
которых не может обойтись ни один исследователь жизни, мировоззрения и творчества писателя.
От всех других произведений Салтыкова его предсмертная «Пошехонская старина» (1887 —1889) отличается рядом существенных признаков. Назовем самое основное. Во-первых, произведение рассказывает о событиях, которые отдалены от времени его написания на несколько десятилетий. Такое явление было необычным в творческой практике сатирика, замыслы которого всегда были непосредственно связаны с переживаемым историческим моментом. Во-вторых, произведение написано в форме мемуарно-автобиографического повествования, чему также нет близких аналогий в предшествующем творчестве Салтыкова. И в-третьих, «Пошехонская старина» ярко выделяется в творчестве Салтыкова и вообще в русской литературе XIX века обилием подробно обрисованных типов крепостных рабов, которые в своей совокупности создают завершенное представление о быте и нравственном мире крепостной крестьянской массы. Родственные по социальной тематике «Господа Головлевы» и «Пошехонская старина», однако, заметно рознятся тем, что, рисуя царство феодальной жестокости и произвола, писатель сосредоточивается в первом произведении на изображении помещиков, во втором — крепостных крестьян. Особенности «Пошехонской старины» находят свое объяснение как в общей эволюции творчества Салтыкова в последние годы, так и в своеобразной творческой истории данного произведения.
«Пошехонская старина» была задумана в самом начале 80-х годов, но осуществление замысла год за годом отодвигалось. Приступить к «Пошехонской старине» «мешали» другие литературные работы, и как только последние наталкивались на цензурные барьеры, мысль Салтыкова возвращалась к бытовой теме о «старине».
Своеобразие творческой истории «Пошехонской старины» в том и состоит, что произведение задумывалось и писалось под сложным и противоречивым воздействием ряда объективных факторов и субъективных настроений писателя. С одной стороны, Щедрин «давно задумал» написать о «старине» и имел готовый материал, и была в нем своя «поэзия» детства, и материал этот в цензурном отношении был удобен. Все это склоняло к работе над «Пошехонской стариной». С другой стороны, Щедрин не хотел идти по линии наименьшего сопротивления и изменять своей природе писателя-трибуна, не хотел удаляться в «старину» от непосредственной социально-политической борьбы и давать повод хотя бы к частичному ликованию врага («Вот, скажут, заставили-таки мы его». — XIX, 349).
Это борение различных чувств вокруг темы о «старине», ярко характеризующее воинствующую натуру писателя-трибуна, продолжалось долго, давно задуманное отстранялось другими литературными работами, которые непосредственно отвечали задачам переживаемого исторического момента.
Прошло пять лет (1883—1887) с того момента, когда тема о «старине» возникла у писателя, до наступления той поры, когда Щедрин взялся за ее окончательное осуществление. Это произошло лишь тогда, когда выступать в роли политического сатирика и писать в прежней манере было уже невозможно не только потому, что зверски свирепствовала цензура, накладывая запрет на все, что относилось к сущности политического режима, но и потому, что современный материал оказывался теперь менее доступным писателю. Неоднократно он жаловался, что мало где бывает, мало видит и поэтому приходится «извлекать образы из себя», из готовых запасов памяти. Этим «готовым» и были впечатления далекого деревенского детства писателя. Так, под совокупным действием указанных условий политический сатирик уступил место бытописателю-мемуаристу.
Сложные обстоятельства заставили воинствующего сатирика сменить боевую позицию — перейти к бытовому сюжету, относящемуся к минувшей поре жизни. И хотя в идейном отношении Щедрин остался на прежней высоте своей бичующей критики, последняя, конечно, не имела достаточного простора в рамках теперешнего жанра. Как боец, привыкший на всякие движения противника отвечать быстрыми ударами и вынужденный теперь предпринять замедленное обходное движение, он переживал чувство
— частичного поражения. Передовая общественность тогда и потом дала последнему салтыковскому творению даже более высокую оценку, чем такому яркому выражению гения политического сатирика, как «Современная идиллия», но мы в данном случае говорим не о сравнительной оценке произведений Салтыкова-Щедрина, а об оценке их в авторском
, сознании. Непримиримый дух политического борца, беспощадного обличителя всех видов насилия, порожденного деспотическим режимом, ярко проявлялся и в той форме бытового повествования, к которой писатель прибегал как бы подневольно.
Автор «Пошехонской старины», создавая памятник минувшей эпохе, вместе с тем бил по живым врагам, по реакционной политике самодержавия, по разнузданной идеологической пропаганде крепостников, которые, по выражению Ленина, «ожили на час». Он показывал народу всю мерзость тех порядков, которые пытались реабилитировать и реставрировать реакционеры 80-х годов. В годы зверской реакции, когда для Щедрина стала легально невозможной лобовая атака на врагов освобождения народа, он, оставаясь верным своей роли идейного борца, предпринял, создав «Пошехонскую старину», последний тактический ход: зашел с глубокого исторического тыла, карая буржуазно-помещичий строй не только за его глумление над народом в настоящем, но и напоминая о преступлениях прошлого, раскрывая глубокую связь прошлого с настоящим.
«Пошехонская старина» — последнее звено в цепи тех изменений, которые претерпела литературная деятельность Салтыкова-Щедрина. И конечно, есть большая разница между таким, например, образцом политической сатиры, как «История одного города», и социально-бытовой хроникой «Пошехонская старина». Но различие между ними касается исключительно фактического содержания и художественных особенностей, а не сущности идеологии писателя. Выступив в конце своего литературного пути ч в роли не сатирика, а мемуариста-бытописателя, он и тут оставался все тем же революционным гуманистом, разрушителем старого, прогнившего мира и воинствующим борцом за торжество идеалов социальной справедливости. «...Умру на месте битвы» (XIX, 369), — писал сатирик. Ион до конца дней своих оставался верным этой клятве. Осуществляя ее, он мужественно одолевал все преграды: и огромное напряжение творческого труда, и систематические правительственные гонения, и тяжкие физические недуги, терзавшие его в течение многих лет.
Могучая сила передовых общественных идеалов, которым Салтыков-Щедрин служил до конца жизни со всей страстью своего воинствующего темперамента, высоко поднимала его над личными невзгодами, не давала замереть в нем художнику и являлась постоянным источником творческого вдохновения.
В «Пошехонской старине», этой своей предсмертной книге любви и гнева, Салтыков-Щедрин слал последнее проклятие темному прошлому и звал в светлое будущее. Обращаясь к детям, «устроителям грядущих исторических судеб», он писал: «Не погрязайте в подробностях настоящего... но воспитывайте в себе идеалы будущего; ибо это своего рода солнечные лучи, без оживотворяющего действия которых земной шар обратился бы в камень. Не давайте окаменеть и сердцам вашим, вглядывайтесь часто и пристально в светящиеся точки, которые мерцают в перспективах будущего» (XVII, 99).
Последние страницы «Пошехонской старины» написаны слабеющей рукой бойца, умирающего на месте битвы. В марте Салтыков-Щедрин дописал последнюю главу, а 28 апреля (10 мая н. ст.) 1889 года он скончался.
Салтыков-Щедрин оставил большое литературное наследство. Собрание его сочинений — очерки, рассказы, повести, романы, пьесы, сказки, литературно-критические и публицистические статьи, письма — составляет двадцать объемистых томов.
Эти произведения принесли Салтыкову-Щедрину заслуженную славу крупнейшего русского сатирика.
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИ И ТВОРЧЕСТВА
Идейно-эстетическая позиция
Общественные и эстетические воззрения Салтыкова-Щедрина формировались, с одной стороны, под воздействием усвоенных им в молодости идей Белинского, идей французских утопических социалистов и вообще под влиянием широких философских, литературных и социальных исканий эпохи 40-х годов, а с другой — в обстановке первого демократического подъема в России. Литературный сверстник Тургенева, Гончарова, Толстого, Достоевского, Щедрин >ыл, как и они, писателем высокой эстетической культуры, и в то же время он с исключительной чуткостью воспринял революционные веяния 60-х годов, могучую идейную проповедь Чернышевского и Добролюбова, дав в своем творчестве органический синтез качеств проникновенного художника, превосходно постигавшего социальную психологию всех слоев общества, и темпераментного политического мыслителя-трибуна, всегда страстно отдававшегося борьбе, происходившей на общественной арене.
Реализм Щедрина опирался не только на передовой общественный идеал, превосходное знание жизни и разностороннюю культуру, но и на стройную систему реалистической эстетики, которую сатирик унаследовал от Белинского, Чернышевского и Добролюбова и в разработку которой нес свой существенный вклад. Выдающийся классик русского реализма, величайший сатирик в мировой литературе, воинствующий публицист, Щедрин был вместе с тем блестящим теоретиком и критиком литературы. Он донес знамя революционно-демократической эстетики до конца 80-х годов, оставаясь до последних дней своей жизни стойким и страстным поборником передового реалистического искусства, непримиримым борцом против общественной реакции и ее идеологов в литературе. Своей литературно-критической деятельностью, особенно широко развернувшейся в 1863—1864 годах на страницах «Современника» и в 1868—1871 годах в «Отечественных записках», Щедрин обогатил теорию реализма и дал много нового в освещении конкретных литературных явлений.
Статьи и рецензхш Щедрина, а также многочисленные высказывания, содержащиеся в его художественных произведениях и письмах, охватывают большей круг общеэстетических и историко-литературных проблем, дают великолепные по глубине и остроте анализа образцы оценок как творчества отдельных писателей (Кольцов, Тургенев, Гончаров, Писемский, Решетников и др.), так и целых направлений и школ в литературе (реализм, натурализм, «чистое искусство», «антинигилистическая» литература),
Щедрин уделил особое внимание разъяснению общественных задач литературы, роли мировоззрения в художественном творчестве, защите и обоснованию важнейших принципов передового искусства — высокой идейности, народности, реализма, типичности.
Общение с жизнью «всегда было и всегда будет целью всех стремлений литературы» (XIII, 300), — говорит Щедрин. Литература не может ограничить себя только отображением настоящего, тех форм, которые «уже выработала история» (VII, 455). Высшая задача литературы, претендующей на воспитательное значение, заключается в том, чтобы подготовлять почву будущего, разрабатывать идеалы и перспективы, выражать те стремления, которые «в данную минуту хотя и не вошли еще в сознание общества, но тем не менее существуют бесспорно и должны определить будущую его физиономию» (VIII, 51). Свое понимание активной роли литературы, ее общественно-воспитательных задач Щедрин выразил в замечательной формуле: «Литература и пропаганда — одно и то же» (VIII, 116).
Щедрин неутомимо и последовательно разоблачал идеологов реакции, пытавшихся использовать искусство в своих целях. Здесь особенно ярко проявилось уменье Щедрина-критика улавливать политику в эстетике, раскрывать социально-политический смысл различных теорий и течений в области литературы. Так называемые антинигилистические романы 60-х годов («Взбаламученное море» Писемского, «Марево» Клюшникова, «Некуда» Лескова, «Поветрие» Авенариуса и др.) он заклеймил как низкопробный натурализм «административно-полицейского» направления.
В борьбе с реакционными явлениями в литературе 60—70-х годов Щедрин обогатил учение революционно-демократической эстетики о роли передового мировоззрения, об идейности и тенденциозности. Неясность миросозерцания Щедрин считал таким недостатком, который всю деятельность художника «сводит к нулю» (VIII, 423). Характеризуя творчество как воплощение мысли в образах, он дает следующее замечательное определение роли мировоззрения писателя: «...интерес беллетристического произведения, при равных художественных силах, всегда пропорционален степени умственного развития писателя» (VIII, 118).
Щедрин признает способность «непосредственной силы таланта» открывать правду читателю, даже помимо воли художника; вместе с тем он считает «присутствие идеала», передовую мысль великим плодотворным началом в искусстве. Поэтому он горячо защищает тенденциозность в смысле сознательного и убежденного служения писателя передовым общественным интересам своего времени. Громадное воспитательное значение великих и общепризнанных писателей Щедрин видит именно в их идейной тенденциозности, в том, что они «всегда полагали в основу своих произведений действительные стремления и нужды человечества и, сверх того, умели с полною ясностью определить свои отношения к этим стремлениям и нуждам» (VIII, 423).
В своем учении о тенденции Щедрин глубоко учитывал специфику искусства. Он неоднократно заявлял о том, что дидактизм с трудом уживается с искусством, что художественная правда должна говорить сама за себя, а не при помощи комментариев и толкований. Он резко критиковал всякое резонерское морализирование по поводу передовых идей, наблюдающееся у тех писателей, которым «дорога не тенденция, а тенденциозничанье» (VIII, 469). Он беспощадно осуждал ложную тенденциозность, которая делает писателя «рабом своего умысла» (VIII, 371), ведет к искажению жизненной правды.
В реалистическом искусстве, сочетающем правдивость и страстную идейность, Щедрин видел осуществление основных принципов передовой эстетики. Огромную роль русской литературы в общественной жизни Щедрин объяснял прежде всего тем, что в ней реализм стал «действительно господствующим направлением» (V, 173), что в ней постоянно Происходит «расширение арены правды, арены реализма» (VIII, 58), что «размеры нашего реализма» более значительны, чем в зарубежной литературе (XIV, 200).
Опираясь на достижения русской литературы и достижения эстетики Белинского, Чернышевского и Добролюбова, Щедрин развивает свои теоретические положения о реализме. В наиболее развернутом виде они даны в статьях «А. В. Кольцов» (1856), о драме Писемского «Горькая судьбина» (1863), а затем в программных статьях «Напрасные опасения» (1868) и «Уличная философия» (1869). Щедрин решительно отвергает представление о реализме как о простом умении копировать, списывать с натуры. Истинный реализм, поясняет Щедрин, не ограничивается передачей внешних признаков, он берет человека со всеми его определениями. «Везде, даже в самой ничтожной подробности, он допытывается того интимного смысла, той внутренней жизни, которые одни только и могут дать факту действительное значение и силу» (V, 174).
Критический метод Щедрина — замечательный пример анализа идейного содержания и художественной формы произведения в их органическом единстве. Идейность творческого замысла Щедрин рассматривает как важнейшее условие художественности. Ясно сознанная идея, говорит Щедрин, придает связь образам и объясняет «их участие в общей экономии художественного произведения» (VIII, 424). Сознательные симпатии и антипатии являются той подстрекающей силой, без которой «художественное воспроизведение действительности было бы только бесконечным повторением описания одних и тех же признаков» (VIII, 118—119).
Чем значительнее идея произведения, тем богаче возможности, открываемые ею для проявления мастерства художника. Высокая художественность, в свою очередь, является необходимым условием для полного раскрытия идеи. «Чем полезнее мысль, чем благотворнее предполагается ее влияние на общество, тем тщательнее она должна быть разработана, потому что здесь неудача не просто обрывается на том или другом авторе, но распространяет свое действие и на самую идею. Истины самые полезные нередко получают репутацию мертворожденных, благодаря недостаточности или спутанности приемов, которые допускаются при их пропаганде» (VIII, 389).
Такова щедринская трактовка идейности, художественности и мастерства в их взаимной обусловленности.
В своих литературно-эстетических суждениях Щедрин уделяет большое внимание существеннейшему признаку реализма — категории типичности, разъясняя как общественно-познавательное и воспитательное значение литературных типов, так и сущность творческих принципов художественной типизации.
Критические работы Щедрина содержат множество . тонких и глубоких замечаний и по более частным вопросам мастерства, стиля и языка писателя. Он осуждал избитость мотивов, бедность, грубость и однообразие красок, отсутствие метких черт в характеристике действующих лиц, слабость и случайность вымысла, неловкость в построении произведения, изобилие длиннот, бесцветность языка, недостаточное знакомство с беллетристическими образцами и т. д.
Непревзойденный мастер слова в такой своеобразной разновидности реализма, как сатира, превосходный знаток русской и зарубежной сатирической литературы, Щедрин, опираясь на свой художественный опыт и опыт своих предшественников и современников, дал многостороннюю и глубокую трактовку проблем сатиры. В этом и состоит прежде всего его вклад в революционно-демократическую эстетику.
Суждения Щедрина о сатире являются органической частью его воззрений на художественную литературу как орудие борьбы за «подготовление почвы будущего» (VII, 454). Подлинная сатира, по определению Щедрина, не должна замыкаться в кругу общественных курьезов и странностей; она призвана раскрывать причины народных бедствий, воспитывать революционное сознание масс, готовить их к борьбе за светлое будущее, «провожать в царство теней все отживающее» (V, 372). Для того чтобы сатира достигала своей цели, надобно, говорит Щедрин, «во-первых, чтоб она давала почувствовать читателю тот идеал, из которого отправляется творец ее, и, во-вторых, чтоб она вполне ясно сознавала тот предмет, против которого направлено ее жало» (V, 375).
Только глубокое знание народной жизни, кровных интересов трудящихся масс позволяет сатирику выработать и отправной общественный идеал, и сознание предмета сатиры. Поэтому, делал вывод Щедрин, «единственно плодотворная почва для сатиры есть почва народная, ибо ее только и можно назвать общественной в истинном и действительном значении этого слова. Чем далее проникает сатирик в глубины этой жизни, тем весче становится его слово, тем яснее рисуется его задача, тем неоспоримее выступает наружу значение его деятельности. Дело будет слышаться в его речи, то кровное человеческое дело, которое, затрагивая самые живые струны человеческого существа, нередко возвышает до героизма даже весьма обыкновенного человека» (VIII, 297).
Сатира — основной род литературной деятельности Щедрина. Но эта деятельность была подчинена осуществлению положительной общественной программы, служению идеалам демократии и социализма.
Разоблачение отрицательных типов велось Щедриным во имя утверждения типов положительных. Конкретные образы последних редко появлялись в его произведениях, но им отведено значительное место в литературно-эстетических суждениях писателя.
Взгляд Щедрина на проблему положительного героя получил наиболее полное выражение в статье «Напрасные опасения».
Здесь Щедрин развивает мысль о том, что источником новых положительных типов, новых общественных деятелей могут служить только народные массы и связанные с ними круги демократической интеллигенции. Он призывал писателей показать во вези полноте человеческий образ русского простолюдина и богатый идейно-нравственный мир «нового человека», активного общественного борца. Отправляясь от этого более высокого идеала личности и растущих запросов освободительного движения, Щедрин применил к социальным типам революционный критерий и не удовлетворялся теми из них, которым либералы придавали положительное значение. Сатира Щедрина потому именно и отличалась неумолимо последовательным, наступательным и целеустремленным характером, что она вдохновлялась передовым социальным и эстетическим идеалом, опиралась на положительную программу русской революционной демократии.
Проблеме положительного героя Щедрин уделил много внимания как литературный критик и публицист и значительно меньше как художник. Это объясняется прежде всего двумя причинами. Во-первых, тот высокий тип положительного героя, который привлекал Щедрина, встречал почти неодолимые цензурные препятствия. В частности, это обстоятельство помешало Щедрину осуществить замысел произведения о революционных деятелях, подобных Петрашевскому или Чернышевскому, мужество которых вызывало его восхищение. Во-вторых, для себя он считал главной роль сатирика, в соответствии с которой в центре его художественного внимания оставались прежде всего отрицательные типы. Однако он не навязывал такую роль литературе вообще. Более того: он прямо утверждал, что «новая русская литература не может существовать иначе, как под условием уяснения... положительных типов русского человека» (VIII, 58).
В совокупности суждения Салтыкова-Щедрина по вопросам художественного творчества дают яркое представление об эстетических взглядах выдающегося деятеля революционно-демократической литературы. Эстетические принципы Щедрина — это передовые принципы русского классического реализма, унаследованные литературой социалистического реализма. В высказываниях Щедрина по вопросам литературы советские читатели найдут ответ на целый ряд вопросов, касающихся не только истории литературы, но и живых проблем нашей литературной современности.
Оригинальность творческой индивидуальности
Воспоминания людей, встречавшихся с Салтыковым-Щедриным, характеризуют великого сатирика как благородную, сильную, яркую, темпераментную индивидуальность[14]. Мемуаристы отмечают неподкупную честность Салтыкова, его исключительную искренность, прямодушие. Он не терпел фальши в человеческих отношениях, никогда не шел против своих убеждений, всегда оставался непримиримым в борьбе с идейными противниками. «Этот не покорялся судьбе до последнего издыхания, — писал один из мемуаристов о Салтыкове, — боролся за жизнь, за мысль до последнего момента, и даже в гробе, даже мертвый сохранил на своем лице такое выражение, что мне казалось, его сжатые уста каждую минуту готовы крикнуть грубым, хриповатым голосом: «А я все же не покорюсь!»
Люди, близко знавшие сатирика, свидетельствуют, что он «был весь нервы и постоянное волнение», часто раздражался, отличался резкой прямотой суждений. Своим угрюмым, суровым видом, ворчливостью, грубоватым голосом Салтыков отпугивал от себя тех, кто не успел или не умел разобраться в высоких нравственных достоинствах его личности.
Н. К. Михайловский, один из ближайших помощников Щедрина по редактированию «Отечественных записок», так изображает внешность писателя: «резкая перпендикулярная складка между бровей на прекрасном открытом и высоком лбу, сильно выпуклые, как бы выпяченные глаза, сурово и как-то непреклонно смотревшие прямо в глаза собеседнику, грубый голос, угрюмый вид. Но иногда это суровое лицо все освещалось такой почти детски-добродушною улыбкой, что даже люди, мало знавшие Щедрина, но попадавшие под свет этой улыбки, понимали, какая наивная и добрая душа кроется под его угрюмой внешностью».
Обрисованный современниками внешний облик Салтыкова-Щедрина рельефно воссоздан в портрете писателя работы И. Н. Крамского (1879). Имея в виду, видимо, этот портрет, А. В. Луначарский писал: «Какая суровость! Какие глаза судьи! Какая за всем этим чувствуется особенная, твердая, подлинная доброта! Как много страдания, вырезавшего морщины на этом лице, поистине лице подвижника!»[15]
Превосходное знание жизни всех классов русского общества своего времени и жизни западноевропейских государств, высокая и многосторонняя культура, широта философско-исторического и общественно-политического кругозора, страстный темперамент идейного борца, огромное художественное дарование — все эти черты Салтыкова-Щедрина характеризуют его как в высшей степени оригинального представителя русской классической литературы XIX века.
В общем облике Салтыкова-литератора есть такая черта, которая представлена у него ярче, чем у любого другого русского писателя. Заключается она в исключительной, страстной привязанности к «злобам дня», ко всему тому, чем жило и волновалось русское общество в данную минуту. По справедливому замечанию В. Воровского, Щедрин всегда был «непримиримым общественником»[16], его сочинения — движущаяся панорама общественной борьбы, воплощенной в ярких картинах, нарисованных резкими штрихами и освещенных светом передовых идей своего времени.
Для Щедрина характерно постоянное и страстное стремление немедленно вмешаться в споры по вопросам, которые терзали общество; он называл себя «исследователем признаков современности» (XV, 171), «человеком, связанны?.: крепкими узами с современностью» (XIII, 264), неоднократно говорил о своей «мучительной восприимчивости», об исключительной приверженности «злобам дня».
И вместе с тем Щедрин имел полное основание ответить на упреки отдельных критиков, обвинявших его в фельетонизме, следующими словами: «Фельетон трактует исключительно о происшествиях дня, а я, ей-богу, совершенно к ним равнодушен. Если б читатели смотрели на меня, как на фельетониста, — ей-богу, я перестал бы писать» (XX, 106).
Внимание Щедрина привлекали к себе не мелкие происшествия текущей жизни, служившие обычной пищей для разного рода мелкотравчатой либеральной публицистики, а коренные проблемы эпохи, от решения которых зависели судьбы миллионов людей. Текущая действительность, увиденная с высоты передового общественного идеала и оцененная с точки зрения этого идеала, выражавшего кровные интересы угнетенных народных масс, выступала в произведениях сатирика в глубочайших и широких обобщениях, в историческом движении, в ее закономерных связях с прошедшим и будущим. В его произведениях отразилась та злоба дня, которая была «злобой века», определявшей судьбы целого общества. В созданных Щедриным картинах текущей действительности всегда видна связь времен, переплетение и борьба старого и нового, тени прошедшего и указания на светящиеся точки будущего.
Эта черта Щедрина — исключительно чуткая восприимчивость к современности — накладывает свою печать но только на все содержание творчества сатирика, но определяет также и поэтическую тональность его произведений. В них резко запечатлены волнения, страсть, симпатии и антипатии общественного борца.
С первой характерной чертой литературной деятельности Щедрина — «злободневностью» его писаний — связана, из нее вытекает и служит ее выражением вторая черта — органический сплав художественности и публицистичности в творчестве сатирика. Он является крупнейшим в истории русской литературы художником-публицистом, художником-журналистом. Это проявляется в незамедлительности откликов на текущие общественные события, в постоянном соседстве художественных приемов с пропагандистской речью в рамках одного и того же произведения, наконец, в создании многих собственно публицистических произведений, которые сами по себе составляют одно из крупнейших достижений революционно-демократической публицистики. Так, например, обширнейшая хроника Щедрина «Наша общественная жизнь» (1863—1864), несомненно, является крупнейшим произведением передовой публицистики за весь период с момента ареста Чернышевского и до марксистских выступлений Плеханова. Гармоническое сочетание в лице Щедрина великого художника и столь же сильного политического мыслителя-публициста, вооруженного передовыми идеями своего времени, не раз останавливало на себе внимание современников сатирика. В своих воспоминаниях о Салтыкове-Щедрине Г. 3. Елисеев пишет: «Михаил Евграфович по своему темпераменту и призванию был журналист в лучшем смысле этого слова, и трудно сказать, что в нем преобладало: поэтическая ли способность или строгая логическая мысль; по-видимому, все это в нем было уравновешено»[17].
И действительно, в творчестве Щедрина мы постоянно наблюдаем как бы соревнование художника, который образно осваивает действительность в ее непосредственных, чувственных картинах, и ученого-мыслителя, который стремится тут же аналитически раскрыть внутреннюю сущность образа.
Мучительная восприимчивость к злобе дня и постоянная жажда вмешательства в текущую борьбу не только художественным, но и публицистическим оружием — эти две черты литературной деятельности, сочетаясь с одаренностью юмориста, порождают третью выдающуюся черту писательской физиономии Щедрина — беспощадный, гневный, разящий обличительный смех.
Салтыкова как писателя отличает ясность мысли, осознанность и, может быть, идейная предопределенность творческих концепций. Он творил при свете и под контролем критического сознания, оставшегося неусыпным и в моменты высокого полета фантазии. Сила воображения и сила логики в его творческом акте действовали по принципу согласия, взаимопроникновения. Каждое его произведение, взятое и в целом и в своих дробных — даже мельчайших — составных элементах, является синтезом логического и образного познания действительности. И потому к Салтыкову больше, чем к какому-либо другому великому русскому писателю, подходит наименование «художник-исследователь». И конечно, щедриноведы не напрасно уделяют много внимания вопросу о руководящей роли передовых идейных убеждений в творческой деятельности сатирика. Однако несколько односторонняя сосредоточенность на этом аспекте творческой индивидуальности Салтыкова порой приводит к чрезмерной рационализации склада мышления сатирика и созданных им произведений, привносит в облик писателя черты излишней рассудочности. Салтыков не был «головным» писателем. Он творил не только умом, но и сердцем, в его произведениях запечатлелись и страсть темпераментного политического борца, и трезвый анализирующий дар мыслителя, и творческая интуиция проникновенного художника.
Своеобразие реализма
Охарактеризованные черты Щедрина-художника определяют основную направленность всего его творчества. Пафос реализма Щедрина заключается в беспощадном, страстном, последовательном отрицании всех основ буржуазно-помещичьего государственного строя во имя победы демократии и социализма. В этой силе отрицания скрестились непримиримая ненависть к рабскому режиму и ко всем виновникам народных бедствий, а также глубочайшие симпатии к угнетенным массам, вера в их преобразовательную миссию и страстная убежденность в возможности построения общества, свободного от всех форм эксплуатации и гнета.
Определение реализма как искусства, изображающего типические характеры в типических обстоятельствах, сохраняет свое полное значение и относительно творчества Салтыкова-Щедрина. Но в границах, охватываемых этим определением, возможны различные тенденции реализма. Для нашей цели достаточно выделить две из них. Каждый из великих реалистов имеет целью своего творчества исправление человека и исправление общества. Для одних исходным пунктом служит исправление человека, за которым должно последовать окончательное исправление всего общества (яркий пример в русской литературе — реалистическая концепция Толстого). Для других — коренное преобразование общества является предпосылкой окончательного исправления человека. Щедрин является едва ли не самым ярким представителем второй группы русских реалистов. В зависимости от той или иной из названных тенденций (хотя, конечно, и не только от этого) в главный фокус художественного изображения попадают то типические характеры, то типические обстоятельства. Так, многие современные Щедрину писатели (Тургенев, Гончаров, Островский, Достоевский, Толстой) ставили своей главной целью воспроизведение характеров, подчиняя этому изображение обстоятельств. Щедрин, напротив, видит свою основную задачу в отображении прежде всего социальной среды, всей совокупности тех социально-политических условий, которые образуют господствующий «порядок вещей». Этой задаче Щедрин подчиняет изображение типов.
Эта особенность реализма Щедрина была отмечена еще Добролюбовым. Постоянный мотив тургеневской школы беллетристов, писал он, тот, «что среда заедает человека». Мотив хороший и очень сильный; но им до сих пор не умели еще у нас хорошо воспользоваться. Человек, «заеденный средою», изображался иногда в повестях тургеневской школы довольно живо; но самая «среда» и ее отношения к человеку рисовались бледно и слабо. Изображение «среды» приняла на себя щедринская школа»[18].
Направление основного внимания на «среду» и сам Щедрин считал характерной чертой своей сатиры и мотивировал это сущностью своих идейных замыслов. «Моя резкость, — писал он, — имеет в виду не личности, а известную совокупность явлений, в которой и заключается источник всех зол, угнетающих человечество... Я очень хорошо помню пословицу: было бы болото, а черти будут, и признаю ее настолько правильною, что никаких вариантов в обратном смысле не допускаю. Воистину болото родит чертей, а не черти создают болото» (XIII, 266).
В связи с тенденцией к широкому раскрытию господствующих в обществе отношений разнородные явления, входящие в понятие среды, интересовали Салтыкова не в одинаковой степени. Он останавливал внимание прежде всего на явлениях общественного, а не частного быта. Экскурсы сатирика в область домашнего быта были подчинены критике общественно-политических явлений. Сатира Щедрина казнила все эксплуататорское общество, а не отдельных его представителей. Его произведения всем своим существом погружены в социально-политические проблемы. Реализм Щедрина шире его сатиры; его сатира, взятая в целом, шире его политической сатиры. Но если определение творчества Салтыкова как политической сатиры не исчерпывает всего, то оно улавливает самое главное в характере связей щедринского реализма с действительностью.
Общественно-политическая и идеологическая борьба — вот та арена, на которой с наибольшей полнотой проявляет себя сатирическое дарование Щедрина. Типичные герои щедринской сатиры — это люди, подвизающиеся в сферах административно-политической и социально-экономической деятельности, творцы «внутренней политики» и «столпы» экономики буржуазно-дворянского государства.
Акцентировка внимания на разоблачении господствующей общественно-политической среды, самодержавного «болота», существенным образом сказывается на общей структуре и содержании произведений Щедрина, на отборе и группировке типов, на принципах типизации и на психологическом анализе, другими словами — на всем его творческом методе.
Щедрина интересуют преимущественно такие социальные типы, которые наиболее ярко олицетворяют основные отрицательные свойства правящих классов, сословий, каст, партий, а не те или иные отклонения от этих свойств.
Для произведений Щедрина характерна густая «населенность», обилие эпизодических — второстепенных и третьестепенных — фигур, каждая из которых в отдельности очень часто не оставляет завершенного впечатления, но которые в своей совокупности образуют определенный социальный фон, служат средством воссоздания общественно-политической атмосферы.
Вокруг скульптурно очерченных основных сатирических типов Щедрина обычно вращается целая масса их спутников, варьирующих главные свойства типа и прибавляющих к нему новые оттенки: Угрюм-Бурчеев и рядом с ним другие градоначальники и помпадуры, Дерунов — и вокруг него целая группа «чумазых», Алексей Степанович Молчалин — и множество других фигур молчалинской генерации. Если монументально обрисованный персонаж, олицетворяющий тот или иной слой общества, призван дать яркое представление о социально-политической и психологической сущности данного типа, то родственные персонажи-спутники имеют своим назначением охарактеризовать его массовид-ность, распространенность. Из этого же стремления сатирика к полноте обрисовки психологии, идеологии, политики и социальной практики целых господствующих классов, партий и каст вытекает обилие «массовых» портретов, собирательных характеристик, определений, сатирических оценок — глуповцы, помпадуры, градоначальники, ташкентцы, пенкосниматели, чумазые и т. д.
В связи с той же тенденцией к широкому раскрытию господствующих социально-политических отношений и картины общественного устройства особые черты в творчестве Щедрина приобретает и психологический анализ.
***
Вопрос о психологическом анализе в творчестве Салтыкова-Щедрина истолковывается весьма разноречиво. Так, еще в современной сатирику критике нередко раздавались голоса о том, что психологический анализ не был свойствен дарованию Щедрина, что будто бы он не заботился о подробных психологических исследованиях того или другого социального типа.
При таком подходе к делу представление о Щедрине как художнике обедняется, он искусственно отстраняется от разработки богатейшей психологической культуры, являющейся одним из важнейших достижений классиков русского реализма. Между тем Щедрину здесь принадлежит выдающаяся роль.
Статьи Чернышевского и Добролюбова о первой щедринской книге — «Губернских очерках» — замечательны, между прочим, тем, что они характеризовали ее автора как художника-психолога, глубоко постигшего внутренний мир изображаемых людей. И «Губернские очерки», и в особенности такие произведения семидесятых и восьмидесятых годов, как «Господа Молчалины», рассказы «Старческое горе», «Дворянская хандра», «Больное место», роман «Господа Головлевы», цикл «Мелочи жизни», наконец, «Пошехонская старина», — все эти вещи отличаются всесторонним и тонким проникновением в психику самых разнообразных человеческих характеров и социальных типов.
М. Горький, подобно Чернышевскому и Добролюбову, дал высокий отзыв о психологизме Щедрина. Имея в виду не только «Губернские очерки», но и все творчество сатирика, он писал: «Салтыков прекрасно знал психику представителей культурного общества его времени, психика эта слагалась на его глазах, он же был умен, честен, суров и никогда не замалчивал правды, как бы она ни была прискорбна[19].
Сатирический метод вообще, и метод Щедрина в частности, не только не чуждается психологического анализа, но и включает в себя последний на правах необходимого и очень важного элемента. И у Гоголя, и у Щедрина мы встречаем немало сатирических образов, разработанных с большой психологической глубиной. Достаточно вспомнить, например, образы Плюшкина и Иудушки, Другое дело, конечно, что психологизм в сатире имеет свои особенности.
Прежде всего нельзя отрицать того факта, что психологический анализ в сатире вообще не играет такой роли, которая отводится ему в обычных реалистических произведениях. Разгадку вопроса следует искать в природе объекта и задачах сатиры. Сатира чаще, чем несатирические произведения, имеет дело с немногосложными, бедными внутренней жизнью, неразвивающимися характерами. В свое время Чернышевский, возражая тем, кто обвинял сатириков в недостатке развития характера действующих лиц, спрашивал: «Как же такое лицо будет развивать перед вами свой характер в художественном произведении, когда не развивает его в действительности?» И, сославшись на персонажи Фонвизина, Гоголя, Диккенса, отвечал, что если натура действующих лиц «такая, что нечему в ней развиваться, они и не должны развиваться»[20].
Но если сам сатирический объект ограничивает возможности психологического анализа, то, с другой стороны, и задача сатиры требует не столько подробных, тщательных наблюдений, сколько резких оценок. Психологизм очеловечивает, цель же сатиры — развенчание человекообразного животного.
По этим причинам, вытекающим из характера литературной деятельности, а также и в силу особых свойств индивидуального дарования психологический метод Щедрина резко отличается от психологического метода Тургенева. Но разве не отличается столь же значительно Тургенев в этом отношении от величайших из русских художников-психологов — Толстого и Достоевского, и разве не отличаются последние друг от друга? Следовательно, отличие Щедрина от его великих современников надо искать не в том, что первый будто бы слабо владел формой психологической беллетристики, а вторые сильно, а в том, что у каждого из них эта сторона творческого метода проявлялась по-разному, своеобразно, в зависимости от свойств дарования, предмета и задач художественного анализа.
В числе всех особенностей, характеризующих своеобразие психологического анализа в творческом методе Щедрина, важнейшей следует считать установку на раскрытие психологии классового поведения. Психология, порожденная классовым воспитанием и классовой практикой и, в свою очередь, мотивирующая поведение человека как представителя определенной социальной или политической группировки, — таков центральный объект анализа Щедрина-психолога.
Другими словами: Щедрин сознательно поставил психологический анализ на службу задачам изображения социально-политической среды, классов и группировок общества. В связи с этим художественный психологизм претерпел перестройку. Он стал служить у Щедрина не столько выявлению личной психологии со всеми ее индивидуальными проявлениями, сколько психологии в ее массовых, групповых проявлениях. Внутри этой групповой психологии были свои индивидуальные отличия, но на них Щедрин, в соответствии с выдвинутым им пониманием задач сатиры, останавливался меньше, нежели его предшественники. По количеству тщательно психологически разработанных человеческих характеров Щедрин уступает Гоголю, Тургеневу, Достоевскому, Толстому. Но уступает не по недостатку соответствующего дарования, а в силу тех задач, которые он брал на себя как сатирик. Что же касается мастерства выявления классовой психологии, психологии у целых социально-политических группировок своего времени, то тут Щедрин не имеет себе равного. В этом и состоит его основная черта как художника-психолога.
***
В выборе и трактовке реальных явлений писатель выражает свою философию жизни, свое понимание действительности и свое отношение к ней. Различие в художественных типах, созданных, например, одновременно творившими Тургеневым, Гончаровым, Достоевским, Толстым, Щедриным, обусловлено различием как в реальных объектах изображения, так и в задачах и принципах типизации. Каждого из этих писателей привлекали преимущественно те или иные стороны действительности, и притом с определенной точки зрения, и соответственно этому каждым из них создана своя галерея типов. Наследие выдающихся русских писателей, взятое в целом, показывает, при известной общности, замечательное разнообразие в понимании и художественном воплощении типического. Интересно было бы провести в этом аспекте перекличку, пользуясь суждениями самих писателей и образами их произведений. В качестве примера сделаем беглое сопоставление, взяв Тургенева за исходный пункт сравнения.
Множество однородных высказываний самого писателя и его романы с упорным постоянством указывают на то, что Тургенева преимущественно привлекали типы или уже исчезающие (например, Лаврецкий), или только нарождающиеся (например, Базаров), то есть типы, находящиеся на границах исторического этапа; с одной стороны, завершающие старый этап, с другой — полагающие начало новому этапу, олицетворяющие «едва народившееся, еще бродившее начало»[21].
В этом отношении Тургенев противостоит Гончарову, в понимании которого тип — это то, что часто повторяется, проявляется «в множестве видов или экземпляров»[22], что отлилось в господствующую форму, «отлежалось, как Обломов». «...Если зарождается, — говорил Гончаров, — то еще это не тип... тип слагается из долгих и многих повторений или наслоений явлений и лиц, где подобия тех и других учащаются в течение времени и, наконец, устанавливаются, застывают и делаются знакомыми наблюдателю»[23]. Можно не соглашаться с таким определением типического, находя его односторонним. Вместе с тем нельзя не признать, что из своего понимания типа Гончаров сумел извлечь замечательный художественный эффект. Образ Обломова является классическим воплощением именно этой концепции типического, основанной на учении о типе как устоявшемся, застывшем и многократно повторившемся человеческом характере.
Тургенев говорил, что для создания литературного типа он должен был иметь исходною точкою «живое лицо», знать его прошедшее, всю его обстановку, малейшие житейские подробности. Этим Тургенев, между прочим, отличается от Достоевского, который лишь отталкивался от факта и развивал его в подробностях силою собственной фантазии. По поводу романа «Бесы» Достоевский писал: «Одним из числа крупнейших происшествий моего рассказа будет известное в Москве убийство Нечаевым Иванова. Спешу оговориться: ни Нечаева, ни Иванова, ни обстоятельств того убийства я не знал и совсем не знаю, кроме как из газет. Да если б и знал, то не стал бы копировать. Я только беру совершившийся факт. Моя фантазия может в высшей степени разниться с бывшей действительностью, и мой Петр Верховенский может нисколько не походить на Нечаева; но мне кажется, что в пораженном уме моем создалось воображением то лицо, тот тип, который соответствует этому злодейству»[24].
Тургенев считал, что «поэт должен быть психологом, но тайным: он должен знать и чувствовать корни явлений, но представляет только самые явления — в их расцвете или увядании»[25]. Это, в частности, отличает Тургенева от Льва Толстого, чей психологический анализ глубоко проникает в корни явлений и во всей постепенности прослеживает весь процесс расцвета или увядания, а не только конечные моменты этого процесса.
Тургенев говорил: «...Я не беру единственную черту характера или какую-либо особенность, чтобы создать мужской или женский образ; напротив, я всячески стараюсь не выделять особенностей, я стараюсь показать моих мужчин и женщин не только en face, но и en profile»[26]. В этом отношении Тургенев, между прочим, отличается от Салтыкова-Щедрина, который обычно резко выделял одну или немногие особенности социально-политических типов и по этим признакам группировал своих героев в целые социальные семейства помпадуров, ташкентцев, пошехонцев, молчалиных, балалайкиных и т. д.
Уже эти немногие беглые указания на различия в понимании типического и в методах типизации показывают, как в конкретном своем проявлении сложна и многогранна проблема художественного типа.
Огромное общественно-познавательное и эстетическое значение русской классической литературы объясняется, между прочим, тем, что ее великие деятели в силу разнохарактерности дарований, убеждений и социального опыта сумели в каждом отдельном случае глубоко постигнуть какую-либо определенную сферу действительности, дав в совокупности всестороннюю картину жизни человека и общества своего времени.
Что же касается, в частности, Салтыкова-Щедрина, то он, следуя основным требованиям реалистической эстетики, вместе с тем как сатирик владел своими оригинальными принципами типизации, на основании которых создал множество ярких типических образов.
Процесс типизации в искусстве заключается не только в том или ином идейном освещении типов и характере их художественной разработки. Он начинается раньше, а именно с момента выбора предмета. Из бесконечного многообразия явлений и человеческих типов каждый писатель отбирает то, что отвечает его идейно-художественным тенденциям и его конкретным творческим замыслам. И как бы ни было разнообразно творчество того или иного писателя, все же можно (если, конечно, мы имеем дело с подлинным художником, а не просто сочинителем) выявить определенные, только ему присущие закономерности, которые определяют его преимущественное направление в отборе фактов действительности. «...Выбор предмета исследования, — говорил Гете, — всегда указывает, что за человек автор и какого он духа дитя»[27]. В этом смысле можно говорить о преимущественном объекте Гоголя, Тургенева, Гончарова, Достоевского, Толстого, Щедрина и т. д.
Каков же основной объект щедринского реализма? К разъяснению этого вопроса Щедрин возвращался неоднократно, каждый раз развивая и уточняя ответ в соответствии с эволюцией общественной жизни и эволюцией своего творчества. При этом основные положения, высказанные первоначально, сохранили свою силу на протяжении всего творческого пути.
Введение к «Губернским очеркам» (1856) Щедрин заканчивал словами: «Много есть путей служить общему делу, но смею думать, что обнаружение зла, лжи и порока также не бесполезно, тем более что предполагает полное сочувствие к добру и истине» (II, 39). Книга, которая предварялась этими словами, с достаточной ясностью показывала, какого рода зло, ложь и порок имел в виду писатель. Он нацеливал свою сатиру на общественное зло, порождаемое всем государственным режимом самодержавной России, разоблачал привилегированную ложь, скрытую в общем «порядке вещей», изобличал господствующие слои общества, интересуясь в первую очередь не их домашним устройством, а их идеологией, политикой и практикой. На смену дворянству шла буржуазия, сатирик неустанно наносил удары и по отживающим крепостникам, и по нарождающимся капиталистам. В связи с этим расширялся диапазон его сатиры, но ее основной прицел всегда имел в виду разоблачение и отрицание общественного устройства господствующих классов, принципы экономического и политического уклада их жизни.
Своеобразие основного объекта творчества характеризует Щедрина прежде всего как политического сатирика. Это первый и самый капитальный признак, выделяющий Щедрина среди современных ему писателей и определяющий его особое место в русской литературе XIX века.
Щедрин решительно отвергал отвлеченно нравственный подход к оценке людей.
Основным моментом, определяющим достоинства личности, он считал гражданские убеждения и общественное поведение. Он высмеивал тех писателей, которые, говоря о человеке, «не давали себе труда исследовать, какого разряда принцип вносит в общество деятельность этого человека, но справлялись единственно о том, добрый ли он малый или злец. И если он оказывался добрым, то мы приходили в восторг...» (III, 36).
Критерий общественной ценности человека лежит в основании эстетики Щедрина и определяет характер сатирической оценки воспроизводимых им типов. Черты личности его интересуют прежде всего как черты социального типа. Он наблюдает своего героя преимущественно на публичной арене: в департаменте, в земских учреждениях, в клубах и трактирах, в служебных разъездах, на собраниях, на банкетах, на встречах и проводах начальства — всюду, где создается «внутренняя политика», где плетутся нити политической или экономической интриги, где люди ищут выгодного административного местечка и делают служебную карьеру, — одним словом, там, где наиболее полно проявляет себя психология и практика эксплуататоров. Именно таковы те типичные обстоятельства, где раскрывает себя «герой» щедринской сатиры. Воспроизводя многоголосый и многоликий базар политической суеты, Щедрин сравнительно редко заходит в сферу домашней жизни своего героя, да и то с целью здесь опять-таки проследить концы той комедии, которая началась за пределами домашнего очага.
В своей собственной творческой практике Щедрин претворил те глубокие теоретические суждения о сущности литературных типов и методе типизации явлений действительности, которые многократно развивались им как в литературно-критических статьях, так и в его художественных произведениях, где он нередко делал экскурсы в область эстетики и теории литературы.
Типы, создаваемые великими писателями, говорит он, являются «представителями реальной правды своего времени» (VIII, 56); они, взятые во всем своем многообразии, характеризуют общество в данный момент, через них литература осуществляет свои воспитательные задачи, стремится угадать «образ будущего человека», вырабатывает «нового человека» (VII, 455). Следовательно, писатель, желающий достичь плодотворных результатов, должен уметь «группировать факты, схватывать общий смысл жизни... вдаваться в психологическое развитие» (VI, 198).
По формулировке Щедрина, «коренное правило» типизации заключается в том, чтобы всякое явление «рассматривать преимущественно в его типических чертах, а не в подробностях и отступлениях, которые, конечно, не должны быть упускаемы из вида, но отнюдь не имеют права затемнять главный характер явления» (VI, 322).
Щедрин-сатирик мастерски пользовался приемом гиперболы в раскрытии «главного характера явления», в заострении художественного образа. Соответственно этому Щедрин-критик делает вывод: «Между прочим, ничто так ярко не характеризует того или другого направления, как так называемые крайности его» (VIII, 390).
Эти формулировки подводят нас непосредственно к пониманию специфики щедринской сатирической типизации. Социально-политические и психологические тенденции типа Щедрин прослеживает до их логического конца. Сатирик развивает, разрабатывает, двигает исследуемое явление до крайнего предела, до полного самообнаружения всех отрицательных потенций, заключающихся в том или ином разоблачаемом социальном типе. Яркое подтверждение тому — Угрюм-Бурчеев, Иудушка Головлев, Либерал в одноименной сказке и многие, многие другие образы. «И замечательно то обстоятельство, — писал критик «Русской мысли», — что многие города одновременно и с убеждением похвалялись исключительною принадлежностью им одного и того же помпадура, изображенного Салтыковым, и даже рассказывали про одни и те же «волшебства». Этим вполне доказываются две вещи: первое — типичность, а не портретность созданных Салтыковым личностей; второе — общность, а не случайность причин существования в известное время таких молодцов, административная деятельность которых сводилась к одному «волшебному» слову: фюить!..»[28]
Глубокое постижение и яркое изображение таких типов, которые порождались всей господствующей социально-политической системой, — вот что придавало щедринским образам, так сказать, характер многопортретности и открывало возможность для целого ряда конкретных реальных соответствий.
***
В сатирической обрисовке типов всегда весьма заметную роль играют фамилии и имена персонажей, подбираемые с расчетом на разоблачение и осмеяние. Вслед за Фонвизиным, Грибоедовым и Гоголем этим приемом художественной сатирической типизации Щедрин пользовался широко и постоянно.
Традицию сатирических наименований Щедрин, в соответствии со своим революционно-демократическим мировоззрением, развивал в плане политического заострения. Выбор имен, фамилий, прозвищ обусловлен в сатире Щедрина стремлением дискредитировать господствующие классы, их государственный деспотический режим.
Остановимся прежде всего на щедринских персонажах, принадлежащих к высшим чинам губернской и столичной бюрократии, на лицах, увенчанных высокими официальными званиями (князья, генералы, советники разных степеней).
Персонажей этой категории Щедрин, как правило, наделяет именами, исполненными самой злой насмешки и вместе с тем резко подчеркивающими их деспотические черты, аморализм, идейно-нравственную ограниченность.
Здесь можно выделить несколько групп. Чаще всего сатирик фиксирует в фамилии героя признаки деспотизма, властолюбия, свирепости и хищности: Змеищев, Зубатов, Удар-Ерыгин, Давилов, Обиралов, Угрюм-Бурчеев, Перехват-Залихватский, Держиморда, Проказников, Отчаянный, Бедокуров, Дыба, Удав, Долбня, Скорпионов, Крокодилов, Гвоздилов, Беспартошный-Волк.
Вторую по численности группу составляют имена, выражающие общую умственную и нравственную ограниченность героев или их аморализм. Таковы: Оболдуй-Тараканов, Слабосмыслов, Негодяев, Балаболкин, Балбейсов, Мерзопупов, Толстолобов, Проходимцев, Недотыка, Расплюев, Твэрдоонто, Мямлин. Иногда то же разоблачение идейно-нравственной ограниченности, сопряженной с легкомыслием, достигается приданием крупному бюрократу уменьшительной формы имени: помпадуры Феденька Кротиков, Митенька Козелков.
В-третьих, Щедрин кладет в основу собственных имен какие-либо физические или физиологические признаки, создающие отталкивающее впечатление, как бы сразу, без дальнейших характеристик, снижающие героя в глазах читателя, делающие его антипатичным, неприятным и смешным. Вот они: генерал Голозадов, помпадур Набрюшников, губернаторы Утробин, Пучеглазое, Вислоухов, тайные советники и действительные статские советники Губошлепов, Перекусихины 1-й и 2-й, Растопыриус, Растопыпя, Раскоряка, Культяпка.
Наконец сановные лица нередко наделяются именами, которые сами по себе или в сочетании с высоким титулом (граф, князь, генерал) производят просто комическое впечатление и насмешкой ниспровергают персонаж с его высоко официального пьедестала. Примеры: Стрекоза, Солитер, Пупон, Зильбергрош, Капотт, Бритый, Лампопо, Рукосуй-Пошехонский, Букиазба, Унеситымоегоре (князь), Насофеполежаева (княжна), Сампантре (князь).
Высокая бюрократия (Зубатовы, Удар-Ерыгины, Удавы, Дыбы, Толстолобовы, Слабосмысловы, Оболдуй-Таракановы, Негодяевы, Угрюм-Бурчеевы и т. д.) действует в окружении многочисленной армии чиновников, из которых одни письмоводительствуют, другие рукоприкладствуют, третьи шпионят.
То скрюченные повиновением и преданностью исполнители, то ловкие и пронырливые взяточники и карьеристы, то просто отъявленные мерзавцы, выступающие в роли наглых и бесшабашных служителей полицейского режима, — все это разнообразие типов и характеров средней и мелкой чиновничьей массы окрещено соответствующим разнообразием метких сатирических наименований: Бенескриптов, Гранилкин, Мазуля, Маремьянкин-Живоглот, Подгоняйчиков, Разбитной, Рогуля, Трясучкин, Молчалин, Вертявкин, Забулдыгин, Катышкин, Пересвет-Жаба, Прижимайлов, Рылобейщиков, Зуботычин, Проходимцев, Хватов, Шелопутов и т. д. Наиболее широко обобщающим типом чиновника-исполнителя является Молчалин, который унаследован от Грибоедова и блестяще развит Щедриным в «Господах Молчалиных».
В своей неистощимой изобретательности сатирических наименований Щедрин следовал смыслу народной поговорки: по шерсти и кличка. Имена щедринских типов — не ярлыки, а меткое обозначение и сатирическая оценка внутренней сущности типа, его социальной практики, его общественного поведения и значения.
В богатой и разнообразной щедринской типологии можно выделить группу центральных, так сказать, стержневых типов, которые дают монументальный сатирический портрет целого класса, большой социальной группы или бюрократической касты. При обрисовке таких типов значение собственных имен персонажей раскрывается в развернутых характеристиках (Угрюм-Бурчеев, Молчалин, Дерунов, Иудушка Головлев, Балалайкин и др.).
Наряду с ними в сатире Щедрина выступает множество фигур второстепенного значения. Сатирик не считает необходимым уделять им много внимания или потому, что аналогичные типы были им прежде уже подробно разработаны, или потому, что они достаточно ясны в своей реальной сущности. Вместе с тем они необходимы для воссоздания социального фона, общей политической атмосферы. Относительно персонажей такого рода Щедрин ограничивается скупыми, но резкими штрихами. В таких случаях основную сатирическую функцию берут на себя имена-характеристики, иногда сопровождаемые кратким пояснением. Например: «В соответствие своим фамилиям, Прижимайлов думает, что Глупова поприжать надо, а Постукин мечтает, что все пойдет хорошо, когда он достаточно настучит Глупову голову» (III, 260—261). Во многих случаях авторская оценка действующих лиц заявляет о себе только в именах-характеристиках.
Щедрин создал целую энциклопедию сатирических собственных и нарицательных обозначений не только для типов, олицетворяющих правящие классы и партии самодержавной России, но и для органов печати, учреждений и всех других институтов полицейского буржуазно-помещичьего государства.
Так, обскурантскую газетку «Русский листок», выходившую в 1862—1863 годах, Щедрин высмеивал под наименованием «Смрадный листок».
Характеризуя мелкотравчатый, беспринципный либерализм как «куриное благородство» и, в частности, имея в виду газету Краевского «Голос», сатирик писал: «В Петербурге существует даже целая газета, которая поставила себе за правило служить проводником куриного благородства. Назовем эту газету хоть «Куриным эхом». От первой строки до последней она все умиляется, все поет: «Красен куриный мир!», «тепло греет куриное солнышко!» (VI, 68—69). В произведениях сатирика встречаются «Всероссийская пенкоснимательница», «Нюхайте на здоровье!», «И шило бреет», «Чего изволите?», «Помои» и другие блестящие по остроте выражения и убийственные по смыслу наименования органов реакционной, консервативной и либеральной прессы. Сатирические псевдонимы, всегда имеющие глубоко мотивированный характер, все более перерастали узкие границы своих прототипов и поднимали конкретные факты, подчас малозаметные для поверхностного взгляда, на высоту художественных обобщений большого масштаба.
Особенностью щедринских сатирических характеристик, даваемых типам, социальным группам, политическим партиям, целым классам, органам печати, учреждениям, историческим этапам и т. д., является острота и ядовитость, меткость и изобразительность сатирических наименований. Сатирические названия у Щедрина — не внешнее клеймо, а такое художественное определение предмета, которое органически вырастает из сущности последнего и выступает в качестве сатирической метафоры, синонима. Этим и объясняется живучесть щедринских наименований, их огромное не только обличительное, но и познавательное значение. Поэтому неудивительно, что щедринские сатирические прозвища навлекали обычно на себя ожесточенную атаку со стороны враждебного лагеря.
Уже одними своими разоблачающими наименованиями сатирик издевательски высмеял всю Табель о рангах, и смех его становился беспощаднее по мере того, как касался все более высоких ступеней социально-классовой и административно-политической иерархии. Мастерски изобретая сатирические имена, фамилии, клички, прозвища, разного рода прозрачные, но формально неуловимые псевдонимы, Щедрин тем самым стремился вызвать в читателе отрицательное эмоциональное отношение ко всему господствующему режиму, основанному на принципах социальной несправедливости. И он блистательно достигал этой цели. Созданные Щедриным сатирические формулы, обозначения, афоризмы, собственно-личные и нарицательно-групповые наименования были настолько меткими, острыми и яркими, что легко западали в память читателя, без труда находили себе многочисленные соответствия в окружающей действительности к немедленно приобретали широкую популярность, превращаясь в крылатые выражения. Метко озаглавленные щедринские типы и разящие, как меч, сатирические формулы сразу же входили в широкий оборот, становились достоянием повседневной политической речи и публицистики и служили острым оружием социально-политической борьбы. И даже те читатели, которым не была доступна вся идейная глубина произведений сатирика, умели уловить общий смысл их на основании одних лишь сатирических кличек, наименований и псевдонимов. Писатели, публицисты, политические деятели вплоть до наших дней продолжают пополнять свой арсенал из богатейшего источника щедринской сокровищницы художественного слова.
Истолкование персонажей классической литературы
Салтыков-Щедрин талантливо оживлял литературные типы, созданные его предшественниками и современниками. М. Горький назвал этот прием одним из излюбленных приемов сатирика.
Самые ранние случаи использования данного приема восходят к «Губернским очеркам», где рассказ «Корепанов» (1857) открывается суждениями автора о выцветших «провинциальных Печориных». В «Сатирах в прозе» (1862) появляются Сквозник-Дмухановский, Хлестаков, Ноздрев, Чертопханов и Пеночкин. В «Глуповском распутстве» (1862) повествователь передает рассказанную ему Митрофаном Простаковым «трогательную историю своей юности» (IV, 248). В «Признаках времени» (1863—1868) упоминаются Сквозник-Дмухановский, Хлестаков, Коробочка, Кирсанов, Иван Никифорович Довгочхун, Иван Иваныч Перерепенко. Публицистический очерк «Митрофаны» (1870), составивший впоследствии введение к «Господам ташкентцам», посвящен политической интерпретации героя фонвизинского «Недоросля». Однако до начала семидесятых годов литературные персонажи предшественников или просто упоминаются, или выступают в произведениях Салтыкова преимущественно лишь как объекты уподобления и публицистических суждений, но еще не как действующие лица[29].
Начиная с «Дневника провинциала в Петербурге» (1872) включение многих известных литературных героев в число действующих лиц сатиры становится обычным приемом в большей части произведений Салтыкова. После «Дневника провинциала» этот прием наиболее эффективно проявил себя в «Помпадурах и помпадуршах» (глава «Помпадур борьбы», 1873) и особенно в «Господах Молчалиных».
Образы литературных героев Щедрин заимствует преимущественно из «Недоросля» Фонвизина, «Горе от ума» Грибоедова, «Ревизора», «Мертвых душ» и «Повести о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем» Гоголя, «Свадьбы Кречинского» Сухово-Кобылина, романов Тургенева и Гончарова. При этом по частоте появления первое место принадлежит персонажам Гоголя и Тургенева.
Обращение Щедрина к образам литературных героев свидетельствует прежде всего именно о его глубокой вере в общественно-познавательное и воспитательное значение художественной литературы. Щедрин ссылается на художественные обобщения своих предшественников и современников как на факты самой действительности, берет их в качестве веских жизненных аргументов. Относясь к литературным типам как к типам непосредственной жизни, сатирик тем самым признает за первыми все значение жизненной достоверности.
Произведения Щедрина, в которых наряду с его собственными героями действуют герои Фонвизина, Грибоедова, Гоголя, Тургенева, Гончарова и других писателей, — это наглядно выраженная картина идейно-художественной преемственности.
Подчинение литературных персонажей задачам своей сатиры осуществляется Щедриным разнообразными способами. В одних случаях использование литературных типов идет в плане полной солидарности с предшественником. Так чаще всего обстоит дело относительно гоголевских героев. Щедрин принимает их как готовое достояние и оперирует ими обычно без особых пояснений. Здесь мы имеем дело просто с приемом оживления героя, все еще сохраняющего свою прежнюю жизненную действенность.
В других случаях, когда Щедрин заимствует литературные типы у предшественников более отдаленного времени, он осовременивает и развивает их в новых исторических условиях — в полном, однако, соответствии с их первоначальными потенциями. Так, например, обычно поступает Щедрин с героями «Недоросля» Фонвизина и «Горя от ума» Грибоедова. Яркий пример — глава о Митрофанах в «Господах ташкентцах» и «Господа Молчалины». Здесь мы имеем дело с приемом обновления литературного героя. Наконец к третьей группе можно отнести такие случаи, когда Щедрин полемически интерпретирует те или иные литературные типы, переосмысливает их со своей точки зрения, ставя их в новые ситуации. Таково обычное отношение Щедрина к героям романов Тургенева и Гончарова.
В «Дневнике провинциала в Петербурге» выступают в качестве делегатов статистического конгресса гоголевские, тургеневские и гончаровские персонажи: Иван Иванович Перерепенко, Собакевич, Веретьев, Кирсанов, Берсенев, Рудин, Лаврецкий и Марк Волохов. Выводя всех их как представителей уездных земств, Щедрин тем самым выражает свое отрицательное отношение к либерализму вообще и к либерализму земскому в частности, действующему заодно и вместе с крепостниками Собакевичами и Перерепенками.
В «Помпадурах и помпадуршах» (глава «Помпадур борьбы», 1873) Щедрин расширяет круг действующих лиц из числа литературных персонажей. Помпадур города Навозного Феденька Кротиков, будучи сперва либералом, окружил себя «блестящей плеядой навозных свободных мыслителей» (IX, 186). В эту плеяду входили: Иван Хлестаков» Иван Тряпичкин, Кузьма Прутков, правитель канцелярии Лаврецкий, чиновник особых поручений Рудин, Веретьев, Волохов, Райский; когда Феденька Кротиков перешел от либерализма к консерватизму, все они, кроме Рудина, поспешили принести покаяние. Главными исполнителями всех Феденькиных предначертаний в фазисе борьбы с крамолой сделались Ноздрев, Тарас Скотинин и Держиморда.
Высмеивая либерализм, олицетворяемый тургеневскими героями, Щедрин дает последним лаконичные, но ядовитые характеристики, отправляясь при этом от тех личных особенностей, которыми наделил своих героев Тургенев. Так, относительно Берсенева сказано: «Это человек мечтательный и рыхлый... у которого только одно в мысли: идти по стопам Грановского. Но идти не самому, а чтоб извозчик вез» (X, 459). Столь же язвительно о Лаврецком: «Он до того ожирел, что лишь с трудом понимал, какие идеи — либеральные и какие — консервативные» (IX, 197).
Следует особо остановиться на своеобразной интерпретации Щедриным таких литературных типов, как Хлестаков, Марк Волохов, Рудин и Чацкий. Все эти образы Щедрин остроумно использовал для разоблачения различных оттенков дворянского либерализма.
Щедринский Хлестаков олицетворяет собою тех пронырливых и пустозвонных либералов, которые с наибольшей легкостью расставались со своим либерализмом, так как ничего не имели за душой, кроме желания хватать на лету куски, бросаемые им благосклонным начальством. В «Признаках времени» либерализм, скрывающийся под именем Хлестакова, и консерватизм, скрывающийся под именем Давилова, представлены как «мнимые враги». Недоразумения легко устраняются: Хлестаков уговаривает Давилова прекратить публичные сношения с Взяткою, как несовместимые с либерализмом, и заменить их секретными сношениями. Мнимые враги становятся друзьями, заключают оборонительно-наступательный союз, «сливаются в одно нераздельное целое и принимают двойную фамилию Хлестакова-Давилова» (VII, 147).
Щедринский Марк Волохов близок к Хлестакову по своей беспринципности. Но психологическая подкладка их поведения имеет некоторые отличия. Хлестаковым управляет легкомыслие, Волоховым — цинизм. Волохов заявляет, что «ему кто ни поп, тот батька» (IX, 197). Поэтому он служил помпадуру Кротикову и в либеральный и в консервативный фазисы административной деятельности последнего. Щедрин, в сущности говоря, сохранил за Марком Волоховым все те основные черты, которыми наделил его Гончаров. Волохов человек бесшабашный, безнравственный, ему на все наплевать. Искусственно сочетая с этими свойствами героя некоторые черты демократизма, Гончаров сделал тенденциозную попытку дискредитировать фигурой Волохова идеи демократии и социализма. Простым передвижением Марка Волохова в лагерь либерально-консервативный, Щедрин переадресовал гончаровский тип по его подлинному назначению. Здесь мы имеем возможность наблюдать наглядный пример совмещения у Щедрина задач социальной сатиры с задачами литературной полемики.
Наибольшей деформации подверглись в сатире Щедрина образы Рудина и Чацкого, включенные в общее сонмище либералов. Правда, между Рудиным и Чацким, с одной стороны, и остальной массой либералов, с другой, Щедрин сохраняет некоторую дистанцию, но лишь с той целью, чтобы, так сказать, на примере лучших экземпляров полнее и глубже покарать либерализм.
Вот характерный отрывок — диалог рассказчика «Дневника провинциала в Петербурге» с делегатами, прибывшими на статистический конгресс:
« — Рудин! да вы с ума сошли! ведь вы в Дрездене на баррикадах убиты! — воскликнул я вне себя.
— Толкуйте! Это все Тургенев сказки рассказывает! Он, батюшка, четыре эпизода обо мне написал, а эпизод у меня самый простой: имею честь рекомендоваться — путивльский делегат. Да-с, батюшка, орудуем! Возбуждаем народ-с! пропагандируем «права человека-с»! воюем с губернатором-с!
— И очень дурно делаете-с, — заметил наставительно Кирсанов, — потому что, строго говоря, и ваши цели, и цели губернатора — одни и те же.
— Толкуй по праздникам! Ведь ты, брат, либерал! Я знаю, ты над передовыми статьями «С.-Петербургских ведомостей» слезы проливаешь! А по-моему, такими либералами только заборы подпирать можно!» (X, 460).
Приведенный отрывок, рисующий первое появление Рудина в сатире Щедрина, является как бы идейной экспозицией ко всей щедринской интерпретации данного тургеневского образа. Рудин лучше Кирсанова, который проповедует единство целей губернатора и земства и либерализм которого пригоден только заборы подпирать. Рудин воюет с губернатором, но именно с губернатором, а не с губернаторами. В «Помпадурах и помпадуршах» Щедрин показывает, как Рудин воюет. Он проповедовал «теорию возрождения России посредством социализма, проводимого мощною рукою администрации» (IX, 194). Когда другие либералы поспешили принести покаяние помпадуру Кротикову, ставшему на путь борьбы с крамолой, Рудин, как крайний либерал, остался нераскаянным и «отправился агитировать страну в тот край, где помпадурствовал Петька Толстолобов» (IX, 197).
Рудин в дальнейшем появляется в сатире Щедрина еще несколько раз, но всегда в роли департаментского либерального деятеля. Так мы, например, узнаем, что он служил директором департамента распределения богатства («Господа Молчалины»), а затем директором департамента преуспеяний («Пошехонские рассказы»), но либерализм его никаких результатов не достигал.
Своей трактовкой Рудина Щедрин высмеивал ту лучшую разновидность либерализма, которая упорно придерживалась теории возрождения России посредством улучшения администрации. В годы своей служебной деятельности сам Щедрин был не чужд этой иллюзии, но затем он беспощадно преследовал и разоблачал ее под наименованием «теории практикования либерализма в капище антилиберализма» или «теории вождения генерала Дворникова за нос».
в плане снижения развивается в сатире Щедрина и образ Чацкого. Он упоминается в ряде произведений, но своеобразная интерпретация его дана в «Господах Молчалиных», о чем речь пойдет в главе, посвященной этому произведению.
Критикой лучших представителей дворянского либерализма Щедрин свидетельствовал свое отрицательное отношение к либерализму вообще, к либерализму дворянскому в особенности. Щедрин критикует Чацких и Рудиных с точки зрения более высокого понимания задач освободительной борьбы, показывает их эволюцию в период 60—70-х годов в условиях резкого размежевания либерализма с демократизмом. Это была борьба за полное вытеснение либералов демократами с арены освободительной политической борьбы.
Независимо от того, солидаризируется Щедрин или полемизирует с предшественниками своей интерпретацией созданных ими литературных типов, во всех случаях это служит краткости описания. Литературный тип — это обобщение, сгусток тех или иных явлений общественной жизни. Хорошо знакомые читателю типы классической литературы освобождали Щедрина от подробных мотивировок и в то же время придавали произведению большую историческую емкость, позволяли представить самодвижение современной жизни в ее глубоких закономерных связях с прошедшим. Одно упоминание о том, что в восьмидесятые годы Ноздрев выступил в роли издателя газеты «Помои» («Письма к тетеньке»), — это целая сатирическая картина с огромным подтекстом, разоблачавшая и клеймившая позорных героев политической реакции. В стремлении к лаконизму сатирической обрисовки современных типов Щедрин порой прибегал к «скрещиванию» прежних литературных героев, производя от них новую сатирическую генерацию. Так, в «Дневнике провинциала в Петербурге» появляется адвокат Александр Иванович Хлестаков — сын гоголевского Хлестакова, а в «Господах Молчалиных» адвокат Подковырник-Клещ — побочный сын Чичикова и Коробочки. Соответствующее литературное происхождение делало без дальнейших пояснений понятным свойство производного сатирического типа. Указание, что адвокат Подковырник-Клещ является сыном Чичикова и Коробочки, позволяло обрисовать сущность новорожденного литературного героя всего одной фразой: «Отец — пройдоха, мать доточница; какому уж тут плоду быть!» (XII, 323).
Наконец, этот прием, помимо лаконизма изображения, придавал сатирическому повествованию яркую оригинальность, подводил читателя к фактам современности с неожиданной стороны.
Наряду с указанными функциями, характеризуемый прием был своего рода литературной критикой, осуществляемой в данном случае чисто художественными средствами. По верному наблюдению А. Г. Дементьева, Щедрин превращает всех литературных героев, действовавших в семейно-бытовой обстановке, в политических деятелей, судит о них по их политической позиции и тем самым ведет борьбу за преодоление традиций семейно-психологического, любовного романа и утверждение нового, общественного романа[30].
Жанровые особенности произведений
Стремление Салтыкова-Щедрина горячо вмешиваться в общественно-политическую борьбу ярко сказалось и на жанровой структуре его творчества.
Если судить по внешним формальным признакам, то можно сказать, что у Щедрина преобладает сатирический рассказ или очерк. Сам он говорил: «...я пишу неровно, отрывками» (XVIII, 360). Однако более углубленное изучение произведений сатирика убеждает в том, что его можно скорее назвать писателем больших жанровых форм, нежели малых.
У Щедрина мы всегда видим стремление к сложным идейно-художественным концепциям, к широко-объемлющим синтетическим замыслам. Его интересуют жизнь всего общества в целом, экономическая и политическая эволюция страны, проблемы социального и политического устройства государства, психология, поведение и судьбы целых классов, идейно-политическая борьба партий и общественных течений. Для воплощения всего этого ему как бы были тесны рамки не только рассказа, повести, но и романа. По масштабам своих проблемных замыслов он тяготеет к эпопее, к широким обозрениям жизни во времени и пространстве. Отдельное произведение, как правило, создается Щедриным в качестве этюда к большой картине, является частью единого большого идейно-тематического плана, осуществляемого в ряде произведений. Но если концепционный характер щедринских замыслов требовал больших жанровых форм, то, с другой стороны, Салтыков-Щедрин как сатирик и журналист-публицист не мог удовлетвориться «медлительной» формой большого эпического повествования и всегда горел желанием немедленно и систематически отзываться на волнующие его проблемы общественно-политической жизни. Большой роман с законченным сюжетом, характерный для современных Щедрину выдающихся русских художников слова, не обладал той степенью подвижности и гибкости, которая была необходима для произведений писателя, идущего в авангарде общественно-политической борьбы. Эти две противоречивые жанровые тенденции нашли свое взаимное разрешение в форме циклов, объединяющих тесно связанные между собой рассказы и очерки.
Таким образом, циклизация в творчестве Салтыкова-Щедрина обусловлена стремлением писателя сделать свои произведения, во-первых, зеркалом общественной жизни и, во-вторых, орудием немедленного вмешательства в жизнь. Первое условие диктовало широкие и сложные художественные концепции, требовавшие больших картин, второе вело к расчленению общего творческого замысла на ряд более или менее самостоятельных рассказов и очерков, позволявших незамедлительно откликаться на голос жизни, включаться в текущую социально-политическую борьбу.
Дистанция времени, которая признается некоторыми писателями в качестве необходимого условия для художественного изображения действительности, вовсе не характерна для Салтыкова-Щедрина. Для него стали органической потребностью ежемесячные беседы с читателем о том, что совершалось сегодня и что так или иначе отражалось на судьбах страны. Отдаться в течение сколько-нибудь значительного времени только писанию, не выступая в печати, он положительно не мог. Стоило писателю по тем или иным причинам не появиться в печати в течение двух-трех месяцев, как он начинал крайне болезненно переживать эти небольшие перерывы. Поэтому журнальная трибуна для ежемесячных выступлений была для него совершенно необходимой.
Журнализм Щедрина, явившись следствием присущего сатирику стремления к немедленному вмешательству в ход общественной борьбы, в свою очередь стимулировал циклические художественные построения. Каждое отдельное выступление в журнале, если оно даже заранее мыслилось как часть целого, должно было иметь характер относительной самостоятельности, иметь некоторую идейно-тематическую завершенность.
На процесс циклизации оказывал свое влияние и цензурный фактор. По характеру своей литературной деятельности Щедрин был вынужден считаться с ним в большей степени, нежели какой-либо другой писатель из числа современников сатирика. Возможность каждой следующей публикации новых частей большого произведения всегда оставалась для Щедрина в известной мере проблематичной. Придание относительной самостоятельности отдельным , частям произведения позволяло сатирику с наименьшим ущербом для общего замысла приостановить разработку начатой темы, возобновив ее при более благоприятных условиях.
Наконец, по самой своей природе объект сатирика был враждебен эпическим формам и требовал гибких, изменчивых и дробных форм художественного выражения.
В результате совокупного действия отмеченных причин в творчестве Салтыкова-Щедрина прочно установился та! кой жанр произведения, как цикл рассказов, где серия малых картин объемлется рамками единой большой картины. Каждый цикл Щедрина представляет собой ряд «массированных ударов», устремленных к цели какой-либо общей идеей.
Взяв ту или иную тему или проблему, наметив тот или иной объект сатирического нападения, Щедрин стремился их разработать всесторонним и исчерпывающим образом, развивая, уточняя и изменяя замысел в соответствии с ходом общественной жизни. Рассказ становился началом цикла, который иногда растягивался на ряд лет и прослеживал все существенные фазисы развития того или иного явления или типа. Сцепление рассказов в щедринских циклах отражает самодвижение жизни, представленной в свете определенной идейной тенденции.
Связь произведений Щедрина внутри цикла и циклов между собой осуществляется путем общности тематики, жанра, фигуры рассказчика, действующих лиц, художественной тональности. В одних случаях эти связи проявляются совокупно, в других — некоторые из них могут отсутствовать, и в зависимости от этого соподчиненность произведений бывает то более, то менее тесной.
По степени внутренней связи произведений щедринские циклы можно разделить на три группы. Одни циклы, в которых зависимость между рассказами проявляется слабо, приближаются к типу сборника («Губернские очерки», «Невинные рассказы» «Сатиры в прозе», «Признаки времени»); другие представляют собой циклы в собственном смысле слова сюда относится большинство произведений Щедрина); наконец, третьи, в которых связь отдельных частей выражена наиболее тесно и многосторонне, являются своеобразными романами. Однако даже они были первоначально задуманы как отдельные рассказы или циклы и лишь в ходе работы приобрели форму романа. Другими словами, Щедрин в своей литературной деятельности отдавал сознательное предпочтение циклу рассказов перед романом, признавая, что циклизованные рассказы более соответствовали его идейным сатирическим замыслам и условиям журнальной работы, нежели произведения в жанре монументального романа, не поддающегося свободному членению на более или менее самостоятельные части.
Творческая история «Господ Головлевых» позволяет, между прочим, сделать некоторые существенные выводы об отношении Щедрина к различным жанрам своего творчества.
Каждый из первых четырех рассказов об Иудушке Головлеве, печатавшихся в журнале под рубрикой «Благонамеренные речи», писался без мысли о продолжении. Однако сложное психологическое содержание темы и положительные отзывы авторитетных литературных ценителей (Некрасова, Тургенева, Анненкова, Гончарова) побуждали Щедрина к дальнейшей разработке картины распада головлевского семейства.
Поощряемый подобными отзывами и все более убеждаясь в том, что своеобразный тип Иудушки требует дальнейшего развития психологических подробностей, Щедрин шел от рассказа к рассказу и наконец пришел к мысли о необходимости обособления головлевских эпизодов «Благонамеренных речей» в самостоятельное произведение[31].
Подобно «Господам Головлевым», зародившимся в недрах «Благонамеренных речей» как часть этого цикла, «Современная идиллия» первоначально мыслилась как отдельный рассказ. Начатые в плане обычных щедринских циклов, эти произведения затем как бы стихийно переросли в романы.
Впрочем, относительно принадлежности тех или иных произведений Щедрина к жанру романа существует немало разноречий. Одни исследователи считают романом только «Господ Головлевых», другие, кроме того, причисляют к этому жанру «Современную идиллию» и «Пошехонскую старину», третьи относят сюда же «Убежище Монрепо», четвертые распространяют понятие романа на «Дневник провинциала в Петербурге», «Историю одного города», «Помпадуров и помпадурш». Сам Щедрин, если верить воспоминаниям Л. Ф. Пантелеева, называл своими «настоящими романами» «Дневник провинциала в Петербурге», «Господ Головлевых», «Современную идиллию»[32].
Все эти разноречия вызваны прежде всего тем, что указанные произведения Щедрина с трудом укладываются в установившиеся в XIX веке традиционные представления о романе. В свое время Лев Толстой заметил: «История русской литературы со времени Пушкина не только представляет много примеров такого отступления от европейской формы, но не дает даже ни одного примера противного. Начиная от Мертвых душ Гоголя и до Мертвого дома Достоевского, в новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести»[33]. Это, конечно, не упрек, а высокая оценка той творческой смелости русских художников, которая направлена на создание жанровых форм, диктуемых конкретным содержанием.
Что же касается Щедрина, то в его в высшей степени оригинальном творчестве роман должен был претерпеть еще более резкие отклонения от традиции, потому что это был сатирический роман, опиравшийся на новую концепцию общественного романа, разработка которой заняла видное место в щедринской эстетике.
Салтыков в своих литературно-критических работах уделял особое внимание проблеме создания нового общественного романа. Он признавал бесспорные достоинства и значение романов, создаваемых его великими современниками — Толстым, Достоевским, Тургеневым, Гончаровым, содержание которых составляла преимущественно психологическая разработка типов из интеллигентной среды. Но он не находил такой роман вполне отвечающим новым идейным запросам общественного развития и выдвигал смелую идею демократического романа широкого социального диапазона и острого политического звучания, романа, который изобличал бы политический режим самодержавия, а с другой стороны, воспроизводил бы, подобно «Запискам охотника», народную жизнь, противопоставляя ее жизни паразитических классов общества.
Так называемые семейно-психологические романы, созданные классиками русской литературы, были в то же время и романами социальными, а иногда, как, например, «Накануне» или «Отцы и дети», и социально-политическими. Изображение частного быта и психологии интимного поведения личности в произведениях передовых художников является индивидуализированным выражением жизни социальных классов и психологии их общественного поведения. Характер Рудина, Лаврецкого или героя повести «Ася», проявляющийся в их любовных историях, давал основание и для выводов относительно общественной ценности данных типов, блистательным примером чего может служить знаменитая статья Чернышевского «Русский человек на rendez-vous». Все это, конечно, было ясно и Салтыкову-Щедрину, который представил в истории семьи Головлевых историю деградации всего помещичьего класса. Вместе с тем Щедрин справедливо считал, что социально-психологический роман, рисующий характеры в сфере их домашнего быта, не в состоянии раскрыть полной картины общественной жизни и далеко не всегда дает верное представление об основной сущности изображаемых социальных типов. Щедрин возражал в данном случае не против изображения семейно-бытовых отношений вообще и вовсе не против психологического метода, все значение которого он глубоко понимал и которым сам владел в совершенстве, а исключительно против ограничения изображения социальной психологии одним домашним аспектом, смягчавшим остроту общественных антагонизмов. Именно такого рода соображениями продиктовано отрицательное отношение Щедрина к романам, в которых преобладала любовная интрига, отодвигавшая другие нравственные и социальные вопросы на задний план. И когда сам Щедрин приступил к описанию «дворянского гнезда», то устами рассказчика предупреждал читателя, что в этих описаниях не будет ожидаемых «приятных сцен, с робкими поцелуями, трепетными пожатиями рук, трелями соловья и проч.» («Дворянская хандра», XIII, 462), И действительно, ничего этого нет в произведениях Щедрина. Соловей залетает сюда, кажется, только однажды, появляясь, однако, не в традиционной идиллической, а в сатирической сцене свидания помпадура с помпадуршей: «Беседка... сад... поет соловей... вдали ходит чиновник особых поручений и курит сигару...» (IX, 66).
Щедрин, борясь за более актуальный тип общественного романа, возражал не против присутствия, а лишь против засилия любовной фабулы в романе, отводил ей подчиненное место в «общей картине», на первом плане которой должны стоять непосредственно проблемы социальной и политической жизни. В этой переоценке роли интимно-бытовых и социально-политических элементов в содержании художественного произведения и заключается одно из требований щедринской концепции нового романа.
Новый тип общественного романа, пропагандируемый Щедриным в 60-е и 70-е годы, — это тот роман, который показал бы общественно-политическую жизнь не только в ее семейно-бытовых и психологических преломлениях, но и непосредственно как широкую социальную арену, роман, который рисовал бы картину жизни народных масс, умел бы представить передовых общественных деятелей в положении борцов и который острием своего критицизма достигал бы тех сфер, откуда проистекает гнет, распространяющийся на всю «страдательную среду».
Наиболее полное изложение своего понимания проблемы нового социального романа, отвечающего изменившимся требованиям общественной жизни, Щедрин дал в «Господах ташкентцах». Прежний роман, говорит Щедрин, по преимуществу замкнутый в круг семейных мотивов, должен расширить свои рамки. Драма романа начинает требовать других мотивов. «В этом случае, — продолжает Щедрин, — я могу сослаться на величайшего из русских художников, Гоголя, который давно провидел, что роману предстоит выйти из рамок семейственности» (X, 56).
Суждения Салтыкова-Щедрина позволяют выделить три разновидности пропагандируемого им типа общественного романа: народный роман, раскрывающий непосредственно жизнь народных масс, роман о «новых людях», пропагандирующий деятельность революционной демократии, и социально-политический обличительный роман, в частности сатирический, который, по мысли Щедрина, призван был докапываться до первоисточников социального зла и давать широкое критическое обозрение общественной жизни своего времени. Говоря о таком романе, Щедрин вспоминал Гоголя, задавшегося целью «провести своего героя через все общественные слои» (VIII, 464). Лично Салтыкова как сатирика привлекала прежде всего третья из этих разновидностей романа.
Отправляясь от традиции «Мертвых душ» и гоголевского понимания романа нового времени как широкой картины нравов и пороков эпохи, Щедрин развивал, в соответствии с историческими условиями и передовыми взглядами своего времени, идею сатирического романа как романа революционно-обличительного. Образцами такого романа в его собственном творчестве могут служить «История одного города», «Дневник провинциала в Петербурге», «Господа Головлевы», «Убежище Монрепо», «Современная идиллия», «Пошехонская старина».
Каждое из этих произведений имеет, конечно, свои особые черты, причем два из них — сатирический политический роман «История одного города» и социально-психологический роман «Господа Головлевы» — являются как бы крайними границами, в пределах которых разнообразится щедринский роман по своему содержанию и творческим приемам.
САТИРИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА
Монархия перед судом сатирика. «История одного города»
Главным врагом народных масс в эпоху Салтыкова-Щедрина было самодержавие. На него в первую очередь и обрушивал сатирик свои удары. Самым резким в щедринском творчестве и во всей русской литературе нападением на деспотическую власть явилась «История одного города» (1869 — 1870).
Если в предшествующих своих произведениях, начиная с «Губернских очерков», Салтыков-Щедрин бичевал провинциальных губернских чиновников и бюрократов, то теперь он добрался до правительственных верхов. Открыто выступать против них было не только опасно, но и невозможно. Поэтому сатирик прибегнул к сложной художественной маскировке.
Свое произведение он выдал за найденные в архиве тетради летописцев, будто бы живших в ХУП! веке, а себе отвел лишь скромную роль «издателя» их записок. Царей и царских министров представил в образах градоначальников, а установленный ими государственный режим — в образе города Глупова. Все эти фантастические образы и остроумные выдумки потребовались сатирику, конечно, только для того, чтобы издевательски высмеять царское правительство своего времени.
Салтыков-Щедрин применил все средства обличения, чтобы вызвать чувство отвращения к деятелям самодержавия. Это достигнуто уже в «Описи градоначальникам», предваряющей краткими биографическими справками подробное описание «подвигов» правителей города Глупова. Постоянное упоминание о неприглядных причинах смерти резко обнажает их отвратительный внутренний облик, подготовляя необходимое эмоциональное настроение читателя. Все градоначальники умирают, следуя как бы народной поговорке: «собаке и собачья смерть», от причин ничтожных, неестественных или курьезных, достойным образом увенчивающих их позорный жизненный путь. Один был растерзан собаками, другой заеден клопами, третий умер от обжорства, четвертый — от порчи головного инструмента, пятый умер от натуги, стараясь постичь некоторый сенатский указ, и т. д. Был еще градоначальник Прыщ, голову которого, представлявшую собой фаршированную колбасу, откусил и проглотил прожорливый предводитель дворянства.
За краткой «Описью градоначальникам» следует развернутая сатирическая картина деятельности наиболее «отличившихся» правителей города Глупова. Их свирепость, бездушие и тупоумие с особой силой заклеймены сатириком в образах двух градоначальников — Брудастого-Органчика и Угрюм-Бурчеева, получивших широкую известность в читательской среде.
Приехав в город Глупов, Брудастый заперся в своем кабинете, не ел не пил и все что-то скреб пером. «По временам он выбегал в зал, кидал письмоводителю кипу исписанных листков, произносил: «не потерплю!» и вновь скрывался в кабинете. Неслыханная деятельность вдруг закипела во всех концах города: частные пристава поскакали; квартальные поскакали; заседатели поскакали; будочники позабыли, что значит путем поесть, и с тех пор приобрели пагубную привычку хватать куски на лету. Хватают и ловят, секут и порют, описывают и продают... А градоначальник все сидит и выскребает все новые и новые понуждения... Гул и треск проносится из одного конца города в другой, и над всем этим гвалтом, над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы, царит зловещее: «не потерплю!» (IX, 291). Сделалось известным, что Брудастый имел в голове особое устройство, небольшой органчик, исполнявший лишь две пьесы: «Раз-зорю!» и «Не потерплю!»
С течением времени музыкальный инструмент расстроился, и градоначальник мог произносить только: «п-плю!» Часовых и органных дел мастеру Байбакову удалось лишь частично и ненадолго исправить испорченный головной механизм. Новый органчик не был своевременно доставлен из столицы. В Глупове, оставшемся на некоторое время без начальника, появились самозванцы и началась смута.
Салтыков-Щедрин был великим мастером художественного преувеличения, заострения образов, фантастики и, в частности, сатирического гротеска, то есть такого фантастического преувеличения, которое показывает явления реальной жизни в причудливой, невероятной форме, но позволяет ярче раскрыть их сущность. Брудастыи-Органчик образец такого гротеска. Поставив на место головы градоначальника примитивный инструмент, сатирик представил в убийственно смешном виде всю тупость и ретивость царского
Еще более жестоким представителем глуповских властей был Угрюм-Бурчеев — самая зловещая фигура во всей галерее градоначальников. Он был ужасен: цепенящий взор, деревянное лицо, никогда не освещавшееся улыбкой, узкий и покатый лоб, развитые челюсти, выражавшие готовность «раздробить или перекусить пополам». Одет он был в военного покроя сюртук, застегнутый на все пуговицы. Действовал непреклонно, с регулярностью механизма. Он не признавал ни разума, ни страстей, ни школ, ни грамотности; допускал только науку чисел, преподаваемую по пальцам.
Идеалом человеческого общежития для Угрюм-Бурчеева была пустыня. Он мечтал весь мир превратить в военную казарму, всех заставить маршировать по одной линии, все население разделить на взводы, роты, полки, отдав их под строжайшее наблюдение командиров и шпионов, во всем навести единообразие форм — в построении помещений, в одежде, в поведении, в работе. «Начертавши прямую линию, он замыслил втиснуть в нее весь видимый и невидимый мир, и притом с таким непременным расчетом, чтоб нельзя было повернуться ни взад, ни вперед, ни направо, ни налево» (IX, 407). Работы в том городе, который вознамерился возвести Угрюм-Бурчеев, производятся по команде. «Обыватели разом нагибаются и выпрямляются; сверкают лезвия кос, взмахивают грабли, стучат заступы, сохи бороздят землю, — все по команде... Около каждого рабочего взвода мерным шагом ходит солдат с ружьем и через каждые пять минут стреляет в солнце» (IX, 409—410). Требованиям правильного фронта Угрюм-Бурчеев хотел подчинить даже брачные союзы, допуская их только между молодыми людьми одинакового роста и телосложения.
Гротескный образ отвратительного деспота Угрюм-Бурчеева показывает, с каким презрением и негодованием относился Салтыков-Щедрин к царизму и с какой убийственной силой умел он пригвоздить к позорному столбу власть, враждебную народу.
Писатель-демократ страстно и мужественно защищал бесправных людей от свирепых Угрюм-Бурчеевых. Относясь с чувством глубокого сострадания к угнетенной народной массе, Салтыков вместе с тем сурово осуждал ее за политическую пассивность и неверие в свои силы. Именно за то, что она рабски повиновалась глупым властям, верила в царя и терпеливо ожидала пришествия добрых начальников, сатирик представил ее в обличительном образе глуповцев.
Здесь впервые выступил Щедрин сатириком и по отношению к народной массе. В этом, между прочим, своеобразие «Истории одного города» в творчестве Щедрина. Правда, уже начиная с «Губернских очерков», Щедрин не страшился высказывать самые горькие истины о крестьянской психологии, о рабской привычке масс к повиновению. Позиция Щедрина относительно масс была позицией не прекраснодушного народолюбца, а учителя, наставника, идеолога, проникнувшегося заботами об интересах народа и глубоко верящего в его силы. Однако там, где Щедрин прежде касался теневых сторон характера, нравов, обычаев человека толпы, он делал это, не прибегая к приемам сатиры, в тоне глубочайшего сочувствия.
Мотив гуманистического сострадания проходит и через «Историю одного города»; с небывалой еще в творчестве Салтыкова силой он окрашивает драматические картины народных бедствий в главах «Голодный город» и «Соломенный город». Но рядом с этим появляется и сатира на мужика. Она появляется там, где Щедрин говорит о массе, покорствующей бичам, безропотно переносящей надругательства и издевательства над своей личностью, над самыми элементарными человеческими правами и интересами. Никогда — ни до, ни после — щедринская критика слабых сторон народа не достигала такой остроты, такой силы негодования, как в «Истории одного города».
Сколько должно было накопиться в душе писателя горечи при созерцании народного «долготерпенья», чтобы побудить его коснуться своей сатирой самого священного для него имени — русский мужик! Но как ни велико было негодование Щедрина по поводу пассивности масс, его сатира по отношению к народу имела утверждающий характер. Щедрин пояснял, что в данном случае речь идет не о действительных свойствах народа, не о его национальных и социальных достоинствах, а о «наносных атомах» (IX 378), то есть о чертах рабской психологии, выработанных веками самодержавного деспотизма и крепостничества.
Таким образом, если в изображении господствующей части общества Щедрин сосредоточил внимание на деспота- . ческам характере политического режима, то в изображении народа он поставил акцент на политической пассивности масс, открывающей свободу для безнаказанных проявлении деспотизма. «История одного города» — это двусторонняя сатира: на самодержавие и на политическую пассивность народных масс. Первое находило себе надежную опору во второй. Требовался удар, который разоблачал бы власть и одновременно указывал бы народу на те пороки, которые мешают ему понять и осуществить свое гражданское призвание. Само собою разумеется, что в том и другом случае мера сатирического наказания была разной. Если по отношению к самодержавию сатира носила характер беспощадного и полного отрицания, то по отношению к народу целью ее было исправление нравов, политическое просвещение.
Щедрин, конечно, хорошо знал, что масса далеко не вся сплошь и не всегда покорна своим поработителям, что ее терпение нередко прорывается случаями одиночного или группового протеста против насилия. Это было показано сатириком в ряде рассказов 50—60-х годов («Развеселое житье», «Госпожа Падейкова», «Глуповское распутство», «Деревенская тишь») и отчасти в той же «Истории одного города».
Но эти случаи в конечном счете не изменяли общей картины народной пассивности. В «Истории одного города» Щедрин преимущественно останавливается именно на этой общей картине, а не на исключениях из нее. На упрек рецензента (Суворина), что он заставляет глуповцев слишком пассивно переносить лежащий на них гнет, Щедрин отвечал: «Я, впрочем, не спорю, что можно найти в истории и примеры уклонения от этой пассивности, но на это я могу только повторить, что г. рецензент совершенно напрасно видит в моем сочинении опыт исторической сатиры. Притом же для меня важны не подробности, а общие результаты; общий же результат, по моему мнению заключается в пассивности» (XVIII, 239—240).
Автора «Истории одного города» интересовала задача не историка, стремящегося охватить сильные и слабые стороны крестьянского движения, а задача сатирика, поставившего себе целью показать губительные последствия пассивности народных масс, — это во-первых. А во-вторых, — и это особенно важно, — к оценке фактов народного протеста Щедрин подошел в «Истории одного города» с более высоким критерием. В предшествующих произведениях, за исключением небольшого эпизода в очерке «К читателю», изображавшего столкновение обывателя с представителем власти, Щедрин касался только явлений классового антагонизма между крестьянами и помещиками. В отличие от этого в «Истории одного города» Щедрина интересует отношение народа не к помещикам, а к власти, интересует не просто социальный протест против помещиков, а политический-протест против самодержавия. Излишне доказывать, что до этого второго рода протеста крестьянство почти не поднималось. Бунтуя против отдельных помещиков и местных начальников, мужицкая масса выдвигала правдоискателей и посылала прошения, пытаясь найти правду в правительственных верхах. Вера в царя и добрых начальников продолжала жить долго после утраты веры в добродетельного помещика. Царистские иллюзии наложили свою печать даже на самые крупные крестьянские движения. Расстояние от стихийного социального протеста против помещиков и буржуазии до сознательного политического протеста против самодержавия крестьянство преодолело лишь в начале XX века.
Как вытекает непосредственно из контекста, под «наносными атомами», облепившими своей массой природные свойства глуповцев, Щедрин подразумевал именно эту, веками рабства воспитанную, наивную веру мужика в разумных начальников, которые защитят его от начальников неразумных и помогут выйти из стесненных обстоятельств. Щедрин показывает, как в недрах масс зреет протест и как этот протест все еще не может прорваться сквозь кору «наносных атомов», то есть рабской привычки к повиновению. Градоначальники свирепствовали. «Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии действия они с большою находчивостью противопоставили энергию бездействия». Они не соглашались. «И упорно стояли при этом на коленах... Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли» (IX, 345). Но бывали минуты, когда «бунт на коленах» готов был перерасти в настоящий бунт. Об этом рассказывается в потрясающей по своему трагизму главе «Голодный город», где рисуется картина народного гнева, вызванного угрозой голодной смерти. «Наступила такая минута, когда начинает говорить брюхо, против которого всякие резоны и ухищрения оказываются бессильными». Сердца обывателей ожесточились, «глуповцы взялись за ум». Стали они «судить да рядить, и кончили тем, что выбрали из среды своей ходока — самого древнего в целом городе человека, Евсеича». Евсеич трижды ходил к градоначальнику Фердыщенко добиваться от него правды для мужиков, а добился всего лишь кандалов и ссылки для себя. «С этой минуты исчез старый Евсеич, как будто его на свете не было, исчез без остатка, как умеют исчезать только «старатели» русской земли».
Казалось бы, это событие могло послужить достаточным уроком, чтобы поколебать веру глуповцев в свое начальство. Однако, собравшись опять, они ничего другого не могли придумать, как снова выбрать ходока.
Новый ходок, Пахомыч, не желая повторять судьбу своего несчастного предшественника, решил, что «теперь самое верное средство — это начать во все места просьбы писать». Всем полегчало при мысли, что есть где-то человек, который готов за всех стараться. «Что без «старанья» не обойдешься — это одинаково сознавалось всеми: но всякому казалось не в пример удобнее, чтоб за него «старался» кто-нибудь другой». Послав прошение «в неведомую даль», очевидно, самому царю, глуповцы решили, что «теперь, атаманы-молодцы, терпеть нам не долго!», «сидели на завалинках и ждали». И дождались — прибытия вооруженной карательной команды.
Так, смиренный «бунт на коленах» переходит в ожесточение, ожесточение разрешается выбором ходока и посылкой прошения к начальству, а начальство присылает усмирительную команду. Все это очень верно воспроизводит историческую драму политической несознательности и неорганизованности масс, вследствие чего мужицкая «громадина» оказывалась бессильной перед кучкой своих притеснителей. Щедрин последовательно разоблачает несостоятельность наивной мужицкой веры в царя и добрых начальников. Все держится на одной нитке «начальстволюбия»,но «как оборвать эту нитку»? Весь вопрос в том, чтобы заставить «громаду» осознать свою силу и прорваться сквозь «наносные атомы», превратить энергию бездействия в энергию действия, то есть перейти от пассивного сопротивления властям к активной массовой борьбе.
Основной целью автора «Истории одного города» было стремление просветить народ, помочь ему освободиться от рабской психологии, порожденной веками гнета и бесправия, разбудить его гражданское самосознание для коллективной борьбы за свои права. Само соотношение образов в произведении — один градоначальник повелевает огромной массой людей — подчинено развитию мысли о том, что самодержавие, несмотря на всю свою жестокость и вооруженность, не так сильно, как это кажется устрашенному обывателю, смешивающему свирепость с могуществом, что правящие верхи являются, в сущности, ничтожеством в сравнении с народной «громадиной». Достаточно угнетенной массе преодолеть чувство покорности и страха, как от правящей верхушки не останется и следа.
Особенно ярко выражена эта мысль в сценах, рисующих последние дни градоначальствования Угрюм-Бурчеева. Одержимый идиотской решимостью осуществить «всеобщее равенство перед шпицрутеном», он «единолично сокрушил целую массу мыслящих существ». Он разрушил город и, задумав «устранить реку», всех жителей города загнал в пучину водоворота. Однако, как ни старался властный идиот, река, символизирующая неистребимость народной жизни, не унималась. «По-прежнему она текла, дышала, журчала и извивалась». Несмотря на смертный бой, «глуповцы все-таки продолжали жить».
Крах деспотизма наступает вследствие взрыва народного возмущения, открывшего массам глаза на меру их собственного падения и на ничтожество их властелина, который незадолго перед тем казался страшным и всесильным. В сжатых и энергичных выражениях, всего лишь на двух страницах, Щедрин рисует признаки внезапного, стихийного массового негодования.
Изнуренные деспотизмом Угрюм-Бурчеева, обруганные и уничтоженные глуповцы «взглянули друг на друга — и вдруг устыдились. Они не понимали, что именно произошло вокруг них, но чувствовали, что воздух наполнен сквернословием, и что далее дышать в этом воздухе невозможно... Груди захлестывало кровью, дыхание занимало, лица судорожно искривляло гневом при воспоминании о бесславном идиоте, который, с топором в руке, пришел неведомо отколь и с неисповедимою наглостью изрек смертный приговор прошедшему, настоящему и будущему» (IX, 424). Терпение их лопнуло. Потребность освободить душу была настолько сильна, что изменила и самый взгляд на значение Угрюм-Бурчеева. Они увидели, что их притеснитель, который прежде казался страшным и всесильным, — «это подлинный идиот — и ничего более». Он раздражал, но уже не пугал. Самое предположение, что идиот может успокоиться или обратиться к лучшим чувствам, что он позволит быть счастливыми, казалось всем позорным. Раздражение росло, стали происходить беспрерывные совещания по ночам; приказ Угрюм-Бурчеева о назначении шпионов по всем поселенным единицам был «каплей, переполнившей чашу». Произошел взрыв долго сдерживаемого негодования против самодержавного деспотизма.
Вполне понятно, что сатирик был вынужден воздержаться от развития темы о революционном восстании, но и то, что ему удалось прочитать на случайно уцелевшем листке летописи относительно кульминационного пункта роковой развязки, достаточно красноречиво говорит само за себя.
Крушение тирана было внезапным. «Север потемнел и покрылся тучами; из этих туч нечто неслось на город: ке то ливень, не то смерч. Полное гнева, оно неслось, буровя землю, грохоча, гудя и стеня и по временам изрыгая из себя какие-то глухие, каркающие звуки. Хотя оно было еще не близко, но воздух в городе заколебался, колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животные обезумели и метались по полю, не находя дороги в город. Оно близилось, и по мере того как близилось, время останавливало бег свой. Наконец земля затряслась, солнце померкло... глуповцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца.
Оно пришло...
...Раздался треск, и бывый прохвост моментально исчез, словно растаял в воздухе» (IX, 426).
Символическая картина смерча, сметающего Угрюм-Бурчеева, вызывала разные толкования[34]. Более основательно предположение, что в развязке произведения Щедрин намекал на грядущее стихийное народное восстание, независимо от сроков, в которые оно может произойти. Реальная обстановка 60-х годов не предвещала близкого конца народному терпению, она лишь давала достаточные основания считать, что это терпение не бессрочно и что оно может закончиться стихийным взрывом.
Из этого, однако, не следует, что Щедрин был сторонником стихийной революции. Массовые стихийные восстания, по его выражению, — это «гневные движения истории», которые проявляют себя разрушительно, захватывая и правых и виноватых. Щедрина, просветителя по своим убеждениям, -Не покидала мысль о возможности бескровной революции. Он искал «тех драгоценных рамок, в которых хорошее могло упразднять дурное без заушений» (X, 52). Он был скорее склонен преувеличивать, нежели преуменьшать, отрицательные стороны стихийного крестьянского движения. Конкретные пути революционного преобразования общества не вполне были ему ясны, и его поиски в этом направлении остались незавершенными. Все это и сказалось в финале романа.
«История одного города» — это и грозное пророчество неизбежной гибели монархического режима, и призыв к активной борьбе с ним, но призыв, одновременно предостерегающий от разрушительных последствий стихийного восстания.
***
Правильное понимание идейного содержания «Истории одного города» невозможно без уяснения ее причудливого художественного своеобразия. Произведение написано в форме летописного повествования о лицах и событиях, приуроченных к 1731 —1826 годам. Сатирик и в самом деле творчески преобразовал некоторые исторические факты указанных лет. В образах градоначальников угадываются черты сходства с реальными деятелями монархии: Негодяев напоминает Павла I, Грустилов — Александра I. Перехват-Залихватский — Николая I. Вся глава об Угрюм-Бурчееве полна намеков на деятельность Аракчеева — всесильного реакционнейшего сподвижника Павла I и Александра I. Несмотря на это, «История одного города» — это вовсе не сатира на прошлое. Сам Салтыков-Щедрин говорил, что ему не было никакого дела до истории, он имел в виду жизнь своего времени. Щедрин — писатель современных, злободневных, сегодняшних тем. Он — летописец живой общественной мысли, текущих политических настроений и нравов, совершающихся социальных и экономических процессов. Щедрина волнуют те общественные драмы и комедии, которые происходят перед его глазами, в его время, которые глубоко потрясают и ранят весь общественный организм и в конечном счете самым губительным образом отражаются на «человеке, питающемся лебедой». Темперамент борца наложил характерную печать на весь художественный склад писателя, диктовал ему выбор творческих тем и проблем и способы их художественной трактовки.
Этим и объясняется, что пройденные этапы истории не интересовали его в качестве самостоятельной и непосредственной темы. Прошлое входило в его произведения в той мере, в какой оно помогало уяснению современного положения общества. Но это, конечно, не означает, что сатирик не знал или не хотел знать более далекой истории своей страны. В его произведениях можно во множестве наблюдать беглые экскурсы в область прошлых веков, начиная с момента возникновения русского государства, которые с несомненностью свидетельствуют о превосходном знании истории своей страны.
Не выступая непосредственно с исторической тематикой, Щедрин неоднократно применял форму исторического повествования о современных вопросах, рассказывал о настоящем в форме прошедшего времени. Блестящий образец применения такого рода эзоповского приема дает «История одного города». Здесь Щедрин стилизовал события современной ему жизни под прошлое, придав им некоторые внешние черты эпохи XVIII века. Рассказ идет местами от лица архивариусов, составителей «Глуповского летописца», местами — от автора, выступающего на этот раз в иронически принятой на себя роли издателя и комментатора архивных документов. «Издатель», заявивший, что во время работы его с первой до последней минуты «не покидал грозный облик Михаила Петровича Погодина» (IX, 277), язвительно пародировал своими комментариями официозных историографов.
Отвечая письмом в редакцию «Вестника Европы» на статью А. С. Суворина, истолковавшего «Историю одного города» как сатиру на историю России, Щедрин разъяснял: «Не «историческую», а совершенно обыкновенную сатиру имел я в виду, сатиру, направленную против тех характеристических черт русской жизни, которые делают ее не вполне удобною... историческая форма рассказа предоставляла мне некоторые удобства, равно как и форма рассказа от лица архивариуса (XVIII, 238). Однако условная форма прошедшего времени здесь (как и вообще там, где Щедрин прибегал к ней) избрана не случайно, не являлась чем-то внешним по отношению к содержанию, а была логически и реально, следовательно, и художественно оправдана, служила для выражения идеи о преемственности основ современной жизни с прошлым. В том же письме Щедрин пояснял, что явления, о которых он говорил в «Истории одного города», «существовали не только в XVIII веке, но существуют и теперь, и вот единственная причина, почему я нашел возможным привлечь XVIII век. Если б этого не было, если б господство упомянутых выше явлений кончилось с XVIII веком, то я положительно освободил бы себя от труда полемизировать с миром, уже отжившим...» (XVIII, 238).
Еще современная Щедрину критика заметила, что в «Истории одного города» сатирик гениально развил форму пародийного летописно-исторического повествования, генетически восходящую к «Истории села Горюхина» Пушкина.
Историческая форма избрана сатириком для того, чтобы, во-первых, избежать придирок царской цензуры, а во-вторых, показать, что сущность монархического деспотизма на протяжении многих десятилетий нисколько не изменилась.
Манера наивного летописца-обывателя позволила также Щедрину свободно и щедро включить в политическую сатиру легендарно-сказочный, фольклорный материал, раскрыть «историю» в бесхитростных по смыслу и причудливых по форме картинах повседневного народного быта, выразить антимонархические идеи в самой их наивной и потому наиболее популярной, убедительной форме, доступной для широкого круга читателей.
Для «Истории одного города» характерен густой фантастический колорит, окрашивающий всю поэтику произведения.
Вырисовывая фантастические узоры там, где нельзя было прямо, открыто называть вещи своими именами, набрасывая на образы и картины прихотливые фантастические одежды, сатирик тем самым обретал возможность говорить более свободно на запрещенные темы и вместе с тем развертывал повествование с неожиданной стороны и с большей живостью и яркостью.
Фантастический элемент всего сильнее представлен у Щедрина там, где он имел своим назначением одновременно обнажение сущности явлений, живописание, осмеяние и иносказание.
Сатира «Истории одного города» метила непосредственно в правительственные сферы, в привилегированную касту бюрократов высокого ранга. Поэтому требовалось противопоставить цензурной бдительности мастерство эзоповского иносказания. Автор поставил целью воспроизвести тупость, ограниченность, удручающее однообразие действий и помыслов правящей клики. Поэтому были необходимы такие художественные приемы, которые позволили бы представить этот низменный объект в яркой форме. Наконец, сатирик решил выставить эти фигуры на публичное осмеяние. Поэтому нужно было эзоповские и живописательные соображения сопрячь с юмористическими. Скрещение этих заданий вызвало в творчестве Щедрина первый ярчайший взлет фантастики. Появились фантастические образы градоначальников со ступнями, обращенными назад, с фаршированной колбасой или примитивным музыкальным инструментом вместо головы, образы градоначальников, окруженных оловянными солдатиками и ведущих фантастические войны за внедрение ромашки, горчицы и т. д. Получалась картина яркая, ядовитая, исполненная злой издевки и в то же время неуловимых для цензуры аллегорий.
Оценивая с точки зрения возможности судебного преследования «Историю одного города», петербургский цензор А. Петров сделал заключение, что это произведение «не может быть принято за сатиру на современных градоначальников уже по крайнему преувеличению безобразий представленных личностей и введенному в рассказ гофманскому элементу... Без сомнения, Щедрин имел в виду применение к нынешним градоначальникам и умышленно уклонился в область фантазии, но впечатление, которого надобно опасаться, будет тем живее и резче, чем больше можно будет указать в статье точек соприкосновения или аналогий с настоящим строем нашей администрации»[35].
Обращение автора «Истории одного города» к фольклору, к поэтической образности народной речи было продиктовано, кроме стремления к народности формы, и еще одним принципиальным соображением. Как уже отмечалось выше, в «Истории одного города» Щедрин впервые коснулся оружием сатиры непосредственно народной массы. Однако обратим внимание на то, как это сделано. Если презрение Щедрина к деспотической власти не знает границ, если здесь его кипящее негодование отлилось в самые резкие и беспощадные формы, то относительно народа он строго удерживается в границах той сатиры, которую сам народ создал на себя. Чтобы сказать горькие слова обличения о народе, он взял эти слова у самого же народа. Написанию «Истории одного города» предшествовали кропотливые разыскания автора в области народной словесности. Здесь Щедрин как бы нашел свое право быть сатириком народной жизни, и это право было санкционировано самим же народом. Когда в псевдонимной рецензии Суворин обвинил автора «Истории одного города» в глумлении над народом и назвал «вздором» наименования головотяпы, моржееды и проч., то Щедрин на это отвечал: «... утверждаю, что ни одно из этих названий не вымышлено мною, и ссылаюсь в этом случае на Даля, Сахарова и других любителей русской народности. Они засвидетельствуют, что этот «вздор» сочинен самим народом, я же с своей стороны рассуждал так: если подобные названия существуют в народном представлении, то я, конечно, имею полнейшее право воспользоваться ими и допустить их в мою книгу» (XVIII, 239).
В «Истории одного города» Щедрин довел до высокого совершенства наиболее яркие черты своей сатирической манеры, дал итог художественных исканий за весь предшествующий этап своего творчества и сделал многие новые художественные открытия, которые могли родиться только теперь, непосредственно в процессе работы над воплощением одного из своих самых сложных по идее и самых острых по политической направленности замыслов. Трудность воплощения объяснялась не только сложностью замысла и его крайней «нецензурностью», но и стремлением сатирика высказаться в формах, рассчитанных на восприятие более широкого круга читателей, нежели тот, к которому он адресовался прежде. Подсказанные этим стремлением особенности художественной формы произведения — фантастические образы «органчика», «фаршированной колбасы», «оловянных солдатиков» и т. д., фигура наивного рассказчика-летописца, фольклорные мотивы, свободно включающиеся в реалистическое повествование, — позволили разбить тот «плотно скучившийся навоз», о котором сатирик, задумав свою «Историю...», говорил, что его «ничем не разобьешь» (XVIII, 196), потому боялся потерпеть неудачу.
Творческая сила Щедрина в «Истории одного города» проявилась настолько ярко, что имя его впервые было названо в ряду мировых сатириков. Как известно, это было сделано И. С. Тургеневым, в то время известнейшим из русских писателей в Западной Европе, в его рецензии на «Историю одного города», помещенной в английском журнале «The Academy» от 1 марта 1871 года. «Своей сатирической манерой Салтыков несколько напоминает Ювенала, — писал Тургенев. — Его смех горек и резок, его насмешка нередко оскорбляет [...] его негодование часто принимает форму карикатуры. Существует два рода карикатуры: одна преувеличивает истину, как бы посредством увеличительного стекла, но никогда не извращает полностью ее сущность, другая же более или менее сознательно отклоняется от естественной правды и реальных соотношений. Салтыков прибегает только к первому роду, который один только и допустим»[36].
***
Сам Щедрин осознавал «Историю одного города» как шаг вперед в своем творческом развитии и отмечал связанное с этим охлаждение к нему либеральной читающей публики. «Я должен вам сознаться, — с присущей ему скромностью писал он А. М. Жемчужникову в ноябре 1870 года, — что публика несколько охладела ко мне, хотя я никак не могу сказать, чтоб я попятился назад после «Губернских очерков». Не считая себя ни руководителем, ни первоклассным писателем, я все-таки пошел несколько вперед против «Губернских очерков» (XVIII, 230).
Итак, «История одного города», во-первых, важный этап в идейно-политической биографии Щедрина. Главное здесь — окончательный приговор абсолютизму. Развиваемая ранее сатириком идея отрицания самодержавного государства выразилась теперь в своих крайних, революционных выводах. Последнее слово было сказано. Сатирик окончательно и бесповоротно хоронил теорию «насаждения либерализма в капище антилиберализма», которая до середины 60-х годов все еще сказывалась и ослабляла в известной мере силу его сатирического удара. Никогда прежде проблема народной революции не волновала Щедрина так, как теперь. Вполне и окончательно определилась огромная дистанция между позицией Щедрина и позицией либералов. Последние ответили на появление «Истории одного города» или выражением прямого недовольства, или же молчанием. Достаточно вспомнить рецензию А. С. Суворина в «Вестнике Европы», увидевшего в «Истории одного города» сатиру на прошлое России и глумление над народом. Такое же отношение либералов к данному произведению продолжалось и впоследствии. Так, например, К. К. Арсеньев писал: «При всем мастерстве формы, «История одного города» стоит, в наших глазах, не на одном уровне с лучшими произведениями Салтыкова»[37]. Неудовлетворенность либеральных публицистов вполне понятна: выводы Щедрина в «Истории одного города» относительно самодержавия не оставляли места для либерализма.
«История одного города», — во-вторых, важный итог в литературной эволюции сатирика. Главное здесь — полное овладение той свободной сатирической формой, которая органически охватывала и современный и исторический материал, сочетала с обычными приемами реалистического письма гиперболу, фантастику, сарказм, пародию и т. д.
«История одного города» явилась итогом идейно-творческого развития Салтыкова за все предыдущие годы его литературной деятельности и обозначила вступление его политической сатиры в пору высшей зрелости, открывающую длинный ряд новых блестящих завоеваний его таланта.
Экскурсия в область умеренности и аккуратности. «Господа Молчалины»
В своих произведениях 50—60-х годов — от «Губернских очерков» до «Истории одного города» — Салтыков дал многочисленную галерею типов чиновничества, затронув всю Табель о рангах. В этом широчайшем сатирическом обозрении административно-бюрократических сфер самодержавия встречаются и отдельные представители типа Молчалиных, но они затемнены другими, а именно теми, которые в конце 60-х и начале 70-х годов получили обобщение под наименованием «помпадуров», «градоначальников» и «ташкентцев». Если помпадуры и градоначальники олицетворяли высшую, дирижирующую часть царской бюрократии, то ташкентцы — наиболее приближенный к ним слой исполнителей, проявлявших в своих действиях безграничный цинизм и наглость. Более многочисленную массу составляли исполнители, отличавшиеся безответной покорностью, послушанием и услужливостью, то есть теми чертами, которые были впервые гениально воплощены Грибоедовым в образе Молчалина. В «Господах Молчалиных» сатирик говорит, что, вынужденный несколько лет прожить в провинции, он там «познакомился с Сквозником-Дмухановским и Держимордою, Молчалина же совершенно утерял из вида». Если это признание и не следует понимать буквально, то во всяком случае оно верно в том смысле, что чиновник молчалинско-го типа еще не стал в 50-х и 60-х годах центральной фигурой какого-либо значительного произведения Салтыкова, он уступал первое место чиновнику-хищнику. Таким образом, «Господами Молчалиными» Салтыков вносил новый значительный вклад прежде всего в сатирическую разработку темы чиновничества. Молчалины принадлежат к числу самых блестящих собирательных образов, созданных Салтыковым. Молчалины, как и ташкентцы, — это не инициаторы, а исполнители предначертаний высшего начальства, но при этой общей черте они во многом отличаются друг от друга и составляют две категории исполнителей, услужливых по-разному. Ташкентцы в большей своей части люди дворянского родопроисхождения. Они цинично наглы, «дерзки на услуги», они прут вперед как жестокие хищники, с сознанием своих дворянских прав на хищничество и с убеждением, что им все позволено. Они практические проводники самых реакционных мероприятий самодержавия, действующие непосредственно там, где требуется не знание, а грубая сила, наглость и жестокость. Наиболее отвратительная черта ташкентца — это его палаческая роль по отношению к демократической интеллигенции. Ташкен-тец — хищный тип исполнителя, палач, кровопускатель. Молчалины преимущественно люди разночинного происхождения. Если среди них и есть дворяне, то самые захудалые, «горевые». Недостаток формальных и фактических прав гнетет их, делает робкими и безгласными перед лицом привилегированных и начальствующих особ. До хорошего местечка они ползут ужом, умеренно и аккуратно, оглядываясь и крадучись.
Если алчность ташкентцев не знает пределов, то Молчалины не мечтают о роскоши и наслаждениях, они «довольствуются малым», сытость и тепло в скромной и уютной домашней обстановке вполне их удовлетворяют. Добиваясь этого обывательского идеала путем беспрекословной исполнительности, Молчалины неизбежно становятся участниками свыше вдохновляемых преступлений. Однако, если и Молчалины кого-нибудь вздернули на дыбу, то «не сами собой», если и их можно видеть «с обагренными бессознательным преступлением руками», то все же их нельзя считать отпетыми и закоренелыми преступниками. Идеал умеренности и аккуратности побуждает их сторониться всяких крайностей, в том числе и роли палачей-кровопускателей.
Молчалины в трактовке Салтыкова — явление более сложного и противоречивого характера, нежели помпадуры, градоначальники и ташкентцы. Если последние не вызывали у сатирика иного чувства, кроме антипатии, то его отношение к Молчалиным не было однозначно отрицательным. Их профессия не внушала сатирику симпатии, но их зависимое положение в бюрократической иерархии давало ему некоторый повод отнестись к ним снисходительно. Как это было справедливо отмечено еще Н. К. Михайловским, «сатирик по человечеству сочувствует его [Молчалина] горестям и трудным положениям»[38].
В свою очередь, Б. И. Покусаев вполне основательно возразил тем современным исследователям, которые, не замечая существенной разницы в отношениях сатирика к помпадурам и ташкентцам, с одной стороны, и к Молчалиным — с другой, были «склонны игнорировать гуманистическую направленность концепции молчалинского типа»[39].
В прямой связи именно с такой концепцией находится и своеобразие художественного метода Салтыкова в «Господах Молчалиных». Когда сатирик опустился в среду «умеренности и аккуратности», населенную преимущественно разночинным людом, то прежние приемы резкого сатирического обличения, выработанные в борьбе с привилегированной дирижирующей верхушкой, оказывались не всегда уместными или достаточными. Враждебная человечности природа всей правящей касты заявляла о себе с такой «суровой ясностью», что не требовала положительных изъятий и подробных аналитических мотивировок приговора. Самим объектом была вполне оправдана позиция полного и резкого отрицания, позволявшая Салтыкову выступать только сатириком. Удар по помпадурам, градоначальникам, ташкентцам был непосредственным ударом по самодержавию. Другое дело Молчалины. Изобличая их, многое осуждая в них, Салтыков вместе с тем сочувствовал их зависимому положению и переносил основной сатирический удар на обстоятельства, порождающие молчалинство.
При описании Молчалиных Салтыков вовсе не прибегает к гротеску в портретах, почти не встречаемся здесь мы и с теми элементами шаржа, карикатуры, гиперболы, зоологических уподоблений, которые так характерны для поэтики произведений о градоначальниках, помпадурах и ташкентцах. Основной метод Салтыкова в «Господах Молчалиных»— психологический анализ. Здесь ярко продемонстрирована существеннейшая черта психологизма Салтыкова — раскрытие зависимости психики от социальных условий, человеческого характера — от окружающей его среды. Салтыков глубоко и подробно проанализировал социально-политические корни молчалииства, показав, что оно проистекает не от подлости натуры отдельных людей, а порождается зависимым положением многочисленного слоя разночинцев в деспотическом государстве. Блестящие достижения в области анализа социальной психологии выделяют «Господ Молчалиных» в ряду других произведений сатирика, посвященных изображению чиновничества.
«Господа Молчалины» — сатира, но сатира не столько карающая, сколько исследующая, разъясняющая тип, которому свойственно противоречивое переплетение отрицательных и положительных элементов. В ходе повествования молчалинский мир все более раскрывался не только в своих комических, но и трагических сторонах. Двойственная социально-нравственная природа Молчалиных давала повод и для сатирического обличения, и для гуманистического сочувствия; комедия и трагедия их существования идут рядом, переплетаются и переходят одна в другую. Единство комического и трагического определяет идейно-эмоциональную специфику «Господ Молчалиных». Комическое более очевидно, оно сказывается в официальной, «казенной» стороне жизни. Трагическая сторона Молчалиных обнаруживается лишь по мере углубления в их психику, в их частную жизнь, в их негласное домашнее существование. Вот почему в «Господах Молчалиных» сатирик прослеживает своего героя в равной мере как в сфере служебно-административной, так и в домашней. В 60-е годы Салтыков прямо декларировал свой отказ заниматься описанием домашнего жительства изображаемых им типов из господствующих классов, заявляя, что эти типы интересуют его как «раса, существующая политически». До 70-х годов Салтыков оставался в общем верен этому принципу и отступления от него не были частыми и сколько-нибудь значительными. Никогда прежде, разрабатывая тему чиновничества, Салтыков не останавливался так подробно на описании личной, интимной, семейно-бытовой обстановки, как это сделано в «Господах Молчалиных».
Произведения Салтыкова, воссоздающие собирательные типы, групповые портреты, характеризуются широким обобщением каких-либо немногих, но существенных социально-политических и психологических признаков. В «Господах Молчалиных» этот творческий прием генерализации имеет свою яркую особенность. Если сатирические наименования помпадуры, градоначальники, ташкентцы и т. п. являются остроумным изобретением Салтыкова, то молчалинство как типизирующий признак заимствовано у Грибоедова.
Выше уже говорилось, что включение известных литературных героев в свои произведения было одним из излюбленных приемов Щедрина. В «Господах Молчалиных» этот прием играет основополагающую роль. В этом, между прочим, и заключается та наиболее яркая художественная особенность «Господ Молчалиных», которая выделяет их во всем творчестве сатирика.
В социально-психологической иерархии чиновничества Молчалины — самое полное выражение безличности, утраты самостоятельности мышления. В них человеческая индивидуальность настолько попрана, в такой степени стерта бюрократической централизацией, что, казалось бы, вполне исчерпывается скупыми художественными характеристиками их в комедии Грибоедова. Отсюда ясно, как велики были художнические трудности Салтыкова, поставившего себе целью написать специально об этом безликом, ординарном, исторически и художественно непродуктивном типе большое произведение. Поэтому заслуга сатирика не уменьшается от того, что для своего обобщения он воспользовался персонажем грибоедовской комедии.
Своей глубокой и оригинальной художественной интерпретацией Салтыков придал ранее известному литературному образу новый масштаб, показав молчалинство как широкое социально-политическое и психологическое явление, закономерно порождаемое условиями деспотического режима. Щедринский Молчалин отличается от своего литературного прототипа глубиной и многосторонностью психологической обрисовки, раскрытием присущей типу внутренней противоречивости, переплетения в его судьбах комических и трагических моментов социального бытия. Недаром Достоевский признавался, что только с появлением «Господ Молчалиных» он понял как следует один и-з самых ярких типов комедии Грибоедова[40].
***
Многим произведениям Салтыкова, при всем разнообразии их построения, присуще движение повествования от общей характеристики того или иного социального типа к представлению этого типа в ряде конкретных разновидностей («Сатиры в прозе», «Господа ташкентцы», «Культурные люди» и т. д.).
Это относится и к композиции «Господ Молчалиных». Произведение открывается общей характеристикой молчалинства как исторического явления. Молчалины «бесшумно, не торопясь, переползают из одного периода истории в другой», история отметит, что они «ни в чем не замечены». Общественное значение Молчалиных исчерпывается носимою ими фамилией. Но это вовсе не значит, что роль их в общем строе жизни ничтожна. Деятели, прославившиеся в истории блестящим злом, «ничего не могли бы, если бы у них под руками не существовало бесчисленных легионов Молчалиных».
Девиз Молчалиных — «изба моя с краю, ничего не знаю»; их принцип поведения — умеренность и аккуратность во всем; их идеал — прочное благополучие, уютный домашний очаг, верный кусок пирога, послеобеденный сон. Эта «идиллия счастливым образом совпадает с правилами устава о пресечении и предупреждении проступков и преступлений». Отсутствие каких-либо других интересов, выходящих за узкие рамки удовлетворения своих личных материальных потребностей, беспрекословная готовность ради этого служить командующей силе и деятельно участвовать в созидании гнетущих «сумерок»—все это Салтыков резко клеймит в Молчалиных.
Однако сатирик не ограничивается разоблачением низменности жизненного идеала Молчалиных, их обывательской философии и психологии. Он с большой подробностью рисует путь Молчалиных к достижению личного благополучия, как «путь скорбей и тревог», требующий усилий и жертв. На этом пути далеко не все Молчалины преуспевают, многие из них навсегда обречены влачить жалкое существование. Молчалин — заурядный человек толпы, в нем нет ничего выдающегося, самоопределяющегося. Чтобы занять место в жизненном пире, он должен искать недостающей опоры вне своего личного «я» в виде «нужного человека». В этих поисках, ради тарелки щей и куска пирога, Молчалин терпит массу надругательств. «В нем видят безответное существо, на котором можно вполне безопасно срывать какую угодно дурость». По мере углубления в мир молчалинского существования сатирический мотив произведения все более осложняется мотивом гуманистическим.
Дав в первой главе групповой портрет Молчалиных, Салтыков затем показывает их с разных сторон, на разных этапах жизненного пути, в разных типологических видоизменениях, обусловленных свойствами темперамента, возраста, профессии и т. д. Мы видим Молчалина в вицмундире на службе, когда он выступает послушным исполнителем чужой воли, и Молчалина в домашнем быту, когда начинают говорить человеческие струны его сердца; знакомимся с Молчалиным счастливым, уже завершившим тернистый путь к идеалу и благодушествующим в семейном кругу, и Молчалиным несчастным, переживающим крушение своего домашнего благополучия; сатирик показывает нам Молчалина-жуира и Молчалина-аскета; Молчалина — редактора либеральной газеты «Чего изволите?» и Молчалина-консерватора, которого навещает «тень Булгарина». Молчалиных, при всем их разнообразии, объединяет одна общая черта — послушание начальству, доведенное до автоматизма. Эта черта решительно доминирует над всеми остальными, в отдельных случаях, как например у Молчалина-аскета, она подавляет собою даже стремление к «куску пирога» и тогда выступает в своей первозданной чистоте — как бескорыстная рабская покорность хозяину.
Молчалины, говорит Салтыков, отнюдь не представляют исключительной особенности чиновничества, они кишат везде, где существует забитость, приниженность, во всех профессиях составляют преобладающий элемент. Однако недаром в «Господах Молчалиных» сатирик останавливает внимание прежде всего на Молчалиных, подвизающихся в департаментах. Недаром также, подводя в последнем из «Пестрых писем» (1886) итог своих наблюдений над Молчалиными, Салтыков отмечал, что именно они «сплошной массой наполняют канцелярии». Здесь они выступают виртуозами крючкотворства и исполнительности. Здесь они незаметно, как кроты, прокладывают свои ходы к «нужному человеку» и под его покровительством порой достигают видного положения.
***
В галерее чиновничьего молчалинства центральное место отведено Салтыковым Алексею Степанычу Молчалн-ну, которого сатирик, как это прямо им заявлено, воспринял от Грибоедова и провел через все этапы дальнейшего развития, показав его на скорбном пути к благополучию (глава вторая), в зените благополучия (глава третья) и, наконец, в состоянии обрушившейся на него семейной драмы (рассказ «Чужую беду — руками разведу»). На образе Алексея Степаныча Молчалина, на этом, так сказать, литературном родоначальнике молчалинства, всего нагляднее выступает как сходство, так и различие грибоедовской и щедринской трактовок одного и того же социального типа. Отметим прежде всего моменты сближения.
Две наиболее капитальные черты грибоедовского Молчалина — умеренность и аккуратность — в полной мере сохранены и в щедринском персонаже и поставлены в заглавии цикла, объединяющего «Господ Молчалиных» и серию к ним примыкающих очерков под названием «Отголоски». Эти черты определяют собою общий психологический облик типа, образ его мышления и поведения.
Молчалин в комедии Грибоедова говорит: «В мои лета не должно сметь свои суждения иметь». Заявляя, что «надобно ж зависеть от других», он мотивирует это сознанием своего скромного места в бюрократической иерархии: «в чинах мы небольших». В этих признаниях героя, выражающих основную сущность молчалинской философии, нерассуждающая покорность выступает в качестве необходимого условия чиновничьей карьеры для человека, стремящегося пробиться из низов к бюрократическим верхам.
Салтыков, отправляясь непосредственно от грибоедовских формул как готовых заданий, образно развивает их и показывает, что молчалинский принцип нерассуждающей исполнительности становится органическим свойством данного человеческого характера уже независимо от возраста и чина. Щедринский Молчалин — человек преклонных лет и с немалым чином, он на вершине возможной для него карьеры, но он остался при той же своей философии, с которой нас познакомила комедия Грибоедова. Но теперь эта философия закреплена опытом всей его жизни, прожитой, как он сам говорит, «без рассуждения».
Устами Чацкого Грибоедов заявлял, что Молчалин «дойдет до степеней известных, ведь нынче любят бессловесных». Салтыков, реализуя это предвидение, показывает, как усердием и послушанием Молчалин достиг наконец хорошего местечка, обзавелся собственным домком, зажил в тепле и сытости.
Таким образом, Салтыков усвоил для своего Молчалина и развил в нем многое из того, что заключали в себе афористические грибоедовские характеристики. Полнота щедринской разработки персонажа в направлении, заданном комедией «Горе от ума», обусловлена, конечно, не только тем, что сатирик посвятил Молчалину специальное художественное исследование, но и дальнейшей, так сказать, реальной кристаллизацией типа в период между комедиен Грибоедова и «Господами Молчалиными» Салтыкова. Грибоедовский Молчалин и щедринский Молчалин — люди разных эпох. Отсюда неизбежно вытекает и известное различие в их художественном отражении.
Однако можно отметить и такого рода отклонения щедринского Молчалина от грибоедовского, которые обусловлены различным отношением двух писателей к изображаемому ими типу. Удержав и развив те основные свойства типа, которые были со скульптурной рельефностью обрисованы в «Горе от ума», Салтыков дополнил их такими новыми чертами, которые сделали Алексея Степаныча Молчалина фигурой психологически более сложной — более человечной и отчасти даже симпатичной, внушающей чувство некоторой снисходительности, чего нельзя сказать про грибоедовского героя. Последний был фигурой холодной, слишком примитивной по своему внутреннему складу, ничем не располагающей к себе читателя. Грибоедовский Молчалин представлен скорее как изначально дурной и ограниченный характер, он, так сказать, несет в самом себе вину за свои поступки. Щедринский Молчалин в основе своей положительный человеческий характер, испорченный, однако, условиями своего зависимого положения в обществе. Глубокая и всесторонняя социальная детерминированность психологии щедринского персонажа объясняет, а следовательно и во многом оправдывает его, перенося ответственность на условия, порождающие молчалинство. Осуждение Молчалиных как пособников деспотического строя при снисходительном отношении к ним как бессознательным нсертвам своего ремени составляет специфическую особенность щедринской трактовки этого социального типа. В стремлении ярче выделить указанную тенденцию творческого замысла «Господ Молчалиных» Салтыков наделяет своего Алексея Степаныча такими человеческими чертами, относительно которых одноименный герой «Горя от ума» не внушал никаких предположений. Имеем в виду прежде всего «ту изумительную самоотверженность», с которою Алексей Степаныч спасал своих сослуживцев «от начальственного натиска, первый подставляя свою грудь под удары».
Так было, когда Алексей Степаныч служил еще помощником экзекутора. Но и потом, выбившись в ряды «действующей бюрократии», став «счастливым Молчалиным», он сохранил в обращении с людьми то «приветливое, почти сострадательное благодушие, которое характеризует человека, выстрадавшего свое право быть сытым, и которого вы никогда не встретите у ликующего холопа, сознавшего себя силою». Ему постылы такие люди, как Катков, ему неприятно иметь дело с наглыми адвокатами Балалайкиным и Подковырником-Клещем, но он внимателен к своим добрым знакомым, готов в необходимых случаях дать им совет, оказать услугу, проявить тайком заступничество, как это сделал он, выручая из беды знакомого литератора, попавшего под подозрение властей.
Сочувственное отношение Молчалина к гонимому властями литератору или его неприязнь к Каткову продиктованы, конечно, не идейными соображениями, а просто житейским чувством человечности, внушенным опасением за судьбу детей, старший из которых, сын-студент, «знай себе твердит: пострадать хочу!» Хотя доброта Алексея Стапаныча имеет такой ограниченный характер и распространяется только на узкий круг его знакомых, она все же свидетельствует о свойственной ему человечности. И когда рассказчик называет Алексея Степаныча «хорошим человеком», то эти слова, несмотря на их ироническую окраску в контексте, следует принимать и в прямом значении.
Помимо отмеченных существенных различий в грибоедовской и салтыковской трактовках Молчалина, у автора «Господ Молчалиных» есть элементы как завуалированной полемики с предшественником, выраженной в замечании о том, что при взгляде на Молчалина было смешно и весело только тому, кто не понимал «трагизма его положения», так и полемики прямой, заявленной в словах о том, что Чацкий в своей резкой отрицательной оценке Молчалина «погорячился немного». Если в комедии Грибоедова говорилось, что «Молчалины блаженствуют на свете», то Салтыков, едва ли не полемизируя, говорите «значительной дозе горечи», которая примешивается в их «чашу блаженства», и указывает на все более растущую трещину в этом примитивном блаженстве. Другими словами: там, где Салтыков сатирически обличает Молчалиных, он продолжает и развивает связанные с этим типом мотивы комедии Грибоедова; когда же Салтыков раскрывает драму существования Молчалиных, он вводит элемент, которого не было у предшественника, дополняет комедию молчалинства трагедией молчалинства. Во всем этом сказались присущие Салтыкову симпатии к людям низших социальных категорий, его принципиальное отрицательное отношение к дворянству вообще и его недоверие к дворянскому либерализму.
Особенно рельефно это проявилось в своеобразной салтыковской интерпретации Чацкого, которая требует специального пояснения.
Чацкий в «Господах Молчалиных» не выступает непосредственно действующим лицом. О его жизни после того, как он, порвав с фамусовским миром, уехал из Москвы, рассказывает Молчалин. Мы узнаем, что Чацкий попал в историю и «в узах года с полтора просидел», затем женился на Софье, в течение десяти лет был директором департамента государственных умопомрачений. Последовательности в нем не было. «То вдруг велит науки прекратить, а молодых людей исключительно с одними сонниками знакомить, а потом, смотришь, сонники в печку полетели, а науки опять в чести сделались. Все, знаете, старинное московское вольнодумство в нем отрыгалось. Ну, и вышло, что ни просветил, ни помрачил!» (XII, 311). Чацкий покровительствовал служившему у него в должности помощника экзекутора Молчалину; уходя в отставку, Чацкий рекомендовал на свое место Репетилова; Загорецкого он принимал в своем доме как родного. Либерализм Чацкого, проявившийся особенно во время подготовки отмены крепостного права, сразу же после реформы угас. Когда от него вся дворня разбежалась, он победствовал и задумываться стал: «Хороша, говорит, свобода, но во благовремении».
Совершенно очевидно, что дистанция между грибоедовскими антиподами — Чацким и фамусовским миром — в сатире Салтыкова полемически сокращена. И конечно, щедринский Чацкий имеет очень мало общего с Чацким грибоедовским. Почему же Салтыков дал столь славное имя своему персонажу, заслу;кенно осмеянному? Этот вопрос до сих пор остается в щедриноведении камнем преткновения.
Исследователи отмечали, что Салтыков создавал своего Чацкого, «отрешаясь от грибоедовского понимания»[41], что сатирик имел в виду, в сущности, не столько грибоедовского Чацкого, сколько позднейшую политическую судьбу некоторых из декабристов, смирившихся с реакцией[42], что, наконец, «переосмысление тина Чацкого после «Мильона терзаний» означало глубокое недоверие сатирика [...] к дворянскому либерализму вообще»[43]. Все эти суждения вполне уместны, но они недостаточны, так как не объясняют, почему же все-таки Салтыков присвоил заурядному либералу своей сатиры имя бескомпромиссного грибоедовского провозвестника свободы.
3. Т. Прокопенко, отправляясь от только что приведенного беглого замечания Е. И. Покусаева о «переосмыслении типа Чацкого после «Мильона терзаний», устанавливает черты полемичности в щедринском Чацком с тем Чацким, какой представлен в статье И. А. Гончарова «Мильон терзаний» (1872), появившейся незадолго до «Господ Молчалиных», и делает следующий вывод: «Не возражая прямо Гончарову, Салтыков переносит полемику в свое творчество, логически развивая основные черты характера Чацкого, намеченные в статье «Мильон терзаний». Не грибоедовского героя обличает Щедрин и упрекает в ренегатстве; объект его сатиры — Чацкий, претерпевший эволюцию в либеральной трактовке. Спорить ради восстановления первоначального, «грибоедовского» звучания образа не имело смысла. Те, кому дорог Чацкий — бесстрашный провозвестник новой жизни, — не изменили своего к нему отношения. Салтыков-Щедрин, уверенный в том, что русский читатель давно уже научен читать «между строк», и на этот раз дал волю своему воображению и «дорисовал» Чацкого во весь рост, приняв в качестве отправного момента все те изменения в облике грибоедовского героя, какие были привнесены враждебным революционной демократии лагерем»[44]. Эти соображения заслуживают внимания и представляются нам убедительными» Напомним некоторые суждения Гончарова о Чацком.
Превосходный анализ комедии «Горя от ума» и ее постановок на сцене был дан в знаменитом критическом этюде Гончарова с позиций либерала, отрицательно относившегося к революционным способам преобразования общества и считавшего «нормальным» тот реформистский путь, на который Россия вступила в 1861 году. Эта позиция автора сказалась прежде всего в трактовке Чацкого. Гончаров весьма тонко и последовательно вводит Чацкого, справедливо воспринимавшегося многими в качестве литературного представителя революционных декабристских идей и настроений, в либеральные рамки и именно в таком его качестве высоко оценивает его новаторскую роль в обществе, в «очередной смене эпох и поколений»[45]. Борьба Чацкого со стариной дает ему только «мильон терзаний», комедия ничего не говорит о последствиях борьбы. «Теперь нам известны эти последствия»[46], — заявляет Гончаров, имея в виду, конечно, отмену крепостного права.
Чацкий, развивает свой взгляд Гончаров, не теряет земли из-под ног и не верит в призрак, не увлекается неизвестным идеалом, не обольщается мечтой; он трезво остановится «перед бессмысленным отрицанием «законов, совести и веры». Он очень положителен в своих требованиях, его возмущают «безобразные проявления крепостного права», устранение которых составляет его «скромную программу свободной жизни»[47]. Белинского и Герцена Гончаров понимает и принимает так же, только в пределах той «скромной программы», которую он предписывает Чацкому. Белинский умер, не долсдавшись исполнения своих грез, которые «теперь — уже не грезы больше». Что же касается Герцена, то Гончаров видит у него только «политические заблуждения» там, где «он вышел из роли нормального героя, из роли Чацкого»[48].
В статье Гончарова Чацкий как «нормальный», «трезвый» герой, поборник «скромной программы» противопоставлен сторонникам «неизвестных идей, блестящих гипотез, горячих и дерзких утопий»; тем, кто обольщается мечтой, проявляет «юношескую запальчивость»; всем тем, кто, по формулировке Гончарова, составляет «тип крайних, несозревших передовых личностей, едва намекающих на будущее и потому недолговечных»[49]. Не трудно понять, что здесь Гончаров как либерал выражает свое несогласие с представителями революционного образа мысли и действия.
Напомним еще слова Гончарова о том, что «положение Чацких на общественной лестнице разнообразно, но роль и участь все одна, от крупных государственных и политических личностей, управляющих судьбами масс, до скромной доли в тесном кругу»[50], что они выступают зачинателями «громких, великих дел и скромных кабинетных подвигов»[51].
Мысль о полезности деятельности Чацких-чиновников — на крупных государственных должностях и в скромных канцелярских кабинетах — принадлежит не только Гончарову, она выражает чаяния всех более или менее либеральных деятелей. Одновременно с публикацией «Господ Молчалиных» появилась в печати книга, содержавшая такое поучение: «Если бы триста человек, 14 декабря, из которых большая часть, судя по свидетельствам, были люди истинно благонамеренные, чистые, любившие отечество искренне, умные, способные, избрали себе, взявшись рука за руку, другой образ действия и, нейдя на площадь, поступили бы в канцелярии, департаменты, на службу, с благими своими намерениями, из них через немного лет ведь вышло бы двадцать, тридцать губернаторов, министров, членов государственного совета»[52].
Подобные, казалось бы запоздалые, либерально-политические нравоучения относительно деятелей декабристского движения и, казалось бы, только литературно-критическая интерпретация Чацкого в либеральном духе, так талантливо осуществленная Гончаровым, имели и в 70-е годы свой актуальный политический смысл. Они отражали и выражали непрекращавшийся и все более обострявшийся спор двух концепций преобразования России — либерально-реформистской и революционно-демократической. Выступая от лица последней, Салтыков своим Чацким полемизировал не с грибоедовским Чацким, а с Чацким в его позднейшей либеральной интерпретации.
Своеобразие щедринской полемики заключалось в том, что сатирик, отрешаясь от грибоедовского понимания Чацкого, обратил против идейных противников их собственное оружие, то есть художественно реализовал такого именно Чацкого, которому сторонники либеральных воззрений предписывали, в меру своего понимания и желания, «скромную программу» деятельности на бюрократическом поприще. Щедринский Чацкий в роли директора департамента государственных умопомрачении — это отрицательный ответ сатирика на вопрос об общественной полезности Чацких на службе политическому режиму самодержавия.
Своей трактовкой Чацкого, взятого в его либеральном варианте, как и Рудина, которому в «Господах Молчалиных» отведена роль директора департамента распределения богатств, Салтыков высмеял ту разновидность либерализма, которая упорно придерживалась теории возрождения России посредством улучшения администрации.
Чацкий и Рудин, если в соответствии с либеральной концепцией представить их в роли деятелей царской бюрократии, — это уже не герои-протестанты, известные нам но произведениям Грибоедова и Тургенева; и как соратники помпадуров они оказываются объектом салтыковской сатиры на молчалинство вообще, сатиры тем более резкой, что на них не могут быть распространены те обстоятельства, которые смягчают вину массовых, заурядных Молчалиных.
***
После Алексея Степаныча Молчалина, воспринятого от Грибоедова, второе место по степени уделенного ему внимания и остроте сатирической обрисовки занимает в «Господах Молчалиных» представитель литературного молчалинства, издатель либеральной газеты «Чего изволите?». Сцена в редакции этой газеты (глава четвертая), где рассказчик и Алексей Степаныч Молчалин помогают Молчалину 2-му в редактировании статей, принадлежит к наиболее ярким во всей щедринской сатире страницам, разоблачающим беспринципность и пресмыкательство либеральной прессы[53].
Афористически остро звучат слова о Молчалине-литераторе как о человеке, который «впал [...] грешным делом, в либерализм, да и сам не рад», или его формула-мольба, резюмирующая отношение либерального органа к начальству: «мы готовы прийти к вам, — говорю я, — но укажите нам пути и сохраните нам нашу независимость!» Трагикомическая позиция либерала, желающего совместить свободомыслие с верноподданничеством, представлена в действиях Молчалина 2-го с такой определенностью, что не оставляет у читателя никакой неясности. Достаточно лишь заметить, что своими рельефно и остроумно обозначенными чертами образ литературного Молчалина сразу же врезался в сознание общественности, больно уязвил либеральную прессу метким изобличением ее низменных свойств и дал повод к ожесточенным спорам в критике.
Щедринский Молчалин — это литературный тип, который находит себе индивидуальные соответствия в реальной действительности. Но еще более — это персонифицированные в литературном образе определенные социально-психологические черты, разлитые в целой массе людей. Вот почему мы сталкиваемся в «Господах Молчалиных» с таким, казалось бы, парадоксальным явлением. С одной стороны, сатирик заявляет, что все общественное значение Молчалиных исчерпывается их фамилией, а с другой — выводит целую серию Молчалиных, отличающихся болтливостью. Разгадка этого заключается в том, что молчалинство оказывается у Салтыкова, в сущности, своеобразной сатирической метафорой для обозначения всех тех «средних» людей, которым чуждо чувство политического протеста против царящего зла, так или иначе подавляющего и их самих. Это — приспособленцы, идущие на любой компромисс ради того, чтобы выжить. В грибоедовском Молчалине Салтыков выявляет прежде всего его политический аспект и делает политическое молчание стержневым признаком типа. За пределами этого признака Молчалины могут быть весьма разношерстны.
Алексей Степаныч Молчалин является, так сказать, классическим олицетворением обозначаемого его фамилией социального типа и заключает в себе все его основные, изначальные признаки, как восходящие в первоисточнику (к комедии Грибоедова), так и обретенные под пером Салтыкова. Что же касается других Молчалиных, изображенных Салтыковым, то они являются не столько законченными представителями молчалинства, сколько носителями лишь его отдельных характерных свойств. Каждый из них показателен для типа лишь отчасти, сближается с ним в каких-либо одних признаках и расходится в других. Так, Молчалин-журналист своим трепетным страхом перед властями подобен всем Молчалиным, и в то же время он отличается от классического типа тем, что не довольствуется скромной долей безвестного молчальника, а жаждет славы на поприще публичного либерального словоблудия.
Еще более резкие вариации молчалинства представлены в лице чиновников департамента возмездий и воздаяний, изображенных в пятой главе; здесь мы встречаем Молчалина-жуира, который своей приверженностью к эгоистическому животолюбию и верным служением начальству примыкает к племени Молчалиных, но расходится с ними полным отсутствием какой-либо подавленности духа и непричастностью к молчалинскому принципу «умеренности и аккуратности».
Молчалин-аскет, напротив, совершенно отрешился от каких-либо личных интересов. У него болезненная потребность «послушания» не обусловлена никакими корыстными побуждениями, а только убеждением, что «земля есть юдоль скорбей, в которой люди должны «терпеть». Это Молчалин, окончательно освободившийся от всяких расчетов преднамеренной угодливости и «пламенеющий наголо и беззаветно». Перед нами проникновенно написанный и, при всей своей лаконичности, исчерпывающий психологический портрет личности, человеческие качества которой находятся в полном противоречии с той низкой целью, которая поработила их, подчинила себе и извратила их естество. Трудно назвать этот образ Молчалина-аскета сатирическим. Он возбуждает не негодование, не неприязнь, а чувство жалости, сострадания и глубокого сожаления по поводу того, что его беззаветное самоотвержение силою обстоятельств поставлено на службу дурному делу. Поэтому все негодование читателя переносится с Молчалина-аскета на поработившие его личность условия жизни. Измените последние, приведите их в соответствие с естественными наклонностями личности и человек, подобный Молчалину-аскету, предстанет перед нами в образе замечательного трун;еника на пользу общую. Именно такого рода мысли внушал Салтыков читателю своими поисками человечности, прячущейся под «корой молчалинства». И именно потому, что Салтыков так глубоко проник в истоки психологии и трагедии молчалинства, раскрыл их как неизбежное следствие целого строя жизни, — именно поэтому он не мог отнестись к Молчалиным только отрицательно и, начав с обличений, все более углублялся в психологические разъяснения.
Характерной особенностью жизни и психологии Молчалиных является «хроническое двоегласие», два рядом иду-пдих существования — казенное и свое собственное, переплетение отрицательного и положительного во всем их поведении. В молчалинском типе Салтыков отделяет «вицмундирные» черты, разоблачаемые сатирически, от черт человеческих, внушающих писателю симпатию и сочувствие. Это «двоегласие» типа обусловило собою и своеобразное к нему отношение Салтыкова. Писатель то обличает, то сострадает, переживает смену настроений, воздерживаясь от прямого приговора и категорических суждений.
В понятие «человека-простеца», которого Салтыков стремился просветить, включаются и Молчалины. С них начинается та масса людей, причастных к официальной службе, которым писатель выражает сочувствие. Молчалиных опутала «тина мелочей», извратившая все мотивы их человеческой деятельности, но, говорит писатель, «я тем охотнее обращюсь к Алексею Степанычу, что сквозь наносную кору молчалинства мне удается угадывать в нем черты подлинного человеческого образа» (XII, 380). Заметим, что во всем своем творчестве Салтыков только дважды специально предупреждает читателя о необходимости в сатирически изображаемых социальных типах отделять «наносное» от человеческого. В «Истории одного города» он говорит, что его сатира на крестьянство имеет в виду «наносные атомы», то есть рабские черты психологии, и не затрагивает достоинства «природных свойств» мужика. Подобно этому, в Молчалиных он разграничивает «наносную кору молчалинства» и черты подлинного человеческого образа. Это указание чрезвычайно важно. Оно свидетельствует, что в понимании Салтыкова проблема Молчалиных соприкасается с проблемой народа.
Конечно, само заглавное определение (Господа Молчалины», как и «Господа ташкентцы», «Господа Головлевы» означает, что в этих произведениях идет речь о тех слоях общества, которые противостоят угнетенной народной массе и к которым писатель-демократ относится отрицательно. Вместе с тем Молчалины составляют собою именно ту часть господской среды, которая граничит с широкой народной массой. Молчалины, говорит Салтыков, пользуются неполной безвестностью, ниже их начинается среда «человека лебеды», пользующегося «полною и безусловною неизвестностью». Молчалины по своей численности и по своему положению в буржуазно-дворянском обществе стоят сразу же за крестьянством. Это огромная масса мелких и средних чиновников, добывающих себе скромное благополучие исполнительностью и трудолюбием. В Молчалиных хорошее переплетено с плохим. Здесь есть чему сочувствовать, но есть и то, что в человеке, способном взглянуть на дело шире узкого круга личных интересов, вызывает чувство досады, огорчения и негодования. Это смешанное чувство негодования и сочувствия характерно для автора «Господ Молчалиных». Сатирик осудил рабскую психологию, вицмундирные и шкурные поползновения Молчалиных, унижающие человеческое достоинство, и в то же время не оставил в тени их положительные человеческие качества — добродушие, трудолюбие, скромность.
Стремление уловить в молчалинство человеческое, независимое от профессии, уловить «не вицмундирные, а человеческие струны сердца» заставило сатирика совершить не совсем обычный для него продолжительный экскурс в домашний мир незадачливого героя, или, говоря образным языком рассказчика, охотно отозваться на приглашение Алексея Степаныча Молчалина и посетить его одноэтажный деревянный домик на Песках. Было и еще одно обстоятельство, которое побуждало писателя задержаться на изучении частной жизни Молчалина.
***
Салтыков был не только обличителем всех форм угнетения человека человеком, не только самоотверженным защитником и идеологом трудящихся масс. Как великого гуманиста его глубоко волновали судьбы всех людей общества, судьбы личности вообще. Позиция гуманиста сказалась и в раздумьях Салтыкова «над финалом, которым должно разрешиться молчалинское существование».
Этому целиком посвящена шестая, последняя глава «Господ Молчалиных», носящая публицистический, социально-философский характер.
В состоянии ли Молчалины самостоятельно бороться за изменение своего положения, за восстановление своего попранного человеческого образа? На этот вопрос Салтыков дает отрицательный ответ, развиваемый на протяжении первых пяти глав «Господ Молчалиных».,Защищенные броней бессознательности и рабской привычки послушания, Молчалины на служебной арене неуязвимы, здесь они действуют как автоматы, покорные господствующей силе и недоступные для всяких других влияний. Они прикованы, как к устричной раковине, к своему узкому мирку, за пределами которого ничего не желают знать. Равнодушные к гражданским интересам, неподвластные мысли о будущем, Молчалины, однако, очень болезненно реагируют на все, что затрагивает семейный базис их растительного благополучия. Поэтому из состояния духовной спячки может вывести Молчалиных только такая сила, которая коснется их самых чувствительных струн — личной семейной жизни. Этой силой, по мысли Салтыкова, является освободительная борьба, которая, помимо желания Молчалиных, неизбежно вторгнется в лоно их умеренной и аккуратной жизни и сделает их невольными участниками великой социальной драмы.
Вторжение идей освободительной борьбы в традиционное течение жизни всех слоев общества Салтыков на последней странице «Господ Молчалиных» назвал «заправской русской драмой». В чем же, однако, сущность ее применительно к молчалинству? Где таится ее непосредственный реальный источник и кому принадлежит в ней первая роль?
По концепции Салтыкова, социальная драма подкрадывается к молчалинству в виде драмы семейной и только в этом виде может растревожить их. Трагическую развязку существованию Молчалиных принесут их дети. С суровой неумолимостью бесповоротного убеждения они откажутся следовать проторенной колеей отцов, отвернутся от их деятельности и осудят ее. Проникновение революционных идей в замкнутую молчалинскую среду через подрастающее поколение — вот источник трагедии, которая подстерегает Молчалиных непосредственно в семье и потрясет их самым чувствительным образом. Бессознательность, делавшая Молчалиных равнодушными к суду истории, придаст обрушившейся на них драме характер полной неожиданности и неизбывной мучительности.
Эта концепция родилась под впечатлением фактов революционной борьбы. Подъем освободительного движения во второй половине 70-х годов помог Салтыкову уловить в молчалинском существовании «зерно» зарождавшейся «заправской русской драмы» и показать начальный акт этой драмы. Герои развернувшихся в это время революционных схваток с самодержавием были преимущественно ; выходцами из разночинной среды[54], то есть именно той среды, в старших поколениях которой болезнь молчалинства имела наибольшее распространение.
Период работы Салтыкова над «Господами Молчалиными» ознаменовался массовыми арестами народнической интеллигенции. Газеты были заполнены отчетами о политических процессах, следовавших один за другим с нарастающей частотой. Количество жертв росло. Семья, говорит Салтыков, «сделалась ареной какой-то сплошной трагедии». Но стенографические отчеты судебных заседаний, продолжает Салтыков, не передают полного внутреннего смысла развивающихся трагедий. Мы видим в этих отчетах только так называемых «заблуждающихся» детей, но не видим их отцов и матерей, которые мечутся, истекают слезами и кровью.
В последней главе «Господ Молчалиных» Салтыков был вынужден цензурными обстоятельствами ограничиться лишь схематическим очерком «трагического сценария», только самым общим изложением смысла назревающей социально-исторической драмы молчалинства. Более конкретно он представил это в рассказе «Чужую беду — руками разведу»[55]. (Цензурная редакция под названием «Чужой толк».) Беда, которую тревожно предчувствовал Алексей Степаныч Молчалин («А ну, как Павел-то Алексеич мой, как ни на есть не доглядит за собой?»), действительно стряслась : сына его Павла арестовали. Горе заставило его метаться в пустоте и истекать сухими слезами, но вместе с тем оно как бы и поднимало его самого, принесло ему «минуты прозорливости». «Теперь для него это было совсем ясно: не сын должен был до него подняться, а он до сына». В данном случае «минута прозорливости» была недолгой, история с Павлушей кончилась благополучно, и Алексей Степаныч Молчалин остался таким, каким был прежде. Семейная драма Молчалина «В среде умеренности и аккуратности» не пошла дальше первого акта, но какова она может быть в финале, это Салтыков показал в написанном годом позже рассказе «Больное место». Заглавие и тема рассказа были сформулированы в заключительных строках «Господ Молчалиных», где Салтыков назвал «больным местом» Молчалиных их страх за судьбу детей, вовлекавшихся в революционное движение, и указывал на «суд детей» как грядущее возмездие молчалинству. Эта идея развита в «Больном месте» до окончательной трагической развязки. Центральный персонала рассказа. Таврило Степаныч Разумов, во многом повторяет историю Алексея Степаныча Молчалина, являясь как бы его духовным братом. Сын Разумова под влиянием новых идей осудил бюрократическую деятельность своего отца, но, не найдя сил порвать с ним, кончил самоубийством.
Сделаем последний вывод о молчалинском цикле в целом («Господа Молчалины», «Чужую беду — руками разведу», «Больное место»). Начав повествование о Молчалиных сатирическим описанием их растительного блаженства, их идиллии, счастливым образом совпадающей с правилами устава о пресечении и предупреждении проступков и преступлений, Салтыков все более приближался к уяснению их трагического положения и закончил размышлениями о назревающей в среде Молчалиных социально-исторической драме, которая несет им страдание и в то же время явится началом их конца, откроет им путь к исцелению. Движение повествования о молчалинстве от комедии к трагедии явилось следствием раздумья писателя над сущностью и судьбами изображаемого социального типа в связи с теми переменами, которые были вызваны в жизни русского общества процессом нарастания революционного протеста.
Идейно-общественный смысл «Господ Молчалиных», как и любого другого крупного произведения Салтыкова, выходит за рамки непосредственно трактуемой темы. Разоблачению молчалинства Салтыков придал такой аспект и такие масштабы, что и эта его сатира обрушивалась на весь «порядок вещей» буржуазно-дворянского государства и служила утверждению идеи революционного преобразования общества.
Встреча с «чумазым» противником «Благонамеренные речи»
«Благонамеренные речи» (1872 —1876) — крупнейший цикл в творчестве Салтыкова 70-х годов и наиболее яркий показатель расширения социальных горизонтов его сатиры в этом десятилетии. Салтыков говорил, что в этом произведении он «обратился к семье, к собственности, к государству и дал понять, что в наличности ничего этого уже нет. Что, стало быть, принципы, во имя которых стесняется свобода, уже не суть принципы даже для тех, которые ими пользуются» (XIX, 185—186). Сокровенный смысл благонамеренных речей, произносимых во имя этих принципов, сатирик раскрывает как «наглый панегирик мошенничеству» (XI, 61), преследующему интересы капиталистического накопления.
В «Благонамеренных речах», подводивших итог пятнадцатилетнего пореформенного развития России, более ярко и обстоятельно, чем в каком-либо другом произведении сатирика, показан процесс превращения помещичьей России в Россию буржуазную, переход экономической гегемонии от дворян-помещиков к быстро выраставшему классу буржуазии.
Подступы к широкой картине смены эпох, представленной в «Благонамеренных речах», можно наблюдать в произведениях Салтыкова 60-х годов. Уже в то время он неоднократно останавливал внимание на оживлении «вольного» хищничества, но лишь в ходе времени пришел к окончательному уяснению его новой классовой сущности. Так, «Признаки времени» рисовали рост хищничества, трактуемого сатириком как продолжение старого крепостнического хищничества. «Господа ташкентцы» завершали генеалогию старого крепостнического хищничества и лишь в последней главе отчасти намекали на новое хищничество. «Дневник
Провинциала в Петербурге» — первое произведение, вводившее читателя непосредственно в социально-политическую атмосферу 70-х годов, — Салтыков закончил знаменательным открытием буржуазии как «третьего члена» в социальной структуре общества. Сатирик делал вывод о том, что выдохшийся «старый ветхий человек» отходит в вечность и что на место его заступает «новый ветхий человек», новый деятельный тип хищника и панегирист хищничества — пенкосниматель. «Хищник проводит принцип хищничества в жизни; пенкосниматель возводит его в догмат и сочиняет правила на предмет наилучшего производства хищничества» (X, 552). Этот тезис художественно развит в тогда же начатых «Благонамеренных речах». Публицистически трактованная в последней главе «Дневника провинциала» тема о смене помещиков буржуазией становится основной темой «Благонамеренных речей», где новый тип хищника предстанет в конкретных образах буржуазных «столпов» общества, а панегиристы хищничества — в образах представителей буржуазно-либеральной бюрократии, выступающих в качестве «охранителей» режима и возводящих хищничество, посредством благонамеренных речей, в догмат.
Растущая буржуазия представлена в «Благонамеренных речах» в ее экономических столкновениях с разоряющимся поместным дворянством. Рисуя картины запустения помещичьих усадеб, где еще недавно так привольно жилось старому барству, Щедрин ничуть не склонен смягчать эти картины поэзией увядания. В этом отношении он резко отличается от тех писателей, под пером которых, несмотря даже на их антикрепостнические настроения, закат «дворянских гнезд» приобретал поэтический колорит. Салтыков показывает не только экономическое оскудение и полную неспособность к производительной деятельности, но и нравственное одичание владельцев «дворянских гнезд». Не допуская никаких смягчающих красок и примиряющих тонов, он хоронит старого «ветхого человека» без тени сожаления, видя в деградации дворянства проявление законов исторического развития.
От общей картины, воспроизводящей беглые путевые впечатления рассказчика («В дороге» и «Опять в дороге»), Щедрин переходит к подробным зарисовкам типов буржуазии, растущей из мещанских низов. Фокус цикла — рассказы «Столп» и «Превращение», показывающие в лице Осипа Дерунова народившийся тип пореформенного буржуа. Дерунов — наиболее колоритная фигура из всех выведенных в «Благонамеренных речах».
В приемах художественной обрисовки Дерунова следует выделить три особенности.
Во-первых, Дерунов показан в эволюции, в разных фазисах его хозяйственной деятельности и нравственного изменения, в процессе последовательного продвижения от провинциального мещанина-прасола до крупного предпринимателя-финансиста, вокруг которого, как спутники вокруг планеты, вращаются привлекаемые властью денег представители разных слоев столичного общества, вплоть до генералов и дипломатов.
Во-вторых, обращает на себя внимание подробность и тонкость разработки типа. Социальная биография, психология, внешний портрет, речь, повадки — все это в Деруно-ве представлено рельефно. Можно сказать, что тип отделан Салтыковым и снаружи и изнутри до полного завершения. Даже в описании одежды героя, на что обычно сатирик мало обращал внимания при обрисовке своих персонажей, он не поскупился на подробности. В результате всего этого немногое по объему, сказанное о Дерунове в рассказах «Столп» и «Превращение», воссоздает законченную индивидуальность буржуа, выросшего из мещанских низов.
В-третьих, несмотря на резкую антипатию, вызываемую Деруновым в писателе, антипатию, не меньшую, чем та, которую вызывали в нем крепостники-помещики и царские бюрократы, сатирик в повествовании о Дерунове не прибегает для выражения своего негодования к приемам сатирического шаржа с элементами карикатуры, позволявшим Салтыкову в других случаях достигать быстрого обличительного эффекта. Он рисует тип в его, так сказать, натуральную величину, с соблюдением естественных пропорций.
Все эти особенности изображения Дерунова — последовательное воспроизведение процесса его формирования, подробность описания внешнего и внутреннего облика героя, строгая объективность форм художественного отображения — обусловлены, на наш взгляд, тем, что данный тип был новым в жизни и еще более новым в литературе.
«Какой необыкновенный мир — этот мир Деруновых! как все в нем перепутано, скомкано, захламощено всякого рода противоречивыми примесями!» (XI, 141).
«Какая загадочная, запутанная среда! И какое жалкое положение «дурака» среди этих тоже не умных, но несомненно сноровистых и хищных людей!» (XI, 148—149).
«Жестокие нравы! Загадочный, запутанный мир!» (XI, 153).
Подобные формулы, выражающие чувство недоумения, повторяются с некоторыми вариациями многократно и свидетельствуют о том, что «Благонамеренными речами» сатира Салтыкова вступала в доселе ей неизвестную область. Сатирик не только для русского читателя, но и для самого себя впервые открывал социальный мир новых буржуазных отношений. И по мере того как шла работа над произведением, предмет изображения все более прояснялся сознанию сатирика. Именно потому, что хищник новой формации впервые стал в «Благонамеренных речах» объектом специального художественного исследования, Салтыков, при всей своей ненависти к Деруновым, воздерживается в изображении их от элементов карикатуры, стремится представить объект в его естественных, реальных формах, обследует его природу в ее непосредственном выражении и в самом процессе становления.
Дерунов, говорит сатирик, своего рода вампир, он готов ободрать живого и мертвого, путь к миллионам он прокладывал и терпением хозяина-приобретателя, и мелким торговым жульничеством, и тайными уголовными преступлениями (на заре своей карьеры он «проезжего купца обворовал» (XI, 189). Однако вампирская сущность нового буржуазного хищника менее очевидна для окружающих его «простецов», нежели хищничество диких крепостников-помещиков или помпадуров-бюрократов. Типы последних, как правило, не требовали слишком подробных разъяснений, они более напрашивались на обличение, нежели на разоблачение. В этих случаях Щедрин быстро переходил от мотивировки приговора к непосредственным сценам сатирической казни. В изображении Деруновых соотношение двух указанных элементов сатирической характеристики изменяется в пользу процесса разоблачения, мотивировки обличительных оценок. Сатирик постепенно подводит читателя к выводам относительно подлинной сущности персонажа не торопится комментировать действия героя, предоставляя условия и время, необходимые для его саморазоблачения.
Особый подход художника к Дерунову диктовался как новизной социального типа, требовавшего подробного разъяснения, так и особенностями экземпляра, избранного для вящей убедительности в качестве представителя данного типа. Дело в том, что в лице Дерунова Салтыков показал буржуазного хищника, обладавшего обманчивой «приятной наружностью», «в личности Осипа Иваныча не было ничего такого, что бы сразу претило. Посторонний человек редко проникает глубоко, еще реже задается вопросом, каким образом из ничего полагается основание миллионам и на что может быть способен человек, который создал себе как бы ремесло из выжимания пятаков и гривенников. Ему видится в Дерунове какая-то искренность и простота, которые делают отношения к нему до крайности легкими. Осип Иваныч мог прямо смотреть в глаза своему собеседнику, рассказывая о гривенниках, пятаках, о колупании сала и о пользе «худого платья» в коммерческом деле. Он был в этом случае только юмористом, добродушно подсмеивающимся над самим собой и в то же время снисходительно выдерживающим и чужую шутку. Другое дело, если б он рассказал самую подноготную выжимательного процесса; но ведь и то сказать: еще вопрос, понимал ли он сам, что тут существует какая-то подноготная и что она может быть подвергаема нравственной оценке» (XI, 177 —178).
В сатире Салтыкова мы часто встречаемся с персонажами, внешний портрет которых служит наглядной вывеской их отвратительной внутренней сущности. Но не менее часто рисует Щедрин и такие лица, которые на первый взгляд производят обманчивое впечатление и могут в известной мере вызвать к себе даже чувство расположения. Именно таков Осип Иванович Дерунов. Он подкупает своим добродушием, практическим умом и бывалостью. Недаром сатирик неоднократно делает замечания относительно загадочности Дерунова. Разоблачая вампира, скрывающегося под маской добродушия, сатирик предпосылает резким обличительным оценкам тонкий психологический анализ, раскрывающий противоречие между внешним и внутренним обликом персонажа. Проследим некоторые портретные зарисовки, характеризующие Дерунова на разных стадиях его капиталистической карьеры и постепенно углубляющие процесс его художественного разоблачения.
Вот Дерунов — мелкий прасол в пору крепостного права, когда он только что начинал набирать силы. «Человек он был средних лет (лет тридцати пяти или с небольшим) и чрезвычайно приятной наружности. Из лица бел, румян и чист; глаза голубые; на губах улыбка; зубы белые, ровные; волоса белокурые, слегка вьющиеся; походка мягкая; голос — ясный и звучный тенор». Он располагал к себе не только внешностью, но и тем, что был человек оборотливый, живой, умный, за которым «утвердилась навсегда кличка «министр»» (XI, 119).
Вот Дерунов спустя двадцать лет, страшно разбогатевший после крестьянской реформы, ставший «столпом», почитаемый властью и церковью: «Голубые глаза его слегка потускнели, вследствие старческой слезы, но смотрели по-прежнему благодушно, как будто говорили: зачем тебе в душу мою забираться? я и без того весь тут! Волоса побелели, но еще кудрявились, обрамливая обнаженный череп и образуя вокруг головы род облака. Та же приятная улыбка на губах, тот же мягкий, лишь слегка надтреснутый тенор. Словом сказать, передо мной стоял прежний Осип Иванов, но только посановитее и, в то же время, поумытее и пощеголеватее» (XI, 125).
Вслед за этим в диалоге рассказчика и Дерунова раскрывается внутренний облик буржуа, контрастный его внешнему благолепию и благодушию. «Стало быть, кроме благодушия, в нем, с течением времени и под влиянием постоянной удачи в делах, развилась еще и другая черта: претензия на непререкаемость» (XI, 135).
Дерунов, выдвинутый властью денег на положение официального «столпа», выработал соответствующую «столповую мораль», философию наглого хищника, охраняемого законом. Экономические и политические основания философии хищничества ярко раскрыты сатириком в непосредственных суждениях самого героя капиталистического накопления. Дворяне «оплошали», народ «дешев», «нынче только мозгами шевелить не ленись, а деньга сама к тебе привалит!». Такова экономическая предпосылка процветания Деруновых. А вот и политическая: «Насчет вина свободно а насчет чтениев строго. За ум взялись»; «Чтениев для нас не полагается»; «Бунтовать не позволено!» Крестьянин должен «дани платить», а не о приобретении думать: «Так ему свыше прописано» ; «...уши выше лба не растут, а у кого ненароком и вырастут сверх меры — подрезать маленечко можно!» (XI, 128—135).
Буржуа Дерунов достиг экономического могущества, оставшись духовно невежественным. Принципы буржуазной морали он формулирует в их непосредственной грубой форме. Он еще не прибегает к софизмам, которые свойственны цивилизованному буржуа, — отчасти потому, что пока не испытывает в них необходимости, а отчасти потому, что еще не овладел ими. Шлифовку такого рода пройдут будущие Деруновы. Но и родоначальник их уже делает первые небезуспешные попытки приобщиться к искусству благонамеренных речей. Мужиков, не согласившихся взять предлагаемую им за хлеб цену, он называет «бунтовщиками» и выдвигает следующее доказательство: «Мне для чего хлеб-то нужен? сам, что ли, экую махину съем! в амбаре, что ли, я гноить его буду? В казну, сударь, в казну я его ставлю! Армию, сударь, хлебом продовольствую! А ну, как у меня из-за них, курицыных сынов, хлеба не будет! Помирать, что ли, армии-то! По-твоему, это не бунт!» (XI, 133). Это соображение, замечает рассказчик, «полно современности», оно свидетельствует о том, что хищник осваивает систему лицемерной фразеологии, призванную ссылками на мнимое радение о государственных интересах маскировать своекорыстные интересы погони за капиталом.
Только после того как в процессе сложного художественного анализа было раскрыто обманчивое противоречие между внешним и внутренним обликом героя, сатирик сформулировал вывод: «Дерунов—не столп! Он не столп относительно собственности, ибо признает священною только лично ему принадлежащую собственность. Он не столп относительно семейного союза, ибо снохач. Наконец, он не может быть столпом относительно союза государственного, ибо не знает даже географических границ русского государства...» (XI, 144). Этим выводом заканчивал сатирик рассказ «Столп», где Дерунов представлен в эволюции от мелкого прасола до «местного Ротшильда».
Дальнейшую карьеру Дерунова, вступление его в третий этап победного капиталистического шествия рисует рассказ «Превращение». Губернский воротила и столп, вполне почувствовавший силу обретенной им власти денег, выходит на столичную арену.
И прежде случалось, что Дерунов по временам наезжал в Петербург по своим делам, но приезды эти всегда обставлялись более чем скромно. Теперь он предстал совершенным франтом: «На плечах накинута соболья шуба редчайшей воды, ...на голове надет самого новейшего фасона цилинр, из-под которого высыпались наружу серебряные кудри; борода расчесана, мягкая, как пух, и разит духами; румянец на щеках даже приятнее прежнего; глаза блестят...» (XI, 165). Отлично меблированный аппартамент Европейской гостиницы, занятый Деруновым, стал пунктом сбора столичного великосветского сброда. Тут и воротилы финансового мира, и генерал, и дипломат, и офицеры разных родов оружия.
Дерунов превращается в финансового туза и замышляет в компании с «генералом» крупные финансовые операции темного свойства. Все мелкие виды грабежа, производимые над живым материалом и потому сопровождаемые протестом в форме оханья и криков, он оставил и решил заняться «грабежом «отвлеченным», не сопряженным с оханьями и криками, но дающим в несколько часов рубль на рубль» (XI, 178—179).
В карьере Дерунова Щедрин представил все стадии капиталистического обогащения — от первоначального накопления, в котором участвовал и личный труд хозяина-приобретателя, и до крупных финансовых операций чисто паразитического свойства. И как закономерное следствие прогрессирующего паразитизма показано постепенное моральное разложение личности. История роста капиталов Дерунова — это и история деградации Дерунова как индивидуальности, постепенный процесс порчи и утраты тех нравственных качеств, которые первоначально были присущи ему как представителю социальных низов. Сначала он, владелец небольшого хлебного лабаза, извозчиков овсом обмеривал и при этом боялся попасть за свои темные делишки в Сибирь; впоследствии, сделавшись финансовым тузом, он оставил всякую оглядку, понял, что Сибирь существует не для него, а для «других-прочих», и дошел до наглого вожделения грабежа в миллионных размерах.
Самой фамилией героя Дерунов, как и позднее (в «Убежище Монрепо») фамилиями его классовых родственников — Разуваев и Колупаев, — сатирик подчеркивал примитивно-варварский характер русского капитализма 60—70-х годов. Слой буржуазии, выросший из мещанской и крестьянской среды, отличавшийся азиатскими методами эксплуатации, отсутствием каких-либо культурных навыков предпринимательской деятельности, — этот слой, составлявший основную массу русской буржуазии, Щедрин обобщил в «Убежище Монрепо» под характерной кличкой «чумазый».
Кличка характеризует и культурную отсталость русской буржуазии, и антипатию писателя к ней.
Деруновы, Колупаевы, Разуваевы не стесняются в выборе средств эксплуатации. Они по-своему умны, хитры, ловки, изворотливы, но именно только как хищники. Наличие этих качеств в сочетании с невежественностью делает Деруновых по-своему цельными натурами, приверженными одной страсти — страсти к накоплению, которая ни перед чем не останавливается и не ослабляется никакими рефлексиями. Бессердечие чистогана оказывается единственной действующей силой психики буржуа, подчиняющей себе все другие человеческие проявления вплоть до семейно-нравственных отношений.
В «Пошехонских рассказах» Щедрин говорит, что шустрые люди в лице Деруновых, Колупаевых и Разуваевых отлично поняли, что «необходимо дать пошехонскому поту такое применение, благодаря которому он лился бы столько же изобильно, как при крепостном праве, и в то же время назывался бы «вольным» пошехонским потом. Но замечательно, что, предпринимая осуществление этой задачи, Колупаевы не принесли с собой ничего, что могло бы хотя отчасти оправдать их претензии: ни усовершенствований, ни знаний, ни новых приемов, а озаботились только об одном: чтобы абориген как можно аккуратнее уперся лбом в стену». Колупаевская невежественная орда все устроила «на пагубу поильцу-кормильцу пошехонской земли» (XV, 538).
Однако, показывая зверообразную сущность психики русского буржуа, Щедрин ни в малой степени не разделяет той субъективно-идеалистической концепции происхождения буржуазии, которая была свойственна народникам. Последние, не отрицая наличия и роста кулачества в деревне, считали, однако, это явление чуждым природе крестьянства. Капитализм трактовался ими как нечто искусственное, насаждаемое «сверху», волею правительства, а сама буржуазия — как слой таких людей, которые вследствие своей нравственной развращенности оказываются восприимчивыми к искусственному насаждению буржуазности. Картины развития русского капитализма, нарисованные Щедриным в «Благонамеренных речах», в «Убежище Монрепо» и других произведениях, ниспровергали народническое субъективно-психологическое понимание генезиса буржуазии. Щедрин отнюдь не отрицает, более того — прямо подчеркивает аморализм буржуазных дельцов, считая низкую и извращенную нравственность известной предпосылкой буржуазного карьеризма. Капиталистическое накопление, как показывает Щедрин в социальной биографии Дерунова, наряду с методами обогащения, закономерно присущими этой форме эксплуатации, не останавливается и перед уголовным преступлением, насилием, прямым воровством. Однако сущность дела заключается не в этих сопутствующих явлениях. Буржуазный аморализм не причина, а следствие капиталистической погони за наживой, хотя и такое следствие, которое в свою очередь — в известных случаях и в известной мере — приобретает значение дополнительной причины.
Капитализм, в изображении Щедрина, при определенных исторических условиях закономерно вырастает из принципа частной собственности. Это великолепно раскрыто в истории победного шествия Осипа Дерунова. Перед нами отнюдь не изверг, не нравственный урод. Первоначально он выступает как деловитый и умный мещанин, мелкий собственник, терпеливый и скромный хозяин-приобретатель. В его физическом и нравственном облике есть не лишенные обаяния черты человека, пробивающего себе путь из «низов». Отмена крепостного права принесла свободу для проявления его предприимчивости. Наступила пора, когда отжившие свой исторический срок «дворянские гнезда» разорялись — и потому деловитый человек, имевший некоторые накопления, получил возможность прибрать к рукам плохо лежавшую помещичью собственность; когда народ стал «дешев» — и потому можно было открыть фабрику на основе «вольного труда»; когда стало «насчет вина свободно» — и потому можно было наживаться на спаивании мужиков, — одним словом, наступила пора, когда, по выражению Дерунова, деньга сама шла в руки, только не ленись мозгами шевелить. Вот это, так сказать, историческое самодвижение жизни, совершающееся независимо ни от каких нравственных соображений, и выдвинуло Дерунова из небытия и возвело его в обществе, где личность ценят по признаку богатства в ранг государственного «столпа».
Таким образом, Щедрин блистательно показал, что не безнравственность сделала Дерунова буржуазным хищником, а буржуазное хищничество сделало его безнравственным. Социальное, классовое положение человека определяет его моральный облик.
Дерунов, помимо двух рассказов, специально ему посвященных («Столп», «Превращение»), упоминается в разговорах действующих лиц в таких рассказах «Благонамеренных речей», как «Отец и сын», «Кузина Машенька», «Непочтительный Коронат», а затем и в некоторых других циклах сатирика. Он является центральной фигурой в ряду щедринских персоналией, олицетворяющих бурн.:уазию, своего рода литературным прототипом для созданных Щедриным вслед за ним образов «чумазого». Таковы в «Благонамеренных речах» Антон Стрелов («Отец и сын») и Хрисанф Полушкин («Опять в дороге»), в «Убежище Монрепо» — Колупаев и Разуваев, в «Современной идиллии» — Вздошников. Все ото вариации одного и того же социального типа, впервые и наиболее монументально разработанного в образе Дерунова, типа «Homo novus»[56], выброшенного волнами современной русской цивилизации на поверхность житейского моря» (XI, 190). Дав в рассказах о Дерунове всестороннее раскрытие социально-исторической и психологической природы хищника новой формации, Щедрин в дальнейшем уже не считал это необходимым; всех других представителей деруновского типа, выведенных как в «Благонамеренных речах», так и в последующих произведениях («Убежище Монрепо», «Пошехонские рассказы», «Пестрые письма», «Мелочи жизни») сатирик рисует, не вдаваясь в подробные характеристики, приемами резких обличений. Многочисленные оттиски Дерунова призваны в сатире Щедрина показать массовость типа, нарождение целого класса «чумазых» хищников.
Если деруновская генерация олицетворяет собою новую пореформенную буржуазию, вырастающую из низов — из третьего городского сословия и крестьянства, — то особый тип буржуазного хищника представлен в «Благонамеренных речах» образом Марии Промптовой («Кузина Машенька»). Мария Промптова — представительница той части крепостников, которые после освобождения крестьян сумели перестроить свое хозяйство на буржуазный лад. Не отказываясь целиком от старых рутинных форм крепостнической эксплуатации, они дополнили и подкрепили их формами эксплуатации капиталистической, предались продаже и купле, округляли имения, заводили кабаки, пускались в финансовые операции. Наряду с Марией Промптовой из «Благонамеренных речей» другой такой мастерски обрисованный гибридный тип помещика-капиталиста представлен в «Пошехонских рассказах» в образе Артемия Клубкова.
***
Рядом и в союзе с экономическими «столпами» идут в «Благонамеренных речах» реформированные «оxранители» политического режима, представители воинствующей царской бюрократии. Для них характерны, с одной стороны, готовность по первому трубному звуку устремляться на искоренение «превратных толков» и «неблагонадежных» элементов, с другой — совершенно приличная, «даже джентльменская» наружность, отработанные манеры, либеральная фразеология, сдобренная французскими оборотами, склонность поиронизировать в частной беседе над своей должностной деятельностью. Одним словом, это бюрократ новейшего закала. Но, несмотря на обновленную внешность, в политическом существе своем это все тот же, прежний, старозаветный Держиморда, только «почищенный, приглаженный, выправленный» (IX, 72). Таков молодой исправник Сергей Иванович Колотов («Охранители»). Таков и другой молодой человек, благовоспитанный и современный, «очень проворный, ходкий и с чрезвычайными претензиями на деловитость и проницательность» (XI, 403). Он легко пускается в разговоры о литературе, красноречиво судит о пользе юридического образования и о необходимости защиты общества против «нетерпимых теорий», доказывает благотворность доносов, именуя их «общественной самозащитой», и имеет склонность покопаться в чужой душе, чтобы «что-нибудь оттудова унести, ради иллюстрации в искренней беседе с начальством...» (XI, 404). Несмотря на свою кратковременную практику, он уже успел открыть «целую организацию» нигилистов. Перед нами один из птенцов той школы, которая снабжает всю Россию героями судоговорения, — Павел Федорыч Добрецов, «уловляющий вселенную в качестве судебного следователя» («Непочтительный Коронат»),
Приведем, наконец, еще один образец «охранителя», обладавшего симпатичной наружностью, достойной героя любовного романа, и любившего блеснуть своими ораторскими дарованиями. «Он охотно говорил обо всем: и о народе, и о высших соображениях, и о святости задачи, к выполнению которой он призван. У него был всегда наготове целый словесный поток, который плавно, и порой даже с одушевлением, сбегал с его языка, но сущность которого определить было довольно трудно» (XI, 466). А когда речь заходила о любви к отечеству, «он был совершенно неистощим и даже поэтичен» (XI, 469). Он не мог без слез слушать народную песню «Не белы снеги», не мог без умиления видеть декорацию, изображающую русскую деревню, и т. д. Во время воины «патриот», находившийся во власти столь высоких чувств, выступил организатором губернского ополчения и... обокрал казну на огромную сумму. Это управляющий палатою государственных имуществ Владимир Онуфриевич Удодов («Тяжелый год»).
Так, в «Благонамеренных речах» сатирик выводит портретную галерею «охранителей порядка», которые, сохраняя благонамеренную наружность и прикрываясь благонамеренными речами об интересах государства и защите отечества от внутренних и внешних врагов, казнокрадствовали и грабили народ, превратив государство в пирог, жадно раздираемый на куски. «Всякий спешил как-нибудь поближе приютиться около пирога, чтоб нечто урвать, утаить, ушить, укроить, усчитать и вообще, по силе возможности, накласть в загорбок любезному отечеству» (XI, 471).
«Благонамеренные речи» явились новым шагом в сатирическом разоблачении принципов буржуазно-дворянского государства. Это выразилось, во-первых, в углублением трактовки классовой сущности государства, а во-вторых, в распространении этой критики и на республиканскую форму буржуазного государства.
Основной сатирический удар «Истории одного города» был направлен на сам принцип монархического деспотизма, на его диктаторов. Щедрин бил по высшей администрации. Власть и народ были представлены как два антипода. Чтобы резче изобразить антагонизм этих двух сил, Щедрин почти не касался тех классов, интересам которых служило самодержавие. Мы уже говорили о том, какими творческими соображениями была продиктована своеобразная социология «Истории одного города». Теперь следует прибавить к ранее сказанному, что в 70-е годы Щедрин продвинулся вперед в своем понимании классового характера государства.
В 60-е годы Щедрин, понимая общность интересов помещиков и бюрократии, все же был склонен несколько преувеличивать самостоятельность последней. В то время ему не вполне были чужды просветительские иллюзии относительно надклассовой роли наиболее просвещенной части бюрократического аппарата. В 70-е годы он глубже познает, что сила классовых интересов главенствует и над силой просвещения, просвещенный пенкосниматель следует за невежественным хищником, просвещение верхов служит интересам верхов. Как показано выше, через все содержание «Благонамеренных речей» проводится идея о содружестве реформированного, просвещенного бюрократа, политического «джентльмена» самого новейшего образца, с экономическими «столпами, буржуазного толка, еще не успевшими облагородить свою дикообразную внешность. Несмотря на то что бюрократия стала более цивилизованной, она, еще не порвав своих старых уз с бывшим более культурным хозяином-помещиком, уже начинает изменять ему, склоняясь в сторону нового хозяина — чумазого.
Становой Грацианов, олицетворяющий в «Убежище Монрепо» новый курс государственной политики, так инструктирует урядников: «Действительного и истинно плодотворного содействия вы можете ожидать, по преимуществу, от господ кабатчиков»; «Не особенно полезного, однако ж, и не вредного содействия вы можете ожидать от господ бывших помещиков, ныне скромно именующих себя землевладельцами» (XIII, 75—76).
В том же «Убежище Монрепо» писатель, характеризуя государственную политику в связи с переходом экономического господства от помещиков к буржуазии, говорит, что бывшие столпы, выслужив свой срок, подгнили, не было уже смысла привлекать их вновь к деятельному столпослужению. Была даже минута (начало 60-х годов), когда казалось, что «вот-вот все русское общество вступит на стезю абсолютного и бесповоротного бесстолпия». Напуганные «охранители» сперва старались изо всех сил пристроить «пропащих людей», а потом последние надоели первым и «подгнившие столпы были немедленно заменены новыми» (XIII, 143—144). Требовались люди более подходящие, которые зубами вцепились бы во врученные им знамена. Такими людьми оказались новоявленные русские буржуа, «чумазые»; их теперь приветствуют охранители и публицисты.
Экономика господствует над политикой и диктует ей свои права и законы. Государственная политика служит экономически господствующим классам. К более глубокому уяснению этой истины Щедрин пришел в 70-х годах, во-первых, под влиянием фактов экономической эволюции России, — в связи с этой эволюцией монархия помещиков превращалась в монархию буржуазии, — а во-вторых, в результате непосредственного знакомства с государственной политикой стран Западной Европы во время годичного пребывания за границей, куда писатель выехал весной 1875 года для прохождения курса лечения. Это была первая заграничная поездка Щедрина. Впечатления, вынесенные из нее, как и из последующих поездок, значительно обогатили творчество сатирика. В «Благонамеренных речах» свидетельством этого служит прежде всего публицистический очерк «В погоню за идеалами» (1876). Он посвящен специально критике политических принципов эксплуататорского государственного строя и анализу отношения различных социальных слоев общества к государству как в России, так и за рубежом. «Отношение масс к известной идее, — говорит Щедрин, — вот единственное мерило, по которому можно судить о степени ее жизненности» (XI, 449). С этой точки зрения Щедрин дает блистательную критику республиканской Франции.
«Несмотря на несколько революций, — пишет Щедрин, — во Франции, как и в других странах Европы, стоят лицом к лицу два класса людей, совершенно отличных друг от друга и по внешнему образу жизни, и по понятиям, и по темпераментам. Во главе государства стоит так называемый правящий класс, состоящий из уцелевших остатков феодальной аристократии, из адвокатов, литераторов, банкиров, купцов и вообще всевозможных наименований буржуа. Внизу — кишит масса управляемых, городских пролетариев и крестьян. И тот, и другой классы относятся к государству совсем неодинаковым образом» (XI, 453).
Разные буржуазные партии враждуют из-за власти, но у всех у них одна цель: чтоб во главе государства стоял буржуа, был сыт и благодушествовал. «Таким образом, и государство, и все, что до него относится, находится во Франции, так сказать, на откупу у буржуазии» (XI, 454).
Что же касается народных масс, то здесь, как и везде, относительно их государство выступает исключительно «в виде усмирителя и сборщика податей, а не в виде убежища». Массы равнодушно относятся и к тем политическим пререканиям, которые волнуют буржуазию, и к всеобщей подаче голосов, так как на опыте убедились, что формы правления безразличны и что все они имеют в виду только вящее утучнение и без того тучного буржуа» (XI, 455).
Эта замечательная по остроте анализа критика буржуазного парламентаризма сохраняет свое значение и но настоящее время. Она свидетельствует, что в 70-х годах Щедрин своей трактовкой проблемы государства в некоторых принципиальных отношениях сближался с марксистским учением о классовой сущности государства[57].
По масштабам социальной проблематики «Благонамеренные речи», разоблачающие с позиций революционной демократии принципы буржуазно-помещичьей собственности, семьи и государства, являются одним из самых выдающихся произведений писателя и важным этапом в его идейно-творческом развитии. Пройдя через этот этап, Щедрин среди своих русских литературных современников оказался самым прозорливым человеком в распознавании капиталистических судеб России.
Типы рождающейся буржуазии с образом Дерунова в центре — высшее идейно-художественное достижение «Благонамеренных речей». Вслед за градоначальниками, помпадурами, ташкентцами — Деруновы явились дальнейшим гениальным художественным обобщением Щедрина в области сатирического изображения господствующих классов и партий самодержавной России. Социально-психологический портрет Дерунова — это портрет русской буржуазии, по крайней мере наиболее значительной ее части. В той социальной биографии русской буржуазии, которую впоследствии создал М. Горький в романе «Дело Артамоновых», много от щедринского Дерунова. Щедрин был свидетелем и изобразителем жизнедеятельности первого пореформенного поколения буржуазии; Горький нарисовал историю трех поколений, показав русский капитализм от его зарождения и до гибели.
Тематически «Благонамеренные речи», как было показано ранее, связаны с целым родом предшествующих им произведений сатирика. С другой стороны, в тесной генетической связи с «Благонамеренными речами» находится ряд последующих произведений Щедрина второй половины 70-х и начала 80-х годов. Так, непосредственным продолжением критики буржуазного принципа собственности служит «Убежище Монрепо» (1878—1879), где нарисована картина дальнейшего превращения помещичьей России в Россию буржуазную и галерея «чумазых» хищников пополнена двумя самыми яркими, после Дерунова, образами — Колупаева и Разуваева. Дальнейшее разоблачение классовых принципов буржуазно-дворянского государства дано в «Круглом годе» (1879) и в цикле «За рубежом» (1880 — 1881). Наконец на принцип семейственности нацелены «Господа Головлевы» (1875 —1880).
Приговор крепостничеству. «Господа Головлевы».
«Господа Головлевы» выросли из «Благонамеренных речей». Но зарождение темы «Господ Головлевых» восходит к более раннему творчеству писателя. Идея о скором умирании старого «ветхого человека», то есть помещичьего класса, была положена в основание циклов конца 50-х — начала 60-х годов об «умирающих» и о «глуповцах».
Салтыков отказался от завершения этих циклов, так как ход событий вскоре показал несостоятельность надежды на скорое умирание «ветхого человека». Самодержавие сделало все, чтобы осуществить крестьянскую реформу с наименьшим ущербом для крепостников. Последние, надломленные, но не убитые реформой, всемерно старались продлить срок своего существования.
К идее о распаде дворянского класса Салтыков вернулся после того, как вполне определился переход экономического господства от помещиков к буржуазии. Не случайно, что первый из «головлевских» рассказов («Семейный суд») появился в составе «Благонамеренных речей» после рассказов «Столп» и «Превращение», где было изображено победное Шествие хищника новой формации. Деруновы шли на смену Головлевым. Класс крепостников сходил с исторической сцены, делая яростные попытки удержаться. Одним удавалось приспособиться к новым условиям и перестроиться на буржуазный лад, другие (и таких было большинство) тщетно цеплялись за остатки крепостничества и прилагали все Усилия для того, чтобы укрепить свое положение. Время благоприятствовало тому, чтобы показать помещиков в стадии крушения их былого хозяйственного могущества. «Господа Головлевы» ответили этой исторической Задаче.
Роман «Господа Головлевы» стоит в ряду лучших произведений русских писателей (Гоголя, Гончарова, Тургенева Толстого и др.), изображающих жизнь дворянства, и выделяется среди них беспощадностью отрицания того социального зла, которое было порождено в России господством помещиков.
В своем суровом приговоре крепостничеству Салтыков-Щедрин с непревзойденной остротой разоблачил пагубное, развращающее влияние собственности и паразитизма на человеческий характер, показал неизбежность нравственного и физического разрушения паразитической личности.
Разложение помещичьего класса Салтыков-Щедрин представил в форме истории морального оподления и вымирания семейства землевладельцев-эксплуататоров. Распад связей в области семейно-родственных отношений, где даже от порочной личности естественно ожидать некоторых проявлений человечности, сатирик избирает в качестве одного из самых убедительных свидетельств нравственного падения и исторической обреченности паразитического класса.
Семья Головлевых, взятая в целом, головлевская усадьба, где развертываются основные эпизоды романа, — это собирательный художественный образ, обобщивший типические черты быта, нравов, психологии помещиков, весь деспотический уклад их жизни накануне отмены крепостного права и после нее.
Всем смыслом своим роман Щедрина напрашивается на сближение с «Мертвыми душами» Гоголя. Тесная близость двух гениальных творений критического реализма обусловлена родственностью выведенных в них социальных типов и единством пафоса отрицания. «Господа Головлевы» воспитывали читателя в той школе ненависти к дворянству, основание которой положено «Мертвыми душами».
Процесс омертвения душ крепостников-эксплуататоров был ускорен крестьянской реформой, и его последствия к 70-м годам стали особенно очевидны. Щедрин показывал мертвые души на этой более поздней стадии их исторического разложения и как революционный демократ отрицал их с высоты передовых общественных идеалов, В связи с этим все признаки социальной гангрены представлены в Головлевых в более сильной степени и выводы автора относительно исторической обреченности дворянства приняли характер окончательного, категорического приговора, не оставлявшего места для головлевских иллюзий о нравственном перерождении паразитического класса.
«Головлево — это сама смерть, злобная, пустоутробная; это смерть, вечно подстерегающая новую жертву» (XII, 268). Здесь все говорило об угнетении, напоминало глухо запертую тюрьму. Жаждущему жизни и света здесь давали «вместо хлеба — камень, вместо поучения — колотушку» (XII, 274).
Молодые существа рвались прочь из этого обиталища смерти. Но, вырвавшись, они, не подготовленные ни к какой разумной человеческой деятельности, спешили насладиться отравами жизни и преждевременно гибли. Независимо от того, умирали ли они где-то вдали от Головлева, как умерли сыновья Иудушки Владимир и Петр и его племянница Любинька, или же возвращались умирать в Головлево, как Степка-балбес и Аннинька, во всех случаях Головлево было источником смерти. Здесь проникал в молодые существа разрушительный яд. «Все смерти, все отравы, все язвы — все идет отсюда» (XII, 268). Головлевщина — это саморазложение жизни, основанной на паразитизме, на угнетении человека человеком.
От главы к главе рисует Салтыков-Щедрин картины тирании, нравственных увечий, одичания, следующих одна за другой смертей, все большего погружения головлевщины в сумерки. И на последней странице: ночь, темно, в доме ни малейшего шороха, на дворе мартовская мокрая метель, у дороги — закоченевший труп головлевского владыки Иудушки, «последнего представителя выморочного рода».
Ни одной смягчающей или примиряющей ноты — таков расчет Салтыкова-Щедрина с головлевщиной. Не только конкретным содержанием, но и всей своей художественной зональностью, порождающей ощущение гнетущего мрака, роман «Господа Головлевы» вызывает у читателя чувство глубокого нравственного и физического отвращения к владельцам «дворянских гнезд».
В коллекции слабосильных и никчемных людишек головлевской семьи — пьяниц, мелких развратников, бессмысленных празднолюбцев и вообще неудачников — случайным метеором блеснула Арина Петровна. Эта властная женщина в течение длительного времени единолично и бесконтрольно управляла обширным головлевским имением. Все внимание свое она устремила на округление владений и благодаря своей личной энергии успела удесятерить свое состояние.
Страсть к накоплению господствовала в Арине Петровне над материнским чувством. Дети «не затрогивали ни одной струны ее внутреннего существа, всецело отдавшегося бесчисленным подробностям жизнестроительства». Реакция Арины Петровны на смерть дочери выразилась прежде всего в чувстве недовольства тем, что покойница оставила ей «своих двух щенков» (XII, 44), то есть Анниньку и Любиньку. Известие о том, что Степка-балбес прожил купленный ему матерью дом в Москве и влачит жалкое существование, вызвало в душе черствой стяжательницы прежде всего опасение, что постылый сын «опять сядет ей на шею» (XII, 48). Барыня «гневалась» (XII, 49), тогда как в подобных обстоятельствах для матери естественно состояние скорби. Чувство собственности поработило чувство родительской привязанности.
В кого уродились такие изверги? — спрашивала себя Арина Петровна на склоне лет своих, видя лютую вражду сыновей, крушение созданной ее руками «семейной твердыни». Перед ней предстали итоги ее собственной жизни — жизни, которая была всецело подчинена бессердечному стяжательству и формировала «извергов».
Самый отвратительный из них — Порфирий, прозванный в семье еще с детства Иудушкой, кровопивушкой.
Эпизоды, рисующие детство Иудушки, раскрывают историю формирования психики этого лицемера-стяжателя. В варварски жестокой среде помещиков-крепостников наказание непослушных и поощрение почтительных детей осуществлялось в грубо материальной форме, в виде худших и лучших кусков за столом. Ради вознаграждения Порфиша прикидывался ласковым сыном, заискивал перед матерью, наушничал, лебезил, показывал, что он — «весь послушание и преданность». Хотя Арина Петровна с подозрительностью относилась к этой сыновней кротости, смутно угадывая в ней коварный умысел, она все же не могла устоять перед нею и искала для сына «лучшего куска на блюде ».
Притворная почтительность как способ получения лакомого куска — это и есть та простейшая истина, которая запала в детскую душу Порфиши и, все более развиваясь в дальнейшем, сделала его лицемером-хищником Иудушкой. Если в детстве Иудушка за сыновнюю преданность получал лучшие куски за столом, то впоследствии он получил за это «лучшую часть» при разделе имения. Он стал владельцем Головлева, овладел имением брата Павла, прибрал к своим рукам все капиталы матери, обрек эту некогда грозную и властную хозяйку головлевской семьи на заброшенность и одинокое умирание и сам сделался властелином всех головлевских богатств.
Свойственные Арине Петровне и всему «головлевскому роду» черты бессердечного стяжательства развились в Иудушке до предельного выражения. Если чувство жалости к сыновьям и сиротам-внучкам временами все-таки посещало черствую душу Арины Петровны, то Иудушка был «неспособен не только на привязанность, но и на простое жаленье». Его нравственное одеревенение было так велико, что он без малейшего содрогания обрекал на гибель поочередно каждого из троих своих сыновей — Владимира, Петра и младенца Володьку.
В Иудушке Головлеве без труда угадываются и чудовищная скупость Плюшкина, и хищная хватка Собакевича, и жалкое скопидомство Коробочки, и слащавое празднословие Манилова, и беспардонное лганье Ноздрева, и даже плутовская изобретательность Чичикова. Все это есть в Иудушке, и вместе с тем ни одна из этих черт, отдельно взятая, и даже совокупность их, не характеризуют главного в Иудушке. Он не повторяет гоголевских героев, хотя и соприкасается с ними многими точками как их младший собрат по классу и как их законный «наследник» в сатире. Он является в целом совершенно новым литературным типом. Его основное оружие, его доминирующая черта — лицемерие, а в связи с этой главной чертой и все другие черты выступают в новом сочетании, в новом качестве.
Одним словом, это Иудушка-лицемер, кляузник, сутяга, пустослов. Лицемерие — вот то средство, к которому все более и более прибегают представители выморочного класса. Чтобы отстоять свои позиции в жизни.
В категории людей-хищников Иудушка представляет наиболее отвратительную разновидность, являясь хищником-лицемером. Каждая из этих двух основных особенностей его характера в свою очередь отягощена дополнительными чертами. Он хищник-садист. Он любит «пососать кровь», находя в страданиях других наслаждение. Неоднократно повторенное сатириком сравнение Иудушки с пауком, ловко расставляющим сети и сосущим кровь попадающих в них жертв, чрезвычайно метко характеризует хищную Иудушкину манеру. Он лицемер-пустослов, прикрывающий свои коварные замыслы притворно-ласковой болтовней о пустяках.
Все внешнее поведение и облик Иудушки обманчивы. «Лицо у него было светлое, умиленное, дышащее смирением и радостью». Глаза его «источали чарующий яд», а голос, «словно змей, заползал в душу и парализовал волю человека». Поэтому хищные вожделения и кровопийственные махинации Иудушки далеко не сразу бросаются в глаза и распознаются не легко. Они всегда глубоко спрятаны, замаскированы сладеньким пустословием и выражением внешней преданности и почтительности к тем, кого он наметил в качестве своей очередной жертвы. Мать, братья, сыновья, племянницы, все, кто соприкасался с Иудушкой, чувствовали, что его «добродушное» празднословие страшно своим неуловимым коварством.
Лганье так глубоко въелось в натуру Иудушки, что сделало его лицемером, «лишенным всякого нравственного мерила». Он бесконечно лжет и тут же клятвенно заверяет: «Я люблю правду». Он злопамятен и мстителен, но утверждает: «Я всем прощаю». Причиняя всем окружающим зло, он заявляет: «Я всем добра желаю». Высасывая кровь из мужика, он прикидывается его благодетелем. Самый отъявленный мошенник, сутяга и плут, в речах он бескорыстнейший поборник справедливости. Он разжигает междоусобицы в семье, но на словах он миротворец, призывающий все решать «ладком да мирком», «благословясь да богу помолясь». Он в самых почтительных выражениях изъявляет сыновнюю преданность — и тут же объегоривает и тиранит мать, обрекая ее на заброшенность, одиночество и смерть. Он прикидывается любящим братом и отцом — и с садистским наслаждением споспешествует гибели братьев и сыновей.
Лицемер говорит не то, что думает, говорит не так, как поступает.
Противоречие между словом и делом — коренная черта его психологии. Поэтому в обрисовке подобных типов важная роль принадлежит речевой характеристике. Общепризнано мастерство Щедрина в этой области. И высшее достижение здесь — речевая характеристика Иудушки, гениально воссоздающая тип лицемера-пустослова[58].
Иудушка омерзителен своими пошлыми и подлыми поступками, еще более — неуемным празднословием. Своими речами он тиранит окружающих; может словами, как сказал о нем один крестьянин, «сгноить человека». Каждое его слово «десять значений имеет».
Иудушка скудоумен, невежествен, косноязычен. Запас его слов, определяемый запросами паука-помещика, крайне беден, а его пустословие неудержимо. Отсюда постоянное переливание из пустого в порожнее, повторяющаяся канитель слов и обрывков фраз.
Особенность Иудушки как социально-психологического типа в том именно и состоит, что это хищник, предатель, лютый враг, прикидывающийся ласковым другом. Тип такого лицемера требовал для своего художественного раскрытия соответствующего приема и жанра. Здесь оказался необходимым сложный психологический анализ, разоблачающий обманчивость внешних форм поведения персонажа, и потребовался целый роман, а не рассказ, как было первоначально задумано автором.
Сама форма «семейного» романа, обычно мало привлекавшая Салтыкова-Щедрина, была подсказана стремлением глубже и подробнее разоблачить психологию усадебного хищника-лицемера. Наблюдение за «героем» на близком расстоянии, в его домашней обстановке, в его повседневном быту позволило дать наиболее полное представление о постоянном хамелеонстве Иудушки.
Иудушка совершал свои злодейства как самые обыкновенные дела, «потихонечку да полегонечку». Он с большим искусством пользовался такими прописными истинами, как почитание семьи, религии и закона, изводил людей тихим манером, действуя «по-родственному», «по-божески», «по закону». Чем подлее был замысел лицемера, тем чаще он повторял эти свои излюбленные выражения.
Иудушка во всех отношениях личность ничтожная, скудоумная, никчемная, мелкая даже в смысле, своих отрицательных качеств. И вместе с тем это полное олицетворение ничтожества держит в страхе окружающих, господствует над ними, побеждает их и несет им гибель. Ничтожество приобретает значение страшной, гнетущей силы, и происходит это потому, что оно опирается на крепостническую мораль, на закон и религию.
Попрание Иудушкой всех норм человечности несло ему возмездие, неизбежно вело ко все большему разрушению личности. В своей деградации он прошел три стадии нравственного распада: запой празднословия, запой праздномыслия и пьяный запой, завершивший позорное существование кровопивца. Сначала Иудушка предавался безграничному пустословию, отравляя ядом своих сладеньких речей окружающих. Затем, когда вокруг него никого не осталось — одни умерли, другие ушли, — пустословие сменилось пустомыслием.
Закрывшись в кабинете, Иудушка погрузился в злобные мечтания. В них он преследовал те же цели, что и в непосредственной жизни: искал полного и беспрепятственного удовлетворения жажды стяжания и жажды мщения. Его фантастические расчеты были непосредственным продолжением головлевской реальности и выражали все тот же мир праздных помещичьих идеалов. Высчитывая воображаемые доходы, Иудушка изобретал все более дикие способы ограбления мужика. Иудушка мог ощутить полное счастье только в призрачном мире безграничного стяжания и мщения. Он достиг последней стадии того нравственного маразма, который был следствием социального паразитизма. Далее следовали алкоголизм и смерть.
В последней главе романа («Расчет») Щедрин ввел трагический элемент в картину предсмертных переживаний такого человекообразного, как Иудушка, показав в нем мучительное «пробуждение одичалой совести» (XII, 275). Совесть пробудилась в Иудушке, но слишком поздно и потому бесплодно, пробудилась тогда, когда хищник уже завершил круг своих преступлений и стоял одной ногой в могиле. Только теперь, когда он увидел перед собой признак неотвратимой смерти, когда наступил момент «расчета», — только теперь пробуждается «одичалая совесть», и это пробуждение является лишь одним из симптомов физического умирания.
Проблеск совести у Иудушки — это лишь момент предсмертной агонии, это та форма личной трагедии, которая порождается только страхом смерти, которая поэтому остается бесплодной, исключает всякую возможность нравственного возрождения и лишь ускоряет «развязку», «саморазрушение» личности.
Вторжение трагического элемента в историю разложения головлевской семьи довершало сатирическое разоблачение паразитического класса картиной морального возмездия.
Конечно, оставаясь непримиримым в своем отрицании дворянско-буржуазных принципов семьи, собственности и государства, Щедрин, как великий гуманист, не мог не скорбеть по поводу испорченности людей, находившихся во власти пагубных принципов. Эти переживания гуманиста дают себя знать в описании как всего головлевского мартиролога, так и предсмертной агонии Иудушки, но они продиктованы не чувством снисхождения к преступнику как таковому, а болью за попранный образ человеческий. И вообще в содержании романа отразились сложные философские раздумья писателя-мыслителя над судьбами человека и общества, над проблемами взаимодействия среды и личности, социальной психики и нравственности.
. Щедрин отдавал себе полный отчет в том, что источник социальных бедствий заключается не в злой воле отдельных лиц, а в общем порядке вещей, что нравственная испорченность — не причина, а следствие господствующего в обществе неравенства. Однако сатирик отнюдь не был склонен фаталистически оправдывать ссылками на среду то зло, которое причиняли народной массе представители правящих классов.
Ему были понятны обратимость явлений, взаимодействие причины и следствия: среда порождает и формирует соответственные ей человеческие характеры и типы, но сами эти типы в свою очередь воздействуют на среду в том или ином направлении. Отсюда непримиримая воинственность сатирика по отношению к правящим кастам.
Вместе с тем Щедрину не была чужда и мысль о воздействии на «эмбрион стыдливости» в людях привилегированной верхушки общества, в его произведениях неоднократны апелляции к их совести. Эти же идейно-нравственные соображения просветителя-гуманиста, глубоко верившего в торжество разума, справедливости и человечности, сказались и в финале романа «Господа Головлевы». Позднее пробуждение совести у Иудушки не влечет за собой других Последствий, кроме бесплодных предсмертных мучений. Не исключая случаев «своевременного» пробуждения сознания его вины и чувства нравственной ответственности, Щедрин картиной трагического конца Порфирия Головлева внушал живым соответствующий урок. Однако сатирик не связывал с подобными уроками далеко идущих надежд и вовсе не разделял мелкобуржуазных утопических иллюзий о возможности достижения идеала социальной справедливости путем морального исправления эксплуататоров. Сознавая огромное значение морального фактора в судьбах общества, Щедрин всегда оставался сторонником признания решающей роли коренных социально-политических преобразований. В этом состоит принципиальное отличие Щедрина как моралиста от современных ему великих писателей-моралистов — Тол-того и Достоевского.
В богатейшей щедринской галерее типов образ Иудушки Головлева столь же выпукло и ярко воплощает русских помещиков, как образ Угрюм-Бурчеева — царскую бюрократию, а образ Осипа Дерунова — русскую буржуазию. При этом Угрюм-Бурчеев и Иудушка Головлев достойны стоять рядом по силе воплощения в них человеконенавистнической, паразитической и деспотической сущности самодержавно-крепостнического режима. Эти две зловещие фигуры вызывают в сознании читателя ассоциации с народным представлением о «сатане» как безрассудно жестоком, неумолимом и отвратительном враге рода человеческого. О подобных типах, вскормленных крепостным правом, Щедрин говорил, что это люди необыкновенно мстительные, снабженные болезненным самолюбием и злою памятью, и ежели при этом они «свою адскую ограниченность возводят на степень адского убеждения — тогда это уже совершенные исчадия сатаны» (XIII, 98).
***
В литературе о «Господах Головлевых» Иудушка рассматривается преимущественно как символ морального и социального распада класса крепостников. Действительно, это значение образа, воплощающего крайний маразм помещичьего класса, является основным. Примечательно, однако, следующее обстоятельство. Из всех членов трех поколений семьи Головлевых — Арины Петровны, ее детей и ее внуков, в ускоряющемся темпе покидающих арену жизни, самый растленный представитель вымирающего фамильного рода оказывается и самым живучим. Его нравственная одеревенелость, его жестокое бессердечие, его звериное равнодушие к людям, его иезуитское пустословие служили ему надежной защитой. Именно Иудушка—«последний представитель выморочного рода» (XII, 275), именно он оказался «удивительно живучим» (XII, 277); когда все погибли — мать, сыновья, племянницы, — именно к нему «конец все не приходил. Очевидно, требовалось насилие, чтобы ускорить его» (XII, 277).
Проводя в «Господах Головлевых» с неумолимой последовательностью идею о нравственном и физическом разрушении паразитической личности, Щедрин, таким образом, далек от мысли, что такие растленные типы, как Иудушка, отомрут сами собой и что можно предоставить истории делать свою очистительную работу.
По мысли сатирика, смерть героя в художественном произведении является «примерной смертью», в действительности же герой остается живым до тех пор, пока сохраняется соответствующий ему порядок вещей. Так обстоит дело и с Иудушкой Головлевым. Он умер в щедринском романе постыдной смертью, но это всего лишь примерная смерть. Сатирик выносил смертный приговор исторически обреченному и уже отмиравшему, но все еще политически господствовавшему классу помещиков. В реальной действительности приговоренные историей крепостники-иудушки продолжали существовать до тех пор, пока сохранялся поддерживавший их монархический порядок вещей.
Роман «Господа Головлевы» показывает не только то, как вымирают представители исторически обреченного класса, но и как они, проявляя хищную изворотливость, пытаются продлить свое существование за пределами срока, который им отвела история. Гнусное лицемерие Иудушки — это и психологический симптом разложения класса, отжившего свой век, и вместе с тем коварное оружие, к которому прибегает вообще всякое паразитическое отребье в борьбе за сохранение своих прерогатив, за укрепление своего пошатнувшегося положения в обществе.
Иудушка олицетворяет наиболее омерзительную и вместе с тем наиболее живучую разновидность психологии собственников-эксплуататоров. Поэтому в содержании образа Иудушки следует различать его временное и длительное значение. Если первое заключается в том, что он как социальный тип русского дворянина воплощает в себе сущность феодального паразитизма, то второе состоит в том, что он как психологический тип олицетворяет сущность всякого лицемерия и предательства и в этом своем качестве выходит за рамки одной исторической эпохи, одного класса, одной нации.
Помещичья усадьба — это колыбель Иудушки и первоначальная арена его действий. Однако подобный персонаж вполне мыслим в других сферах деятельности и на других этапах развития эксплуататорского общества. Будучи как социальный тип представителем сходящего с арены истории класса, Иудушка как психологический тип выходит далеко за рамки сформировавшей его социальной среды. Психология живет значительно дольше породившего ее класса. Когда класс сходит с исторической сцены, психология в новых условиях длительное время продолжает существовать в виде пережитков, сохраняющих значение консервативной традиции. И если во всем социально-экономическом укладе России вплоть до революции 1917 года были живучи остатки крепостничества, то еще более прочно удерживались они в психике и идеологии господствующих классов.
Всякого рода лицемерие, составляя неотъемлемый атрибут морали паразитических классов вообще, присуще буржуазии даже в большей мере, нежели дворянству. Господство дворянина-помещика опиралось на юридическое право владения землей и крепостными душами. Господство буржуа-предпринимателя основано на экономической эксплуатации «вольного труда» в условиях юридически отмененного рабства. Поэтому к лицемерию, как узде, сдерживающей угнетенные народные массы в повиновении, буржуа вынужден прибегать чаще. Не случайно, что произведение о начале победного шествия русской буржуазии в пореформенные десятилетия Щедрин озаглавил словами: «Благонамеренные речи». Благонамеренные речи — это прежде всего те лицемерные речи буржуазии об общем благе, о священности права собственности, об интересах отечества и государства, которые были призваны замаскировать торжество капиталистического чистогана, облагородить своекорыстную погоню за капиталом.
По существу своему, по своей хищнической функции примитивное лганье Иудушки ничем не отличается от лганья более квалифицированного, более современного, то есть лганья буржуазных дельцов. Последним Иудушка уступает не в лживости, а лишь в искусстве лганья. В психологическом отношении Иудушка представляет собой именно тот тип, в котором крепостнические замашки сращивались с буржуазными и в котором, так сказать, осуществлялось моральное братание двух эксплуататорских классов — нисходящего дворянства и восходящей буржуазии. Поэтому разоблачение лицемерия крепостника Порфирия Головлева объективно приобретало значение приговора над моралью собственников-эксплуататоров вообще, над моралью хищников разных формаций и разных сфер действия.
Щедрин в «Господах Головлевых» специально обратил внимание на различие между Иудушкой, пустословящим в узких пределах затверженных понятий, и Тартюфом или любым французским буржуа, соловьем рассыпающимся по части общественных основ.
Примитивное лицемерие усадебного хищника Иудушки и вышколенное лицемерие буржуазных политических дельцов — это две ступени в искусстве лганья. Иудушка стоит на низшей.
Его лицемерие предопределено опытом хищничества на ограниченной арене дворянской усадьбы. Это то лицемерие, которое просто вырастает в паразитической среде, как крапива растет у забора. Но переход от «дикорастущего» бессознательного лганья Иудушки к сознательному лицемерию являлся лишь вопросом времени. Уже одновременно с Иудушкой Щедрин представил в «Благонамеренных речах» целый ряд сознательных лицемеров. Таковы, например, исправник Колотов, судебный следователь Добрецов, председатель казенной палаты Удодов, либерал Тебеньков.
Образ Иудушки явился той емкой художественной психологической формулой, которая обобщала все формы и виды лицемерия правящих классов и партий эксплуататорского общества. Иудушкины патриархальные принципы — «по-родствённому», «по-божески», «по закону» — у позднейших буржуазных лицемеров видоизменились, приобрели вполне современную формулировку— «во имя порядка», «во имя свободы личности», «во имя общего блага», «во имя спасения цивилизации от революционных варваров» и т. д., но идеологическая функция их осталась прежней, Иудушкиной: служить прикрытием своекорыстных интересов эксплуататоров. Иудушки более позднего времени сбросили свой старозаветный халат, выработали культурные манеры и в таком обличье успешно подвизались на политической арене.
Использование образа Иудушки Головлева в сочинениях В. И. Ленина служит особо ярким доказательством огромной художественной емкости созданного Щедриным типа. С образом Иудушки Головлева В. И. Ленин сближает: царское правительство, которое «прикрывает соображениями высшей политики свое иудушкино стремление — отнять кусок у голодающего»[59]; бюрократию, которая, подобно опаснейшему лицемеру Иудушке, «искусно прячет свои аракчеевские вожделения под фиговые листочки народолюбивых фраз»[60]; «благородного» помещика, сильного «умением прикрывать свое нутро Иудушки целой доктриной романтизма и великодушия»[61].
В сочинениях В. И. Ленина представлены кадетский Иудушка и либеральный Иудушка, Иудушка Троцкий и Иудушка Каутский; встречаются здесь и профессор Иудушка Головлев, и Иудушка Головлев самой новейшей капиталистической формации, и другие разновидности лицемеров, речи которых «похожи, как две капли воды, на бессмертные речи бессмертного Иудушки Головлева»[62].
Возводя всех этих позднейших дворянских и буржуазных лицемеров, подвизавшихся в области политики, к бессмертному Иудушке Головлеву, В. И. Ленин тем самым раскрывал широчайший социально-политический диапазон гениального щедринского художественного обобщения. Ленинская интерпретация красноречиво свидетельствует о том, что тип лицемера Иудушки Головлева по своему значению выходит за рамки своей первоначальной классовой принадлежности и за рамки своего исторического периода. Лицемерие, то есть замаскированное благими намерениями хищничество, и есть та основная черта, которая обеспечивает иудушкам живучесть за пределами отведенного им историей времени, длительное существование в условиях борьбы классов. До тех пор, пока существует эксплуататорский строй, всегда остается место для лицемеров, пустословов и предателей иудушек, они видоизменяются, но не исчезают. Источник их долговечности, их «бессмертия» — это порядок вещей, основанный на господстве эксплуататорских классов.
Иудушка Головлев — поистине общечеловеческое обобщение всей внутренней мерзости, порождаемой господством эксплуататоров, глубокая расшифровка внутренней сущности буржуазно-дворянского лицемерия, психологии зверских замыслов, прикрытых благонамеренными речами. Как литературный тип Иудушка Головлев служил и долго еще будет служить острым оружием общественной борьбы.
Итак, если огромно значение созданного Щедриным образа Иудушки как уничтожающего приговора классу крепостников, то еще более важно значение данного образа как психологического ключа к распознанию иудушек вообще. «Господа Головлевы» учат распознавать психологию такого сорта людей, и в этом заключается непреходящее значение гениального творения Салтыкова-Щедрина.
***
Художественный метод Щедрина развивался в русле богатейшей психологической культуры, разработанной его литературными предшественниками и современниками. Специфические приемы сатиры идут в его произведениях рука об руку с мастерской психологической разработкой типов, с глубоким проникновением в социальную психологию целых классов и отдельных человеческих характеров. Своеобразие объекта, задач, творческих принципов и идейно-художественных концепций Щедрина придавало особые черты и его методу психологического анализа. В «Господах Головлевых» художественный психологизм Щедрина получил свое наиболее полное и, так сказать, чистое выражение. Обычные средства сатирического письма (смех, гипербола, фантастика, иносказательные эзоповские фигуры) отстранены или же поглощены в поэтике романа приемами психологического исследования. Сатирическая тенденция художественного преувеличения проявляет себя и в романе, но уже не во внешних формах образов, а только в сгущении психологических красок, в интенсивности рисунка внутренних портретов.
В чем же заключаются основные особенности Щедрина как художника-психолога?
Чернышевский, характеризуя различия в психологическом методе писателей, говорил, что одного «занимают всего более очертания характеров; другого — влияния общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего — связь чувств с действиями; четвертого— анализ страстей; графа Толстого всего более — сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться определительным термином»[63]. Прибавим от себя, что первое из указанных направлений наиболее характерно для Тургенева, второе — для Щедрина. Конечно, говоря так, мы имеем в виду только преимущественную тенденцию в психологизме каждого из этих писателей. Можно указать и на ряд других отличительных особенностей.
Так, например, Тургенев наиболее успешно постигал психологию передовых представителей дворянской интеллигенции, из которой, по мнению писателя, должны были выйти типы новых деятелей. Ту или иную общественную идею Тургенев проверял, испытывал, исследовал на почве развитой психики культурного человека дворянской среды. В социальных границах этой среды тургеневский психологический анализ дал высокие достижения.
Достоевского как художника-психолога привлекали преимущественно люди болезненной, надломленной психики. В недрах замученной, мятущейся души он искал решения мучительно волновавших его социальных и нравственных вопросов. В психологических картинах Достоевского представлены с непревзойденным мастерством прежде всего моральные последствия уродливых социальных отношений.
В отличие от Тургенева и Достоевского, Льву Толстому свойственна широкая масштабность в выборе объектов для психологических наблюдений. Толстовский художественный анализ захватывает разнообразнейшие человеческие характеры, одерживает неизменные победы в применении к самым различным духовным организациям, начиная от простого мужика и кончая аристократом. Но поскольку в представлении Толстого исходным пунктом всех социально-политических преобразований, служит совершенствование человеческой морали, постольку в центре его внимания оказывается прежде всего человек, занятый идейно-нравственными исканиями, человек подвижной, динамичной психики, сложной внутренней жизни. С особой тщательностью Толстой анализирует такие характеры, которые находятся в состоянии конфликта с моралью породившей их привилегированной среды и представляют благоприятную почву для развития идеи о нравственном усовершенствовании.
Что же касается Щедрина, то он, в соответствии с социологическим складом своего художественного мышления и принятой на себя ролью политического сатирика, дал лучшие образцы психологического мастерства прежде всего в изображении идейно-нравственной деградации представителей господствующих социальных слоев общества.
В судьбах семьи Головлевых Щедрин с исключительной силой убедительности продемонстрировал закономерную связь между психикой и социальной средой. Процесс нравственного оскудения, вырождения и конечного распада дворянского рода представлен на всех стадиях и во всех формах как неизбежное психологическое следствие действия законов классового бытия. Как художественная история вырождения семьи, роман «Господа Головлевы» давал современной Щедрину критике повод для социально-литературных сопоставлений с романами серии «Ругон-Маккары» Золя. Однако при этом критикой делались и необоснованные заключения о родственности идейно-творческих концепций сравниваемых писателей. Щедрин высоко ценил демократический социальный пафос знаменитого французского писателя, получившего широкую популярность в России 70-х годов. В то же время он осуждал склонность Золя к натуралистической интерпретации социальных явлений, к мотивировке психики физиологией. Наиболее резкие суждения о слабых сторонах художественной методологии Золя были высказаны Щедриным в письмах, относящихся к периоду работы над «Господами Головлевыми», и тщательный сопоставительный анализ, несомненно, мог бы обнаружить в щедринской хронике головлевской семьи следы творческой полемики с принципами автора «Ругон-Маккаров». В объяснении особенностей человеческих характеров и жизненных судеб многочисленных представителей разветвленной семьи Ругон-Маккаров Золя чрезмерное внимание уделял законам биологической наследственности. В отличие от этого Щедрин последовательно проводил принцип социальной детерминированности внутреннего мира и поведения личности. Паразитизм, праздность — вот та социальная «наследственная» болезнь Головлевых, которая передавалась из поколения в поколение, углубляла процесс опустошения и оподления личности и в конечном итоге произвела свой ядовитейший плод в образе злокачественного лицемера Иудушки.
Политическая реакция в зеркале сатирического романа. «Современная идиллия»
Если «Господа Головлевы» являются в творчестве Щедрина высшим достижением в жанре социально-бытового психологического романа, то «Современная идиллия» наряду с «Историей одного города» может служить блистательным образцом сатирического политического романа, целью которого было на этот раз разоблачение не столько непосредственно административных принципов монархизма, сколько порождаемых последним массовых проявлений политической и общественной реакции.
«Современная идиллия», несмотря на пестроту содержания, отразившего в себе текучий политический материал современности, а также несмотря на то, что между временем появления первых одиннадцати глав (1877—1878) и последующих (1882—1883) прошло более четырех лет, обладает стройной композицией, не уступая в этом отношении «Господам Головлевым», и единой тональностью сатирического повествования. Для композиции романа характерно наличие глав, включающих разные жанровые формы — сказку, фельетон, драматическую сцену. Однако это вовсе не отступление от главной мысли и от основного сюжета, а своеобразное и в высшей степени оригинальное освещение основной темы; более того: такие, например, «вставные» эпизоды, как «Сказка о ретивом начальнике» или драматическая сцена «Злополучный пискарь», являются сгустками развиваемых в романе идей. В композиции «Современной идиллии» особенно ярко, непринужденно и многосторонне проявились присущие Щедрину «свободное отношение к форме», искусство создавать органический сплав из контрастирующих жанровых элементов, которые придают Повествованию многокрасочность и выставляют предмет сатиры в рельефном и остроумном освещении.
Либеральный критик К. К. Арсеньев выступил в «Вестнике Европы» с рецензией на «Современную идиллию» под названием «Новый Щедринский сборник». В связи с этим Щедрин писал редактору журнала А. Н. Пыпину в письме от 1 ноября 1883 года: ««Современная идиллия» названа «Сборником», но почему — совершенно не понимаю. Это вещь совершенно связная, проникнутая с начала до конца одною мыслию, которую проводят одни и те же «герои». Герои эти, под влиянием шкурного сохранения, пришли к убеждению, что только уголовная неблагонадежности, может прикрыть и защитить человека от неблагонадежности политической, и согласно с этим поступают, т. е. заводят подлые связи и совершают пошлые дела. Вещь эта имеет и начало и конец, и ежели заканчивается не совсем обычно вступлением на арену Стыда, то, по моему мнению, право, это отнюдь не менее естественно, нежели разрешение посредством вступления в брак или монастырь. Ежели стать на точку зрения «Вестника Европы», то и «Записки Пиквикского клуба», и «Дон-Кихота», и «Мертвые души» придется назвать «сборниками» (XIX, 365).
И действительно, с перечисленными Щедриным произведениями «Современную идиллию» роднит прежде всего жанр сатирического романа-обозрения, в котором многообразие сцен и лиц, широко охватывающих жизнь общества своего времени, композиционно сцементировано в единую картину мотивом «путешествующих» героев. При этом щедринский роман, в отличие от его жанровых предшественников, весь погружен непосредственно в атмосферу политической жизни. Герои «Современной идиллии» мечутся в пространстве, будучи вытолкнуты с насиженных мест разбушевавшейся политической реакцией, которая заставила их бежать в панике, шпионить, доносить, истреблять друг друга, впутываться в уголовные и политические авантюры.
На литературное оформление путешествия героев «Современной идиллии» в усадьбу Проплеванную наиболее заметное влияние оказали именно «Записки Пиквикского клуба» Диккенса. Щедрин мастерски использовал в своем романе мотив «пиквикианы», применив его к материалу и задачам политической сатиры своего времени.
В «Современной идиллии» сатирик наиболее ярко осуществил свой замысел такого романа, драма которого выходит из домашних рамок на улицу, развертывается на публичной политической арене и разрешается самыми разнообразными, дочти непредвиденными способами.
Действие «Современной идиллии» начинается в частной квартире, отсюда переносится в полицейский участок, адвокатскую контору, купеческий дом, постепенно захватывает все более широкий круг лиц и явлений, затем перебрасывается из столицы в города и села провинции и, наконец, возвращается опять в столицу. Весь этот пестрый поток лиц и событий в произведении вызван вторжением «внутренней политики» в судьбы людей.
Основная тема романа — изобличение политической и общественной реакции, малодушия и ренегатского поведения тех слоев либеральной интеллигенции, которые в годы реакции докатились до предельного идейно-нравственного и политического падения.
Центральными героями «Современной идиллии» являются два умеренных либерала — Глумов и рассказчик. Стали они разбирать свое прошлое — «и чуть не захлебнулись от ужаса. Господи, чего только там не было! И восторг по поводу упразднения крепостного права, и признательность сердца по случаю введения земских учреждений, и светлые надежды, возбужденные опубликованием новых судебных уставов, и торжество, вызванное упразднением предварительной цензуры, с оставлением ее лишь для тех, кто по человеческой немощи не может бесцензурности вместить.
Одним словом, все опасности, все неблагонадежности и неблагонамеренности, все угрозы, все, что подрывает, потрясает, разрушает, — все тут было! И ничего такого, что созидает, укрепляет и утверждает, наполняя трепетною радостью сердца всех истинно любящих свое отечество квартальных надзирателей!» (XV, 63).
Эта язвительная характеристика совмещает в себе два удара. Она высмеивает либералов, показывая мизерность их программы, и реакционеров, которым невинные либеральные претензии представляются чем-то в виде революционного «потрясения основ». В сущности, и либералы и реакционеры напуганы призраком революции, и те и другие оказываются во власти инстинкта шкурного самосохранения.
Заподозренные властями в том, что они, сидя в квартирах, «распускают революцию», Глумов и рассказчик намечают программу, осуществление которой вернуло бы им репутацию благонамеренности. Следуя первоначально совету своего друга Алексея Степановича Молчалина, рекомендовавшего им «умерить свой пыл», «погодить», они прекращают рассуждения, предаются исключительно физическим удовольствиям и телесным упражнениям. Однако этих доказательств благонадежности оказывается недостаточно. Став однажды, в целях шкурного самосохранения, на стезю благонамеренности, герои романа стремительно падают все ниже и ниже. Двилсение по наклонной плоскости навстречу реакции превращают их в активных участников той самой «шутовской трагедии», в стороне от которой они старались первоначально удержаться.
Они завязывают связи с полицейскими чинами квартального участка, сыщиком, разного рода заведомыми прохвостами, впутываются в грязную историю с мнимым двоеженством, в махинацию с поддельными векселями и т. д. Одним словом, они «делаются участниками преступлений, в надежде, что общий уголовный кодекс защитит их от притязаний кодекса уголовно-политического» (XV, 166). И действительно, попав под суд, они выходят обеленными и как люди, доказавшие свою благонамеренность, удостаиваются чести работать сотрудниками в газете «Словесное удобрение», издаваемой фабрикантом Кубышкиным. Оставаясь верными хозяину («Ибо Кубышкин был знамя!»), они пропагандировали кубышкинские ситцы, изрыгали хулу и клевету, проклинали человеческий разум и дошли наконец до проповеди «всеобщего упразднения».
Щедрин никогда не признавал за либеральной интеллигенцией значения ведущей освободительной силы в общественной борьбе, более того — он видел и понимал всю опасность соглашательской политики либерализма. Но при всем своем вполне основательном скептицизме Щедрин не оставлял мысли о возможности выделения из рядов либеральной интеллигенции лучших ее элементов, способных содействовать освободительному движению. Это проявилось и в «Современной идиллии». Эпопея реакционных похождений двух либеральных интеллигентов заканчивается в романе пробуждением в них чувства стыда. Страх перед реакцией заставил их предпринять унизительный «подвиг» самосохранения. Но, добиваясь репутации политически благонамеренных людей, они сознавали, что творят именно подлости и пошлости, а не что-либо другое, и внутренне оставались оппозиционно настроенными к реакции. Разлад между безнравственным поведением и критическим направлением мысли разрешился в конце концов тоской проснувшегося стыда. Щедрин считал возможным и подсказывал такой исход для известной части культурной и критически мыслящей либеральной интеллигенции. И в этом нет ничего противоестественного или несбыточного. Когда старый, отживший свой исторический срок социально-политический строй распадается, то от правящих классов все чаще начинают отходить их наиболее сознательные и честные представители.
При всем том, вводя в «Современную идиллию» мотив проснувшегося стыда, Щедрин вовсе не был склонен связывать с действием стыда какие-либо далеко идущие надежды в смысле общественных преобразований.
«Что было дальше?.. — пусть догадываются сами читатели. Говорят, что Стыд очищает людей, — и я охотно этому верю. Но когда мне говорят, что действие Стыда захватывает далеко, что Стыд воспитывает и побеждает, — я оглядываюсь кругом, припоминаю те изолированные призывы Стыда, которые, от времени до времени, прорывались среди масс Бесстыжества, а за тем все-таки канули в вечность... и уклоняюсь от ответа» (XV, 304).
Таковы последние слова «Современной идиллии». Объективно они полемичны по отношению ко всякого рода моралистическим концепциям преобразования общества и, в частности, по отношению к становившемуся популярным в то время нравственному учению Льва Толстого. И хотя Щедрин уклонился от окончательного ответа, все же мысль его относительно общественной роли стыда достаточно ясна. Стыд помогает исправлению людей, очищению отдельных представителей правящей части общества от тяжкого груза классового наследства, стыд служит предпосылкой для общественной освободительной борьбы, но действие стыда не захватывает далеко и не отменяет необходимости активной массовой борьбы.
***
Разоблачение либерального ренегатства в «Современной идиллии» выросло в широкую сатирическую картину политической и общественной реакции. В этом отношении «Современная идиллия» не представляет в творчестве Щедрина чего-либо нового. Политическая и общественная реакция была постоянным объектом его сатиры. Однако «Современная идиллия», не будучи ни первым, ни последним ударом Щедрина по реакции, сохраняет за собой значение произведения, наиболее яркого по силе, беспощадности и мастерству сатирического разоблачения и обличения как правительственной реакции, так и ее губительного влияния на широкие слои русского общества. Роман в большей своей части написан в то время, когда самодержавие, расправившись с народовольцами, требовало все новых и новых жертв. В стране свирепствовали террор, эпидемия подозрительности, в связи с этим в обществе распространилось массовое предательство со стороны либеральной интеллигенции, холопское приспособленчество. На правительственный призыв к содействию в борьбе с революцией и социализмом отозвалось прежде всего разное человеческое отребье; по меткому выражению автора «Современной идиллии», негодяй стал героем современности.
Все это нашло свое рельефное отражение в сатирическом зеркале «Современной идиллии». Щедрин издевательски высмеял обезумевшее в своем реакционном рвении начальство, завершив это знаменитой «Сказкой о ретивом начальнике». Сатирик заклеймил презрением нравственно растленных «героев» реакции, дав их обобщенный портрет в фельетоне о негодяе «Властитель дум».
Перепуганные либералы нашли в романе достойное выражение в образах двух «идеально-благонамеренных скотин», разыгрывающих жалкую комедию шкурного приспособления. И рядом с «героями» шутовской комедии, утратившими человеческий образ, Щедрин показывает подлинно человеческую трагедию борцов, ставших жертвами свирепой реакции (суд над «злополучным пискарем»), и трагедию тружеников деревни, ограбленных кулаками и начальством (статистическое описание села Благовещенского в гл. XXVI).
Реакция 80-х годов ополчилась прежде всего против революционной интеллигенции. В соответствии с этим слова «революция» и «сицилисты» произносятся действующими лицами «Современной идиллии» очень часто. В романе одни мечутся в страхе быть принятыми за революционеров, другие занимаются выслеживанием и ловлей революционеров. Однако любопытно то обстоятельство, что Щедрин нигде не показывает непосредственного столкновения реакционеров с действительно революционно настроенными людьми. Он не имел легальной возможности представить в романе революционеров и лишь отчасти коснулся их в драматической сцене «Злополучный пискарь». В целом же вся шутовская трагедия разыгрывается вокруг двух, в сущности, политически безопасных либералов из дворян, ошибочно принимаемых шпионами за революционеров. Такая ситуация была вполне реалистична. Реакция взяла под подозрение широкие культурные слои общества, открыла разнузданную кампанию против интеллигенции вообще, мобилизуя на борьбу с нею, под видом «общественного содействия», разного рода невежественных проходимцев.
Политическая и моральная низость воинствующих поборников реакции служат в «Современной идиллии» одним из основных объектов щедринского сарказма. Злобствующих, но тупых охотников за «сицилистами» Щедрин посрамляет, между прочим, тем, что то и дело ставит их смешное положение людей, неожиданно попадающих 18 сети их же собственной саморазоблачающейся ограниченности. Так, например, все те, кто был ими пойман в качестве исицилистов», на проверку оказывались самыми заурядными обывателями.
Показывая торжествующих подвижников реакции во всей их отвратительной идейно-нравственной наготе, представляя врага низким, глупым, смешным, Щедрин тем самым стремился рассеять страх перед реакцией, пробудить в интеллигенции чувство стыда перед фактами массового пресмыкательства, помочь делу освобождения общественного самосознания от нависших над ним устрашающих (Призраков реакции. Была у Щедрина и другая, затаенная мысль: высмеять самые поиски «сицилистов», создать .вокруг этого неприязненнее общественное мнение и тем самым, по возможности, обуздать полицейско-сыскной разгул.
Действительность эпохи свирепой правительственной реакции представлена в «Современной идиллии» как трагедия жизни целого общества, трагедия, которая растянулась на бесчисленное множество актов, захватила в тиски огромную массу людей и притом осложнилась шутовством. От такой «шутовской трагедии» деваться человеку некуда, потому что источником ее является «несостоятельная форма жизни», присвоившая себе наименование «порядка» (XV, 167).
Общественный «порядок», где господствуют тунеядцы, насильники, заведомые прохвосты, где уголовные преступления являются мерилом политической благонадежности, где торжествующее невежество преследует всякое честное проявление ума и проповедует упразднение человеческой мысли, где закон стоит на страже насилия меньшинства над большинством — этот «порядок» Щедрин называет жестоким шутовством.
Герои жестокого шутовства — полицейские чиновники и шпионы (Иван Тимофеевич, Прудентов, Кшепшицюльский, масса урядников и «гороховых пальто»), бюрократы-сановники (Перекусихины), завоеватели-авантюристы (Редедя), капиталисты (Парамонов, Вздошников, Ошмянский), выжившие из ума князья-помещики (Рукосуй-Пошехонский), заведомые прохвосты (Гадюк-Очищенный, Балалайкин и др.), «идеально-благонамеренные скотины» из числа либералов (Глумов и рассказчик) — все эти комедианты старого, прогнившего, .обанкротившегося порядка выставлены в «Современной идиллии» на публичный позор и осмеяние.
Щедрин писал: «Не могу я к таким явлениям относиться с «надлежащей серьезностью», ибо ничего кроме презрения к ним чувствовать нельзя, да и не должно. Для меня еще большое счастье, что у меня большой запас юмору» (XIX, 365—366). Юмор презрения, злой и беспощадный юмор — вот то главное оружие, которое обрушил автор «Современной идиллии» на типы и явления, олицетворяющие самодержавно-полицейское государство помещиков и капиталистов. Стремлению раскрыть жестокий комизм действительности, сорвать с врага «приличные» покровы и представить его в смешном и отвратительном виде — этому подчинена вся яркая, многоцветная, блещущая остроумием и беспощадными изобличениями поэтика романа.
Занятый в «Современной идиллии» преимущественно разоблачением «шутовского» аспекта общественной трагедии, Щедрин коснулся и непосредственно трагических коллизий. Трагическая сторона реакционного шутовства — это страдания и гибель массы людей честной мысли и честного труда. Щедрин говорит о трагизме передовой русской интеллигенции, ставшей жертвой полицейского террора:
«Идет человек по улице, и вдруг — фюить!» (XV, 131); «взвился занавес и тотчас же опустился над убиенными» (XV, 167). И рядом с этими скоропостижными актами, уносящими борцов, разыгрывается медленная, сплошная, «привычная» трагедия жизни народных масс, еще не сознающих причин своего положения: «...разве не ужасно видеть эти легионы людей, которые всю жизнь ходят «промежду трагедиев» — и даже не понимают этого!» (XV, 132).
Самая горчайшая невзгода нависла над обнищавшей, задавленной деревней. «Небо кругом обложило свинцовыми облаками, из которых сеялся тонкий и совершенно осенний дождь. Словно сетью застилал он перед нашими глазами и даль, в которую Волга катила свои волны, и плоские берега реки, на которых, по местам, чернели сиротливые, точно оголенные избушки» (XV, 183). Здесь свила себе гнездо ужасающая бедность. Здесь «только слезы льют да зубами щелкают» (XV, 190), прежде «в слезах хлеб ели, а ноне слезы остались, а хлеба нет...» (XV, 206). Вот шестидесятипятилетняя старуха, которая помнит, что до двадцати лет щи едала, а потом и щей не осталось. Вот старик, при виде постороннего человека испуганно и торопливо прячущий за пазуху ломоть черного хлеба. «Не было пяди земли, которая не таила бы слова обличения в недрах своих...» (XV, 208).
Трагизм деревенской жизни углубляется тем, что рядом с материальной бедностью идет духовная бедность крестьянских масс, их политическая отсталость, помогающая властям и кулачеству использовать народ в качестве послушного орудия реакции. Щедрин показывает в романе, как полицейская власть и сельская буржуазия, устрашая призраком революции и развращая обещанием денежных вознаграждений, подстрекали крестьян на «ловлю сицилистов». Корчевский мещанин в романе рассказывает: «В прошлом годе Вздошников купец объявил: коли кто сицилиста ему предоставит — двадцать пять рублей тому человеку награды! Ну, и наловили. В ту пору у нас всякий друг дружку ловил. Только он что же, мерзавец, изделал! Видит, что дело к расплате — сейчас и на попятый; это, говорит, сицилисты ненастоящие! Так никто и не попользовался; только народу, человек никак с тридцать, попортили» (XV, 188).
Заметим кстати, что в сценах «ловли сицилистов», как и вообще во всех, даже в самых, казалось бы, фантастических эпизодах «Современной идилии», Щедрин остается верен реальной действительности. В то же самое время, когда в «Отечественных записках» печатались главы романа, рисующие «ловлю сицилистов», журнал в отделе публикации сообщал следующее. В расчетной книжке Казанской механическо-ткацкой фабрики Алафузова 26 параграфов заняты разного рода штрафами, а 27-й, последний, параграф обещает денежную награду за донос: «За всякое открытие злоупотреблений, если в действительности таковые подтвердятся, рабочий получает награду, смотря по важности открытий, от 5-ти до 15-ти рублей и более, и, кроме того, услуга его будет вознаграждена прибавкой жалованья на будущее время»[64]. С горькой иронией и суровой правдивостью Щедрин отмечает, что желающих охотиться за «сицилистами» было много. Весна в разгаре, говорят мужики, а сеять-то и не зачинали. «— Что так?
— Все сицилистов ловим. Намеднись, всем опчеством двое суток в лесу ночевали, искали его — ан он, каторжный, у всех на глазах убег!»
Деревня в «Современной идилии» —это деревня начала 80-х годов. Она все еще во власти опутавших ее вековых предрассудков, она запугана властями, развращена реакцией, ее представления о революции дики и превратны. Вместе с тем эта деревня всего двумя десятилетиями отделена от той, которая приобщится к опыту массового выступления в годы первой русской революции. Проникновение новых идей в крестьянские массы и признаки качавшегося под влиянием их брожения в традиционном сознании масс нашли свое отражение в «Современной идиллии». Говорить об этом прямо Щедрин не имел возможности. Он ограничивался отдельными, но достаточно прозрачными намеками. Слово «сицилисты», читаем в романе, «в деревне приобрело право гражданственности и повторялось в самых разнообразных смыслах» (XV, 231). Одни — и, конечно, таких было большинство — отождествляли социалистов с изменниками и каторжниками; другие, хотя и смутно, по чисто крестьянскому образцу, но начинали вслушиваться и вдумываться в смысл революционной пропаганды. Представителем последних является упоминаемый в романе солдат, приехавший в село на побывку. Он говорил односельчанам, что скоро «и земля, и вода, и воздух — все будет казенное, а казна уж от себя всем раздавать будет» (XV, 209).
***
«Современная идиллия» дает яркое представление о сатирическом мастерстве Щедрина. Изобразительный арсенал сатирика продемонстрирован здесь более широко и полно, сем в любом другом, отдельно взятом произведении Щедрина.
Быстрота развертывания сюжета, органическое включение в повествование сказки, фельетона, драматической сцены, пародии, памфлета, прозрачные намеки на конкретные политические явления, полемические стрелы, направленные в адрес политических и литературных противников, разнообразие эзоповских фигур иносказания и умолчания, переплетение реального и фантастического, остроумная сатирическая утрировка лиц и событий с применением гиперболы и гротеска, лаконизм портретных зарисовок, мастерские диалоги, обилие разящих сатирических формул, впервые именно здесь блестяще употребленный прием статистического разоблачения (жизнеописание купца Парамонова в цифрах, статистическое описание села Благовещенского) и т. д. и т. п. — все это многоцветное сочетание изобразительных приемов и средств живописания создает сложную сатирическую симфонию «Современной идиллии», образует ее оригинальную, неподражаемую поэтику.
В «Современной идиллии» Щедрин мастерски применяет уже не однажды им испытанный прием переклички с литературными предшественниками. Здесь мы встречаем цитаты, реминисценции и образы Державина, Крылова, Жуковского, Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Сухово-Кобылина, Гюго. Значительное место заняли в произведении споры на литературные темы, блещущие остротой суждения о романе и трагедии, сатирические замечания о педантизме библиографов-пушкинистов и о театральном репертуаре, пародии на любовный роман и на псевдонародных собирателей фольклора и т. д.
В романе нашла яркое выражение также и такая характерная черта творческого метода сатирика, как типологическая связь данного произведения с предшествующим творчеством. Уже ранее известные по ряду других произведений образы Глумова, рассказчика, Балалайкина в «Современной идиллии» выступают в качестве основных действующих лиц, и здесь изображение их доводится до завершения. Показывая действующих лиц в суматохе «шутовской» деятельности, Щедрин нашел такие краски для летучих портретных зарисовок, которые не оставляли сомнений относительно внутреннего, психологического содержания персонажей.
Особого внимания заслуживают юмор, фантастика и эзоповское иносказание, определяющие в совокупности художественное своеобразие «Современной идиллии».
«Современная идиллия» относится к тем произведениям Щедрина, где остроумие сатирика проливается бурным потоком, где его юмор блещет всеми красками. Игривый, искрящийся шутками в сценах, изображающих фиктивную женитьбу Балалайкина на купчихе Фаинушке, язвительный, пропитанный ядовитой иронией на страницах, рисующих героев за выработкой «Устава о благопристойности», он перерастает в громкий хохот, когда Щедрин рассказывает «Сказку о ретивом начальнике», и в фельетоне о негодяе «Властитель дум» выражается в презрительном сарказме.
Юмористическая стихия пропитывает все элементы сюжета и поэтики романа. Она захватывает даже пейзаж, что является в русской литературе едва ли не свойством только одного Щедрина. Именно в «Современной идиллии» находим мы замечательные образцы щедринского сатирического пейзажа, неожиданно и остроумно сближающего явления политической действительности с явлениями естественного мира.
Герои романа, напуганные шпионами, бегут ночью из Корчева. Жестокая паника гнала их вперед и вперед. «А дождь свирепел больше и больше, и небо все гуще и гуще заволакивалось тучами. Ни одного жилья мы не встретили, и как нас не съели волки — этого я понять не могу. Наверное, они кой-что слышали об нас от урядников и опасались отнять у нас жизнь, потому что с нашим исчезновением могли затеряться корни и нити, которые имело в виду гороховое пальто. Как бы то ни было, но этим чисто-охранительным соображениям мы были обязаны жизнью» (XV, 204—205); «...как только златоперстая Аврора брызнула на крайнем востоке первыми снопами пламени, местный урядник уже выполнял свою обязанность» (XV, 229).
Наступает осень. «Листья еще крепко держатся на ветках деревьев и только чуть-чуть начинают буреть; георгины, штокрозы, резеда, душистый горошек — все это слегка побледнело под влиянием утренников, но еще в полном цвету; и везде жужжат мириады пчел, которые, как чиновники перед реформой, спешат добрать последние взятки» (XV, 283).
«Современная идиллия» произвела сильное впечатление на Тургенева «полетом сумасшедше-юмористической фантазии»[65]. Щедрину он писал в 1882 году: «прирожденная Вам vis comica никогда не проявлялась с большим блеском»[66]. В свою очередь, Гончаров, характеризуя впечатление, производимое щедринским юмором, писал: «читатель злобно хохочет с автором над какой-нибудь «современной идиллией»...»[67]
Юмор Щедрина имеет всегда социальную подкладку, он служит осмеянию господствующих классов и защите труженика. Вот характерные образцы такого юмора из первой главы романа. Рассказчик и Глумов наложили на себя обет не рассуждать и предаться исключительно еде и питью.
«— Бот ветчина, а вот водка. Закусим! — сказал Глумов.
— Гм... ветчина! Хорошо ветчиной на ночь закусить — спаться лучше будет. А ты, Глумов, думал ли когда-нибудь об том, как эта самая ветчина ветчиной делается?
— Была прежде свинья, потом ее зарезали, рассортировали, окорока посолили, провесили — вот и ветчина сделалась.
— Нет, не это! А вот кому эта свинья принадлежала? Кто ее выхолил, выкормил? И почему он с нею расстался, а теперь мы, которые ничего не выкармливали, окорока этой свиньи едим...
— И празднословием занимаемся.,. Будет! Сказано тебе, погодить — ну, и жди!»
Подали кофей. «Палили по стакану — выпили; по другому налили — и опять выпили. Со сливками и с теплым калачом...
— А что, Глумов, ты когда-нибудь думал, как этот самый калач...
— Что «калач»?
— Ну вот родословную-то его... Как сначала эта самая пшеница в закроме лежит, у кого лежит, как этот человек за сохой идет, напирая на нее всею грудью, как...» (XV, 41—43).
Программа восстановления репутации политической благонадежности, начертанная героями, предусматривала после еды телесные упражнения. Во время прогулки по улицам столицы вид Таврического дворца напоминал им годы царствования Екатерины, воспетые Державиным.
«Под наплывом этих отрадных чувств начали мы припоминать стихи Державина, но, к удивлению, ничего не припомнили кроме:
Запасшися крестьянин хлебом.
Ест добры щи и пиво пьет!
— Да, брат, был такой крестьянин! был! — воскликнул я, подавленный нарисованною Державиным картиной.
Как ни сдержан был Глумов, но на этот раз и он счел неуместным охлаждать мой восторг.
— Да, брат, был, — сказал он почти сочувственно,
— Было! все было! — продолжал я восклицать в восхищении, — и «добры щи» были! представь себе: «добры щи!» (XV, 46).
Уже в этих отрывках диалога раскрывается сущность щедринского анализа явлений обличаемой действительности. На все, что делается в привилегированных верхах, сатирик смотрит с точки зрения труженика-производителя, возводя к нему родословную материальных и культурных благ, которыми пользуются правящие классы общества.
Одна из постоянных мишеней щедринского смеха — это разного рода официальные формулы, которыми идеологи реакции устрашают массы. К ним относится прежде всего формула о том, что революционеры и социалисты «потрясают основы» и тем самым угрожают всему обществу гибелью. Щедрин в «Современной идиллии» не упускает повода, чтобы поиздеваться над этой злонамеренной выдумкой мракобесов. Так, например, сатирик то ехидно замечает, что «унылый вид» означает «недовольство существующими порядками и наклонность к потрясению основ» (XV, 61); то, как бы между прочим, сообщает, что учителя Кубарева судили «за распространение в юношестве превратных понятий о супинах и герундиях, а равно и за потрясение основ латинской грамматики» (XV, 80); то, характеризуя характер реформы 1861 года, поясняет, что помещики «устраивали крестьянские наделы (вроде как западни), имея при этом в расчете, чтоб мало-мальски легкомысленная крестьянская курица непременно по нескольку раз в день была уличаема в безвозмездном пользовании господскими угодьями, а следовательно и в потрясении основ» (XV, 272).
Смех Щедрина в «Современной идиллии» — это смех, выставляющий на позор «героев» политической и общественной реакции и возбуждающий по отношению к ним энергию общественного протеста; смех, выпрямляющий угнетенных и сковывающий угнетателей; смех, пробуждающий чувство стыда в людях, у которых еще не все человеческое потеряно.
«Современная идиллия», несмотря на свой фантастический колорит, опирается, даже во многих подробностях, на факты реальной действительности. В целом роман представляет собою убийственный памфлет на эпоху реакции. В нем Щедрин сделал множество язвительных выпадов по адресу официальных правительственных лиц, титулованных и нетитулованных идеологов и холопов реакции. В романе ядовито пародируется Свод законов («Устав благопристойности») и придворная шпионско-террористическая организация «Священная дружина» («Клуб взволнованных лоботрясов»), высмеивается царская бюрократия и суд, официальная и официозная пресса, разоблачается вся полицейская система самодержавия и т. д.
Острое политическое содержание романа, печатавшегося в легальном журнале в годы свирепых цензурных преследований, обязывало сатирика прибегнуть к сложной системе конспирации. По мастерству эзоповского иносказания рядом с «Современной идиллией» могут быть поставлены только «История одного города» и «Сказки». Но если в «Истории одного города» сатирика выручала прежде всего историческая форма повествования, а в «Сказках» —народная фантастика, то в «Современной идиллии», нацеленной непосредственно на политическую злобу дня, Щедрину потребовалась более сложная система художественной маскировки. Работая над романом, он не только мобилизовал весь свой арсенал, но и значительно усовершенствовал и обогатил его.
Замысел «Современной идиллии» свидетельствует, что избранной для этого произведения формой повествования Щедрин решил поиздеваться над царской цензурой, отомстить ей. Из февральской книжки «Отечественных записок» за 1877 год цензура изъяла рассказ Щедрина «Чужую беду — руками разведу». Под впечатлением этого цензурного переполоха Щедрин в два вечера написал другой рассказ под названием «Современная идиллия», который и явился первой главой романа. Сообщая об обстоятельствах, вызвавших появление «Современной идиллии», Щедрин писал П. В. Анненкову 2 марта 1877 года: «Я несколько таких рассказов напишу, которые приведут самую цензуру в изумление» (XIX, 89). В осуществлении своего намерения сатирик достиг блестящего успеха. Не удивительно, что отдельные главы «Современной идиллии» вызвали к себе резко враждебное отношение цензурного ведомства. Удивительно другое, а именно то, что «Современная идиллия», являющаяся одним из самых резких выпадов против политики самодержавия, все-таки проскользнула через препоны реакционнейшей цензуры периода 80-х годов. Коснемся лишь некоторых, наиболее характерных особенностей иносказательной поэтики «Современной идиллии».
Прежде всего обращает на себя внимание невысокий ранг действующих в романе представителей царской бюрократии. Это, во-первых, чиновники столичного квартального участка и, во-вторых, уездное чиновничество. Но при этом представители квартальной администрации действуют явно не по чину. Квартальный письмоводитель Прудентов проектирует «Устав о благопристойном обывателей в своей жизни поведении», то есть сочиняет законы, что в действительности составляло прерогативу высшей правительственной бюрократии. Несомненно, что осмеяние этой последней и является скрытой целью описания законодательной деятельности Прудентова. Как пояснял сам Щедрин в письме к А. Н. Пыпину от 1 ноября 1883 года, «Устав о благопристойности» имеет в виду сатирическое разоблачение XIV тома «Свода законов». Рассказ о дальнейшей судьбе деятелей квартальной администрации, выживающих ДРУГ друга со службы доносами, пародируют должностную перетасовку в министерстве внутренних дел, последовательно возглавлявшемся в 80-е годы М. Т. Лорис-Меликовым, Н. М. Игнатьевым, Д. А. Толстым. В романе мы находим достаточно прозрачные намеки на эту министерскую чехарду. В деятельности Ивана Тимофеевича, по доносу Прудентова, был усмотрен московскими охотнорядцами (читай: катковской партией) злонамеренный якобинский дух, и он был вынужден подать в отставку (читай: отставка Лорис-Меликова). Прудентов занял его место, но, в свою очередь, по доносу Кшепшицюльского, был тоже уволен за злонамеренный якобинский дух (читай: отставка Игнатьева). «И теперь оба: и Иван Тимофеич и Прудентов, примирившись, живут где-то на огородах в Нарвской части и состоят в оппозиции» (XV, 236).
Таким образом, «Современной идиллией» в той ее части, которая касается бюрократии, Щедрин метил в высшие правительственные сферы, предусмотрительно замаскировав свои намерения скромной, по видимости, задачей описания чудаковатых прожектеров квартального участка.
Вместе с тем, как это обычно бывает у Щедрина, характеризуемый прием выполнял и непосредственно сатирическую функцию. Образ наивного летописца в «Истории одного города» служил сатирику не только предохранительной маской, но и давал возможность выставить обличаемый объект во всей его непосредственной, грубой сущности. Подобно этому для вящего посрамления «Свода законов» Щедрин воспользовался наивной откровенностью письмоводителя Прудентова. «Имеем в виду одно обстоятельство: чтобы для начальства как возможно меньше беспокойства было — к тому и пригоняем» (XV, 119) — так формулирует Прудентов основную идею сочиняемого им «Устава о благопристойности». «Теория эта, — иронизирует сатирик, — хотя и давно нам была знакома, но на этот раз она была высказана так безыскусственно, прямо и решительно, что мы на минуту умолкли, как бы под влиянием приятной неожиданности» (XV, 119).
Следует, впрочем, заметить, что в «Современной идиллии» встречаются представители бюрократии высокого ранга, показанные без понижения их «номинала». Таковы, например, «два маститых сановника» — тайные советники Перекусихин 1-й и Перекусихин 2-й. Сатирик дал им самую уничтожающую характеристику, предусмотрительно, во избежание цензурных придирок, представив их в качестве неофициальных лиц, «уволенных от службы» (XV, 148).
Еще более интересна в этом смысле фигура «странствующего полководца» Полкана Редеди, ознаменовавшего себя неудачными военными походами в восточных странах. «Несмотря на то, что Редедя не выиграл ни одного настоящего сражения, слава его, как полководца, установилась очень прочно. Московские купцы были от него в восхищении, а глядя на них, постепенно воспламенялись и петербургские патриоты-концессионеры. В особенности пленял Редедя купеческие сердца тем, что задачу России на Востоке отождествлял с теми блестящими перспективами, которые, при ее осуществлении, должны открыться для плисов и миткалей первейших российских фирм» (XV, 153). В свободное от походов время Редедя мог быть «и редактором газеты» (XV, 153).
Образ Редеди — самое резкое во всем творчестве Щедрина нападение на высокую военную касту и на колониальную политику царизма. Наряду с широким обобщающим смыслом, комментаторы не без оснований угадывают в облике щедринского Редеди черты генерала и реакционного публициста Р. А. Фадеева и в особенности генерала М. Г. Черняева. Последний неудачно командовал сербской армией в войне с Турцией, был генерал-губернатором Туркестана, редактировал реакционную газету «Русский мир». Все это Щедрин подверг своеобразной трансформации, создавая образ Редеди.
По своей общей и памфлетной направленности этот образ представлял большую опасность в цензурном отношении[68]. Учитывая это, сатирик устроил «громоотвод» в виде следующего замечания: «Начальство, однако ж, не особенно ценило подвиги Редеди и довольно медленно производило его в чины, так что сорока пяти лет от роду он имел только полковничий чин». Ему наскучило начальственное равнодушие, он вышел в отставку и подвизался в качестве вольнонаемного полководца, то есть в качестве лица неофициального. В романе Редедя предстает перед читателем («в свободное от междоусобий время») в роли метрдотеля купчихи Фаины Стегнушкиной, Он был привлечен ею в качестве любовника, но оказалось, что «из всех прежних доблестей в нем осталась неприкосновенною только страсть к закусыванию» (XV, 154).
История дальнейших похождений Редеди заканчивается в романе тем, что он «за распространение вредных мечтаний в среде ситцевых фабрикантов» попадает в смирительный дом. Однако все эти относящиеся к Редеде указания на положение полковника «в отставке», на «вольнонаемный» характер его деятельности, на «смирительный дом» и вообще все причудливые фантастические узоры, окружающие данный персонаж, являются не более как художественными условностями, которые были необходимы Щедрину для того, чтобы с наибольшей свободой наносить сатирические удары по официальной политике самодержавия.
«Современная идиллия» относится к тем произведениям сатиры, которые выделяются своим густым фантастическим колоритом. Фантастика романа выступает в различных функциях. Она служит и выражению «волшебств» реальной действительности, находящейся во власти паники и произвола, и юмористической живописи, и эзоповскому иносказанию.
Фантастический элемент, окрашивая в «Современной идиллии» все повествование, образует в отдельных главах целые фантастические сюжеты, включенные в общую композицию произведения в виде сказок. Помимо знаменитой и широко известной «Сказки о ретивом начальнике» (гл. XX), в романе есть еще одна сказка — «Повесть об одном статском советнике, или Плоды подчиненного распутства» (гл. IX), Близка к жанру сказки и драматическая сцена «Злополучный пискарь» (гл. XXIV).
«Устав о благопристойности» и три перечисленные сказки являются в романе кульминационными пунктами сатиры на бюрократию и самодержавие в целом. «Плоды подчиненного распутства» и «Сказка о ретивом начальнике» метят высоко в официальные сферы, «Злополучный пискарь» пародирует царский суд. Совершенно очевидно, что сказочная фантастика призвана была завуалировать остро политические сюжеты, опасные в цензурном отношении. Если на ранней стадии формирования щедринской сказки соображения цензурного порядка не играли первостепенной роли, то в дальнейшем опыт все более убеждал сатирика в эффективности сказочной фантастики как средства эзоповской системы. С особой силой это должен был почувствовать Щедрин в начале 80-х годов, когда он публиковал свой сатирический политический роман «Современную идиллию» в обстановке свирепого цензурного надзора. Отсюда не трудно сделать вывод, что взлет фантастики вообще и сказочной фантастики в особенности обусловлен в «Современной идиллии» прежде всего стремлением к художественной конспирации. Фантастика явилась тем средством, где сатирические и иносказательные функции находили наиболее гармоническое художественное сочетание. Поэтому давно наметившаяся в творчестве сатирика сказочная струя приобрела в реакционные годы особое значение. Вслед за «Современной идиллией» Щедрин начал интенсивно работать над циклом сказок.
Малая сатирическая энциклопедия. «Сказки»
«Сказки» — одно из самых ярких творений и наиболее читаемая из книг Салтыкова.
За небольшим исключением, они создавались в течение четырех лет (1883—1886), на завершающем этане творческого пути писателя.
О мотивах, побудивших Салтыкова к написанию сказок, высказывались разные предположения. Наиболее ранними по времени и совершенно наивными являются попытки объяснить появление сказок частными фактами личной биографии писателя: или приступами мучительной болезни, мешавшими ему сосредоточить мысль на более сложной творческой работе[69]; или тем, что, скучая по детям во время заграничных поездок, Салтыков писал им письма забавного, сказочного содержания и под влиянием этих обстоятельств набрел на сказочную литературную форму[70]. Другие усматривали «нечто неожиданное в том, что суровый сатирик русского общества Салтыков обратился на склоне своих лет к волшебной сказке»[71].
Исходя из таких представлений о «неорганичности», «неожиданности» сказочной формы в творчестве Салтыкова, предпринимались также попытки объяснить ее то как средство борьбы с цензурой, то как следствие воздействия на писателя литературно-сказочной — зарубежной и отечественной — традиции, или, наконец, традиции фольклорной сказки. Все это, конечно, могло играть какую-то роль. В частности и в особенности — народно-поэтическая традиция.
Интерес к фольклору проявился у Салтыкова тотчас же, как писатель возобновил свою литературную деятельность после возвращения из ссылки в 1856 году. Правда, в «Губернских очерках» это выразилось преимущественно в использовании духовных стихов для характеристики быта и настроений простонародья. В то же время писатель касался вопросов народной поэзии в статьях о Кольцове и о книге инока Парфения.
К этому же времени относится и прямое признание Салтыкова о его влечении к стилю народной сказки и первый опыт в этом роде. В письме к И. С. Аксакову от 17 декабря 1857 года он сообщал, что в задуманной книге рассказов «Умирающие» решил «употребить в дело сказочный тон».
Книга не была осуществлена, но предназначавшаяся для нее сказка об Иванушке-дурачке была написана и позднее включена под заглавием «Сон» в очерк «Скрежет зубовный» (1860).
Однако, как справедливо заметил Н. К. Пиксанов, салтыковская сказка «так оригинальна, так не похожа на сказки литературные и народные в своем существе, элементы традиции в ней так переработаны, что теряет остроту вопрос, откуда именно позаимствовал Салтыков те или иные элементы художественной формы для своих сказок»[72].
Сказочная форма в сатире Салтыкова не подсказана какими-либо частными фактами биографии писателя или только цензурными условиями его деятельности, она не является неожиданной творческой находкой или просто следствием увлечения фольклорной и литературной традицией в области этого жанра.
Некоторые из этих фактов оказывали свое дополнительное, стимулирующее действие, но ни один из них в отдельности, ни все они, взятые вместе, не раскрывают происхождения салтыковской сказки.
Сказка, хотя она и представляет собою лишь один из жанров Салтыкова, органически близка его художественному методу, она тесно взаимодействует с другими его произведениями. Справедливо суждение В. Я. Кирпотина, выраженное в форме общего тезиса: «В фантазии народных сказок Щедрин чувствовал нечто родственное с собственными художественными приемами»[73].
Изучение творческой истории «Сказок» Салтыкова убеждает, что они подготовлялись исподволь, как бы стихийно вызревали в недрах его сатиры в силу таких присущих его творческому методу приемов, как художественное преувеличение, фантастика, иносказание, сближение обличаемых социальных явлений с явлениями животного мира. Писатель не столько заставлял служить своим целям уже выработанные фольклором образцы, сколько шел навстречу им.
Эта особенность творческого метода сатирика, в свою очередь, обусловила свободное вхождение в его художественную систему традиционных фольклорных элементов, которые впадали в мощный поток собственной творческой фантазии писателя и видоизменялись в нем до утраты всяких следов стороннего источника. Можно сказать, что салтыковская сказка самостоятельно возникала по типу фольклорных сказок, а последние лишь способствовали ее формированию.
«Сказки» Салтыкова, появившиеся на завершающем этапе его творчества, — это зрелые плоды, завязи которых обнаруживаются уже в самых ранних произведениях писателя. В этом смысле особенно примечательны его сказки, написанные в форме животного эпоса.
К зоологизмам Салтыков прибегал, начиная с повести «Запутанное дело (1848), представив здесь класс эксплуататоров в образе «голодных волков». В «Губернских очерках» (1856—1857), где впервые определилось сатирическое дарование Салтыкова, зоологические уподобления попадаются довольно часто. Писатель отмечает в портретах персонажей «телячье выражение», «зверообразную лютость», «нечто плотоядное», «свиное выражение»; в характеристику нравственного облика чиновников он включает сравнения с голодным псом, лесным зверем, шакалом, плотоядным животным; в губернских аристократах он обнаруживает свойства коршуна, зубастой щуки, величие, свойственное индейскому петуху. Подобных примеров можно было бы выписать из «Губернских очерков» несколько десятков. Как особо любопытные случаи, отметим упоминание о Трезоре и чиновнике-пискаре, которые спустя почти тридцать лет станут героями сказок «Верный Трезор» и «Премудрый пискарь».
Еще более частое применение зооэпитетов к человеку наблюдается в цикле «Сатиры в прозе» (очерк «Клевета», 1861).
Использованный в «Клевете» для эпизодического сравнения каплун годом позже озаглавил собою особый очерк, где весь сюжет построен на принципе сближения интеллигентов, равнодушных к практическим задачам общественной борьбы, с каплуном. Полемизируя с сотрудниками журнала, «Эпоха», издававшегося братьями Достоевскими, Салтыков заключил свою статью «Литературные мелочи» (1864) памфлетом «Стрижи», который явился первым по времени опытом сатирика, последовательно выполненным в «орнитологической» форме.
Использование образов животного мира становится в сатире Салтыкова особенно широким, начиная с «Признаков времени». В очерке этого цикла «Литературное положение» (1868), где публицисты-обыватели уподоблены зайцам, а поэты — соловьям в клетке, намечаются некоторые мотивы таких будущих сказок, как «Орел-меценат», «Здравомысленный заяц» и др.
Частота применения зоологических сравнений, их разнообразие и та свобода, с какой они включаются в характеристику социальных типов, свидетельствуют о том, что здесь мы имеем дело с одним из наиболее излюбленных и привычных ходов поэтической мысли сатирика.
Самое существо задач обличения психики представителей эксплуатирующих групп и классов закономерно подводило сатирика к зоологическим уподоблениям.
В мае 1881 года в очерках «За рубежом» появилась драматическая сцена «Торжествующая свинья», а в журнальную публикацию «Современной идиллии», где еще в декабре 1882 года читателям стала известна знаменитая «Сказка о ретивом начальнике», в январе 1883 года вошел
«Злополучный пискарь»[74]. После этого в течение 1383—1886 годов Салтыковым написано четырнадцать сказок, населенных разнообразной фауной.
Дополним сказанное примерами, относящимися к творческой истории отдельных сказок.
«Медведь на воеводстве» (1884) — сатира на административные принципы самодержавия. Тема сказки восходит ко многим ранее созданным Салтыковым произведениям, прежде всего к «Помпадурам и помпадуршам» и к «Истории одного города». В свою очередь, и художественный прием уподобления представителей помещичьего класса медведю возникает довольно рано.
Так, в рассказе 1863 года «Деревенская тишь» помещик Сидоров видит себя во сне превратившимся в медведя и испытывает удовольствие от того, что в этом новообретенном зверином образе торжествует физическую победу над своим непокорным слугой Ванькой. «Дикий помещик» в одноименной сказке 1869 года, оказавшись без мужиков, звереет, приобретает ухватки и облик медведя. В рассказе того же года «Испорченные дети» есть упоминание о «принце Шар-мане, обращенном в медведя злым волшебником». Примерка медвежьего костюма к соответствующим социальным типам завершилась к 1884 году созданием сказки «Медведь на воеводстве», где царские сановники преобразованы в сказочных медведей, свирепствующих в лесных трущобах.
«Карась-идеалист» — еще более наглядный пример синтеза идейно-художественных мотивов, ранее встречавшихся в целом ряде произведений Салтыкова. В них, с одной стороны, неоднократно появляются образы одиночек «правдоискателей», отважно пытающихся склонить жестоких правителей к сострадательности и добродетели и трагически погибающих (общественный ходок Евсеич в «Истории одного города», Андрей Курзанов в «Пошехонских рассказах» и др.). Сказка «Карась-идеалист» продолжила этот трагический мотив наивного правдоискательства и явилась аккордом В разоблачении утопических надежд на умиротворение хищников и деспотов.
С другой стороны, изображая социальные антагонизмы, Салтыков часто прибегал к уподоблению враждующих лагерей прожорливым щукам и дремлющим в неведении карасям; напоминал пословицу: «На то и щука в море, чтобы карась не дремал», и временами воплощал идею этой пословицы в образные картины. «Горе «карасям», дремлющим в неведении, что провиденциальное их назначение заключается в том, чтоб служить кормом для щук, наполняющих омут жизненных основ!» («Благонамеренные речи»; «Кандидат в столпы», 1874).
Устойчивость мотивов, подводящих к этой сказке, свидетельствует, что ситуация, представленная в ней, воплотила идею, давно и глубоко волновавшую писателя. Но, конечно, сказка «Карась-идеалист» является не только итогом длительных наблюдений и раздумий писателя. Для уяснения смысла сказки еще большее значение имеют условия времени ее появления, яркий отпечаток которых она несет на себе. В обстановке правительственной реакции 80-х годов образ прожорливой щуки, давно уже вошедший в арсенал изобразительных средств сатирика, оказался как никогда уместным.
Процесс формирования идейных мотивов и поэтической формы сказок «Медведь на воеводстве» и «Карась-идеалист» характерен в известной мере и для многих других салтыковских сказок. Сами задачи сатирической типизации диктовали привнесение в человеческие образы тех или иных зоологических оттенков. Появлялись соответствующие эпитеты и сравнения с животными, возникали отдельные эпизоды, сцены, вставные сказки и, наконец, обособленные сказки в форме животного эпоса. Это не означает, что сказки явились лишь следствием внутреннего развития определенных сюжетных и идейных мотивов. Сами эти мотивы повторялись, варьировались, развивались, обогащались именно а силу того, что в сознании писателя наслаивались все новые и новые впечатления от фактов реальной действительности, не позволяющие мотивам замереть, побуждавшие писателя двигать найденную художественную форму до ее полного завершения.
Появление целой книги сказок, включающих тридцать два произведения, из которых двадцать восемь созданы в первой половине 80-х годов, объясняется не только тем, что к этому времени Салтыков овладел жанром сказки. В обстановке правительственной реакции сказочная фантастика в какой-то мере служила средством художественной «конспирации» для идейно-политических замыслов писателя, формально затрудняла применение к ним буквы цензурного устава. Приближение формы сатирических произведений к народной сказке открывало также писателю путь к более широкой читательской аудитории. Поэтому в течение нескольких лет Салтыков с увлечением работает над сказками. В эту форму, наиболее доступную народным массам и любимую ими, он как бы переливает все идейно-тематическое богатство своей сатиры и, таким образом, создает своеобразную малую сатирическую энциклопедию для народа.
По широте затронутых вопросов и обозрения социальных типов книга сказок занимает первое место в наследии Салтыкова и представляет собою как бы художественный синтез творчества писателя.
Жизнь русского общества второй половины XIX века запечатлена в щедринских сказках во множестве картин, миниатюрных по объему, но огромных по своему идейному содержанию. В богатейшей галерее типических образов, исполненных высокого художественного совершенства и глубокого смысла, Щедрин воспроизвел всю социальную анатомию общества, коснулся всех основных классов и социальных группировок — дворянства, буржуазии, бюрократии, интеллигенции, тружеников деревни и города, затронул множество социальных, политических, идеологических и моральных проблем, широко представил и глубоко осветил всевозможные течения общественной мысли — от реакционных до социалистических.
Произведения щедринского сказочного цикла объединяются не только жанровым признаком, но и некоторыми общими идеями и темами. Эти общие идеи и темы, проникая в отдельные произведения и связывая их друг с другом, придают определенное единство всему циклу и позволяют рассматривать его как произведение в известной мере целостное, охватываемое общей идейно-художественной концепцией. Основной смысл произведений сказочного цикла заключается в развитии идеи непримиримости социальных противоречий в эксплуататорском обществе, в развенчании всякого рода иллюзорных надежд на достижение социальной гармонии помимо активной борьбы с господствующим режимом, в стремлении поднять самосознание угнетенных и пробудить в них веру в собственные силы, в пропаганде социалистических идеалов и необходимости общенародной борьбы за их грядущее торжество.
В сказке «Медведь на воеводстве» самодержавная Россия символизирована в образе леса, и днем и ночью «гремевшего миллионами голосов, из которых одни представляли агонизирующий вопль, другие — победный клик» (XVI, 89). Эти слова могли бы быть поставлены эпиграфом ко всему сказочному циклу и служить в качестве идейной экспозиции к картинам, рисующим жизнь классов и социальных групп в состоянии непрекращающейся междоусобной войны.
В сложном идейном содержании сказок Щедрина можно выделить четыре основные темы: 1) сатира на правительственные верхи самодержавия и на эксплуататорские классы, 2) обличение поведения и психологии обывательски настроенных кругов общества, 3) изображение жизни народных масс в царской России, 4) разоблачение морали собственников-хищников и пропаганда социалистического идеала и новой нравственности. Но, конечно, строгое тематическое разграничение щедринских сказок провести невозможно, и в этом нет надобности. Обычно одна и та же сказка наряду со своей главной темой затрагивает и другие. Так, почти в каждой сказке писатель касается жизни народа, противопоставляя ее жизни привилегированных слоев общества.
***
Словами и образами, полными гнева и едкого сарказма, Щедрин изобличает в сказках принципы эксплуататорского общества, практику, идеологию и политику господствующих классов — дворянства и буржуазии — и царского правительства. Резкостью сатиры, направленной непосредственно на правительственные верхи самодержавия, выделяются три сказки: «Медведь на воеводстве», «Орел-меценат» и «Богатырь».
Сказка «Медведь на воеводстве» написана на одну из самых основных и постоянных тем щедринского творчества. Она представляет собою острую политическую сатиру на правительственную систему самодержавия, служит ниспровержению монархического принципа государственного строя.
В этой сказке, издевательски высмеивающей царя, министров, губернаторов, заметны признаки памфлета на правительство Александра III. Личность последнего угадывается в образе безграмотного Льва, который «собственнолапно на Ословом докладе сбоку нацарапал: «не верю, штоп сей офицер храбр был; ибо это тот самый Топтыгин, который маво Любимова Чижика сиел!» (XVI, 86). Однако основной смысл сказки состоит в разоблачении не только невежественных, тупых и жестоких правителей эпохи свирепой реакции, но и монархии вообще как антинародной деспотической государственной формы.
Если первые двое Топтыгиных, жаждавших «блеска кровопролитий», ознаменовали свою деятельность разного рода злодействами, один — мелкими, «срамными», другой — крупными, «блестящими», то Топтыгин 3-й был умнее своих предшественников и отличался добродушным нравом. «Мало напакостишь — поднимут на смех; много напакостишь — на рогатину поднимут...» Так сказал он себе. И, прибыв в трущобу, он «прямо юркнул в берлогу, засунул лану в хайло и залег». Он ограничил свою деятельность только соблюдением «исстари заведенного порядка», довольствовался злодействами «натуральными». Однако и при воеводстве добродушного Топтыгина 3-го лес не изменил своей прежней физиономии. Так продолжалось многие годы. Наконец лопнуло терпение мужиков, и они расправились с Топтыгиным 2-м.
Индивидуальные различия в характерах воевод не меняли общего положения вещей, и злодеяния «заведенного порядка» продолжали совершаться своим чередом. Причина народных бедствий заключается, следовательно, не в злоупотреблении принципом власти, а в самом принципе самодержавной системы. Спасение не в замене злых Топтыгиных добрыми, а в устранении воевод Топтыгиных вообще, то есть в свержении самодержавия. Такова основная идея сказки.
Если в «Медведе на воеводстве» сатирик высмеивал административную практику самодержавия, то в сказке «Орел-меценат», написанной в том же 1884 году, — деятельность царизма на поприще просвещения. Тема «Орла-мецената» непосредственно соприкасается с содержанием второй части «Медведя на воеводстве», изображающей Топтыгина 2-го, который, прибыв на воеводство, рассчитывал сейчас же разорить типографию, спалить университет и академию. В отличие от Топтыгина 2-го, Орел-меценат решил заняться не искоренением, а водворением наук и искусств при дворе, учредить «золотой век» просвещения.
Заводя просвещенную дворню, орел так определял ее назначение: «Она меня утешать будет, а я ее в страхе держать стану. Вот и все!» Однако полного повиновения не было. Кое-кто из дворни осмеливался обучать грамоте самого Орла. Он ответил на это расправой и погромом. Вскоре от недавнего золотого века не осталось и следа. Основная идея сказки выражена в заключительных словах: «орлы для просвещения вредны». Щедрин заклеймил холопство в науке и искусстве, показал, что монархический строй враждебен подлинному просвещению и допускает последнее только в таких пределах и в таком виде, которые потребны для услаждения паразитических верхов.
Высмеяв в «Медведе на воеводстве» административные принципы, а в «Орле-меценате» — псевдопросветительскую практику самодержавия, в сказке «Богатырь» сатирик, своеобразно повторяя тему «Истории одного города», заклеймил презрением царизм, уподобляя его гниющему трупу мнимого великана[75].
Карающий смех Щедрина не оставлял в покое представителей массового хищничества — дворянство и буржуазию, действовавших под покровительством правящей политической верхушки и в союзе с нею. Они выступают в сказках то в обычном социальном облике помещика («Дикий помещик»), генерала («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»), купца («Верный Трезор»),; кулака («Соседи»), то — и это чаще — в образах волков, лисиц, щук, ястребов и т. д.
Салтыков, как отмечал В. И. Ленин, учил русское общество «различать под приглаженной и напомаженной внешностью образованности крепостника-помещика его хищные интересы...»[76] Это умение сатирика обнажать «хищные интересы» крепостников и возбуждать к ним народную ненависть ярко проявилось уже в первых щедринских сказках — «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» и «Дикий помещик» (1869). Приемами остроумной сказочной фантастики Щедрин показывает, что источником не только материального благополучия, но и так называемой дворянской культуры является труд мужика. /Генералы-паразиты, привыкшие жить чужим трудом, очутившись на необитаемом острове без прислуги, обнаружили повадки голодных диких зверей. «Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились». Только появление мужика спасло их от окончательного озверения и вернуло им обычный, «генеральский» облик.
Что же было бы, если бы не нашелся мужик? Это договаривается в сказочном повествовании о диком помещике, изгнавшем из своего имения всех мужиков. Он одичал, с головы до ног оброс волосами, «ходил же все больше на четвереньках», «утратил даже способность произносить членораздельные звуки».
Сатирик воссоздает полную социального драматизма картину общества, раздираемого антагонистическими противоречиями, и издевательски высмеивает лицемерие хищников- -тунеядцев и разного рода прекраснодушных апологетов разбоя. Волк обещал помиловать зайца («Самоотверженный заяц»), другой волк однажды отпустил ягненка («Бедный волк»), орел простил мышь («Орел-меценат»), добрая барыня дала погорельцам милостыню, а поп обещал им счастливую загробную жизнь («Деревенский пожар») — о таких актах великодушия хищников с восхищением пишут историки, публицисты и поэты. Сатирик ниспровергает все эти фальшивые панегирики, усыпляющие бдительность жертв. Разоблачая ложь о великодушии и красоте «орлов», он говорит, что «орлы суть орлы, только и всего. Они хищны, Плотоядны... хлебосольством не занимаются, но разбойничают, а в свободное от разбоя время дремлют».
***
В 80-е годы мутная волна реакции захватила интеллигенцию, средние, разночинные слои общества, породив настроения страха, упадничества, соглашательства, ренегатства. Поведение и психология «среднего человека», запуганного правительственными преследованиями, нашли в зеркале салтыковских сказок сатирическое отражение в образах «премудрого пискаря», «самоотверженного зайца», «здравомысленного зайца», «вяленой воблы», российского «либерала».
В «Премудром пискаре» (1883) сатирик выставил на публичный позор малодушие той части интеллигенции, которая в годы политической реакции поддалась настроениям постыдной паники.
Просвещенный, «умеренно-либеральный» пискарь решил своею мудростью козни врагов победить. Чтобы не быть съеденным хищными рыбами, он забился в глубокую нору, лежит и «все-то думает: кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?» Он не заводил ни семьи, ни друзей, сам не знал никаких радостей и никого не утешал. «Он жил и дрожал — только и всего». В постоянном страхе за свое бесполезное существование прожил он долгие годы, никому не нужный, и начал дрожа помирать. «Жил — дрожал, и умирал — дрожал».
Обличением трусости с «Премудрым пискарем» сближается одновременно с ним написанный «Самоотверженный заяц».
Однако при некотором сходстве идейного содержания эти сказки существенно отличаются. Они не повторяют, а дополняют друг друга в изобличении рабской психологии, освещая разные ее стороны.
Сказка о самоотверженном зайце — яркий образец сокрушительной щедринской иронии, обличающей, с одной стороны, наглые, глумливые волчьи повадки поработителей, а с другой — слепую покорность их жертв. Начинается так: «Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалеку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит: заинька! остановись миленький! А заяц не только не остановился, а еще пуще ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал, да и говорит: за то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение: приговариваю я тебя к лишению живота посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запасу у нас еще дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть... ха-ха... я тебя и помилую!»
Сидит заяц под кустом в ожидании очереди быть съеденным и «не шевельнется». Было у него желание убежать, но как только он посмотрел на волчье логово — так и «закатилось заячье сердце». Во всем этом проявилась трусость зайца, парализующая его активность в борьбе за жизнь.
И все же не трусость является главной чертой его психологии, во всяком случае, не она служит основным объектом нападения сатирика в данной сказке. Замысел последней не варьирует сказку об обезумевшем от страха премудром пискаре. Главная мотивировка поведения зайца заключена в его словах: «Не могу, волк не велел». Заяц привык повиноваться.
Отпущенный волком на побывку к невесте, заяц торопился вернуться к указанному сроку. Конечно, не трусость руководила зайцем, когда он спешил своевременно угодить в волчью пасть, — и не одно только желание выручить «невестина брата», оставленного волком в качестве заложника. Он «слово, вишь, дал, а заяц своему слову — господин». Он «дал слово» и заложнику своему, и волку. Он хочет быть верным в том и другом случае. Как видим, заяц благороден. И это напрасное благородство по отношению к волку имеет своим источником рабскую покорность. К этому у зайца примешивается еще одно иллюзорное представление, С одной стороны, он сознает, что по возвращении «беспременно меня волк съест», с другой — питает смутную надежду на то, что «может быть, волк меня... ха-ха... и помилует!».
В образе самоотверженного зайца Щедрин обобщил именно ту воспитанную в массах веками классового гнета разновидность рабской психологии, в которой повиновение пересиливало инстинкт самосохранения и возводилось на степень благородства, добродетели. Заглавие сказки с удивительной точностью очерчивает ее смысл. Слово заяц, которое всегда в переносном смысле служит синонимом трусости, дано в неожиданном сочетании с эпитетом самоотверженный. Самоотверженная трусость! Уже в одном этом заглавном выражении сатирик проникновенно постиг противоречивость психологии подневольной личности, извращенность человеческих свойств в обществе, основанном на насилии.
В момент своего появления сказка «Самоотверженный заяц» имела еще и другой, более узкий злободневный смысл. То было время, когда некоторые из бывших революционеров-народовольцев, став на путь ренегатства, старались покорностью заработать царскую амнистию, сдавались на милость врага. Щедринская сказка показывала, какова эта милость.
Волк похвалил самоотверженного зайца, оставшегося верным своему слову, и вынес ему и его заложнику издевательскую резолюцию: «Вижу, — сказал он, — что зайцам верить можно. И вот вам моя резолюция: сидите, до поры до времени, оба под этим кустом, а впоследствии я вас... ха-ха... помилую!» Этими словами заканчивается сказка «Самоотверженный заяц», клеймившая глубоко укоренившуюся в народных массах психологию рабской верности господам и разоблачавшая эту верность как предательство своих классовых интересов.
С глубокой горечью показывал Щедрин в сказке о самоотверженном зайце, что рабские привычки еще сильны в массе. Но должны ли зайцы верить волкам? Помилует ли волк? Могут ли, способны ли вообще волки миловать зайцев?
На этот вопрос писатель ответил отрицательно сказкой «Бедный волк»: «Другой зверь, наверное, тронулся бы самоотверженностью зайца, не ограничился бы обещанием, а сейчас бы помиловал. Но из всех хищников, водящихся в умеренном и северном климатах, волк всего менее доступен великодушию». Социальный смысл этого иносказания заключается в доказательстве детерминированности поведения эксплуататоров «порядком вещей». Медведь, убедившись в том, что волк не может прожить без разбоя, урезонивал его: «Да ты бы, говорит, хоть полегче, что ли...»
Рационализаторская идея о регулировании волчьих аппетитов всецело овладела «здравомысленным зайцем», героем сказки того же названия. В ней высмеиваются попытки теоретического оправдания рабской, «заячьей» покорности, либеральные рецепты приспособления к режиму насилия, философия умиротворения социальных интересов. Трагическое положение труженика герой сказки возвел в особую философию обреченности и жертвенности. Убежденный в том, что волки зайцев «есть не перестанут», здравомысленный «филозоф» выработал соответствующий своему пониманию идеал усовершенствования жизни, который сводился к проекту более рационального поедания зайцев (чтоб не всех сразу, а поочередно). Об этом он «так здорово рассуждал, что и ослу впору». Сидит, бывало, под кустиком и перед зайчихой своей здравыми мыслями щеголяет: «Сколько раз я и говорил, и в газетах писал: господа волки! вместо того, чтоб зайца сразу резать, вы бы только шкурку с него содрали — он бы, спустя время, другую вам предоставил! Заяц, хошь он и плодущ, однако, ежели сегодня целый косяк вырезать, да завтра другой косяк — глядь, ан на базаре-то, вместо двугривенного, заяц уж в полтину вскочил! кабы вы чередом пришли: господа, мол, зайцы! не угодно ли на сегодняшнюю волчью трапезу столько-то десятков штук предоставить? — С удовольствием, господа волки! Эй, староста! гони очередных! — И шло бы у нас все по закону, как следует. И волки, и зайцы — все бы в надежде были».
Сатирическое жало сказки о здравомысленном зайце направлено против мелкого реформизма, против того мизерного, трусливого и вредного народнического либерализма, который был особенно характерен для 80-х годов.
Сказка о «здравомысленном зайце» и предшествующая ей сказка о «самоотверженном зайце», взятые вместе, исчерпывают сатирическую обрисовку «заячьей» психологии как в ее практическом, так и теоретическом проявлении. В первом случае речь идет о холопской психологии несознательного раба, во втором — об извращенном сознании, выработавшем вредную холопскую тактику приспособления к режиму насилия. Поэтому к «здравомысленному зайцу» сатирик отнесся более сурово.
Если идеология «здравомысленного зайца» оформляет в особую социальную философию и теорию поведение «самоотверженных зайцев», то «вяленая вобла» одноименной сказки выполняет такую же роль относительно житейской практики «премудрых пискарей». Проповедью идеала умеренности и аккуратности во имя шкурного самосохранения, своими спасительными рецептами — «тише едешь, дальше будешь», «уши выше лба не растут», «ты никого не тронешь, и тебя никто не тронет» — вобла оправдывает и прославляет низменное существование «премудрых пискарей», которые, «по милости ее советов, неискалеченными остались», и тем самым вызывает их восхищение.
Трагикомедия либерализма, представленная в «Здравомысленном зайце» и «Вяленой вобле», нашла великолепное завершение в сатире «Либерал». Сказка замечательна не только тем, что в истории ее героя, легко скатившегося от проповеди «идеала» к «подлости», остроумно олицетворена эволюция русского буржуазного либерализма, в полной мере раскрывшаяся в последующее время, в период революционных схваток 1905—1917 годов. В ней рельефно раскрыта психология ренегатства вообще, вся та система софизмов, которыми отступники пытаются оправдать свои действия и в собственном сознании, и в общественном мнении.
Щедрин всегда проявлял непримиримость к трусливым, продажным либералам, лицемерно маскировавшим свои жалкие общественные претензии громкими словами, он не испытывал к ним другого чувства, кроме открытого презрения. Более сложным было отношение сатирика к тем честным наивным мечтателям, представителем которых является заглавный герой знаменитой сказки «Карась-идеалист» (1884).
Карась с ершом спорил:
«— Не верю, — говорит он, — чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспеяние, верю в гармонию и глубоко убежден, что счастие — не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно сделается общим достоянием!
— Дожидайся! — иронизировал ерш...
— И дождусь! — отзывался карась, — и не я один, все дождутся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности; но так как ныне, благодаря новейшим исследованиям, можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины, ее породившие, нельзя уже считать неустранимыми. Тьма — совершившийся факт, а свет — чаемое будущее. И будет свет, будет!
— Значит, и такое, по-твоему, время придет, когда и щук не будет?
— Каких таких щук? — удивился карась, который был до того наивен, что когда при нем говорили: на то щука в море, чтоб карась не дремал, то он думал, что это что-нибудь вроде тех никс и русалок, которыми малых детей пугают, и, разумеется, ни крошечки не боялся».
Хотя карась отроду щук не видывал и знал о них только по рассказам, он считал, что «и они к голосу правды не глухи».
«— Надобно, чтоб рыбы любили друг друга! — ораторствовал он. — Чтобы каждая за всех, а все за каждую — вот когда настоящая гармония осуществится!
— Желал бы я знать, как ты с своею любовью к щуке подъедешь! — расхолаживал его ерш.
— Я, брат, подъеду! — стоял на своем карась, — я такие слова знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится!
— А ну-тка, скажи!
— До просто спрошу: знаешь ли, мол, щука, что такое добродетель и какие обязанности она в отношении к ближним налегает?»
Как искренний и самоотверженный поборник социального равенства, карась-идеалист выступает выразителем общественных идеалов самого Щедрина и вообще передовой части русской интеллигенции — идеалов, сильно окрашенных в тона утопического социализма. Но наивная вера карася в «бескровное преуспеяние», в возможность достижения социальной гармонии путем одного морального перевоспитания хищников, обрекает на неминуемый провал все его высокие мечтания. Горячий проповедник чаемого будущего жестоко поплатился за свои иллюзии, когда после споров с ершом он вступил в диспут с самой щукой: он был проглочен ею.
Достойны особого внимания строки «Карася-идеалиста», рисующие гибель наивного мечтателя, задавшегося целью посредством одного магического слова лютую щуку в карася превратить.
Карась в третий раз явился к щуке на диспут, и притом с некоторыми повреждениями.
«Но он все еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово.
— Хоть ты мне и супротивник, — начала опять первая щука, — да, видно, горе мое такое: смерть диспуты люблю! Будь здоров, начинай!
При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, защелкал по воде остатками хвоста и, глядя Щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул:
— Знаешь ли ты, что такое добродетель?
Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его».
Ироническим указанием на машинальность действий щуки автор подсказывал читателю мысль о тщетности всяких апелляций к совести хищников. Хищники не милуют своих жертв и не внемлют их призывам к великодушию. Волк не тронулся самоотверженностью зайца, щука — карасиным призывом к добродетели. Гибнут все, кто пытался, избегая борьбы, спрятаться от неумолимого врага или умиротворить его, — гибнут и премудрый пискарь, и самоотверженный заяц, и его здравомысленныи собрат, и вяленая вобла, и карась-идеалист.
«Резолюция-то вам всем одна», — говорит лиса здраво-мысленному зайцу.
— А может быть, ты и помилуешь? — вполголоса сделал робкое предположение заяц.
— Час от часу не легче! — еще пуще рассердилась лиса, — Где ты это слыхал, чтобы лисицы миловали, а зайцы помилование получали?»
Все меры морального воздействия на хищников, все апелляции к их совести остаются тщетными. Ни рецепты «здравомысленных зайцев» из либерального лагеря о рационализации волчьего разбоя, ни «карасиные» идеи о возможности «бескровного преуспеяния» на путях к социальной гармонии не приводят к ожидаемым результатам.
Беспощадным обнажением непримиримости социальных противоречий, изобличением идеологии и тактики сожительства с реакцией, высмеиванием наивной веры простаков в великодушие хищников салтыковские сказки подводили читателя к осознанию необходимости и неизбежности социальной революции.
«Карася-идеалиста» художник И. Н. Крамской справедливо назвал «высокой трагедией»[77]. Сущность трагизма, запечатленного в сказке, — в незнании прогрессивной интеллигенцией истинных путей борьбы со злом при ясном понимании необходимости такой борьбы. Эта главная трагедия — трагедия тщетности идейных исканий — осложнена в судьбе карася-идеалиста, проглоченного щукой, как и в судьбе некоторых других героев маленьких салтыковских комедий, заканчивающихся кровавой развязкой («Премудрый пискарь», «Самоотверженный заяц», «Здравомысленный заяц»), не столь высоким, но более чувствительным трагизмом жестокого времени, обрекавшего на гибель поборников социальной справедливости. На них лежит трагический отблеск эпохи Александра III, ознаменовавшейся свирепым правительственным террором, разгромом народничества, полицейскими преследованиями интеллигенции.
Наибольшим драматизмом отмечены те страницы салтыковских сказок, где рисуются картины массового пореформенного разорения русского крестьянства, изнывавшего под тройным ярмом — чиновников, помещиков и буржуазии.
***
Щедрин любил народ без слепого преклонения перед гам, без идолопоклонства: он глубоко понимал сильные стороны народной массы, но не менее зорко видел и слабые стороны ее. «И как бы я ни был предан массам, — говорил он, — как бы ни болело мое сердце всеми болями толпы, но я не могу следовать за нею в ее близоруком служении неразумию и произволу» (VI, 206). И это двустороннее отношение к народу — любящее и критическое — проходит красной нитью через все творчество писателя.
Источник сочувствия Салтыкова народной жизни, с ее даже темными сторонами, заключается отнюдь не в признании ее абсолютной непогрешности и нормальности, а в том, ;что он видел в ней единственный базис, помимо которого «невозможна никакая плодотворная человеческая деятель-юность и немыслимо осуществление идеалов будущего. Одна только народная масса, говорил он, может с законным основанием называться «властительницей наших дум» (VII, 492). Отношение масс к известной идее он считал единственным мерилом, по которому можно судить о степени ее жизненности. Горькое раздумье о судьбах народа Щедрин определял как «самый высший» мотив тоски и в служении интересам народа видел один из тех богатых жизненных идеалов, которые могут наполнить собою все содержание человеческой мысли и деятельности. «Это истина, которую могут отрицать лишь очень ограниченные люди, не понимающие, что все общественные идеалы, как бы ни было велико их разнообразие, все-таки, в окончательном результате, сливаются и сосредоточиваются в одном великом понятии о народе, как о конечной цели всех стремлений и усилий, порабощающей себе даже те высшие представления о правде, добре и истине, которые успело выработать человечество» (VI, 359).
Когда Щедрин говорит о массе, народе, он прежде всего имеет в виду угнетенную трудящуюся массу. Но последнее в понимании Щедрина (и в этом, между прочим, особенность всех деятелей второго, демократического освободительного этапа в России) охватывает крестьянство, включая и городского рабочего. Щедрин, конечно, знал о существовании пролетариата и за рубежом и в России. Но в трактовке Щедрина рабочий — это как бы крестьянин на отхожих промыслах. Этот оторвавшийся от своего деревенского гнезда труженик обычно служит в произведениях Щедрина олицетворением самой крайней нужды, и только в этом все отличие его от коренной крестьянской массы. Но если Щедрин не имел ясного, оформившегося представления о рабочем классе, если он не поднялся до понимания передовой исторической роли пролетариата, то он и не опускался до уровня тех «мужиковствующих» писателей, которые или не замечали появления рабочего класса в России, или же относились к нему пренебрежительно. Для Щедрина характерна не узкая точка зрения защитника только крестьянских интересов, а точка зрения мыслителя-социолога, широко охватывавшего вопросы народной жизни и видевшего в решении их сущность всего общественного прогресса. Освобождение угнетенных масс он считал важнейшей общечеловеческой задачей. Он говорил, что от неудовлетворения нужд, которыми страдает народная масса, страдает общечеловеческое развитие.
В «Сказках» Салтыков воплотил свои многолетние наблюдения над жизнью закабаленного русского крестьянства, свои горькие раздумья над судьбами угнетенных масс, свои глубокие симпатии к трудовому человечеству и свои светлые надежды на силу народную.
Многочисленные эпизоды и образы сказок, относящиеся к характеристике народных масс, дают многостороннюю, глубокую и полную драматизма картину жизни пореформенной крестьянской России. Здесь рассказано о беспросветном труде, страданиях, сокровенных думах народа («Коняга», «Деревенский пожар», «Соседи», «Путем-дорогою»), о его вековой рабской покорности («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»), о его тщетных попытках найти правду и защиту в правящих верхах («Ворон-челобитчик»), о стихийных взрывах его классового негодования против угнетателей («Медведь на воеводстве», «Бедный волк») и т. д. Через все эти изумительные по своей правдивости, лаконичности и яркости зарисовки крестьянской жизни проходит мотив поистине страдальческой любви писателя-гуманиста к народу. И даже картины природы запечатлели в себе великую скорбь о крестьянской России, задавленной грозной кабалой. На темном фоне ночи взор автора улавливает прелюде всего «траурные точки деревень», «безмолвствующий поселок», многострадальное воинство людей «серых, замученных жизнью и нищетою, людей с истерзанными сердцами и поникшими долу головами» («Христова ночь»).
Источником постоянных и мучительных раздумий писателя служил поразительный контраст между сильными и слабыми сторонами русского крестьянства. Проявляя беспримерный героизм в труде и способность превозмочь любые трудности жизни, крестьянство вместе с тем безропотно, покорно терпело своих притеснителей, пассивно переносило гнет, фаталистически надеясь на какую-то внешнюю помощь, питая наивную веру в пришествие добрых начальников.
С горькой иронией изобразил Салтыков рабскую покорность крестьянства в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил». Громаднейший мужичина, мастер на все руки, перед протестом которого, если бы он был на это способен, не устояли бы генералы, безропотно подчиняется тунеядцам. Дал им по десятку яблок, а себе взял «одно, кислое». Сам же веревку свил, чтобы генералы держали его ночью на привязи. Да еще благодарен был генералам за то, что они «мужицким его трудом не гнушалися». Трудно себе представить более рельефное изображение силы и слабости русского крестьянства в эпоху самодержавия.
Вся горечь раздумий Щедрина о судьбах народа, родной страны сконцентрировалась в тесных границах сказки «Коняга». Сказка пропитана чувством тревоги гуманиста за судьбу подневольного труженика и чувством гнева писателя против идеологов социального неравенства. Примечательно, что в сказке крестьянство представлено и непосредственно в образе мужика, и в параллельном образе — Коняги. Человеческий образ казался Салтыкову недостаточным для того, чтобы воспроизвести всю ту скорбную картину каторжного труда и безответных страданий, которую являла собою жизнь крестьянства при царизме. Художник искал более выразительного образа — и нашел его в Коняге, «замученном, побитом, узкогрудом, с выпяченными ребрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами». Коняга — символ силы народной и в то же время символ забитости, вековой несознательности. Коняга, как и мужик в сказке о двух генералах, — это громадина, не осознавшая своей мощи и причин своего страдальческого положения, это — «не умирающая, не расчленимая и не истребимая», но плененная сила.
Где выход из плена? Салтыков мучительно ищет ответа, но эти поиски не дают утешительных результатов. Как глубокий и трезвый мыслитель, он не верил в возможность осуществления социальной гармонии без активной борьбы. Участие широких масс в освободительном движении он считал решающим фактором коренных общественных преобразований. Но в мировоззрении Салтыкова, которое было ограничено кругом идей крестьянского демократа-социалиста, представление о массовой преобразующей силе связывалось прежде всего с крестьянством. В то же время исторический опыт внушал Салтыкову сомнения относительно способности крестьянства к самостоятельной организованной и сознательной борьбе. Отсутствие близкой перспективы вызволения мужика из вековечного «плена» явилось причиной тех глубоких идейных переживаний и скорбных настроений писателя, которые отразились в сказке о многострадальном бессловесном Коняге.
Эта сказка, как и сказка-элегия «Приключение с Крамольниковым», свидетельствует, что в 80-е годы в мировоззрении Салтыкова назревали серьезные перемены. Он по-прежнему оставался социалистом-утопистом — и в то же время обострялось его критическое отношение к теориям утопического социализма. Он оставался крестьянским демократом — и вместе с тем усиливались его сомнения в способности крестьянства стать организованной общественной силой. Он был сторонником «мирных», легальных способов социально-политических преобразований — и все более убеждался, что в условиях самодержавной России они не оправдывают надежд.
Идейные тревоги, пережитые Салтыковым в 80-е годы, М. С. Ольминский не без основания определил как «трагедию переходного момента от утопического к научному социализму»[78]. До понимания исторической роли рабочего класса он не дошел, закончив свою литературную деятельность в преддверии пролетарского этапа освободительного движения.
Главной причиной долготерпения угнетенных масс Салтыков как просветитель-демократ считал отсутствие у них политической сознательности, понимания своего значения как общественной силы. Воссоздавая в «Сказках» картину крестьянских бедствий, он последовательно проводил идею о необходимости противопоставить эксплуататорам мощь народную. Он настойчиво внушал «замученному Коняге» и «измалодушничавшему воронью» («Ворон-челобитчик»), запуганным и доверчивым «людишкам» («Богатырь»), что их притеснители — жестоки, но не столь могущественны, как это представляется устрашенному сознанию. Он стремился поднять сознание масс до уровня их исторического призвания, вооружить их мужеством и верой в свои дремлющие силы, разбудить их огромную потенциальную энергию для коллективной самозащиты и активной освободительной борьбы.
***
Салтыков не разделял мелкобуржуазных концепций о возможности достижения социального идеала только путем морального исправления эксплуататоров. В понимании причин социального зла и путей его искоренения он не придавал моральному фактору решающего значения и не связывал с ним далеко идущих надежд. Вместе с тем он не преуменьшал огромного значения нравственности — стыда и совести — как действенного начала в общественной борьбе. И в этом смысле он может быть назван великим моралистом. Поэтому наряду с политическими и социальными проблемами он так или иначе постоянно касался в своем творчестве и проблем моральных. В частности, среди его сказок есть такие, которые посвящены преимущественно осмеянию и отрицанию морали эксплуататоров и пропаганде революционно-демократических принципов нравственности. Это — «Пропала совесть», «Добродетели и Пороки», «Дурак», «Баран-непомнящий», «Христова ночь», «Рождественская сказка», «Приключение с Крамольниковым».
Первые три из перечисленных сказок — сатира на исторически изжившие себя моральные принципы привилегированных классов. Писатель показывает полное извращение всех нравственных категорий в паразитических слоях общества. Здесь совесть превращена в «негодную тряпицу», от которой каждый стремится поскорее избавиться («Пропала совесть»). Здесь добродетели ловко уживаются с пороками на почве лицемерия («Добродетели и Пороки»). Здесь все подлинно высокие человеческие достоинства признаются ненормальными, опасными и подвергаются жестокому гонению («Дурак»).
Давно занимавшая творческое воображение Салтыкова и оставшаяся неосуществленной мысль о создании произведения, героем которого должен был бы явиться самоотверженный поборник социальной справедливости, революционер типа Чернышевского или Петрашевского, — эта мысль нашла свое частичное претворение в сказке «Дурак». В ней представлена свободная от всех нравственных пороков привилегированного общества личность гуманиста, хотя и не в образе революционера, а в опрощенном, соответственно народной сказке, образе прирожденного крестьянского «праведника», который «не понимал», а потому и не признавал никаких требований официального морального кодекса.
Иванушка-дурак является положительным героем многих народных сказок. Народно-поэтическая традиция применяет к своему любимому герою определение «дурак» с иронической целью, для вящего ниспровержения и посрамления той молвы, которую распространяют люди богатых сословий о простом и бедном человеке. Сказочный Иванушка-дурак своей простоватостью и беспечностью как бы оправдывает до поры до времени приложенную к нему кличку, но потом обнаруживает столько ума, смелости, находчивости, что преодолевает все козни и коварство «умных» врагов, торжествует над ними победу и добивается счастливой жизни. Жизненный идеал фольклорного Иванушки-дурака не поднимается выше мужицких представлений о том, что такое хорошая жизнь, и обычно ограничивается достижением личной независимости, богатства, удачи в житейских делах. Венец удачи — когда Иванушка достигает трона и становится мужицким царем. Таким образом, сама демократическая идея сказки об Иване-дураке приобретает нередко монархическую форму выражения.
Примечательно, что даже принципиальный противник монархии Лев Толстой в «Сказке об Иване-дураке и его двух братьях», своеобразно интерпретируя народный мотив о мнимом «дураке», посрамляющем спесивость «умных» богатеев, приноравливается к уровню мужицких представлений, не свободных от царистских иллюзий, и делает своего Ивана царем-пахарем. В то время как «умные» братья — Семен-воин и Тарас-брюхан — разорили свои царства в войнах и в погоне за деньгами, патриархальное царство, основанное Иваном-дураком, преуспевало в своем благополучии. В царстве «дураков» не было ни армии, ни денег, ни тунеядцев, ни просвещения, ни законов; здесь все работали своими руками, были счастливы и жили в полном согласии. Только один обычай был в царстве Ивана, — обычай, который тунеядцы из соседних царств называли «дурацким»: «у кого мозоли на руках — полезай за стол, а у кого нет — тому объедки»[79].
Таким образом, рисуя в сказке утопическое общество патриархального крестьянского социализма, Лев Толстой иронически использовал выдвинутую паразитическими классами номенклатуру деления людей на «умных» господ и «дураков» тружеников. Сказка Щедрина «Дурак» написана несколькими месяцами ранее толстовской сказки об Иване-дураке, но в одном с нею 1885 году. Слову «дурак» Щедрин придал тот же иронический смысл, с которым мы встречаемся в фольклоре и в сказке Толстого.
Герой щедринской сказки Иванушка вовсе не дурак, а личность далеко превосходящая в интеллектуальном и в нравственном отношении всех тех, которые считают себя умными, а в нем видят дурака. Пользуясь правом сказочного жанра на «чудесное», не требующее мотивировок, Щедрин рассказывает о появлении на свет необыкновенного «дурака», у которого от рождения никаких «подлых мыслей» не было.
Органической потребностью Иванушки, сердце которого отличалось исключительной отзывчивостью к чужому горю, была деятельная любовь к ближнему. Он весь отдался заступничеству за бедных, слабых, больных, гонимых. Он не признавал и не понимал никаких официальных законов, требований, теорий, предписаний морального кодекса, стоявших на страже господствующего порядка. О принципах собственности и о правах наследования Иванушка-дурак никакого представления не имел и просто не понимал ик, как ни втолковывал ему «законные» истины папочка. Отдали дурака в «заведение». Однако, несмотря на превосходную память и золотое сердце, он большинства наук совсем не понимал. «Не понимал истории, юриспруденции, науки о накоплении и распределении богатств. Не потому, чтобы не хотел понимать, а воистину не понимал. И на все усовещивания учителей и наставников отвечал одно: не может этого быть!»
Как пи старались благонравные воспитатели и дома и в «заведении» просветить разум Иванушки, направить «стопы его по стезе господина исправника, его помощника и непременного заседателя», он так и остался неисправимым «дураком». Никого и ничего он не боялся и совсем не имел понятия об опасности. «Случится в городе пожар — он первый идет в огонь; услышит ли, что где-нибудь есть трудный больной — он бежит туда, садится к изголовью больного и прислуживает. И умные слова у него в таких . случаях оказывались, словно он и не дурак». Его непреодолимо влекло к самопожертвованию, и «он инстинктивно повиновался этому указанию, не справляясь об ожидаемых последствиях и не допуская сделок даже в пользу кровных уз».
Подобно тому, как в известной сказке Андерсена лебедь в стаде утят оказывается «гадким утенком», подобно тому, как в романе Достоевского человек, поведение которого идет вразрез с нравами морально прогнившего светского общества, объявляется «идиотом», — так и сказочный щедринский Иванушка-дурак признается ненормальным и опасным, становится гонимым и презираемым в обществе, насквозь пропитанном своекорыстными интересами.
Щедрин неоднократно развивал в своих произведениях мысль о том, что в ненормальной обстановке только ненормальные явления признаются нормальными и, наоборот, подлинно нормальное, человеческое преследуется как ненормальное. В сказке «Дурак» ярко воплощена именно эта мысль о ненормальности нормального в обществе, где все представления о добре и зле извращены. Общая идея сказки состоит в противопоставлении двух моралей — эксплуататорской и социалистической.
Разумеется, жизнь одинокого протестанта, взгляды и поступки которого находились в непримиримом конфликте с господствующей средой, должна была закончиться трагически. Финальный эпизод сказки — внезапное исчезновение, а затем, по прошествии многих лет, возвращение бледного, худого и измученного Иванушки — намекает на административную кару, постигшую героя. Такова была участь многих «справедливых людей» из народа, и Салтыков своей сказкой выражал им сочувствие.
Как в сказке «Дурак», любовь к ближнему — основной мотив «Христовой ночи» и «Рождественской сказки», причем эти два произведения во всем цикле являются единственными, где Салтыков, развивая тему любви к ближнему, использует религиозно-мифологические образы и форму христианской проповеди.
«Христова ночь», несмотря на то что в ней использован миф о предательстве Иуды и воскресении Христа, по пафосу своему прямо противоположна проповеди религиозного смирения. В ней отвергается идея прощения предателя и звучит призыв беспощадно карать его.
Среди симпатичных автору образов в произведениях Салтыкова-Щедрина одно из самых видных мест занимает юноша, стремящийся к добру и правде. Таковы: «маленькое русское дитя» в сказке «Пропала совесть» (1869), Коронаг в «Благонамеренных речах» (1875), Юленька в «Дворянской хандре» (1878), Степа в «Больном месте» (1879), Чудинов в «Мелочах жизни» (1886). Следует прибавить сюда и Сережу Русланцева из «Рождественской сказки» (1886). В ряду названных произведений эта сказка является позднейшей и как бы завершает галерею положительных образов молодых людей в творчестве Щедрина. Характерно при этом то обстоятельство, что в позднейших произведениях молодые герои, порывающиеся к высоким идеалам и борьбе за них, кончают преждевременной смертью.
«Рождественская сказка» посвящена той же теме, что и сказка «Пропала совесть». В них отразились размышления Салтыкова о степени моральной готовности молодежи к восприятию новых идей и о перспективах освободительной борьбы.
Всеми гонимая совесть нашла наконец приют в чистом сердце маленького русского дитяти. «Растет маленькое дитя, а вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама». Такой финал сказки «Пропала совесть».
Образ восприимчивого к правде маленького русского дитяти, с которым познакомила нас сказка «Пропала совесть», повторился в «Рождественской сказке» в образе отрока Сережи Русланцева, заявивпюго: «Я за правду на бой пойду!» Правда мелькнула перед ним и напоила его существо блаженством; но неокрепшее сердце отрока не выдержало наплыва и разорвалось.
Растущая совесть дитяти в ранней сказке символизирует надежды, связанные с ростом революционных настроений в 60-е годы, разорвавшееся сердце отрока в позднейшей сказке — их крушение в 80-е годы, на исходе народнического этапа освободительного движения. Основной смысл «Рождественской сказки», несмотря на ее трагический финал, продиктованный конкретно-исторической ситуацией, заключается в призыве к гражданскому подвижничеству во имя переустройства общества.
Мотивом любви к ближнему и «религиозной» формой его художественного воплощения «Христова ночь» и «Рождественская сказка» Салтыкова больше всего напоминают народные рассказы и сказки Льва Толстого. Однако Толстой и Салтыков расходятся в своем понимании способов служения ближнему. Если первый полагал, что моральное самоусовершенствование человека, чисто нравственное проявление любви к ближнему, христианское смирение и всепрощение уже сами по себе достигают цели, ведут в конечном счете к коренному преобразованию всей общественной жизни, то Салтыков противопоставил толстовской проповеди нравственного перевоспитания социальных верхов идею активного протеста.
Об идейных расхождениях двух великих современников в трактовке моральных проблем свидетельствует, в частности, такой факт. Салтыков, идя навстречу сделанному ему Толстым предложению, послал в марте 1887 года пять сказок в «Посредник». Ознакомившись с ними, В. Г. Чертков писал Толстому 19 марта 1887 года, что в каждой из сказок «есть что-нибудь прямо противоположное нашему духу; но когда указываешь на это, то он [Салтыков] говорит, что всю вещь написал именно для этого места, и никак не соглашается на пропуск»[80]. Из свидетельств Черткова известно также, что особенное внимание Толстого обратила на себя «Рождественская сказка». Но и она, по словам Черткова, вызывала у него противоречивое чувство. С одной стороны, он нашел ее «изумительной» и хотел бы издать ее в «Посреднике», с другой — будто бы отказался от этого ввиду «нехристианского» конца[81]. Чертков, от лица Толстого, просил Салтыкова переделать или опустить конец сказки. «Вы хотите отрезать конец? — рассердился Салтыков. — Ну, так я вам скажу, что свои произведения я не отмериваю на аршин!»
Эпизод переговоров с «Посредником» ярко характеризует различие в идейной направленности сказок Салтыкова и религиозно-моралистических народных рассказов и сказок Толстого.
Салтыкову не свойственна апелляция к религии и церкви, он прекрасно понимал и неоднократно разоблачал в своей сатире их реакционную сущность. В связи с этим на первый взгляд кажется неожиданным, что в сказочном цикле писатель дважды — в «Христовой ночи» и «Рождественской сказке»—прибегает к религиозно-мифологическим образам и формам христианской проповеди. Идеи, развиваемые в этих произведениях, посвященных моральным проблемам, в сущности глубоко враждебны религиозным догматам. С точки зрения новой морали, Салтыков обличает такие характерные явления 80-х годов, как предательство и политическое ренегатство («Христова ночь») и призывает к гражданскому подвижничеству («Рождественская сказка»).
Почему же Салтыков прибегнул к «религиозной форме», не соответствующей сущности его социального и поэтического мировоззрения?
Во-первых, по справедливому заключению С. А. Макашина, Салтыков, не принимая Евангелия в его религиозном значении, вместе с тем был, подобно всем утопическим социалистам (Фурье, Сен-Симон и др.), не чужд социальному этизму в его евангельской оболочке. В частности, социально-этическому пафосу Салтыкова в «Христовой ночи» соответствовал евангельский пафос изложения моральных максим[82].
Во-вторых, выбор «религиозной формы» повествования, несомненно затемняющей, особенно с точки зрения современного читателя, подлинный смысл пропагандируемых автором идей, был, так сказать, навязан писателю конкретно-историческими условиями времени. Салтыков сознательно шел в данном случае на некоторый ущерб развитию своих взглядов для того, чтобы обойти формально-уставные рогатки цензуры. Рассматриваемые произведения он готовил для «пасхальных» и «рождественских» номеров «Русских ведомостей» с очевидным намерением не выходить из традиционных рамок таких праздничных публикаций.
И наконец, третье и, может быть, самое главное. Все — и приуроченность произведений к церковным праздникам, и проповедническая тональность повествования, и евангельская облицовка образов — все свидетельствует о том, что «Христову ночь» и «Рождественскую сказку» Салтыков предназначал в первую очередь для широкого круга читателей, приноравливая образы и стиль к уровню их сознания, находившегося во власти религиозных представлений. Новое вино было влито в старые мехи. И хотя основной смысл этих «религиозных» по форме произведений не имеет в себе ничего религиозного, все же цель их написания заключалась не специально в борьбе с религией, как полагают иные комментаторы, и не в приобщении писателя к религиозным настроениям, как считали некоторые прежние критики, введенные в заблуждение своеобразной формой повествования, а исключительно в стремлении Салтыкова провести наиболее доступным образом свои взгляды в широкую читательскую среду. К этому прибегали и другие литературные современники Салтыкова. В частности, 1885 и 1886 год — год появления «Христовой ночи» и «Рождественской сказки» Салтыкова — ознаменованы рядом значительных произведений, основанных на использовании религиозно-мифологических образов, церковных легенд, народных суеверий, народно-сказочных мотивов. Это прежде всего народные рассказы Толстого («Свечка», «Два старика», «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях»), «Сказание о гордом Аггее» Гаршина, «Сказание о Флоре, Агриппе и Менахеме, сыне Иегуды» Короленко, «Сказание о Феодоре-христианине и о друге его Абраме-жидовине» Лескова.
Общим для автора всех этих произведений является стремление воздействовать на «простонародье», на того читателя, сознание которого находилось под воздействием религиозной идеологии. Применительно к последнему создавалась и соответствующая поэтическая форма рассказа. Что же касается пропагандируемых в этой форме идей, то они могли быть не только различны, но и прямо противоположны у отдельных писателей.
В народных рассказах Толстого и родственных им легендарных «сказаниях» Гаршина и Лескова проводились религиозные идеи непротивления злу насилием и нравственного совершенствования; произведения же Салтыкова и Короленко полемически развивали мысль о необходимости активной борьбы с насилием. Если у Толстого, Гаршина и Лескова выбор формы религиозного сказания в известной мере диктовался внутренним содержанием развиваемого учения, то для Салтыкова и Короленко эта форма была лишь своеобразной художественной тактикой.
Внести сознание в народные массы, вдохновить их на борьбу за свои права, пробудить в них понимание своего исторического значения, осветить им светом демократического и социалистического идеала путь движения к будущему — в этом состоит основной идейный смысл «Сказок» и вообще всей литературной деятельности Щедрина, и к этому он неутомимо призывал своих современников из лагеря передовой интеллигенции. И какие бы сомнения и огорчения ни переживал писатель относительно пассивности народной массы в настоящем, он никогда не утрачивал веры в пробуждение ее сознательной активности, в ее решающую роль, в ее конечное, может быть, как ему казалось в 80-е годы, очень отдаленное торжество.
***
«Сказки», представляя собою итог многолетней работы писателя, синтезируют идейно-художественные принципы Салтыкова, его оригинальную манеру письма, многообразие его изобразительных средств и приемов, достижения его мастерства в области сатирической типизации, портретной живописи, диалога, пейзажа, они ярко демонстрируют силу его победоносного юмора. Поэтому «Сказки» являются именно той книгой Салтыкова, которая раскрывает читателю богатый духовный мир и многогранную творческую индивидуальность русского художника-мыслителя.
Богатое идейное содержание щедринских сказок выражено в общедоступной и яркой художественной форме, воспринявшей лучшие народно-поэтические традиции. «Сказка,— говорил Гоголь,— может быть созданием высоким, когда служит аллегорического одеждою, облекающею высокую духовную истину, когда обнаруживает ощутительно и видимо даже простолюдину дело, доступное только мудрецу»[83]. Таковы именно салтыковские сказки. Они написаны настоящим народным языком — простым, сжатым и выразительным.
Слова и образы для своих чудесных сказок сатирик подслушал в народных сказках и легендах, в пословицах и поговорках, в живописном говоре толпы, во всей поэтической стихии живого народного языка. Связь сказок Салтыкова с фольклором проявилась и в традиционных зачинах с использованием формы давно прошедшего времени («Жил-был...»), и в употреблении присказок («по щучьему веленью, по моему хотенью», «ни в сказке сказать, ни пером описать» и т. д.), и в частном обращении сатирика к народным речениям, всегда поданным в остроумном социально-политическом истолковании.
Близость сатиры Салтыкова к произведениям народнопоэтической словесности наиболее заметно обнаруживается не в композиции, жанре или сюжетах, а в образной стилистике. Сатирика привлекал в фольклоре прежде всего склад народной речи, образность народного языка. Отсюда его интерес к народным афоризмам, закрепленным в пословицах и поговорках. Сатирик находил их и непосредственно в живой разговорной речи[84], и в соответствующих сборниках своего времени. Документальным свидетельством этого может служить автограф, относящийся к середине 50-х годов, с записью 52-х пословиц и поговорок, взятых из публикаций Ф. Буслаева и И. Снегирева. Ю. М. Соколов, опубликовавший и прокомментировавший листок с этими записями и проследивший их использование в произведениях писателя, пишет: «По всему видно, что пословицы не только служили дополнительным материалом художнику для характеристики того или другого персонажа, но... давали толчок к созданию писателем фабульной ситуации»[85]. Справедливо также относительно некоторых сказок Салтыкова замечание Я. Этьсберга о том, что они выросли из пословиц и поговорок[86].
И все же, несмотря на обилие фольклорных элементов, салтыковская сказка, взятая в целом, не похожа на народные сказки, она ни в композиции, ни в сюжете не повторяет традиционных фольклорных схем. Сатирик не подражал фольклорным образцам, а свободно творил на основе их и в духе их, творчески раскрывал и развивал их глубокий смысл в соответствии со своими замыслами, брал их у народа, чтобы вернуть народу же идейно и художественно обогащенными. Поэтому даже в тех случаях, когда темы или отдельные образы салтыковских сказок находят себе близкое соответствие в ранее известных фольклорных сюжетах, они всегда отличаются оригинальным истолкованием традиционных мотивов, новизной идейного содержания и художественным совершенством.
Опираясь на богатейшую образность сатирической народ-г ной сказки, Салтыков дал непревзойденные образцы лаконизма в художественной трактовке сложных общественных явлений. Каждое слово, эпитет, метафора, сравнение, каждый образ в его сказках обладают высоким идейно-художественным значением, концентрируют в себе, подобно заряду, огромную сатирическую силу. В этом отношении особенно примечательны те сказки, в которых действуют представители зоологического мира.
Мастерским воплощением обличаемых социальных типов в образах зверей достигается яркий сатирический эффект при чрезвычайной краткости и быстроте художественных мотивировок. Уже самим фактом уподобления представителей господствующих классов и правящей касты самодержавия хищным зверям сатирик заявлял о своем глубочайшем презрении к ним. Социальные аллегории в форме сказок о зверях предоставляли писателю некоторые преимущества и в цензурном отношении, позволяли употреблять более резкие сатирические оценки и выражения. В сказке «Медведь на воеводстве» Салтыков называет Топтыгина «скотиной», «гнилым чурбаном», «сукиным сыном», «негодяем» и т. п. — все это без применения звериной маски было бы невозможно сделать по отношению к царским сановникам, которых сатирик имеет в виду в данном случае.
Конечно, царская цензура распознавала замаскированные замыслы писателя и принимала все зависящие от нее меры, но нередко оказывалась перед невозможностью предъявить ему формальные обвинения.
«Зверинец», представленный в щедринских сказках, свидетельствует о великом мастерстве сатирика в области художественного иносказания, о его неистощимой изобретательности в иносказательных приемах. Выбор представителей животного царства для иносказаний в салтыковских сказках всегда тонко мотивирован и опирается на прочную фольклорно-сказочную и литературно-басенную традицию, и всего заметнее — на традицию Крылова. Справедливо отмечалось, что некоторые салтыковские сказки представляют собою прозаическую разновидность басенного жанра[87] и что в них получили своеобразное и более сложное идеологическое истолкование образы и мотивы крыловских басен[88].
Затаенный смысл сказочных иносказаний Салтыкова постигается как из самих образных картин, соответствующих поэтическому строю народных сказок или басен, так и благодаря тому, что сатирик нередко сопровождает свои образы прямыми намеками на их скрытое значение.
Топтыгин чижика съел. «Все равно, как если б кто бедного крохотного гимназистика педагогическими мерами до самоубийства довел» («Медведь на воеводстве»).
«Ворона — птица плодущая и на все согласная. Главным же образом, тем она хороша, что сословие «мужиков» представлять мастерица» («Орел-меценат»).
«У птиц тоже, как и у людей, везде инстанции заведены; везде спросят: «Был ли у ястреба? был ли у кречета?» а ежели не был, так и бунтовщиком, того гляди, прослывешь» («Ворон-челобитчик»).
Такой прием переключения повествования из плана фантастического в реалистический, из сферы зоологической в социальную делает салтыковские иносказания, как правило, прозрачными и общедоступными.
В сказках Салтыкова зайцы изучают «статистические таблицы, при министерстве внутренних дел издаваемые», и пишут корреспонденции в газеты; медведи ездят в командировки, получают прогонные деньги и стремятся попасть на «скрижали Истории»; птицы разговаривают о капиталисте-железнодорожнике Губошлепове; рыбы толкуют о конституции и даже ведут диспуты о социализме. Но в том-то и состоит поэтическая прелесть и неотразимая художественная убедительность салтыковских сказок, что как бы ни «очеловечивал» сатирик свои зоологические картины, какие бы сложные социальные роли ни поручал он своим «хвостатым» героям, последние всегда сохраняют за собой основные свои натуральные свойства.
Коняга — это доподлинно верный образ забитой крестьянской лошади; медведь, волк, лиса, заяц, щука, ерщ карась, орел, ястреб, ворон, чиж — все это не просто условные обозначения, не внешние иллюстрации, а поэтические образы, живо воспроизводящие облик, повадки, свойства представителей животного мира, призванного волею художника дать едкую пародию на общественные отношения буржуазно-помещичьего государства. В результате — перед нами не голая, прямолинейно тенденциозная аллегория, а высшее мастерство художественного иносказания, сохраняющее реальность сопоставляемых образов.
В своих сказках Салтыков воплотил не только повседневные проявления общественной жизни, социальной борьбы, административного произвола, но и сложные процессы общественной мысли своего времени. И если принять во внимание всю эту сложность поставленных писателем задач, то нельзя не восхищаться тем мастерством, с каким представил Салтыков большие коллизии эпохи в миниатюрных картинах сказок, с каким он заставил своих незадачливых героев — волков и зайцев, щук и карасей — разыграть на этой ограниченной сцене сложные сюжеты социальных комедий и трагедий.
Противопоставление бесправных народных масс господствующей верхушке общества составляет один из важнейших идейно-эстетических принципов Салтыкова. В его сказках действуют лицом к лицу, в непосредственном и резком столкновении представители антагонистических классов. Мужик и генералы, мужики и дикий помещик, Иван Бедный и Иван Богатый, заяц и волк, заяц и лиса, «лесные мужики» и воеводы Топтыгины, Коняга и Пустоплясы, карась и щука и т. п.
В целом книга салтыковских сказок — это живая картина общества, раздираемого внутренними противоречиями. Рядом с глубокой драмой жизни трудящихся Салтыков показывал позорнейшую комедию жизни дворянско-буржуазных слоев общества. Отсюда постоянное переплетение трагического и комического в салтыковских сказках, беспрерывная смена чувства симпатии чувством гнева, острота конфликтов и резкость идейной полемики.
Принцип социального контраста находит свое выражение не только в построении образной системы, резком противопоставлении персонажей, выборе зоологических масок, но и в тех полемических диалогах действующих лиц, в форме которых развертывается содержание целого ряда сказок. Блестящим примером мастерского диалога может служить «Карась-идеалист». Сюжет сказки, с первых слов («Карась с ершом спорил...») и до последних («Вот они, диспуты-то наши, каковы!»), развивается в быстро сменяющихся эпизодах полемики карася то с ершом, то со щукой, и в этих спорах необычайно стремительно и ярко обрисовывается внутренний облик каждого участника диспутов: наивного идеалиста, циничного скептика, прожорливого хищника.
Нет ни возможности, ни необходимости говорить здесь о многих других особенностях, характеризующих салтыковские сказки как оригинальные творения искусства слова. Отметим лишь, что эти сказки, где представлены картины жизни всех социальных слоев общества, могут служить как бы хрестоматией образцов салтыковского юмора во всем богатстве его эмоциональных оттенков и художественных проявлений. Здесь и презрительный сарказм, клеймящий царей и царских вельмож («Медведь на воеводстве», «Орел-меценат»), и веселое издевательство над дворянами-паразитами («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик»), и пренебрежительная насмешка над позорным малодушием либеральной интеллигенции («Премудрый пискарь», «Либерал»), и смешанный с грустью смех над доверчивым простецом, который наивно полагает, что можно смирить хищника призывом к добродетели («Карась-идеалист»).
Небольшой объем, народность художественной формы, острота трактовки жгучих социальных проблем, богатое идейное содержание, выраженное в ярких, впечатляющих образах, — все это сообщало салтыковским сказкам, так сказать, оперативный характер и обеспечивало им широкое хождение в читательской среде.
«Сказки» Салтыкова сыграли благотворную роль в революционной пропаганде, и в этом отношении они выделяются из всего творчества писателя. Документальные и мемуарные источники свидетельствуют, что салтыковские сказки постоянно находились в арсенале русских революционеров-народников и служили для них действенным оружием в борьбе с самодержавием. Отдельные сказки Салтыкова перепечатывались в столичных и провинциальных изданиях, а те из сказок, которые были запрещены царской цензурой («Медведь на воеводстве», «Орел-меценат», «Вяленая вобла» и др.), распространялись в нелегальных изданиях — русских и зарубежных.
К «Сказкам» Салтыкова проявлял интерес Ф. Энгельс[89]. Ими неоднократно пользовались русские марксисты в своей публицистической деятельности. В. И. Ленин блестяще применял многие идеи и образы салтыковских сказок к условиям политической борьбы своего времени.
Отмечая «гигантское, всемирно-историческое значение» пробуждения человека в «коняге», Ленин резко выступал против реакционных экономистов народнического лагеря, которые, считая труд «святой» обязанностью забитого и задавленного крестьянина, тем самым внушали веру, что «ему навеки суждена «святая обязанность» быть конягой»[90]. Он клеймил черносотенцев как «диких помещиков» и разоблачил в помещичьем либерализме 1905 года вожделения «дикого помещика»[91]. Буржуазный либерализм кадетов охарактеризован Лениным как «софистика вяленой воблы»[92], а меньшевики, тяготевшие к союзу с либералами, как премудрые пескари пресловутой прогрессивной «интеллигенции»[93]. Припоминая салтыковского карася-идеалиста, Ленин разъяснял: «пока есть у демократии политические караси, будет чем жить и щукам либерализма»[94].
Оказали свое воздействие сказки Салтыкова и на дальнейшее развитие русской литературы. Не без их влияния создавались, в частности, «Русские сказки» М. Горького[95], сатирические стихи В. Маяковского и Демьяна Бедного.
«Сказки» Салтыкова—это и великолепный художественный памятник минувшей эпохи, и действенное средство нашей сегодняшней борьбы с пережитками прошлого и с современной буржуазной идеологией. Вот почему они и в наше время не утратили своей яркой жизненности, по-прежнему остаются в высшей степени полезной и увлекательной книгой миллионов читателей.
Заключительные суждения об искусстве сатирика
Салтыков-Щедрин принадлежит к числу тех великих писателей, творчество которых отличалось высокой идейностью, народностью, реализмом, художественным совершенством. Наравне с другими классиками русского реализма он превосходно владел мастерством изображения быта и психологии людей, социальных и нравственных явлений общественной жизни. Но он, как и каждый из его выдающихся литературных современников — Некрасов, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Толстой, — был по-своему оригинален, имел свое особое призвание и внес свой неповторимый вклад в развитие русской и мировой литературы.
Произведения Салтыкова-Щедрина, как бы они ни были разнообразны в идейно-художественном и жанровом отношениях, составляют единый художественный мир, отмеченный печатью яркой творческой индивидуальности писателя. Своеобразие Щедрина-художника наиболее наглядно проявляется прежде всего в таких особенностях его сатирической поэтики, как искусство применения юмора, гиперболы, гротеска, фантастики, иносказания для реалистического воспроизведения действительности и ее оценки с прогрессивных общественных позиций. Выскажем несколько обобщающих суждений о роли этих характерных приемов творческой манеры сатирика, о их функциональной связи, взаимодействии и взаимопроникновении.
Смех — основное оружие сатиры. «Это оружие очень сильное, — говорил Щедрин, — ибо ничто так не обескураживает порока, как сознание, что он угадан и что по поводу его уже раздался смех» (XIII, 270). Этим оружием боролись с социальными и нравственными пороками общества Фонвизин, Крылов, Грибоедов, Гоголь. Щедрин развивал их традицию. По его собственному признанию, юмор всегда составлял его главную силу.
Сторонники реакционного искусства выступали с теорией безобидного юмора, — юмора, примиряющего социальные противоречия. В противоположность этому воззрению Щедрин развивал учение о «беспощадном остроумии», «относящемся к предмету во имя целого строя понятий и представлений, противоположных описываемым...» (VI, 123). Именно такой беспощадный юмор, обличавший дворянско-буржуазное общество и вдохновлявший народные массы на освободительную борьбу, был главною силою сатирика. В творчестве Щедрина сатирическое направление русской литературы XIX века достигло высшей точки своего развития и оказало огромное революционизирующее воздействие на развитие общественной мысли.
Щедрин — самый яркий продолжатель гоголевской традиции сатирического смеха. Гоголь и Щедрин — два крупнейших юмористических дарования во всей русской литературе. Тот и другой обладали неистощимым остроумием в изобличении общественных пороков. И вместе с тем, есть большая разница в художественном проявлении юмора у этих двух сатириков.
Белинский, характеризуя юмор Гоголя как юмор «спокойный, спокойный в самом своем негодовании, добродушный в самом своем лукавстве», в то же время говорил, что в творчестве бывает еще другой юмор, «грозный и открытый», «желчный, ядовитый, беспощадный»[96]. Таков именно юмор Щедрина.
Герцен писал, что Гоголь «невольно примиряет смехом, его огромный комический талант берет верх над негодованием»[97]. В свою очередь и Чернышевский отмечал, что «сарказм Гоголя очень скромен и ограничен»[98]. В отличие от этого, у Щедрина кипящее негодование господствует над комическим элементом, растворяющимся обычно в сарказме. Характеризуя смех Щедрина как горький и резкий, отмечая в нем «нечто свифтовское», Тургенев писал: «Я видел, как слушатели корчились от смеха при чтении некоторых очерков Салтыкова. Было что-то почти страшное в этом смехе, потому что публика, смеясь, в то же время чувствовала, как бич хлещет ее самое»[99]. По определению М. Горького, смех Щедрина — «это не смех Гоголя, а нечто гораздо более оглушительно-правдивое, более глубокое и могучее»[100]. Если к гоголевскому юмору приложима формула: «смех сквозь слезы», то более соответствующей щедринскому юмору будет формула: «смех сквозь презрение и негодование». Достаточно сравнить, с одной стороны, высшие достижения Гоголя — «Ревизор» и «Мертвые души» — и, с другой, «Историю одного города» и «Современную идиллию» Щедрина, чтобы почувствовать всю разницу между спокойным и добродушным юмором первого и желчным, негодующим, открыто презирающим юмором второго.
В характере щедринского юмора сказались, конечно, и особенности личной биографии, дарования и темперамента писателя, но прежде всего — новые общественные условия и новые идеи, верным представителем которых он был.
Время формирует и выдвигает на арену деятельности такие таланты, потребность в которых стала назревшей необходимостью. Гоголь творил в годы, когда протест против крепостническо-бюрократического государства захватил только лучшую часть дворянства, когда этот протест оставался преимущественно в сфере философско-эстетических, идеологических исканий, когда русский социализм только зарождался и проходил в кружках начальную стадию ученичества у западных утопических социалистов, когда, наконец, в лице Белинского, Герцена, Петрашевского и их немногочисленных единомышленников намечались только первые признаки приближающегося демократического этапа освободительной борьбы. В этих условиях сатира Гоголя и критика Белинского стали ярким знаменем русской освободительной мысли, хотя сам Гоголь был демократом лишь по чувству и не принадлежал к людям передовых идейно-политических взглядов. Огромный художественный талант Гоголя объективно прозревал больше, нежели постигала сознательная мысль писателя. Последнее обстоятельство, конечно, не могло не отразиться на характере его юмора. Гоголевское отрицание социального зла ослаблялось вмешательством моралистических соображений.
Другое дело — время Щедрина, сам Щедрин, а в связи с этим и щедринский смех. За годы, разделяющие сатирическую деятельность Гоголя и Щедрина, совершился крупный шаг в общественной жизни России и в развитии русской освободительной мысли. Черты крепостнического варварства стали еще очевиднее, процесс разложения устаревших социальных форм жизни зашел еще дальше, руководство освободительным движением перешло от дворян-революционеров к демократам во главе с Чернышевским, идеи демократии нашли себе опору в идеях социализма, впервые в истории России складывалась революционная ситуация. Именно в это время громко прозвучал щедринский смех. Это был смех из лагеря демократии, с которым сознательно связал себя Щедрин, смех с высоты идеалов социализма, убежденно воспринятых сатириком.
Мощь сатирического таланта Щедрина умножалась его передовым идейно-политическим мировоззрением. Смех Щедрина, почерпавший свою силу в росте демократического движения и в идеалах демократии и социализма, глубже проникал в источник социального зла, нежели смех Гоголя, и потому был громче и целеустремленнее, непримиримее в разрушительнее. Разумеется, речь идет не о художественном превосходстве Щедрина над Гоголем, а о том, что по сравнению со своим великим предшественником Щедрин как сатирик ушел дальше, движимый временем и идеями. Что же касается собственно гоголевской творческой силы, то Щедрин признавал за нею значение высшего образца, на уровень которого сам он сумел подняться в лучших своих произведениях.
Если Гоголь видел в сатирическом смехе прежде всего средство нравственного исправления людей, порождающих социальное зло, то Щедрин, не чуждаясь моралистических намерений, считал главным назначением смеха возбуждение чувства негодования и активного протеста против социального неравенства и политического деспотизма. Щедринский смех отличался от гоголевского прежде всего своим, так сказать, политическим прицелом. И если Гоголь в своей теории юмора с течением времени все более склонялся к признанию умиротворяющей природы смеха, то Щедрин, напротив, последовательно углублял и развивал учение о смехе как грозном оружии отрицания. Сатирический смех, в щедринской концепции, призван быть не целителем, а могильщиком устаревшего социального организма, призван накладывать последнее позорное клеймо на те явления, которые закончили свой цикл развития и признаны на суде истории несостоятельными.
В смехе Щедрина, преимущественно грозном и негодующем, не исключены и другие эмоциональные тона и оттенки, обусловленные разнообразием идейных замыслов, объектов изображения и сменяющихся душевных настроений сатирика. Он колеблется в широких пределах от резкого презрительного сарказма и до смеха, смешанного с горечью и грустью. Там, где Щедрин говорит о дворянстве, буржуазии, бюрократии, о либералах, действующих «применительно к подлости», его беспощадно отрицающий и карающий смех проявляет себя в полной силе. Но мера сатирического негодования становится иной, когда речь идет о средних и низших слоях, о неполноправных и бесправных представителях общества. Писатель одновременно и глубоко сочувствует их бедственному положению, и осуждает их за гражданскую пассивность.
Салтыков-Щедрин был великим мастером иронии — тонкой, скрытой насмешки, облеченной в форму похвалы, лести, притворной солидарности с противником. В этой ядовитейшей разновидности юмора Щедрина превосходил в русской литературе только Гоголь.
Прием употребления выражений не в прямом, а в ироническом значении присущ подавляющему большинству произведений Салтыкова-Щедрина, но особенно богаты ироническими интонациями «Помпадуры и помпадурши», «Круглый год», «Современная идиллия», «Письма к тетеньке» и, конечно, «Сказки», где щедринская ирония блещет всеми своими красками.
Сатирик, прикидываясь как бы единомышленником обличаемой стороны, то восхищался преумным здравомысленным зайцем, который «так здраво рассуждал, что и ослу в пору», то вдруг вместе с генералами возмущался поведением тунеядца-мужика, который спал «и самым нахальным образом уклонялся от работы», то будто бы соглашался с необходимостью приезда медведя-усмирителя в лесную трущобу, потому что «такая в ту пору вольница между лесными мужиками шла, что всякий по-своему норовил. Звери — рыскали, птицы — летали, насекомые — ползали; а в ногу никто маршировать не хотел».
Специфическая сила иронии, которая, по выражению Щедрина, «распространяется в виде тончайшего эфира» (V, 231), заключается в том, что, уязвляя противника, она сама остается неуязвимой и формально неуловимой. Недаром сатирик говорил: «...страшное орудие — ирония» (XIII, 443).
Издевательски высмеивая носителей социального зла, изображая их в смешком виде, сатирик возбуждал к ним в обществе чувство активной ненависти, воодушевлял народную массу на борьбу с ними, поднимал ее настроение и веру в свои силы, учил ее пониманию своей роли в жизни. По верному определению А. В. Луначарского, Щедрин — «мастер такого смеха, смеясь которым человек становится мудрым»[101].
Для сатиры вообще, для сатирических произведений Салтыкова-Щедрина в особенности характерно широкое применение гиперболы, то есть художественного преувеличения.
Объект социальной сатиры во многом предопределяет приемы и средства художественного изображения и, в частности, применение гиперболы. Однако обусловленность гиперболы предметом сатиры нередко трактуется ошибочно. Так, в литературе о Гоголе и Салтыкове, начиная с современной им критики и по настоящее время, встречаются утверждения, что они рисовали ужаснейших злодеев, негодяев, «монстров», что сатирические типы Гоголя и Салтыкова обобщают исключительное и необыкновенное, что в их сочинениях, как в анатомическом музее, собраны разного рода уродства и ненормальности, что наши великие сатирики интересовались преимущественно теми лицами, которые не часто встречались, но у которых порок принял исключительные размеры. В связи с таким пониманием гиперболическая форма сатирических образов рассматривается как простое следствие отображаемых уродливых и исключительных явлений и типов. Хотя такое объяснение формальных особенностей сатиры Гоголя и Салтыкова кажется на Первый взгляд убедительным, оно тем не менее порождено непозволительным смешением способа изображения с предметом изображения.
Сатирические персонажи Гоголя и Салтыкова — всегда верные представители целого сословия, класса. Оба сатирика совершенно сознательно ставили себе задачу показать не только крайние проявления социального зла, но и степень его распространения. Конечно, Гоголь и Салтыков умели талантливо использовать в высоких обличительных целях и редкие экземпляры порочности. И все же не сюда было направлено их основное внимание. Они вполне справедливо считали наиболее страшным не то зло, которое прорастало до огромных размеров в немногих индивидуальностях, а прежде всего то, которое распространилось на многих. Когда речь идет об отживающих эксплуататорских классах, то их основная порочная сущность с наибольшей силой выражается именно в массовости зла; большая степень распространения зла и есть наиболее достоверное свидетельство несправедливости всего социального строя. Революционизирующее значение сатиры Гоголя и Салтыкова обусловлено не только глубиной, но и широтой захвата, гениальным разоблачением именно массовости, обыкновенности, привычности социального зла как закономерного порождения господства эксплуататоров. И гиперболические формы в произведениях Гоголя и Салтыкова вызваны не исключительностью, а, напротив, обыкновенностью, массовостью изображаемых явлений. Среди господствующих, но исторически отживших, деградирующих классов общества неизбежно массовое появление людей, обремененных грузом устаревших традиций, затверженных моральных догм, людей, утративших способность к духовному развитию. Исчерпавшая себя социальная форма жизни наложила на них известный штамп, сделала их похожими друг на друга, нивелировала и обезличила их, приглушила их индивидуальные задатки. Господствующая часть общества не только не признает своих пороков, а, напротив, возводит их в степень добродетели, охраняемой прописной моралью и законом. Сатира берет на себя трудную задачу художественного воспроизведения и осмеяния всей привычной, узаконенной пошлости. Вслед за Гоголем Салтыков неоднократно обращал внимание на трудность художественной индивидуализации массовидных, повседневных характеров, чересчур похожих друг на друга, «как будто отлитых в одну форму» (IV, 324). Чтобы широко распространенный социальный порок, определяющий природу целого класса, порок примелькавшийся и ставший обыденным, был угадан всеми, дошел до сознания и чувства читателя, он должен быть резко очерчен, ярко озаглавлен, сильно подчеркнут в своей основной сущности. В этом заключается главная объективная мотивировка художественной гиперболы в сатире.
Сатира отличается не только большей мерой применения принципа преувеличения, но и резким своеобразием проявления последнего опять-таки в силу объективных свойств того материала действительности, с которым сатирику приходится иметь дело. Художественное преувеличение бывает менее ощутимым, когда оно захватывает целую область страстей, чувств, переживаний, черт внутреннего или внешнего портрета личности, свойств характера и является в таком случав гармоническим. Именно так бывает, когда художник изображает сложные, богатые, развивающиеся натуры. Преувеличение здесь не бросается резко в глаза, не поражает необычайностью образов, так как оно идет в том направлении, которое соответствует представлению о бесконечном процессе человеческого совершенствования. И совсем другое дело, когда художник, прибегая к той же степени преувеличения, задается целью выделить ту или иную отдельную страсть, черту характера, заострить тип в одном направлении. В этом случае образ принимает дисгармоническую, гиперболическую и порой карикатурную форму. Именно так бывает в сатире, когда писатель преувеличивает отрицательные черты внутренне бедных характеров. Вот почему, между прочим, в сатире, показывающей, по выражению Чернышевского, «типы пустоты или одичалости», так естествен бывает переход к уподоблениям человека животному. Черты животности в данном случае не только сатирическое клеймо, накладываемое на человеческий облик волею художника, но и закономерный результат сатирической типизации отрицательных человеческих характеров.
Надо иметь в виду и еще одно весьма важное обстоятельство. Форма художественного произведения создается не только сообразно с сущностью объекта и идейным замыслом автора, но и с целью овладеть вниманием читателя. Салтыков не чуждался, как он выражался, «фигурного пирога» (XVIII, 150), поэтических эффектов, если это так или иначе служило серьезным целям. Он решительно высказывался против произведений «сухих» и «скучных», говорил о необходимости писать так, чтобы было интересно для большинства читателей. Если принять во внимание эту постоянную заботу искусства о формах, заинтересовывающих читателя,
ТО станет понятно, что сатирик чаще других писателей вынужден прибегать к особым, специфическим средствам живописания. Материал сатирика — плоские, скудные, пошлые типы — слишком низмен, груб, беден возможностями поэтических, индивидуально-образных определений. Как приблизить такой предмет к поэтической стихии, сделать его достоянием искусства, как возвести его, говоря словами Гоголя, в «перл создания»? Речь идет не об эстетизации уродливой и низкой натуры, что было свойственно, например, романтикам из школы «неистовой словесности» в 30-х годах прошлого века или представителям современного буржуазного декаданса. Живописательный элемент в социальной сатире призван, с одной стороны, сделать грубую, пошлую прозу жизни фактом художественной действительности и, с другой стороны, не приукрасить, не смягчить, не реабилитировать эстетически, а сильнее выделить всю ее непривлекательность. Одним из средств такого эстетического преобразования явлений жизни, которое не противоречило бы задачам сатиры, и является живописание обыденных отрицательных, пошлых сторон жизни при помощи приемов гиперболы и фантастики.
Понять обусловленность гиперболы, исходя из специфики предмета изображения и тех задач, которые себе сознательно ставит писатель, значит понять самое главное, ибо у подлинных художников форма произведения всегда проявляется как закономерное следствие природы объекта и идейного замысла. Однако это еще не исчерпывает вопроса о генезисе гиперболы в сатире. Весьма значительно участие в генезисе гиперболы эмоционального элемента, авторского темперамента. В творческом процессе гипербола является одновременным, слитым выражением идейного, эстетического и морального отрицания или утверждения предмета изображения. И хотя гипербола, рассматриваемая с познавательной точки зрения, определяется обычно как прием, рассчитанный на то, чтобы ярко и крупно выставить те или иные стороны предмета, она менее всего поддается такому чисто техническому истолкованию. Трудно назвать другой поэтический прием, который был бы так, как гипербола, тесно связан с определенной творческой индивидуальностью, с соответствующим художническим темпераментом. Гипербола, усвоенная только как технический прием, применяемая чисто рассудочно, не одухотворенная сильным и искренним чувством художника, — ничего не может дать, кроме грубой, мертвой карикатуры, лишенной идейно-художественного значения.
Гипербола, рассматриваемая с психологической стороны, рельефно фиксирует высокое напряжение эмоций писателя, вызываемых в нем объектом изображения, и является как бы своеобразным выражением авторского лиризма. Чем величественнее предмет восхищения или чем низменнее предмет негодования, тем сильнее проявляется гипербола. Салтыков — один из наиболее эмоциональных художников слова: он обладал острым аналитическим умом и страстным негодующим сердцем. Взор сатирика был постоянно прикован к той действительности, которая противоречила его демократическим идеалам и болезненные уколы которой его мучительно-восприимчивый к социальным бедствиям организм переживал с «удесятеренной» силой (XV, 303). Удесятеренная боль великого гуманиста находила соответственное выражение в гиперболизирующих эпитетах, сравнениях, образах и картинах.
Гипербола, которая порождается вмешательством сильных эмоций в художественную работу, является ответной реакцией раздраженного чувства и вносит в поэтику образа, так сказать, чисто субъективный элемент, находится у Щедрина в полном согласии с реализмом объективного изображения. Мысль и чувство писателя, его идейные убеждения и эстетические вкусы отвечали самому передовому мировоззрению своего времени, шли в одном направлении, гармонически сочетались, взаимно обусловливали и усиливали друг друга.
Щедринские поэтические гиперболы, порожденные страстными симпатиями и антипатиями автора, служили мощным средством эмоционального воздействия на читателя, заражали его чувством негодования или насмешки по поводу изображаемых явлений действительности. Сатирик гиперболизирует то, что заслуживает обличения, и гиперболизирует так, чтобы вызвать смех. Для щедринской сатирической гиперболы характерно именно совмещение познавательных и комических функций: посредством гиперболы, то есть художественного преувеличения, писатель делал образ более рельефным и более смешным, резко обнажал сущность изображаемого отрицательного явления и казнил его оружием смеха. В сказке о двух генералах сказано, что один из них «откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил». Это, конечно, преувеличение. В чем его смысл? Напомним, что на необитаемом острове генералы оказались лишь в ночных рубашках да с орденами на шее. Значит, орденами генералы так дорожили, что не расставались с ними даже во время сна. Посягательство на обоготворяемый орден исчерпывающе обрисовывало читателю крайнюю степень озверения проголодавшихся генералов.
Своеобразной разновидностью художественного преувеличения является гротеск, причудливое, контрастное сочетание в человеческом образе реальных и фантастических признаков. Яркие примеры щедринского сатирического гротеска — градоначальник Брудастый-Органчик, имевший вместо головы примитивный музыкальный инструмент («История одного города»); ретивый начальник, голова которого была снабжена клапаном для спуска избытка паров в моменты чрезмерного административного рвения («Современная идиллия»); дикий помещик в одноименной сказке, превратившийся наполовину в медведя.
Гиперболизму, несмотря на его художественную эффективность, не следует, однако, приписывать значение доминирующей черты щедринской сатирической поэтики. Те, кто сосредоточивают основное внимание на гиперболе и гротеске как якобы основных особенностях литературного стиля Гоголя и Салтыкова, оставляют в тени самое существенное. Мастерство великих русских сатириков связано не только с гиперболой. Они поставили на службу социальной сатире весь богатейший арсенал изобразительных средств критического реализма и прежде всего метод психологического анализа, сохранив гиперболу на правах существенного, но все же подчиненного средства изображения.
Гипербола и гротеск играют свою эффективную роль Салтыкова именно потому, что являются художническими инструментами в сложном оркестре, органически включаются в реалистическую систему разнообразных форм, приемов и средств, как унаследованных от предшественников, так и обогащенных собственным новаторством сатирика. Щедринский градоначальник, Брудастый-Органчик, потому именно и производит огромное сатирическое впечатление, что выступает на фоне реалистической картины, которая в целом и во множестве деталей верна изображаемой действительности.
Глубина психологического анализа характеров и рельефность обрисовки портретов, комическое и трагическое в судьбах личностей и целых социальных групп и классов, яркие картины жизни в ее обыденных формах и в крайних проявлениях, проникновенный лиризм и волнующий драматизм — все это характерно для творческого метода великого русского реалиста-сатирика Салтыкова-Щедрина, метода, в котором находит свое место и гипербола, появляясь там, где это диктуется свойствами предмета изображения, замыслом и эмоциями художника.
Элементы гиперболизма и обычно идущей с ним рядом фантастики присущи всему творчеству Салтыкова, причем применение их достигает предельного для Щедрина размаха в самом конце 60-х годов («История одного города», «Помпадуры и помпадурши», сказки 1869 года) и удерживается (конечно, не во всех произведениях) примерно на этом уровне до середины 80-х годов (окончание «Современной идиллии» и цикла «Сказок»).
Наряду с этим нетрудно было бы проследить, как в разных произведениях одного времени сатирик то в большей, то в меньшей мере прибегал к гиперболе. Достаточно, например, указать, что в «Истории одного города» гиперболе и фантастике дан широкий простор, а в цикле того же времени «Письма о провинции» писатель почти не прибегает к этим средствам.
Во всех этих изменениях, прослеживаемых во времени, проявляется определенная закономерность. Проблемы политической жизни — вот те проблемы, в художественную трактовку которых у Щедрина обильно включаются гипербола и фантастика. Чем острее политические проблемы, затрагиваемые сатириком, тем гиперболичное и фантастичнее его образы. Именно на этом пути он искал себе свободу говорить с той резкостью и беспощадностью, которая диктовалась самим сюжетом.
В сюжетах, насыщенных злободневными политическими вопросами, гипербола служила одновременно и наиболее яркому раскрытию самых реакционных сторон политики самодержавия, и выражению вызываемых ими негодования и насмешки сатирика, и, наконец, в сочетании с фантастикой, служила средством эзоповского языка. Другими словами: именно в остро политических сюжетах гипербола проявлялась во всем богатстве ее идейно-эстетических функций и в процессе эволюции творчества сатирика все чаще перерастала в фантастику.
Фантастика Салтыкова — фантастика реалистическая. Это подтверждается как решительным господством реального элемента в его фантастических картинах, так и тем, что сама эта фантастика не уводит от действительности, а только служит средством идейно-художественного познания и сатирического разоблачения отрицательных явлений общественной жизни. При всех полетах авторской фантазии и порой причудливых внешних формах щедринских образов, всегда остается твердое убеждение в реальности их содержания.
Идейно-художественная мотивировка фантастического элемента, богато представленного в сатире Салтыкова, во многих отношениях близка к той, которая относится к гиперболе. Прием логического доведения ниспровергаемого принципа до всех его последствий был одним из тех путей, которыми Салтыков приходил к гиперболе, а от гиперболы к фантастике.
Фантастический элемент в произведениях Щедрина можно было бы уподобить факелу, которым сатирик освещает темные стороны действительности и при свете которого еще резче вырисовываются уродливые черты разоблачаемых типов. Чтобы обнажить всю паразитическую сущность дворян-помещиков, сатирик переносит их в воображаемую обстановку необитаемого острова («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил») или усадьбы, где по мановению волшебства не осталось ни одного мужика («Дикий помещик»). В этих условиях классовая природа дворян, лишенных привилегий, дарового труда и обычного комфорта, предстала перед читателем во всей своей звериной наготе.
Можно сказать, что по своей познавательной функции фантастика Салтыкова близка к научной гипотезе; она представляет собою выраженную языком художника догадку, предположение, логический вывод из анализа фактов. Подобно тому, как ученый прибегает к логическим абстракциям для того, чтобы в наиболее чистом виде проследить те или иные закономерности, — подобно этому Салтыков прибегает к своего рода художественным абстракциям, к своеобразным сатирическим утопиям. Он нередко ставит своих героев в такую воображаемую ситуацию, которая с наибольшей резкостью и полнотой разоблачает отрицательные черты социальных типов, принадлежащих к господствующим классам общества.
Познавательная функция фантастического элемента в сатире Щедрина неразрывно связана с живописательной.
Факты жизни обладают различными потенциальными возможностями превращения их в факты искусства. Салтыков-Щедрин отмечал, что для художественного воспроизведения скудного и неинтересного материала «необходимо большое участие воображения, чтобы сообщить ему ценность» (XX, 307).
Сатира вообще имеет дело преимущественно со скудным и неинтересным материалом, с прозаическими явлениями повседневной действительности. Для того чтобы оживить, или, как говорил Гоголь, «озарить» его, сделать его ярким, необходимы специфические средства живописания. Отсюда вытекает закономерность: чем скуднее, однообразнее, прозаичнее материал, тем чаще прибегал Щедрин к его оживлению при помощи фантастического элемента. При этом постоянным свойством реалистической фантастики Щедрина является то, что она не эстетизирует, не смягчает, не сглаживает, а, напротив, обостряет отрицательные черты объекта, делает их более рельефными.
Фантастическая живопись в сатире обычно совмещает в себе и функцию осмеяния. Фантазия сатирика развивает те или иные черты социальных типов в соответствии с их господствующей тенденцией и находит для них какой-либо изобличающий эквивалент в мире, стоящем за пределами человеческой природы. Возникают поэтические аллегории, место людей занимают куклы и звери, разыгрывающие социальные комедии и трагедии. Фантастическая костюмировка в одно и то же время и ярко оттеняет отрицательные черты типов, и выставляет их в смешном виде. Социальный тип, действия которого приравнены к действиям низшего организма или примитивного механизма, вызывает смех.
В зеркале сатиры фантастический образ пародирует реальный человеческий образ, а смысл всякой сатирической пародии как раз и заключается в том, чтобы развенчать оригинал посредством смеха. При этом, чем выше официальное положение обличаемого социального типа, чем значительнее его претензии на место в обществе и чем, следовательно, резче контраст между ним и его фантастическим эквивалентом, тем громче, убийственнее, беспощаднее смех, вызываемый юмористической фантастикой. Принцип юмористической фантастики нашел свое блистательное применение в «Сказках», где вся Табель о рангах остроумно замещена разными представителями фауны.
В зависимости от объекта, замысла и цензурных условий в произведениях одного и того же времени фантастический элемент то ослабевал, то усиливался. С другой стороны, в творчестве сатирика в период от 50-х до 80-х годов наблюдается последовательное нарастание фантастического элемента.
После «Истории одного города» дальнейшие взлеты щедринской сатирической фантастики связаны с «Современной идиллией» и «Сказками». И это, конечно, следует объяснить тем, что сатира Салтыкова в ходе времени приобретала все большую политическую остроту и пробивала себе дорогу к читателю через все большие цензурные препятствия.
В творчестве сатирика происходило не только нарастание фантастического элемента, но и все более тесное сближение его с фантастикой народных сказок и постепенное обособление его в самостоятельный жанр сказки, как такую литературную форму, которая, с одной стороны, предоставляла наилучшие возможности для реализации всех функций сатирической фантастики, а с другой — была наиболее доступна широкому читателю.
Жанр народной сказки явился именно той литературной формой, где и мотивировка переходов от реальности к фантастике, и различные функции фантастического элемента нашли свое наиболее поэтическое выражение.
Фантастика, являвшаяся эффективным приемом изображения и осмеяния социального зла, попутно выполняла также свою роль и в сложной системе художественных средств, применявшихся сатириком в борьбе с цензурой.
Передовая русская литература жестоко преследовалась самодержавием. В борьбе с цензурными гонениями писатели прибегали к обманным средствам. «С одной стороны, — говорит Щедрин, — появились аллегории, с другой — искусство понимать эти аллегории, искусство читать между строками. Создалась особенная рабская манера писать, которая может быть названа Езоповскою, — манера, обнаруживавшая замечательную изворотливость в изобретении оговорок, недомолвок, иносказаний и прочих обманных средств» (XV, 340—341).
Салтыков-Щедрин, до конца дней своих остававшийся на боевом посту политического сатирика, довел эзоповскую манеру до высшего совершенства и стал самым ярким ее представителем в русской литературе.
Последовательный демократ и социалист, он был одним из самых воинствующих и бескомпромиссных борцов против самодержавия и расплачивался за это упорным и злобным преследованием со стороны бичуемого врага. Ни один из русских писателей прошлого века не подвергался столь длительным, систематическим и ожесточенным цензурным притеснениям, как Салтыков.
Вследствие цензурных преследований многие замыслы сатирика не могли быть осуществлены, некоторые из написанных произведений не могли своевременно увидеть света, целый ряд произведений дошел до читателя в искалеченном виде, многое высказано писателем не с той силой ясности, как он хотел бы и мог. Естественно поэтому, что исследователи, изучавшие цензурные условия литературной деятельности Салтыкова, обращали преимущественное внимание на тот ущерб, который наносился произведениям сатирика, вынужденного приспосабливаться к параграфам закона о печати, делать уступки, самоограничивать свои творческие замыслы, смягчать остроту пропагандируемых идей и т. д.
Между тем представляется возможным взглянуть на дело несколько иначе, не столь односторонне. Великий сатирик был и жертвой, и героем борьбы с цензурой. Он является ярким представителем тех оригинальных художников слова, которые формировались в обстановке терзавшего их политического режима. Действуя под гнетом цензуры, Салтыков не отступал от своих идейных убеждений, а боролся с препятствиями художественными средствами. В этой борьбе складывалась, крепла, видоизменялась и совершенствовалась художественная форма его произведений. Важно поэтому учитывать не только следы непосредственного цензурного вмешательства в произведения сатирика или явно наблюдаемые действия, предпринятые автором под давлением тех или иных конкретных предписаний цензурного устава, но и то внутреннее творческое состояние, которое вызывалось постоянной необходимостью пробивать дорогу к читателю, проявлять необычную изобретательность, каждый раз выступать новатором стиля. Поэтому, несмотря на все утраты, понесенные сатириком, целесообразно взглянуть на историю борьбы Салтыкова с цензурой прежде всего как на историю огромных побед художника.
Вынужденный в поисках выхода для мысли, «не умирающей и под игом безумия», постоянно одолевать трудные барьеры, Щедрин выработал для пропаганды революционно-демократических взглядов сложную, гибкую, богатую оригинальными средствами и приемами художественную тактику и потому, несмотря на огромный материальный перевес враждебных сил, одерживал над ними идейные победы. Сатирика выручал дар его неистощимой изобретательности в области искусства слова.
Композиция циклов и отдельных произведений Салтыкова, фигура условного автора-повествователя, структура образов, поэтические аллегории, элементы гиперболизма и фантастики, художественная стилистика (лексика, фразеология, тропы и т. д.) — все это в известной мере отражает в себе противоцензурные соображения, которыми руководствовался сатирик в своей творческой работе.
Во многих произведениях Салтыкова двигателями повествования выступают рассказчик и его постоянный спутник и дружественный оппонент Глумов. Они олицетворяют типы либералов-приспособленцев и в этом качестве попадают под огонь сатирика. Вместе с тем рассказчик и Глумов, находящиеся в состоянии тайной оппозиционности к политическому режиму, нередко служат проводниками собственных взглядов Салтыкова.
Своеобразие этих персонажей в щедринской сатире заключается как раз в их противоречивой, двойственной функции. Они одновременно являются и объектом обличения, и своеобразным орудием обличения, передают настроения Салтыкова, образуют в совокупности его лирическое «я», объективированное в двух персонажах. Поэтому диалоги рассказчика и Глумова — это большей частью драматизированные монологи Салтыкова, способ наглядного, объективированного в образной форме, доведения взглядов и настроений писателя до читателя.
Рассказчик и Глумов играют также значительную роль в эзоповской системе сатирика, в сложной тактике обходов цензурных препятствий. И в этом смысле особенно показательна «Современная идиллия», где рассказчик и Глумов выступают в качестве главных действующих лиц. Когда они действуют и говорят публично во имя восстановления своей «благонамеренной» политической репутации, получается картина пародийного саморазоблачения реакционной действительности и приспособленченской тактики перепуганного либерализма. Когда же они тайно, наедине, за закрытыми дверями обретают способность к фрондерству.
проявляют признаки оппозиционности, то оказываются удобными в цензурном отношении псевдонимами сатирика, и последний вкладывает в их уста свои собственные слова, выражает через них свои собственные настроения.
В 80-е годы — годы жесточайшей правительственной реакции — неоднократно прежде применявшаяся маска умеренного либерала оказывалась уже недостаточным, слишком прозрачным прикрытием. И вот в поисках выхода из самых затруднительных в цензурном отношении ситуаций сатирик в «Современной идиллии», а затем в «Сказках» прибегает к приему неожиданному и дерзновенному. Самые резкие свои нападки на политическую реакцию, на правящие верхи сатирик вкладывает в уста таких персонажей, которые в отличие от рассказчика-либерала уже не имеют никаких точек идейного сближения с автором и потому не могут вызвать политических подозрений правительства.
С наиболее ярким проявлением этого приема мы встречаемся в XX главе «Современной идиллии». Знаменитая «Сказка о ретивом начальнике» преподносится здесь от лица редактора бульварной газетки, а полный гнева и сарказма фельетон о негодяе — «властителе дум», герое политической реакции, подан как сочинение корреспондента той же грязной газетки. Подставные фигуры несомненно позорных личностей, нравственная растленность которых служила с официальной точки зрения как бы патентом на их политическую благонадежность, сыграли роль основного громоотвода, позволив Салтыкову смело нападать на правящие верхи самодержавия.
Прием идеологически чуждых сатирику псевдонимов, продиктованный условиями тяжелой политической реакции, отличается рискованной двусмысленностью. Прием этот рассчитан на пытливый ум передового русского читателя.
Русскую действительность своего времени Щедрин нередко изображал в форме повествования о прошлом (яркий образец — «История одного города») или о зарубежных странах. В «Сказках» эти иносказательные приемы нашли свое применение, видоизменяясь соответственно жанру. Иногда сказка начинается указанием, что речь будет идти о старом Бремени, хотя весь смысл дальнейшего повествования относится к современности. Например: «Нынче этого нет, а было такое время...» («Праздный разговор»); «В старые годы, при царе Горохе это было...» («Дурак»). Ту же цель маскировки преследует замена губернаторства архаическим воеводством в сказке «Медведь на воеводстве». Для умышленного отнесения изображаемых событий к неопределенным странам и временам сатирик удачно использовал традиционные зачины народных сказок: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик» («Дикий помещик»); «В некоторой стране жил-был либерал» («Либерал»).
Обман цензуры — не единственное назначение щедринского иносказания. Стиль Салтыкова богат поэтическими иносказаниями прежде всего по соображениям их сатирической эффективности. Собственно эзоповская, маскировочная функция — это только одна из функций аллегорической манеры. Последняя, независимо от цензурных соображений, является художественно эффективной в качестве остроумной сатирической манеры письма, позволяющей подойти к предмету с неожиданной стороны и оригинально осветить его. Это имел в виду Салтыков, говоря, что эзоповская манера иногда и «не безвыгодна, потому что благодаря ее обязательности писатель отыскивает такие пояснительные черты и краски, в которых, при прямом изложении предмета, не было бы надобности, но которые все-таки не без пользы врезываются в памяти читателя» (XIII, 267).
Два рода метафоризации, аллегоризма — как специфического средства художественной выразительности и как средства эзоповского иносказания — у Щедрина так тесно сближаются, органически переплетаются и переходят друг в друга, что нередко бывает трудно или даже прямо невозможно провести между ними границу. Самая замечательная черта эзоповской манеры Щедрина в том именно и заключается, что сатирик сумел навязанные ему внешними обстоятельствами приемы письма подчинить требованиям художественной изобразительности. Это удавалось не всегда и не в полной мере, о чем сам он с горечью заявлял неоднократно, но в большинстве случаев он находил возможность примирить вынужденные приемы с приемами, свободно избираемыми соответственно предмету, и достигал решения тактических задач без ущерба, а иногда и с выгодой для идейной остроты и художественности сатиры. Под воздействием цензуры Салтыков выработал целую систему иносказательных приемов, наименований, выражений, образов, эпитетов, метафор, которые позволяли ему одерживать идейную победу над врагом. Так, например, в эзоповском языке Щедрина порядок вещей обозначает произвол самодержавия, сердцевед — шпиона, фюить — внезапную административную ссылку в отдаленные места. Клуб взволнованных лоботрясов — тайное общество «Священная дружина», созданное в 1880-х годах придворными кругами для террористической расправы с революционерами. Элементы эзоповского языка, сложившегося под давлением цензуры, нередко приобретали самостоятельную, независимую от первоначальной причины, непреходящую эстетическую ценность. Несомненно, например, что слово «помпадур» вместо «губернатор» или образ Топтыгина в том же значении избраны не без цензурных соображений, но найденные псевдонимы имели все достоинства меткой художественной метафоры, которая усиливала сатирическое нападение на правящую касту монархии. Именно в таком направлении сатирик совершенствовал свою эзоповскую манеру и нередко добивался желаемого успеха.
Все такого рода случаи, когда в процессе автоцензуры выходило, по словам сатирика, «даже лучше» (XIX, 121), относились уже не к фонду эзоповских средств, а к достижениям его общей поэтики. И эти творческие находки, генетически связанные с поисками «обманных средств», вливались в его поэтический арсенал и применялись даже тогда, когда в цензурном смысле не являлись необходимыми. Этот переход «эзопизмов» в фонд собственно художественной стилистики Щедрина, а через него — ив литературу вообще еще очень слабо исследован, а между тем он имеет большой, принципиальный интерес для выяснения стилеобразующей роли тех общественно-политических условий, в которых приходилось работать классикам русского художественного слова в XIX веке. Вопрос этот имеет свою как эстетическую, так и идейно-политическую сторону. Он подводит нас к пониманию огромной роли передовых идей и передовых политических взглядов в обогащении искусства русского реализма. Передовая мысль, утверждая себя, прокладывала путь через все препятствия деспотического режима и питала собою гений изобретательности русских писателей.
Несмотря на высокое мастерство Салтыкова в проведении своих намерений в среду читателей, эзоповская форма наносила некоторый ущерб как замыслам писателя, так и читателю. Писатель не все мог высказать так, как хотел бы: умалчивал, недоговаривал, затемнял свою мысль оговорками. Читатель не всегда мог правильно постичь смысл «тайного письма», а для многих читателей, принадлежащих к широким слоям общества, эзоповская манера вообще оказывалась малодоступной или вовсе недоступной. Вот почему, отмечая некоторые преимущества принудительной манеры, Салтыков с течением времени все более и более сетовал на то, что эта манера ограничивает доступность его мысли. Это диктовало сатирику новые шаги в области художественной формы. В позднейшие годы литературной деятельности он все больше идет по пути сближения своих иносказательных приемов с народной сказкой как формой сатиры, наиболее доступной для массового читателя. Соображения цензурного порядка не играли решающей роли в генезисе щедринской сказки. Вместе с тем последняя, попутно со своим основным назначением, позволяла сатирику наиболее успешно преодолевать отрицательные последствия эзоповского иносказания. В данном случае сатирик достиг такой формы, в которой его творческая мысль, оставаясь на высоте художественного совершенства и доступности, в то же время одерживала максимальную победу в борьбе с цензурными трудностями.
Литературный стиль Салтыкова-Щедрина сложился в процессе постоянного преодоления тех препятствий, которые встречала передовая мысль его времени на своем пути. Сатирик выработал мощное художественное оружие, благодаря которому ему удавалось даже в годы глухой реакций воздействовать на общественное мнение не только гневным словом обличения, но и пропагандой демократических и социалистических идеалов. Это была победа гения, наделенного огромной творческой силой и в совершенстве владевшего искусством сатиры.
***
Салтыков-Щедрин всегда шел в авангарде освободительного движения своего времени. Его наследие — яркое свидетельство единства общественной актуальности содержания, высокой идейности творческих замыслов и совершенства их художественного исполнения, выдающийся образец борьбы за общественные идеалы могучим оружием революционной эстетики. Вся литературная деятельность Щедрина — пример того искусства, которое, не переставая быть искусством, смело вторгается непосредственно в социально-политическую жизнь и полностью посвящает себя борьбе за ее преобразование.
Н. А. Добролюбов писал, что в массе народа имя Щедрина, когда оно сделается там известным, будет всегда произноситься с уважением и благодарностью. Предвидение критика-демократа оправдалось. Произведения великого писателя, преследуемого царизмом, после победы социалистической революции нашли в нашей стране полное общественное и государственное признание и тем самым обрели возможность свободно служить тем высоким идеалам, во имя которых они создавались. Миллионы современных читателей находят в произведениях сатирика мудрые мысли, меткие образы, яркие афоризмы, которые просвещают, облагораживают, воспитывают человека в духе высокого гражданского призвания. Салтыков-Щедрин близок и дорог нам своим неукротимым осуждением всех форм социального зла и нравственного уродства, своей горячей защитой добра, красоты, человеческого достоинства, идеалов свободы, равноправия и справедливости.
Примечания
1
И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. X. М.—Л., «Наука», 1965, с. 91.
(обратно)2
Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. (Юбилейное издание), т. 63. М., Гослитиздат, 1934, с. 308.
(обратно)3
М. Горький. История русской литературы. М., Гослитиздат, 1939, с. 270.
(обратно)4
Тексты Салтыкова-Щедрина цитируются по изданию: Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. I—XX. М.—Л., Гослитиздат, 1933—1941. Римская цифра обозначает том, арабская — страницу.
(обратно)5
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, с. 89.
(обратно)6
М. Горький. История русской литературы. М., Гослитиздат, 1939, с. 273—274.
(обратно)7
Тарас Шевченко. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 5, М., «Художественная литература», 1965, с. 114.
(обратно)8
Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 7. М.—Л., Гослитиздат, 1963, с. 244.
(обратно)9
Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т, IV., М., Гослитиздат, 1948, с. 290.
(обратно)10
Там же, с. 266—267.
(обратно)11
Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IV. М., Гослитиздат, 1948, с. 633.
(обратно)12
Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 7. М.—Л., Гослитиздат, 1963, с. 351.
(обратно)13
Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. XI. М., Гослитиздат, 1952, с. 360.
(обратно)14
См,: М. Е, Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. Предисловие, подготовка текста и комментарии С. А. Макашина. М., Гослитиздат, 1957. Цитируемые свидетельства мемуаристов см. на страницах 146, 315—316, 336. См. также: С. Макашин. Писатель горечи и гнева (литературный портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина). — «Вопросы литературы», 1965, № 6, с. 108—124.
(обратно)15
А. В. Луначарский. Собр. соч, в 8-ми томах, т. I. М., Гослитиздат, 1963, с. 285.
(обратно)16
В. Боровский. Литературно-критические статьи. М., Гослитиздат, 1956, с. 180.
(обратно)17
Шестидесятые годы. Воспоминания М. А. Антоновича, Г. 3. Елисеева. М.—Л., «Academia», 1933, с. 393.
(обратно)18
Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 6. М.—Л., Гослитиздат, 1963, с. 193.
(обратно)19
М. Горький. История русской литературы. М, Гослитиздат, 1939, с. 273.
(обратно)20
Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II. М., Гослитиздат, 1949, с. 807, 808.
(обратно)21
И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Сочинения, т. XIV М.—Л., «Наука». 1967, с. 97.
(обратно)22
И. А. Гончаров. Собр. соч., т. 8. М., Гослитиздат, 1955, с. 212.
(обратно)23
Там же, с. 457.
(обратно)24
Ф. М. Достоевский. Письма, т. П. М., ГИХЛ, 1930, с. 288.
(обратно)25
И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма т IV. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1962, с. 135.
(обратно)26
Х. Бойезен. Воспоминания. — «Минувшие годы», 1908, № 8, с. 69.
(обратно)27
И. П. Эккерман. Разговоры с Гёте. М.—Л., «Academia», 1934, с. 792.
(обратно)28
«Русская мысль», 1889, кн. XII, библиограф, отдел, с. 512.
(обратно)29
Исключение составляет сатира «Проект современного балета» (1868; «Признаки времени»), где Хлестаков олицетворяет «отечественный либерализм».
(обратно)30
А. Г. Дементьев. Типы классической литературы в произведениях Щедрина. — Ученые записки Ленинградского государственного университета. Серия филологических наук, вып. 11, Л., 1941, стр. 187.
(обратно)31
См. письма Щедрина к Некрасову с октября 1875 года по июнь 1876 года: Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. XVIII и XIX.
(обратно)32
Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания. М., Гослитиздат, 1958, с. 452.
(обратно)33
Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. (Юбилейное издание), т. 16. М., Гослитиздат, 1955, с. 7.
(обратно)34
См. сводку этих толкований в примечаниях к «Истории одного города, в кн.: М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч., т. 8. М., «Художественная литература», 1969, с. 545—547.
(обратно)35
Неизвестные страницы прошлого. — «Правда», 10 января 1941 г.
(обратно)36
И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Сочинения, т, XIV М.—л., «Наука», 1967, с. 252—253.
(обратно)37
К. К. Арсеньев. Салтыков Щедрин. СПб., 1906, с. 192.
(обратно)38
Н. К. Михайловский. Литературно-критические статьи. М., 1957, с. 527.
(обратно)39
Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина. М., 1963, с. 301.
(обратно)40
Ф. М. Достоевский. Полн. собр. художественных произведений, т. 11. М.—Л., 1929, с. 422—423.
(обратно)41
Н. Пиксанов. Литературное наследие Салтыкова. — В кн.: М. Е. Салтыков (Щедрин). Сочинения. М.—Л., 1933, с. 25.
(обратно)42
Я. Эльсберг. Салтыков-Щедрин. М., 1953, с. 333—334.
(обратно)43
Е. Покусав. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина. М., 1963, с. 293.
(обратно)44
З. Т. Прокопенко. Чацкий в русской критике XIX века и сатире Салтыкова-Щедрина. — «Русская литература», 1972, М 3, с. 150.
(обратно)45
И. А. Гончаров. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8. М., 1955, с. 33.
(обратно)46
Там же, с. 18.
(обратно)47
Там же, с. 30—31.
(обратно)48
Там же, с. 33.
(обратно)49
И. А. Гончаров. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8. М., 1955, с. 30—33.
(обратно)50
Там же, с. 32.
(обратно)51
Там же, с. 33.
(обратно)52
М. П. Погодин. Простая речь о мудрых вещах. М., 1875. с. 16. (См. также: Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина. М., 1963, с. 293.).
(обратно)53
Четвертая глава была сатирой не только на либеральную журналистику; косвенным образом она высмеивала и цензуру и потому была запрещена в сентябрьской книжке «Отечественных записок» 1875 г. Появилась в печати в измененной редакции только через год.
(обратно)54
Отметим интересный факт влияния революционного движения молодежи на работу Салтыкова над «Господами Молчалиными». В журнальном тексте первой главы было такое место о Молчалиных-детях: «Эти птенцы — их участь уже определена заранее. Это опять Молчалины, которым предстоят те же камни преткновения, те же классификации и та же нечеловеческая работа приручения, о которой сейчас поведем речь» («Отечественные записки», 1874, № 9, с. 221). События внесли поправку к суждениям сатирика, он отбросил это место в отдельных изданиях. Вообще в «Господах Молчалиных» сатира вовсе не касается молчалинских детей, напротив, о них говорится с большой симпатией.
(обратно)55
Рассказ, написанный в 1877 году (для № 2 «Отечественных запи сок»), по своему содержанию является финалом «Господ Молчалиных» но он не был пропущен цензурой и по этой причине оторвался от них отодвинувшись в самый конец всего цикла «В среде умеренности и акку ратностп», включающего, кроме «Господ Молчалиных», серию очерков «Отголоски». Последняя, шестая глава «Господ Молчалиных», появившаяся в первом отдельном издании цикла «В среде умеренности и аккуратности» (1878) представляет собою вынужденное цензурными обстоятельствами конспективное изложение запрещенного рассказа. Поэтому последний следует рассматривать как органическое звено салтыковской концепции молчалинства.
(обратно)56
Новый человек.
(обратно)57
Существенные замечания по этому вопросу см. в монографии: В. Кирпотин. М. Е. Салтыков-Щедрин. М., «Советский писатель», 1955, с. 345—351.
(обратно)58
Тип Иудушки как классический тип пустослова подробно проанализирован в книге; Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина. М., Гослитиздат, 1963, с. 385—438.
(обратно)59
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 5, с. 284.
(обратно)60
Там же, т. 1, с. 301.
(обратно)61
Там ж е, т. 4, с. 420.
(обратно)62
Там же, т. 5, с. 302.
(обратно)63
Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III. М., Гослитиздат. 1947, с. 422—423.
(обратно)64
«Отечественные записки», 1882, № 11, отдел второй, с. 139—140.
(обратно)65
И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. XIII, кн. 2. Л., «Наука», 1968, с. 50.
(обратно)66
Там же, с. 49.
(обратно)67
И. С. Гончаров. Собр. соч., т. 8. М., Гослитиздат, 1955, с. 109.
(обратно)68
В письме к П. А. Валуеву И. А. Гончаров писал: «В беллетристике же собственно, кроме как у гр. Льва Толстого, военные, со времени Марлинского, давно перестали быть действующими лицами — по весьма понятным причинам. О военных людях надо говорить — или хорошо, или ничего не говорить» (И. А. Гончаров в неизданных письмах к графу П. А. Валуеву, 1877—1882. СПб., 1906, с. 18—19).
(обратно)69
Вл. Кранихфельд. На память о Щедрине. — «Утро юга», Ростов-на-Дону, 1914, б января, 5, с, 3.
(обратно)70
А. Е. Грузинский. Новая сказка Салтыкова-Щедрина. — «Красный архив», т. II, 1922, с. 226.
(обратно)71
Л. Гроссман. Салтыков-сказочник. — Собр. соч., т. IV, М 1928. с. 107.
(обратно)72
Н. К. Пиксанов. О классиках. М., 1933, с. 181—182.
(обратно)73
В. Кирпотин. «Сказки» Салтыкова-Щедрина. — «Год ХХП, Альманах XV». М., Гослитиздат, 1939, с. 388.
(обратно)74
Любопытно, что читатели уже накануне появления салтыковских сказок в жанре животного эпоса предчувствовали такую возможность в творчестве сатирика и высказывали пожелание «нарисовать хвостатых и рогатых чертей ... Отчего бы, в самом деле, Щедрину... не попробовать свой талант в этом жанре» («Моск. телеграф», 1882, 5 февраля, № 35, с. 2). Возможно, что такого рода советы способствовали движению творческой мысли писателя в соответствующем направлении.
(обратно)75
«Медведь на воеводстве» и «Орел-меценат», метившие в высшие административные сферы, не были допущены цензурой к опубликованию, но они распространялись в нелегальных изданиях и сыграли свою революционизирующую роль. Что же касается сказки «Богатырь», то она увидела свет только в советские годы.
(обратно)76
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т, 16, с. 43.
(обратно)77
И. Н. Крамской, его жизнь, переписка и художественно-критические статьи. СПб., 1888, с. 499.
(обратно)78
М. Ольминский. Статьи о Щедрине. М., Гослитиздат, 1959, с. 32.
(обратно)79
Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. (Юбилейное издание), т. 25. М., Гослитиздат, 1937, с. 138.
(обратно)80
«Литературное наследство», т. 13/14. М., 1934, с. 517.
(обратно)81
«Литературное наследство», т. 13/14, М., 1934, с. 517. С. А. Макашин предлагает следующую существенную поправку: «В. Г, Чертков ошибся, назвав «Рождественскую сказку» вместо нужной здесь «Христовой ночи», у которой действительно «нехристианский» конец (Христос «воспылал гневом»), В «Рождественской сказке» такого конца нет». — М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 16, кн. Т. М., 1974, с. 427.
(обратно)82
См.: М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 16, кн. I. М., 1974, с. 429.
(обратно)83
Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VIII. М., Изд-во АН СССР, 1952. с. 483.
(обратно)84
С. А. Макашин пишет: «В речевом обиходе матери сатирика и всей окружавшей его детство среды крепостных и дворовых пословица и поговорка играли большую роль. С ранних лет Салтыков должен был, таким образом, усваивать и сатирическую направленность, и афористичность мышления, присущие этому виду народного творчества. А эти элементы образовали впоследствии существеннейшие стороны не только живой речи сатирика, но и его художественного стиля» (С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. I, изд. 2-е. М., Гослитиздат, 1951, с. 93).
(обратно)85
Ю. Соколов, Из фольклорных материалов Щедрина. — «Литературное наследство», т. 13/14, с. 501.
(обратно)86
Я. Эльсберг. Стиль Щедрина. М., Гослитиздат, 1940, с. 416.
(обратно)87
И. Эйгес. К вопросу об эволюции басни как жанра. — «Русский язык в советской школе». М., 1931, № 1, с. 25—29.
(обратно)88
Н. Л. Степанов. Мастерство Крылова-баснописца. М., «Советский писатель», 1956, с. 265—266.
(обратно)89
См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 36, с. 522.
(обратно)90
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 1, с. 403, 421.
(обратно)91
Там же, т. 10, с. 70.
(обратно)92
Там же, т. 15, с. 251.
(обратно)93
Там же, т. 14, с. 199.
(обратно)94
Там же, т. 20, с. 117.
(обратно)95
«Полагаю, — писал Горький, — что влияние Салтыкова в моих сказках вполне ощутимо». (М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 30, М., Гослитиздат, 1956, с. 360).
(обратно)96
В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. I. М., Изд-во АН СССР. 1953, с. 299.
(обратно)97
А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. VIII. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 252.
(обратно)98
Н. Г. Чернышевский. Полн собр. соч., т. III. М., Гослитиздат, 1947, с. 231.
(обратно)99
И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Сочинения, т. XIV. М.—Л., «Наука», 1967, с. 253.
(обратно)100
М. Горький. История русской литературы. М., Гослитиздат, 1939, с. 270.
(обратно)101
А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8-ми томах, т. I. М., 1963. с. 285.
(обратно)




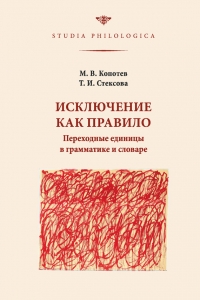
Комментарии к книге «Салтыков-Щедрин. Искусство сатиры», Алексей Сергеевич Бушмин
Всего 0 комментариев