Леонид Ефимович Пинский Реализм эпохи Возрождения
© С. Я. Левит, составление серии, 2015
© Л. Д. Мазур, правообладатель, 2015
© «Центр гуманитарных инициатив», 2015
От автора
Очерки, вошедшие в эту книгу, посвящены реализму эпохи Возрождения как этапу в истории реализма. Несмотря на ряд ценных монографий и множество статей как об отдельных писателях, так и литературе этой эпохи в целом, своеобразие ренессансного реализма, его отличие от реализма иных эпох, в нашей критике еще мало выяснено. Содействовать восполнению этого пробела – цель этой книги.
От анализа крупнейших литературных памятников или, точнее, отдельных проблем, связанных с их оценкой (комическое у Рабле, историческое содержание трагедии Шекспира, значение донкихотской ситуации), к выяснению общей природы реализма Возрождения, его основной темы, его понимания типического – такой путь исследования представлялся более плодотворным при недостаточной разработанности проблемы. Но отсюда и неизбежность ограничения тематики книги, которая не заменяет курса литературы и не претендует на полноту охвата художественной жизни, но лишь подготавливает материал для определения своеобразия данной художественной ступени.
Что касается отбора имен, то он не нуждается в особом обосновании. Эразм, Рабле, Шекспир и Сервантес – вершины гуманизма XVI века и его художественной мысли – в наиболее характерной форме представляют и реализм Возрождения во всем его историческом своеобразии. Небольшой очерк о знаменитых мемуарах Челлини, рассматриваемых в связи с ренессансной этикой «доблести», служит своего рода «фактографической» иллюстрацией к магистральной теме искусства этой эпохи.
В общей форме характеристика реализма Возрождения и его эволюции дана во вступительной статье.
Реализм Возрождения
I. Возрождение и гуманизм
Возрождением, или Ренессансом, называется в истории культуры стран Западной и Центральной Европы эпоха перехода от Средних веков к Новому времени.
Между средневековым и собственно буржуазным обществом лежит историческая полоса вызревания капиталистического уклада в недрах абсолютистского феодального строя. Эпоха Возрождения (начиная с середины XV–XVI века, а для Италии с XIV века) связана с началом этого процесса, с рождением капиталистической эры, так же как эпоха Просвещения (XVIII век) означает его конец. Аграрный переворот и переход от ремесла к мануфактуре; великие географические открытия и начало мировой торговли; победа королевской власти и образование современных национальных государств; начало книгопечатания, «открытие» античности и расцвет свободомыслия; возникновение протестантства и утрата католической церковью монополии в духовной жизни; социальное потрясение Великой крестьянской войны и Нидерландской революции; начало естествознания, общественной мысли, искусства и литературы Нового времени – таковы основные черты «величайшего прогрессивного переворота, пережитого до того человечеством»[1].
«Вся эпоха Возрождения… была плодом развития городов»[2], где веками назревал этот переворот. Истории культуры Возрождения предшествует развитие с XII–XIII веков вольных городов-государств, духовная жизнь которых отмечена смелыми критическими и еретическими тенденциями, знаменовавшими кризис средневекового мировоззрения: «христианский индивидуализм» мистических течений в религии, «новый путь» в философии, расцвет сатирико-критических жанров в искусстве. Однако между христиански дуалистической, мятущейся мыслью позднего Средневековья и цельной, жизнерадостной светской мыслью Возрождения лежит заметная грань. Недаром гуманисты и художники Возрождения отворачиваются от бесплодной схоластики и «варварской» готики предыдущего периода, обращаясь к новым источникам – к изучению природы и античности. Сознавая историческую грань, отделяющую их от прошлого, итальянские гуманисты (историки Л. Бруни, Ф. Биондо) рассматривают его как завершившуюся эру, для которой вскоре находят термин «среднее время» или «средний век» (media tempestas или medium aevum) в отличие от античности и современной им эпохи. Название «Ренессанс» употреблено впервые Вазари в «Жизнеописаниях знаменитейших живописцев, ваятелей и зодчих» (1550) для обозначения новой в истории изобразительного искусства фазы, возродившей после средневекового «упадка» античные нормы прекрасного, основанные на изучении природы и человека.
Как ни велико, однако, влияние античности на идеи Ренессанса, существо их к нему не сводится. Взгляд на Возрождение как «Возрождение классической древности» (название известной работы Г. Фойгта, 1859) давно признан слишком узким и неудовлетворительным. Кроме того, «интерес к античности» исторически шире, чем ренессансный антицизм. Авторитет Аристотеля и Платона, Вергилия и Овидия был достаточно велик уже в разные периоды Средневековья, а объем знакомства с античными текстами у Петрарки и Боккаччо, первых гуманистов Возрождения, не превосходил этих сведений у философов-схоластиков, у аверроистов и у Данте (правда, на протяжении XV–XVI веков знание древних значительно возросло). С другой стороны, культ греко-римской мысли характеризует и классицизм XVII столетия и век Просвещения, в особенности общественное сознание и искусство периода Французской революции («гражданский классицизм»). Каждый раз понимание античности и характер ориентации на «древних» при этом были различны и соответствовали потребностям собственной культуры. Эпоха Возрождения открывает в античной мысли ее «языческий» – в отличие от Средних веков – интерес к человеку и ко всему «посюстороннему», ее «гуманистическую» природу. Впоследствии, в XVII веке, Малерб, родоначальник французского классицизма, как и его современники, во имя «цивилизующей» рассудочной и регламентирующей античности, решительно отвергают Ронсара, вершину поэзии Возрождения, его язычески чувственную оду и ренессансно свободные нормы творчества, воспитанные на страстном изучении все той же античности.
Основополагающим для понимания Возрождения является его историческое место, отношение его идей к Средним векам и к Новому времени. Этот вопрос, раньше не вызывавший никаких сомнений, в современных буржуазных исследованиях о культуре Ренессанса предельно запутан. Уже с XVIII века устанавливается взгляд на эпоху Возрождения как на начало Нового времени. Просветители часто усматривают в гуманистах XIV–XVI веков своих предшественников. Из борьбы партий в итальянских городах-государствах Кондорсе выводит возникновение критической мысли. Гегель в «Философии истории» называет эпоху Возрождения «утренней зарей» современной культуры. Противопоставление Ренессанса Средним векам становится в XIX веке общим местом, в особенности после французского историка Мишле. В труде Я. Буркхардта (1860)[3], идеи которого надолго определили позиции исследователей, Возрождение по всем основным чертам (антитрадиционализм, индивидуализм, культ античности, интерес к природе и человеку, эстетизм, разрыв с христианством) выступает как антипод Средневековья.
Но уже эта работа обнаруживает упадок историзма в либерально-позитивистическом подходе к Возрождению, которое описано у Буркхардта как статическая картина замкнутой культуры, а не как трехвековой процесс развития Италии в его возникновении и дальнейшей трансформации. Скрытая тенденция Буркхардта – понимание культуры Италии XIV–XVI веков как некоего идеального прообраза нормального и «естественного» буржуазного общества, свободного от примитивной корпоративности, от христианской, да и любой морали, ограничивающей личность, и от прочей средневековой отсталости. У новейших последователей Буркхардта эта концепция все чаще приводит к «социологическим» аналогиям между XVI и XX веками, к сближению индивидуализма Возрождения с антисоциальным аморализмом и ницшеанским культом «эстетически рафинированной бестии», к отождествлению централизации политической жизни в XVI веке с тоталитарными тенденциями эпохи империализма и т. д. Цель подобной модернизации Возрождения – установление вечного «ритма» в развитии общества, иначе говоря, апология капитализма[4].
Второе направление в работах о культуре Возрождения, откровенно реакционное, зарождается еще во второй половине XIX века (Патер, Герцони), но начинает задавать тон преимущественно после Первой мировой войны и Октябрьской революции (Бурдах, Хёйзинга, Жильсон, Нордстрём, Февр, Лаведан, Торндайк и др.). Отвергая революционные изменения в истории идей и придерживаясь «постепенного» эволюционизма, представители этого направления находят все основные принципы философии и искусства Ренессанса уже в Средних веках, начиная с XII–XIII веков. Искусство XV–XVI веков в Европе, оказывается, в основном еще продолжает готику, так же как благочестивый «христианский гуманизм» развивает религиозный индивидуализм средневековых мистиков. Культура Возрождения якобы была лишь поздним цветением, бабьим летом или, по выражению Патера, «второй жатвой» Средневековья и не создала в сфере мысли по сути ничего качественно нового. Поэтому не Италия XIV–XVI веков, а Франция XII–XIII веков будто бы является родиной Ренессанса. Цель подобной «медиевизации» Возрождения – доказать, что великое искусство Ренессанса и его мысль, как все великое и творческое, рождается лишь в лоне христианской церкви (неотомизм).
Переходная природа Возрождения дает, таким образом, повод для двоякого рода искажений его источников и исторической роли. Но своеобразие идей этой эпохи не сводимо ни к нормально-буржуазному, ни тем более к средневековому мышлению. «Люди, основавшие современное господство буржуазии, были чем угодно, но только не буржуазно-ограниченными»[5]. Двуединое определение Энгельса относится не только к типу человека эпохи Ренессанса, но и ко всей культуре, развивавшейся «в обстановке всеобщей революции». Отсюда стихийная диалектика на отправном этапе нового естествознания, идея «борьбы и совпадения противоположностей» в натурфилософии XV–XVI веков (Николай Кузанский, Кардано, Телезио, Дж. Бруно), живое чувство движения и всеобщей взаимосвязи в природе – в отличие, с одной стороны, от рассудочной схоластики Средневековья, а с другой – от дуализма и механицизма в науке XVII–XVIII веков, которая была заложена смелыми исканиями и «открытием мира» в эпоху Возрождения. Однако стремление к цельной и универсальной картине космоса – без вмешательства Божьего промысла – наталкивалось у мыслителей Возрождения на недостаток реальных знаний, которые часто подменяются поэтическими аналогиями, наивными антропоморфическими и мистическими догадками (учение о «мировой душе», о «жизненной силе», натурфилософски проходящей все ступени от неорганического мира до человека, о Всецелом Бытии). Враждебная старой догматике, проникнутая верой в разум, в закономерность мира и в опыт, «мать науки» – натурфилософия Возрождения стоит перед еще не изученным миром, полным тайн. Неуемная любознательность побуждает выдающихся мыслителей от Пико делла Мирандола и до Кампанеллы обратиться к каббале, магии и другим «тайным наукам», к народной медицине, которую знаменитый ученый и врач XVI века Парацельс ставит выше официальной. В легенде о Фаусте, сложившейся в конце эпохи Возрождения, увековечен тогдашний тип полуученого-полуфантаста, «овеянного авантюрным духом времени». Смешение рациональных представлений с наивной фантастикой отличает мышление этой эпохи от позднейшего, более систематичного и научного по методу.
Тяготение к сближению противоположных начал, к поэтически цельному и универсальному творчеству свойственно также литературе Возрождения. В ней отчетливо выступают две борющиеся традиции (отчасти унаследованные от Средних веков) – народной и, восходящей к античности, ученой поэзии, – традиции, часто различные даже по языку (например, видные поэты Понтано в Италии, Секундо в Голландии писали на латинском языке). Однако во всех наиболее значительных и памятных для потомства художественных созданиях эпохи эти традиции сочетаются. Передовая культурная мысль находит здесь глубоко народную форму выражения, особенно в «Гаргантюа и Пантагрюэле» Рабле, в «Дон Кихоте» Сервантеса, в драматургии Шекспира, Марло и Грина. Актуальные проблемы современности воплощены в образах и ситуациях, как бы выхваченных из народной жизни, античная традиция переплетается с народными верованиями и представлениями, с мотивами и приемами фольклора. Корни новеллы Ренессанса, начиная с Боккаччо и до Банделло в Италии, или у Маргариты Наваррской и Деперье во Франции, восходят к устному народному рассказу, идейно обогащенному и облагороженному в духе эстетики Возрождения. Фантастическая ренессансная поэма, проникнутая чувственным свободомыслием, вырастает в Италии на базе народной традиции «кантасториев», уличных певцов («Великий Моргайте» Пульчи, «Неистовый Роланд» Ариосто). Произведение Рабле – настоящая энциклопедия идей Возрождения в форме гротеска, выросшего из лубочного творчества. Далекая от средневековой наивной веры в сверхъестественное, часто ироничная и сатирическая по тону, эта фантастика в литературе Ренессанса вызвана идеализированной, героической концепцией человека и антропоморфическими элементами в представлениях о космосе как живом целом. Мифологизация природы в лирике Ронсара или в комедии Шекспира обычно еще не является условным мифологическим «украшением» и стилистическим приемом, как позднее; она внутренне родственна языческому чувству природы в народном творчестве.
Колорит народной сатиры проникает даже в художественную публицистику на латинском языке – «Письма темных людей» и «Похвальное слово Глупости» Эразма Роттердамского связаны с позднесредневековой «литературой о глупцах». Через всю реалистическую литературу Возрождения проходит образ шута или безумца, устами которого говорит сама мудрость (новеллисты, Эразм, Рабле, Шекспир, Сервантес). Здравый смысл простых людей и свободомыслие культурных умов, критический взгляд на окружающее и утопические чаяния (литература Возрождения богата утопиями не менее, чем сатирой) тех и других здесь сходятся, обнаруживая стихийную диалектику сознания революционной эпохи (Монтень – «полузнание»). Если ближайший период рассудочного классицизма отвергает народное начало в литературе Возрождения за «неправильную» форму и «нецивилизованную» природу (его в XVII веке умеют ценить только немногие художники, например Мольер и Лафонтен), то с конца XVIII века Шекспир и Сервантес, а позже Рабле и полузабытый Ронсар «открываются» как непревзойденные образцы неисчерпаемо богатого поэтического творчества, как нормы народности в искусстве.
Во всех крупных странах Западной и Центральной Европы в эпоху Возрождения возникают первые национальные – по языку и по значению – литературы, в отличие от поэзии и литературы Средних веков, сословно-корпоративной, создававшейся на местных диалектах либо на латыни – языке церкви и ученых. Формируется живой литературный язык как фактор национальной консолидации в борьбе с засилием книжной латыни и в преодолении сословной изолированности. Несмотря на противодействие пуристов, провозвестников классицизма, писатели XVI века охотно черпают не только из письменных источников, но и из родников народной речи. Их язык отличается энергией, свежестью, смелостью новообразований и богатством весеннего половодья переходной поры.
Литература Возрождения неотделима от ведущего течения в духовной жизни этой эпохи – гуманизма, значение которого для художественного творчества XV–XVI веков такое же, как философии просветителей для литературы XVIII века. Роман Рабле и Сервантеса, драма Марло и Шекспира – писателей, которые не были «гуманистами» в специальном смысле слова, – находятся примерно в таком же отношении к идеям гуманизма, как роман Дефо и Филдинга, драма Бомарше и Шеридана к идеям философов-просветителей. Секуляризация духовной и общественной жизни, отрицание авторитета церкви и защита свободы мысли, разрушение сословных рамок и раскрепощение личности – таковы основные принципы гуманизма Возрождения. Будучи исторически предшественниками просветителей, гуманисты во многом отличаются от них во взгляде на человека и его место в обществе. Зарождающиеся новые социальные отношения еще не определились в это время как «отчужденные» от человека силы, объективная материя общественной жизни еще не выступила во «враждебной человеку» форме. Мысль Возрождения в трактовке природы человека поэтому еще чужда позднейшим противопоставлениям общественного, гражданского начала – началу личному, частнособственническому, «морального» человека – «естественному», противопоставлению «гражданина» – «буржуа» и тому подобным антиномиям, свойственным общественной мысли XVIII века. Гуманисты Ренессанса выдвигают, опираясь на греко-римскую культуру, идеал свободного и всесторонне развитого человека, которому ничто человеческое не чуждо. Защита личности и вера в «безграничные» ее способности – существо ренессансного гуманизма. (Более узкий «гуманизм» филологов, специалистов по изучению античных литератур, был у него на службе, а отрыв от жизни кабинетных ученых, буквоедство педантов-латинистов навлекали на них насмешки самих же гуманистов, например Эразма, Монтеня, Дж. Бруно и др.)
Гуманистический индивидуализм как принцип жизни подсказан потребностями рождающегося буржуазного общества и выдвинут итальянскими мыслителями XIV–XV веков – идеологами первой капиталистической нации. Но в своей общей форме – вера в человека и защита его прав на развитие – он в это время еще лишен классового своекорыстия и усваивается образованными представителями разных классов, отвергающими косность и отсталость Средних веков. Гуманизм Возрождения поэтому социально и идейно крайне неоднороден. Например, в Германии периода Реформации он обнаруживает дворянскую (Гуттен), бюргерскую (Эразм) и народную (С. Франк) ориентацию. Если в Англии Т. Мор, осуждая бедственные для народа методы аграрного переворота, доводит гуманистическую защиту прав человека до социализма («Утопия», 1516), то в том же году в Италии его однолетка Б. Кастильоне, автор знаменитого в XVI веке этического трактата «Придворный», придает идеям гуманизма компромиссный характер, усматривая в блестящем, «всесторонне развитом» придворном воплощение гуманистического идеала личности (теории Эразма и Макиавелли). В процессе развития Возрождения народно-демократическая и придворно-аристократическая концепции все более расходятся, подготавливая борьбу реализма с придворным направлением в искусстве XVII века. Но ренессансный гуманизм даже в лице более демократических своих писателей, как правило, не доходит до сознательной поддержки движений революционных низов, оставаясь в пределах защиты свободного развития личности.
II. Этапы и жанры
В развитии культуры Возрождения, в частности искусства и литературы, различают два этапа: ранний и поздний.
Характерным жанром реалистической литературы раннего Возрождения – помимо лирики – была, начиная с «Декамерона» Боккаччо, новелла. Позднее Возрождение нашло себе наиболее яркое художественное выражение в английской драме конца XVI – начала ХVII века, в особенности в трагедии Шекспира, а также в романе Сервантеса. Между основными двумя этапами можно выделить стадию «высокого» Возрождения, и наиболее выдающимся памятником расцвета гуманизма на этой стадии является произведение Рабле, а в художественной публицистике «Похвальное слово Глупости» Эразма Роттердамского. Историческое своеобразие реализма Возрождения и его эволюция яснее всего раскрываются на анализе высших его достижений. Впрочем, выделение высокого Возрождения в качестве особого периода до известной степени условно, так как почти о любом художнике и мыслителе эпохи, переходной по преимуществу, можно сказать, что он либо еще несколько архаичен и потому недостаточно показателен для «законченного» ренессансного понимания жизни, либо его идеи исторически уже перерастают типичные для культуры Ренессанса представления.
Искусство раннего Возрождения связано с расцветом позднесредневековой городской культуры, и предметом его изображения выступает человек, который сознательно или безотчетно преодолевает ограничения сословно-иерархического строя жизни.
Не случайно ведущим литературным жанром на этом этапе оказалась новелла. Рассказчики Ренессанса здесь на тысячах примеров показали, как постепенно освобождается человеческая инициатива. Жизненными основаниями этих рассказов являются случаи независимого поведения, ростки нового сознания как удивительный парадокс на фоне патриархальных нравов веками сложившейся культуры. Коллизии новелл при этом еще не имеют глубокого характера и обычно сводятся к устранению внешних препятствий (сословные преграды, формальные религиозные запреты, традиционные представления, которые становятся уже смешными предрассудками). Круг интересов горожанина, обычного героя новеллы, отличается трезвым, практическим взглядом на жизнь, его цели, по сравнению с литературным героем высокого и позднего Ренессанса, легко достижимы и отнюдь не утопичны. На стороне героя новеллы, так сказать, равно и логика и история; иначе говоря, и простой здравый смысл, и реальный ход времени.
Но если для сложных, драматических конфликтов между героем и обществом еще нет объективных условий, все же есть известная – чаще всего комическая – острота несоответствия между отдельными островками нового мира и основным массивом Средневековья, между свободными и традиционными представлениями. На этой остроте и новизне необычайного, парадоксального случая, на несложной коллизии с чисто внешними препятствиями построена остроумная малая повествовательная форма новеллы раннего Возрождения.
Коллизия меняется, когда мы переходим к позднему этапу и его реализму.
Если историческое значение эпохи Возрождения заключается в переходе от Средних веков к Новому времени, то для мышления позднего Возрождения характерно сознание того, что этот переход в основном уже состоялся, причем в направлении неблагоприятном для свободного развития человека. XVII век (его черты обозначаются значительно раньше), на пороге которого стоит позднее Возрождение, враждебен гуманистической концепции. В политическом отношении это век расцвета абсолютизма (при различных его модификациях в разных странах Европы), век системы государственной регламентации и опеки. В религиозной жизни это век окончательной победы Реформации в одних странах и контрреформации в других, причем и старая и новая церковь, находя поддержку в централизованных государствах, добиваются официальной монополии – в противоположность религиозному брожению и расцвету свободомыслия предшествующей эпохи. Наконец социальный предпосылкой для идеала универсально развитой личности была в XVI веке незрелость экономической структуры нового общества. Многосторонность и силу характера «титанов» Возрождения, реального воплощения этого идеала, Энгельс объясняет тем, что «люди того времени не стали еще рабами разделения труда»[6]. Но со второй половины XVI века в Европе возникает и в XVII веке расцветает мануфактурное производство, впервые и уже в достаточно резкой степени основанное на этом рабстве.
Но если, таким образом, культура Ренессанса в основных чертах глубоко отличается от культуры XVII века, то, с другой стороны, первая исторически подготовила вторую; XVI век – эпоха становления абсолютизма, преобразования христианской церкви, возникновения капиталистического способа производства. Мыслители и художники этого века своей критикой устоев Средневековья и апологией человеческой личности способствовали формированию буржуазного общества, его политики, религии и экономики. Деятели Возрождения – это «люди, основавшие современное господство буржуазии»[7], а для ближайшего периода – подготовившие относительное равновесие между буржуазией и дворянством в рамках абсолютистского национального государства.
В известной характеристике исторической основы Возрождения Энгельс отмечает многообразие политических устремлений этой переходной эпохи: «…В то время как буржуазия и дворянство еще ожесточенно боролись между собой, немецкая крестьянская война пророчески указала на грядущие классовые битвы, ибо в ней на арену выступили не только восставшие крестьяне… но за ними показались начатки современного пролетариата с красным знаменем в руках и с требованием общности имущества на устах»[8].
Гуманизм XV–XVI веков вырастает, таким образом, на почве всеобщего социального брожения. Характер всходов, путь к будущему еще не были окончательно детерминированы самой историей. Гуманистическая защита свободного и многостороннего развития была порождением эпохи, еще богатой различными возможностями развития, и общества «многостороннего» по своим перспективам. Принцип телемитов Рабле «делай что хочешь» стихийно выражал силу исторического момента, когда различные варианты общественного прогресса еще имели в жизни реальные основания, – разумеется, в неодинаковой степени.
Наоборот, к концу XVI века национальный путь развития для каждой страны так или иначе вполне определился: будь то французский классический тип абсолютизма, испанский, близкий к восточной деспотии, немецко-итальянский тип децентрализованных княжеств или, наконец, голландская буржуазная республика. Само разнообразие социально-политических форм XVII века, среди которых, однако, нет «плебейски-мюнцеровского» варианта, как бы подтвердило богатые потенции, которые заключала культура Ренессанса, но с тем, чтобы покончить с ними в каждой данной стране.
В этих условиях наступает кризис гуманизма Возрождения. Рушится оптимистическая вера в то, что возникающее новое общество благоприятно для свободного развития человека. Писатели позднего Возрождения продолжают начатую еще на раннем этапе борьбу с средневековой косностью и отсталостью, но более важной задачей для них становится критика нового рабства человека в буржуазном обществе. Отсюда одновременно антифеодальный и антикапиталистический пафос, свойственный всей гуманистической мысли, но преимущественно ее художественным вершинам на позднем этапе – Шекспиру и Сервантесу.
Своеобразием этого этапа является, между прочим, то, что все сильнее обнаруживается компромисс между старым и новым миром, благодаря которому и смог победить строй абсолютизма, как феодальная форма государства, в которой созревали новые социальные отношения. Вот почему критика нового абсолютистско-буржуазного общества, критика культуры XVII века с точки зрения искажаемых буржуазным прогрессом идей гуманизма XVI века – лейтмотив почти всех трагедий Шекспира, – по форме часто напоминает развенчание устоев отжившего Средневековья, то есть основную тему литературы раннего Возрождения.
Например, в «Гамлете» коллизия строится на противопоставлении героя придворной среде. Но что собой представляет мир, с которым воюет Гамлет, – образ уходящего или нового общества? С кем Гамлет сталкивается – с еще живучим прошлым или с уже окрепнувшим будущим? Есть, казалось бы, ряд оснований утверждать первое. Либерально-буржуазная критика, явно модернизируя шекспировского героя, часто усматривала в нем интеллигента Нового времени, который задыхается в отсталой придворной среде. И действительно, Гамлет, передовой человек эпохи Возрождения, свободен от придворных условностей – не только от феодальных предрассудков, но и от связанных с ними доблестей: воинственный Фортинбрас кажется прямым потомком Роланда по сравнению с ним, скептиком и учеником Монтеня. И все же Гамлет не случайно роняет фразу: «У меня нет будущего», – ибо в мире короля Клавдия выступает враждебный гуманизму абсолютистский XVII век. Изысканные комплименты Осрика, угодничество Полония, как и дисциплинированность Фортинбраса, представляют собой аристократическую интерпретацию того знаменательного обстоятельства, что складывается культура, регламентирующая поведение человека, утверждаются нормы приличия в быту, уже появился для всех обязательный закон «цивилизованного общества», которому человек – и в первую очередь придворный, слуга короля как главы нации – должен подчиняться. И придворный Розенкранц явно выражает политический принцип XVII века:
Монарх не может умереть один: В своем паденье увлекает он Все близкое, как горный водопад. Он колесо гигантского размаха, Стоящее на высоте горы. И тысячи вещей прикреплены К его огромным и могучим спицам. Падет оно – ужасное паденье Разделят с ним все вещи мелочные. Еще монарх ни разу не вздыхал, Чтобы народ с ним вместе не страдал.Это уже формула абсолютизма, формула «короля-солнца».
До этой общегосударственной идеи – достижения культуры XVII века – Гамлет исторически еще не дорос. Отсюда прямота его натуры, независимость поведения, резкая до грубости речь, глубокий разлад с чуждым ему «цивилизованным» миром, где человек уже связан общественным положением, обезличен, «дегуманизирован». В этом смысле принц датский близок патриархально-честному Кенту из «Короля Лира», независимому, прямодушному Кориолану, буйным феодалам хроник, с одной стороны, и шуту в комедии «Конец всему делу венец» или Оселку в «Как вам угодно» с их насмешками над придворными нравами, – с другой. Весь этот круг образов во главе с Гамлетом – каждый из них по-своему – выражает сильные и слабые стороны полупатриархального мира, еще не взятого в шоры абсолютизмом, еще не усвоившего «гражданской идеи» XVII–XVIII веков и отделения высокой сферы государственного и общественного от интересов частной и личной жизни как сферы низшей. Идеал Возрождения, независимой и героически цельной натуры, враждебной «абстракции политического государства» (Маркс) и двоемирию человеческой жизни в буржуазном обществе, выступает в своем отношении к абсолютизму в значительной степени как принцип старого мира[9].
Другой пример – Шейлок из «Венецианского купца». В его лице Шекспир изобразил новый тип буржуазии, представителя «накопляющего» богатство, в отличие от Антонио, олицетворения потребляющего и «наслаждающегося» богатства. На смену «царственному купцу», характерному для эпохи великих мореплаваний, на смену авантюрному, подверженному случайностям типу экономики, идет герой планомерного и систематического обогащения, деятельность которого проходит под эгидой абсолютистской законности. В образе скупого, жадного и фанатичного Шейлока, еврея и ростовщика, Шекспир – как это ощущалось и современниками и позднейшими читателями – косвенно метит и в английское пуританство, придавшее морали бережливости и накоплению характер фанатического культа. Влияние пуританства, которое осуждало этику Ренессанса за расточительство и «языческий» дух, возрастало к концу эпохи Возрождения, и исторически ему принадлежало будущее. Однако новая и по существу капиталистическая идеология рядилась в старые, «ветхозаветные» одежды – аскетизм буржуазного накопления по форме возрождал христианский культ аскетизма и догуманистические нормы поведения Средних веков. Не случайна поэтому ошибка некоторых литературоведов, когда они усматривают в Шейлоке «известный слой» ростовщической буржуазии, пережиток Средневековья – интерпретация, при которой пропадает действительный исторический смысл столкновения между Антонио и Шейлоком, актуальность этой коллизии для судеб культуры Ренессанса в Англии.
Отсюда своеобразное и коренное противоречие, свойственное всему гуманизму Возрождения, но в особенности раскрывающееся на позднем, наиболее зрелом этапе. Переходная природа культуры Ренессанса ставит гуманизм в положение реалистической доктрины нового общества по отношению к старому средневековому – но также и утопической доктрины старого, еще полупатриархального общества по отношению к новому, капиталистическому.
Этим объясняется, почему, в отличие от новеллы раннего Ренессанса с ее ловким и изобретательным, проницательным и практичным героем (также у Рабле и в ранних комедиях Шекспира), позднее Возрождение обычно наделяет благородного героя, внутренне родственного автору, чертами наивной доверчивости (Отелло), непонимания собственнических вожделений у окружающих (Тимон Афинский), чертами старомодной патриархальности (Лир) и слепоты в идеализации себя и людей, доходящей до безумия (Дон Кихот). Гибель героев показывает иллюзорность вызванных ренессансным переворотом идей о «свободном» обществе, которое сменило Средневековье и односторонне их использовало. Эта гибель обнажает подлинную природу свободной деятельности как звериной борьбы за место в жизни. На этот раз исход столкновения между ренессансным героем и обществом зависит не от случайного стечения неблагоприятных обстоятельств, как в новеллах «Декамерона» с печальным концом, а от вполне закономерных социальных и исторических сил, которым герой шлет вызов своим поведением и всей своей натурой и которые неминуемо губят его. Художественное действие теперь строится не на повествовании о необычайном событии или положении, а на изображении удивительного характера и своеобразных поступков.
Коллизия между героем и средой поэтому, в отличие от новеллы раннего Возрождения, носит на позднем этапе внутренний и глубоко драматический характер. Естественный, казалось бы, порядок вещей, нормальная человеческая логика – и историческое развитие общества, неумолимый ход жизни трагически противостоят друг другу. Этот конфликт и находит свое высшее отражение главным образом в драме – в трагедиях Шекспира и его современников.
Но что отличает трагедию позднего Ренессанса от театра XVII века (барокко и классицизма), тематика которого обычно те же противоречия рождения нового общества (возникновение отмечаемой Марксом противоположности между частной и политической сферой), что отличает Шекспира от почти его современников Кальдерона и Корнеля, – это эстетическое неприятие дуализма культуры XVII столетия, унижающей народную жизнь и нивелирующей человеческую личность. Представления Шекспира о нормальном обществе, о достойной человека жизни лежат в пределах того же Возрождения, историческую обреченность которого он уже сознает. Все эти Октавии, Фортинбрасы, Авфидии, победители, которые произносят в финалах трагедий примирительные, снисходительно-благосклонные речи над трупами павших героев, – торжествующий «семнадцатый век», почва для которого объективно подготовлена предыдущим веком, – остаются в этой роли холодными фигурами, эстетически неприемлемыми, хотя и оправданными и даже возвеличенными логически.
III. Тема и ее эволюция
Эпохи в истории искусства и в истории реализма отличаются друг от друга прежде всего своим художественным содержанием – магистральной темой искусства данного времени. Эта «тема времени», которая сознательно поставлена художником или безотчетно стоит перед ним и его аудиторией как нечто само собой разумеющееся, составляет основу частных тем отдельных произведений искусства, и в ней сказывается своеобразие художественного мышления эпохи.
Через всю литературу эпохи Возрождения проходит концепция человека как существа самодеятельного, с прекрасными от природы задатками, который поэтому не нуждается во внешних религиозных или сословных ограничениях, – поэтизация свободного человека. Литература, изобразительное искусство, вся культура Возрождения отмечены «открытием человека», открытием, повергающим художника этого времени в такое же изумление, как молодого Гамлета: «Какое образцовое создание человек! Как благороден разумом! Как безграничен способностями! Как значителен и чудесен в образе и движениях! В делах как подобен ангелу, в разумении Богу! Конец мира, венец всего живого!».
Разумеется, «открытие человека» в эпоху Возрождения не является чем-то абсолютным. Вся история искусства, рассматриваемая с этой стороны, предстает как история «открытий человека», каждый раз нового – в соответствии с новыми целями общества – понимания его «природы», каждый раз иного – в соответствии с иным опытом – постижения его возможностей. Развитие искусства, и в первую очередь реалистического, – история того, что в разное время и в различных направлениях искусства понималось под реальным человеком и его «настоящей» натурой, под художественно убедительным и правдоподобным ее изображением. Эта история тем самым подтверждает гуманистические представления о «неограниченной» природе человека и самого искусства: она доказывает, что «человеческая натура» как предмет искусства пребывает в непрерывном движении и перерастает представления о ней любой эпохи.
На заре капиталистической эры «открытие человека» означало борьбу за раскрепощение личности, доверие к свободному ее развитию. Эта тема составляет основное содержание ренессансной новеллы и поэмы, романа и драмы, лирики и публицистики. Для реализма Возрождения она играет такую же роль, как коллизия между личным и общественным, между «чувством» и «долгом» – для классицизма XVII–XVIII веков, как непримиримость «мечты» и «действительности», поэзии и правды – для романтизма, как тема разлагающего влияния буржуазного общества на человека и культуру – для критического реализма XIX–XX веков, как тема рождения нового мира и нового человека, борьба за новые отношения между людьми – в социалистическом искусстве нашей эпохи.
Характер художественного воплощения этой магистральной темы реализма Возрождения на протяжении почти трех веков от Петрарки и Боккаччо до Шекспира и Сервантеса различен и является своего рода художественной историей гуманизма Ренессанса.
Уже новеллы «Декамерона» по преимуществу посвящены ловким проделкам, остроумным ответам, неиссякаемой изобретательности, благодаря которой люди выпутываются из затруднительных положений. «Новое» в новелле – это чаще всего еще один удивительный случай, еще одно забавное положение, еще один вариант этой неисчерпаемой темы, всегда интересной для рассказчика и его аудитории. Отсюда и экстенсивность жанра – сборники в сто и несколько сот рассказов, начиная от Боккаччо и Саккетти и вплоть до Джиральди Чинтио и Банделло в XVI веке.
Тема человеческой предприимчивости – не открытие реализма Возрождения. Городская литература Средних веков (французские фаблио, немецкие шванки, итальянские новеллы) изобилует рассказами о проделках коварных жен и плутнях духовных лиц, о ловких купцах и остроумных жонглерах. Но отношение практичного и насмешливого средневекового горожанина к ловкости и личным способностям, которые торжествуют над силой и сословными преимуществами, отношение к человеческой природе, которая выходит из отведенного традицией подчиненного положения, – двойственное: смесь явного восхищения с недоверием к аморальной личности, к раскованной бестии, порождаемой распадом сословного общества и патриархальной морали. Недаром главным героем этой сатирической литературы является хитрый и зловредный Лис Ренар – синтетический для эпохи художественный образ, настолько популярный, что, по свидетельству писателя XIII века, монахи охотнее расписывали свои кельи сюжетами приключений Лиса, чем житий святых.
От двойственности готического кризисного сознания «Декамерон», памятник раннего Ренессанса, отличается облагороженным представлением о человеке, более цельным мироощущением. Новелла Боккаччо отвергает не только аскетизм (антиклерикальные рассказы) и сословные предрассудки (рассказы, прославляющие мезальянс), но и грубый практицизм своих средневековых источников (рассказы о щедрых и великодушных делах).
Свободное чувство преображает неотесанного и придурковатого Чимоне, который, полюбив Ефигению, становится самым приятным и достойным юношей Кипра; «любовь более сильная, чем судьба, возбудительница дремотствующих умов, силой своей подняла эти доблести, объятые безжалостным мраком, к ясному свету» (Первая новелла пятого дня). Героиня повести Боккаччо «Фьяметта» рассказывает, как, полюбив, она почувствовала, что ей «весь мир стал нипочем, казалось, что я головой достигаю неба». Любовь возносит горожанку на такую высоту, что она может сравнивать свою судьбу с судьбой древних героинь, В поэме «Фьезоланские нимфы» пастух Африко, полюбив нимфу Мензолу, вступает в столкновение с самой Дианой, как богоборец, преступивший запрет, установленный богиней.
Но даже в ведущих произведениях раннего Возрождения идеализация свободного чувства еще в известной мере искусственна, и не случайно она выражается в недостаточно органичных внешних украшениях (утомительные периоды «Декамерона», риторические примеры из античности в «Фьяметте»). Тяготение к ораторской, искусно построенной речи, унаследованное от излюбленных античных образцов, вообще характерно для всей литературы Возрождения, для ее эстетики в обрисовке всесторонне развитого человека, которому присущ также дар красноречия. Впечатление книжной декламации, которое оставляют речи персонажей Боккаччо, когда они выражают свои чувства и доказывают свою правоту, создается из-за несоответствия между ограниченным содержанием образа и чрезмерно усложненной, самодовлеющей формой выражения. Круг интересов героя Боккаччо еще сравнительно узок, уровень его устремлений и дерзаний, как отмечено выше, еще невысок. По сравнению с трагедией, герой новеллы бюргерски благоразумен, осторожен и рассудочен. Ранний Ренессанс в литературе (и искусстве) как будто даже сознательно сохраняет за своими персонажами известную слабость как условие человечности и реализма. Это видно в «Фьяметте», в «Фьезоланских нимфах», а также в новеллах «Декамерона» с печальным исходом. Отсюда и установка на сочувствие и жалость. Введение к «Декамерону» начинается словами: «Соболезновать удрученным – человеческое свойство, и хотя оно пристало всякому, мы особенно ожидаем его от тех, которые сами нуждались в утешении и находили его в других… Я из числа таковых… Я воспламенен высокою благородною любовью, более чем, казалось бы, приличествует моему низменному положению» (последняя фраза достаточно показательна). Таково же начало «Фьяметты»: «Отрада жалоб у людей несчастных обыкновенно увеличивается, когда они рассказывают о своих чувствах или видят в ком-либо сочувствие…
В этой книге увидите вы жалкие слезы, порывистые вздохи, жалобные стоны». «Фьяметта», как и «Декамерон», обращена главным образом к женской аудитории, ибо «мужчины жестоки».
Рельеф образа героя смягчается, его характер и портрет Боккаччо часто наделяет чертами женственности. Таков Памфило в «Фьяметте» или Африко в «Фьезоланских нимфах»:
Мужчину не напоминал нимало Ни бледный лик его, ни томный взор (строфа CCXII). Переодетый женщиной, Он не мужчиной, женщиной смотрелся (строфа CCXXVIII).Достаточно сравнить нимфу-охотницу Мензолу у Боккаччо с аналогичными образами дев-воительниц Брадаманты или Марфисы у Ариосто, чтобы подметить эту тенденцию раннего Ренессанса.
Подобное понимание человечности и реализма связано в самой жизни с непреодоленной патриархальной скованностью, порождающей известное недоверие к героизации человека. Изобразительное искусство XIV–XV веков еще сохраняет элементы недостаточно уверенных, угловатых, трогательно робких контуров готической фигуры. Эстетика раннего Возрождения имеет исторические причины не доверять героической мощи в изображении человека. Еще свежи традиции рыцарского эпоса и романов Круглого стола, где за крайней идеализацией выступает защита грубой силы и прославление средневекового военного сословия. Заявление Фьяметты у Боккаччо звучит как бы полемически: «Вы здесь не найдете битв троянских, запятнанных кровью, но любовную повесть, полную нежной страсти». Шаг вперед в обрисовке всесторонней и свободной натуры мог быть сделан только благодаря временному ослаблению ее силы, значительности и высоты.
В развернутом виде тема реализма Возрождения выступает в произведении Рабле. Здесь она гротескно раскрыта уже в подзаголовке: «Книги, полные пантагрюэлизма», как предупреждает сам автор, то есть гуманизма. По безграничной вере в возможности ничем не связанного человека, по безусловному доверию к последствиям свободной инициативы, а значит, по «масштабу» своего оптимизма автор Телемского аббатства, пожалуй, единственная фигура в мировой литературе. Его роман наиболее полное и цельное выражение ренессансного гуманизма.
Тема самодеятельной личности, порвавшей со старым рабством и еще не подозревающей об ограничениях, которые приносит новый порядок вещей, воплощена у Рабле прежде всего в двух основных образах – гармоничного Пантагрюэля и беспутного Панурга.
Эта пара – два полюса свободного поведения – неразрывно связана. Однажды встретив Панурга, Пантагрюэль полюбил его на всю жизнь, отныне они неразлучны. Сам автор «пантагрюэльских» книг в не меньшей мере проникается и «панурговским» принципом жизни, который определяет его единственный в своем роде творческий метод и колорит его гротеска. Как социальный тип, Панург представляет в историческом брожении Ренессанса народную основу, которая вышла из средневекового инертного состояния. В приятии Рабле – художником и мыслителем – панурговского начала, наиболее непосредственно и недвусмысленно обнажаются демократические корни гуманистической апологии свободного развития личности и общества.
Рабле с поразительной последовательностью, смелостью и широтой мысли, с жизнерадостным невозмутимым спокойствием, лежащим в основе его смеха, принимает то незавершенное, несоразмерное, уродливое, гротескное, что неизбежно сопутствует прогрессивному перевороту, движению жизни. Его читатели «пантагрюэльцы» должны все принимать с хорошей стороны, и прежде всего – проявления свободной натуры. «Пантагрюэль во всем видел только одно хорошее, всякий поступок истолковывал в хорошую сторону… Ибо все блага, которые покрывает небо и содержит земля, не стоят того, чтобы волновать наши чувства и смущать наш разум» (Книга третья, глава вторая).
Последнее положение крайне важно для понимания мировоззрения Рабле и общей эволюции гуманистической мысли. Оно, как увидим дальше, станет исходным пунктом в развитии трагической темы у Шекспира. Рабле, последовательный сторонник освободительного движения Ренессанса, верит в гармонический исход свободной деятельности человека. Все циничное и необузданное является необходимым фактором разрушения старого мира и тем самым оправдано как момент в становлении свободного общества и свободной личности. Вечный пакостник, неуживчивый Панург (злые проделки которого над представителями любого порядка, старого или нового, вызывают явное восхищение автора) ведет себя в обществе пантагрюэльцев – в естественных, достойных человека условиях – как хороший товарищ, остроумный собеседник и «в целом прекрасный человек».
Свободному человеку в конечном счете присуща внутренняя уравновешенность, чувство меры, изнутри определяющее его естественное разумное поведение. Он поэтому не нуждается во внешнем регламенте и не выносит какой бы то ни было узды. Брат Жан, например, терпеть не может часов: «Я никогда не подчиняюсь часам; часы для человека, а не человек для часов». Если «в монастырях все размерено, ограничено и распределено по часам», то в Телемском аббатстве «указом будут воспрещены всякие часы». Но пэнтагрюэлизм, защита абсолютной свободы, имеет и свою «меру»: «пантагрюэльствуя, – говорит Рабле, – то есть в меру выпивая». Правда, «мера» здесь большая, и ее модель – безграничная по своим возможностям натура великанов: мера «хорошей выпивки», по Рабле, – «чтобы подошвы в ботинках набухли на полфута». Из подобной модели исходит гуманист Понократ в своей системе воспитания всесторонне развитого Гаргантюа. Эта система рассчитана на свободную и всеобъемлющую природу ученика, но в то же время обучение проходит по правильному расписанию.
Противоречие между свободными проявлениями натуры и соразмерностью правильной системы, между стихийными побуждениями личности и разумным устройством целого удивляет не только в педагогике и этике Рабле, но и в его картине совершенной организации общества.
Достаточно сопоставить в описании Телемского аббатства пятьдесят пятую и пятьдесят шестую главы с главой пятьдесят седьмой, чтобы обнаружить это сознательно допускаемое автором противоречие, которое должно само собой гармонично разрешиться. В первых двух главах, где речь идет о жилище и одежде телемитов, господствуют порядок, статут и правила: указывается, кто, где и как живет, убранство комнат, характер одежды в разные сезоны для мужчин и для женщин особо. Глава пятьдесят седьмая, под названием «Какой порядок был установлен в жизни телемитов», наоборот, открывается словами: «Вся их жизнь была подчинена не законам, уставам и правилам, но доброй и свободной воле. С постели вставали, когда заблагорассудится; пили, ели, работали, спали, когда приходила охота».
Гротеск «доброй» и одновременно «свободной» воли человека, как достаточного залога для гармонии между личностью и обществом, свидетельствует о менее глубоком проникновении в природу складывающихся социальных отношений у Рабле, по сравнению с трагиком Шекспиром, и о менее зрелой ступени культуры Возрождения во Франции 30-х годов XVI века, чем в Англии конца XVI – начала XVII века. Буржуазный прогресс создал почву для неограниченной свободы личности – и реальные факторы ее универсального ограничения. Иллюзорность идеала всесторонней свободы в обществе, построенном на частной собственности, понял уже современник Рабле – английский гуманист Т. Мор. Стихия личных свобод, игра сильных ренессансных страстей служили исторической формой кристаллизации буржуазного мира.
Но в фантастической идеализации свободы личности (принцип Телема «Делай что хочешь»), свободы, которая обернулась капиталистической несвободой, сказывался и реализм гуманистической оценки человека, постижение тех действительно безграничных творческих сил, которые таит в себе раскрепощенная инициатива. Фантастика и реализм, поэтические предугадания и трезвое понимание дополняют друг друга в ренессансном видении жизни – и в этом тайна непреходящего обаяния искусства Возрождения, его «фантастического реализма». Идеализация человека соответствовала устремлениям эпохи, которая «нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страстности и характеру, по многосторонности и учености». Она определила и основную метафору произведения Рабле как повествования о великанах, о «титанах» в буквальном смысле слова.
Представление об уровне человеческих возможностей, а значит, и об эстетически нормальном, о масштабе человеческого образа в искусстве, на этом этапе иное по сравнению с ранним Возрождением. Не случайно со второй половины XV века – после долгой полосы упадка – возрождается интерес к героическим рыцарским сюжетам. Разумеется, юмористическая фантастика рыцарской поэмы Пульчи, Боярдо и Ариосто (не говоря уже о «конквистадорской» поэме Камоэнса и Эрсильи, посвященной славным делам современников) качественно отличается по своему духу от старого феодального эпоса и рыцарского романа. Но несомненные пародийные элементы не определяют характера этой поэмы в целом, который свидетельствует о новом повышенном интересе к героическому, породившем и самый жанр. Авантюрный дух времени и его устремления нашли себе художественное выражение в этих героических сюжетах старого мира, переработанных заново и с гордостью за нового человека.
В произведении Рабле, которое, в отличие от рыцарской поэмы Ренессанса, реалистически изображает эти устремления времени, героический взгляд на человека выступает в образах великанов, соотнесенных с созданиями народной фантазии и древних легенд. Мы улыбаемся вместе с автором, когда свита Пантагрюэля устанавливает свою генеалогию от мифических героев античности в эпизоде, где Панургу с тремя товарищами удалось побить шестьсот шестьдесят рыцарей Анарха. Оказывается, что Эстен ведет свой род от Геркулеса, Карпалим – от амазонки Камиллы, Эпистемон – от Синона, а Панург – от Зопира. Улыбка здесь (так же, как и в поэме Пульчи и Ариосто) вызвана гротескным сближением исторически различных типов героики. Но доблесть пантагрюэльцев, например брата Жана, когда он заявляет: «Если я днем не совершу какого-либо геройского поступка – ночью я не могу спать», – не вызывает у читателя сомнений.
Дальнейшее развитие тема реализма Возрождения находит в драме Шекспира.
Ранние комедии и хроники Шекспира еще входят в круг искусства высокого Ренессанса. Мир замка Бельмонт в «Венецианском купце» и душа этого мира Порция представляют расцветший, свободный мир Возрождения. Для темы творчества Шекспира в первом периоде, быть может, наиболее показательна комедия «Сон в летнюю ночь», где конфликты свободных чувств у свободных людей разрешаются сами собой, без постороннего вмешательства, магической «природой» в благополучной, примиряющей всех антагонистов развязке. Юмор комедий Шекспира и комических сцен хроник, сохраняя особый оттенок, близок по своей основе к смеху Рабле изображением комической игры стихийной и откровенной природы в человеческой натуре (Панург и Фальстаф).
Но поздние комедии Шекспира отличаются от жизнерадостного тона «Гаргантюа и Пантагрюэля» элегическим налетом. Меланхолические герои – Антонио в «Венецианском купце» и Жак в комедии «Как вам это понравится?», образы Орландо и герцога в этой же комедии уже предвещают закат мира Возрождения. В первой из этих пьес Порция ловким трюком (в духе гуманизма, издевательским по отношению к формальному праву) спасает положение, хотя по ходу действия победа скорее должна была бы достаться Шейлоку. Но уже во второй, более поздней комедии, счастливая развязка совершенно случайна[10]. Телемское аббатство, отделенное стенами от патриархального отсталого мира, находится в центре событий раблезианской хроники и служит маяком для рождающейся новой культуры. У Шекспира ренессансное общество Арденнского леса пребывает в изгнании, на отшибе жизни, оно оттеснено историей на задний план.
Кризис гуманизма Возрождения отразился наиболее полно в великих трагедиях Шекспира, определив их место в эволюции художественной мысли эпохи.
Драма Шекспира, в частности его трагедия, ярче всего показывает своеобразие художественной темы в реализме Возрождения. Материал трагедии Шекспира, ее сюжет, обоснование развития страсти, сама идея трагедии становятся загадочными, если отвлечься от того, что интересовало ренессансного художника и его аудиторию в судьбе Гамлета, Отелло, Лира или Макбета. Каждый из этих героев для зрителей шекспировского театра прежде всего «человек во всем значении слова», как замечает Гамлет о своем отце, нормальный, свободный, естественный человек, наделенный огромной энергией и высоким сознанием своей ценности как человеческой личности. Всесторонний «герой» – вершина пирамиды, основанием которой служит вся «натура человека», а не одна грань этой натуры, одна какая-либо страсть. Энергия героя аккумулируется в известной страсти лишь постепенно, в ходе трагедии. Только поэтому судьба героя – отнюдь не мономана, но скорее «всякого человека» (every man, как в средневековом театре), от которого он отличается только большей силой и высотой характера, – могла увлекать аудиторию Возрождения и представляет общечеловеческий интерес. Идеализация не только не умаляет типичности героя, но является условием яркого выражения его человечности. Родовое, типичное (человек) и особенное, индивидуальное (личность) сливаются в человеческой личности героя как норме естественной натуры.
Поэтому несостоятелен чисто психологический подход к трагедиям Шекспира, когда в теме «Гамлета», «Отелло», «Лира», «Макбета», «Тимона Афинского» усматривают изображение особой страсти или особого склада характера. При таком подходе неизбежна искусственность в определении характера героя, который, как давно замечено, всегда у Шекспира многогранен, ренессансно всесторонен, как «всякий человек» (в идеальном смысле). Версии «слабовольного» Гамлета и «ревнивого» Отелло оказались поэтому неудовлетворительными. Если «Король Лир» – это только трагедия «отцовского чувства», то сцена завязки, где поведение Лира противоречит психологии любящего отца, бессмысленна, как полагал Гёте. Кто-то заметил, что для роли главного героя в «Отелло», как трагедии ревности, скорее подошел бы подозрительный и мстительный Яго, чем доверчивый, благородный мавр. С тем же правом можно сказать, что и для трагедии отцовского чувства больше подошел бы в роли главного героя чадолюбивый и слабохарактерный Глостер, для изображения страсти честолюбия – непреклонная леди Макбет, а для страсти мизантропии – человеконенавистник Апемант, а не Тимон. Страсть шекспировского героя – не изначальная черта его натуры и не задана с самого начала, как в испанских трагедиях «ревности и чести». Она возникает в ходе действия как временный аффект, ослепляющий героя, как форма развития иной, собственно ренессансной темы – изображения свободной человеческой личности, ее возможностей, дерзаний и гибели в столкновении с бесчеловечным обществом.
Но так же несостоятелен и бытовавший в свое время социологический подход к этим трагедиям, когда режиссер или критик, стремясь отойти от традиционного психологического понимания и стать на историческую почву, выдвигал на первый план политическую мысль Шекспира в связи с проблематикой государства XVI–XVII веков. Так, например, в 30-х годах пытались интерпретировать «Гамлета» на сцене как драму «борьбы за престол» («Быть или не быть»… королем), а основной темой «Короля Лира» один известный критик считал защиту политической централизации и изображение того, «как вредно дробить государство на куски».
При таком подходе к теме Шекспира умаляется живой интерес, который сохраняет его трагедия для потомства. К тому же при этом отвлекаются и от характерного для эпохи Возрождения интереса к человеческой личности как высшей ценности и основного предмета искусства. Иначе говоря, этот мнимый, модернизирующий историзм игнорирует историческое своеобразие гуманистического реализма Возрождения.
Вообразим, однако, что у Лира не три дочери, а только две: Гонерилья и Корделия. Ответ Корделии не удовлетворил короля, и он отдает все королевство Гонерилье. Изменилось бы что-нибудь в судьбе Лира? Он подвергся бы тем же унижениям, так же скитался бы в степи, горечь обиды была бы еще острей, неблагодарность дочери еще более чудовищной. Глостер, – параллельный Лиру образ, у которого только два сына, – разделяет его судьбу. Трагедия, таким образом, сохранила бы свою остроту, несколько изменившись в деталях (не было бы заигрывания Эдмунда с двумя сестрами и т. п.), хотя единство государства не было бы нарушено.
Теперь вообразим другой вариант. У короля Лира, как показано в трагедии, три дочери, но после ответа Корделии Лир оставляет себе предназначенную ей треть государства. В этом случае король не мог бы оказаться нищим, безумие и сцены в степи немыслимы, и трагедии нет, хотя «кусков государства» не два, а целых три. И если бы у Лира было, как у Даная, пятьдесят дочерей, оставь он себе хоть одну пятидесятую часть государства, – ситуация этой трагедии уже невозможна, хотя «дробить государство» на пятьдесят «кусков», что и говорить, нехорошо.
Нетрудно заметить, что трагедия «Отелло» сохраняется и без героя-мавра, что роль расового момента в интриге отнюдь не решающая, так как перед нами трагедия человека Возрождения, а не мавра в европейском обществе (которое, к слову сказать, в лице венецианского сената умеет ценить его заслуги).
Шекспир-трагик еще не исходит в своей поэтической теме из безличного государства, общественного долга и тому подобных начал, стоящих над героем и введенных в поэзию классицизмом как художественное завоевание Нового времени. Он только подводит мысль читателя к этим началам, как определяющим условиям человеческой жизни. Тема Шекспира еще не выступает непосредственно как социально-историческая тема, характерная для новейшей драмы, хотя проблематика его трагедии с замечательным реализмом отражает социальную жизнь его эпохи. Именно в том, как Шекспир обосновывает трагедию человеческих чувств, мы видим его глубокий интерес к материальным коллизиям, к социальным проблемам века. Ведь сама идея свободного, ничем не скованного, сильного и прекрасного человека возникла из того социального переворота, из тех великих исторических изменений, которые поставили умы Возрождения перед необходимостью оценить происходящий социальный процесс, разобраться в том, что он сулит для расцвета человеческой личности.
Тема Шекспира, как и мышление всего гуманизма, носит «антропологический» характер. Шекспир исходит в своих трагедиях из возможностей свободного человека, идеализированного в духе Ренессанса до уровня героя. Трагедия Шекспира основана на гибели этого героя в связи с торжеством устоев нового буржуазного и абсолютистского общества.
Анализ развития магистральной темы творчества зрелого Шекспира (и темы всего позднего Возрождения) удобнее всего начать с «Отелло».
В первых двух действиях трагедии Отелло воплощает то представление о человеке, к которому пришел высокий Ренессанс. Это – гуманистическая вера в человека как творца своей судьбы, вера в «пантагрюэльски» гармоническое проявление естественных, свободных страстей.
Первое действие построено на характерном уже для новеллы раннего Ренессанса мотиве неравного брака и любви, преодолевающей внешние преграды. В сдержанном, полном внутреннего достоинства поведении Отелло на совете сенаторов (конфликт с Брабанцио), в его красноречии (хотя он скромно отказывает себе в ораторских талантах) мы узнаем уверенную, основанную на здравом смысле, логику декамероновских молодых людей по отношению к прошлому и его предрассудкам. Свободному человеку присуща внутренняя дисциплина: отправление на остров Кипр после первой брачной ночи показывает, как велико у Отелло сознание долга перед республикой, на службе у которой он состоит. Это долг и страсть одновременно, долг деятельной и значительной натуры, который еще не поставлен, как позднее в трагедии барокко и классицизма, на более высокую ступень в иерархии ценностей, чем страсть к Дездемоне. В этом долге нет оттенка аскетизма. Долг не помешает Отелло впоследствии, когда развернутся события трагедии, забыть и о своем ранге, и о республике, и обо всем на свете, – что было бы совершенно невозможно у Корнеля и Расина. С точки зрения эстетики XVII века Отелло – недостойный герой и плохой военачальник. Отъезд на Кипр не ограничение себя, а, наоборот, форма проявления всесторонней натуры.
Но самое главное – Отелло крайне доверчив.
Яго
Людям надо б Всегда быть тем, чем кажутся они, А тем, чем быть не могут, не казаться.Отелло
Да, я с тобой согласен, надо б людям Всегда быть тем, чем кажутся они.Доверчивость Отелло – доверчивость ренессансного сознания, его идеализирующий, наивный взгляд на рождающийся мир, незнание «хитрости» жизненного процесса, неведение подлинного лица того общества, членом которого герой уже является.
Но вот Отелло приходит в столкновение с жизнью, с миром таких же свободных, как он, индивидов, с борьбой антагонистических интересов, с миром Яго, Кассио, Родриго.
И прежде всего – Яго. Он такой же человек Возрождения, как и Отелло. Это «человек, обязанный всем самому себе» (self made man), исповедующий тот официальный и в наши дни в буржуазном обществе идеал личности, который впервые прославили гуманисты Возрождения в своей этике «доблести» (virtù). «Быть таким или иным – зависит от нас самих, – учит Яго. – Наше тело – наш сад, а наша воля – садовник в нем. Захотим ли мы посадить там крапиву или посеять салат, тмин; захотим ли украсить этот сад одним родом трав или несколькими; захотим ли запустить его по бездействию или обработать с заботливостью – всегда сила и распорядительная власть для этого лежит в нашей воле».
Но если в образе благородного Отелло воплощено раскрепощение человеческой инициативы, которое принес с собой ренессансный переворот, то в циничном Яго выступает сопутствующий этому раскрепощению распад социальных связей, открытый эгоизм рождающейся капиталистической эры. Отрицательный герой трагедии представляет поэтому более опытное сознание этого общества, он лишен не только патриархальных предрассудков, но и гуманистической веры в благородство человека. В лице Яго индивидуализм Возрождения, осознав себя как принцип буржуазного «личного интереса», отказывается от наивного идеализирующего взгляда на человеческую природу.
Та, которая прекрасна и при этом не горда И, владея даром слова, не болтает никогда; Та, которая богата, но простые носит платья и т. д.Короче, замечает Яго, идеальная «женщина, действительно стоящая восхваления», «может быть пригодна лишь на то, чтобы выкармливать глупцов и записывать, сколько вышло пива в доме». Яго уже видит, что в итоге ренессансного переворота рождается не героическое, а мещанское общество и та сфера жизни, которая станет предметом бытового романа XVII–XVIII веков. В противоположность идеализирующему реализму Возрождения он настроен цинично:
Дездемона
А что ты написал бы, Когда б тебе пришлось меня хвалить?Яго
О добрая синьора, не просите Меня о том: я только и умею, Что осуждать.На простодушного и прямого Отелло, который судит о других по себе и верит в человеческое благородство, Яго смотрит как на «глупца».
У мавра такой простой и добрый нрав, Что честным он считает человеком Умевшего прикинуться таким. И за нос так водить его удобно, Как глупого осла.Сам Отелло вынужден признать перед смертью, что он был «глупец, глупец, глупец».
И поэтому он гибнет, опутанный замыслами Яго. Но и Яго – отрицательный вариант «свободной» натуры Возрождения – должен присутствовать при его смерти, связанный органами правосудия.
Большое, естественное чувство героя в антагонистическом мире «отъединившихся независимых атомов» превращает Отелло в слепое орудие «проклятого мерзавца». Принцип свободной жизни оказывается поэтому трагически несостоятельным. Доктрина Ренессанса в «Отелло» претерпевает кризис в результате объективных и субъективных причин: порочности общественных условий и донкихотской наивности самого героя.
Ведь если свобода выражается так, как у Отелло или Яго, – она нуждается во внешней узде. Если благородный герой не знает жизни, то общество должно в его же собственных интересах им руководить. Если страсти слепы (Отелло) или антисоциальны (Яго), то внешние нормы должны регулировать деятельность личности. Концепция свободной жизни Телемского аббатства Рабле, к которой Шекспир был так близок в период своих комедий, представляется теперь фантастической «сказкой в устах глупца» (как скажет перед смертью Макбет). Тем самым Шекспир приходит к регламентирующим принципам культуры XVII века. Эти принципы, однако, представлены в его ренессансной трагедии скорее как неизбежный логический вывод, чем как художественный образец нормальной достойной жизни, и его трагедия до конца выдержана в духе Возрождения.
В другом разрезе общая тема позднего Ренессанса выступает в «Короле Лире». Мир Лира, Корделии, Кента, Глостера и Эдгара – патриархальная, «веселая, старая Англия», наивная, беззаботная до распущенности. Гонерилья, надо полагать, не измышляет факты, укоряя своего отца в слишком свободном поведении его свиты.
Сто рыцарей здесь проживает с вами, Сто рыцарей шумливых и безумных, Готовых всякий день на пьянство, ссору И уж успевших честный наш дворец Своим примером превратить в таверну.Лир отстаивает принцип «излишков» и удовлетворения всех потребностей (своего рода выражение ренессансной «всесторонности»).
О, не суди о нуждах. Жалкий нищий Средь нищеты имеет свой избыток. Дай человеку то лишь, без чего Не может жить он, – ты его сравняешь С животным.Но Гонерилья требует ограничения свиты до пятидесяти человек, и шут, издеваясь над наивностью старого мира (к которому сам принадлежит), поет Лиру песенку:
Правды всей не болтай, Свой достаток скрывай, Денег в долг не давай Да людей узнавай… Меньше пей да гуляй, По гостям не порхай, — Вот тогда заживешь И удачу найдешь.Мир Лира простодушен и доверчив, как и Отелло.
Отец доверчив, брат мой прям по сердцу, Над этой глупой честностью не трудно Торжествовать, —замечает Эдмунд, аналог Яго. Лир наивен в своих представлениях о себе и об окружающих. Он отождествляет сущность характера с внешним проявлением, слово с чувством. В этом смысл завязки, знаменитой первой сцены, обнажающей слепоту Лира не только как отца, но и как «свободной» личности. Он проникнут безусловной верой в себя, он «король с головы до ног» и всегда останется и для окружающих королем. Ход действия показывает ему, что он король, лишь пока у него есть королевство. Трагедия, это ясно всякому непредубежденному зрителю, основана не на том, что Лир разделил свое королевство, а на том, что он его отдал, что он лишился своего «богатства». Королевство Лира как «государство» не играет решающей роли в его судьбе. Патриархальный Лир, король сказочного старого времени, напоминает раблезианского доброго короля Грангузье, которого Пикрохоль называет «мужиком»: Лир делит свое государство между дочерьми, как богатый крестьянин делит в сказке свое имущество (лучшая доля тому, кто удачно решит загадку). Лишь об этом трагическом заблуждении героя беспрестанно ему намекает своими репликами шут. Подобно самоуверенному Панургу, Лир полагает, что «человек стоит столько, во сколько сам себя ценит», но оказывается, что он стоит лишь столько, сколько имеет:
Для слепого року В голяках нет проку.Старый Лир, как герой сказки, играет своей судьбой, он уверен, что держит ее в руках. В духе характерных для эпохи Ренессанса рассуждений «о достоинстве человека», Лир считает, что человек сам «чертит границу своей деятельности» и определяет свое место в жизни. Но трагедия показывает, что пресловутые возможности человека – это всего лишь его имущество, что поведение «свободных людей», например Гонерильи, Реганы, Эдмунда, определено извне, их материальным состоянием. В большей степени, чем иная трагедия Шекспира, «Король Лир» – трагедия человеческого достоинства, крушение наивных, исторически незрелых представлений гуманизма о «беспредельных» возможностях человека. Именно в этой трагедии выступают те внешние пределы, которые капитализм поставил «свободной личности», независимо от ее внутренних возможностей, иллюзорность свобод в родившемся новом мире.
Но в «Лире», уже с самого начала трагедии (в отличие от «Отелло»), показано, как наивность и незнание жизни превращают свободу в произвол, а героя в самодура – «трагическая вина» короля Лира.
В «Макбете» мрачные краски наиболее сгущены. Как и в «Отелло», развитие образа протагониста начинается с героического момента веры в себя и свою судьбу. Но это лишь момент – и вслед за ним аффект сразу выдвигает на первый план антисоциальную и губящую героя сторону свободы. Начала Отелло и Яго в Макбете сливаются. «Прекрасное – бесчестно, бесчестное – прекрасно», – восклицают ведьмы в первой сцене. Нигде у Шекспира высокое и низкое, героизм и преступность, свободные, изнутри идущие стимулы деятельности и мрачный эгоизм страстей не сближены так, как в этой трагедии о «злодее с душой великой» (Белинский), о человеке, рожденном для значительных дел и отданном во власть враждебных сил, которые, коренясь в его натуре, как бы стоят за его плечами и превращают его независимость в иллюзию, в «сказку». Лишь поэтому судьба Макбета стоит для Шекспира в одном ряду с судьбой других протагонистов. Монолог Макбета -
Так догорай, огарок! Что жизнь? – Тень мимолетная, фигляр, Неистово шумящий на подмостках И через час забытый всеми, сказка В устах глупца, богатая словами И звоном фраз, но нищая значеньем, —выражает глубокое разочарование и самого Шекспира – художника Возрождения, для которого представление о нормальной жизни неотделимо от социальных условий, благоприятных для доблестных дел.
В «Тимоне Афинском» доминирующая тема позднего Возрождения уже выступает почти с гротескной обнаженностью. Наивная доверчивость Тимона в начале трагедии, его фантастическая идеализация окружающей жизни здесь на грани комического (Тимон уже близок Дон Кихоту Сервантеса). Но заявление Тимона, что «человек, дающий с тем, чтобы получить обратно, себя назвать не может давшим», родственно по духу рассуждению Панурга о долгах как «естественном состоянии». «Мы рождены для благотворения, – говорит герой Шекспира, – а что мы можем назвать своей полной собственностью, если не имущество наших друзей? О, какое драгоценное утешение заключается в мысли, что такое множество людей может, подобно братьям, располагать состоянием друг друга».
Под этим, пожалуй, подписался бы и беспечный мот Панург, которому Рабле вслед за Пантагрюэлем готов простить его шестьдесят три способа добывания денег, «из которых самым честным и самым обычным была простая кража», как и двести четырнадцать способов их растратить. Как ни далеки друг от друга эти два образа расточителей – забавный компаньон Пантагрюэля и трагический герой Шекспира, – в обоих случаях отношение автора к персонажу вытекает из концепции, в которой частная собственность еще не стала краеугольным камнем представлений о нормальной жизни, ее экономике и этике. Перед нами та идейная атмосфера, в которой еще за полвека до рождения Шекспира могла возникнуть необычайно популярная в эпоху Возрождения «Утопия» гуманиста Томаса Мора, наиболее последовательное выражение антикапиталистических тенденций гуманизма XVI века в теории, подобно тому как самым революционным в общественной практике было движение, возглавленное Т. Мюнцером.
Комизм рассуждения Панурга для Рабле, трагизм поведения Тимона для Шекспира – в неопровержимой естественности и человечности их антисобственнических принципов (в этом же для читателей XVI века философский интерес парадокса «Утопии»). Из истории благородного Тимона (как и из судьбы гордого Лира) Шекспир не извлекает урок бережливости и благоразумия, которые ему приписывает буржуазная критика XIX века. Жизнь всецело для людей и жизнь среди людей – несовместимы, и герой, проклиная общество, уходит в пустыню. Щедрость без меры – «доблесть» Тимона, ставящая его в ряд с героями других трагедий, – губит Тимона. В трагедии, завершающей весь цикл, утопия свободного самовыявления человека сталкивается с антигуманистической экономикой нового общества, где господствует нивелирующая власть собственности.
Мы можем теперь вернуться к трагедии, хронологически открывающей цикл величайших созданий Шекспира, – к «Гамлету». Тема «Гамлета» яснее раскрывается лишь в контексте всех трагедий Шекспира зрелого периода, по отношению к которым «Гамлет» является как бы прологом. Кризис гуманизма здесь выступает в постановке проблемы смысла свободной деятельности, – отсюда и центральное место этой трагедии в творчестве Шекспира и всего позднего Возрождения.
Придворная среда, враждебная герою, ее этикет, воплощением которого являются Полоний, Осрик, Розенкранц и Гильденстерн, представляют собой в частной и наиболее официальной форме новый абсолютистский порядок, торжество которого означало конец ренессансных представлений о жизни. Когда-то Гамлет верил, что человек «безграничен способностями», и был настроен не менее оптимистично, чем Отелло или Тимон в первых действиях трагедий. Теперь же он приходит к выводу, что у него «нет будущего». Но у Гамлета уже нет и настоящего. Его колебания объясняются пониманием того, что со смертью одного человека не меняется исторический порядок вещей: «Пусть живут все, кроме одного; остальные останутся тем, что они теперь». Отсюда и разочарование в жизни и мысли о самоубийстве еще до появления тени отца.
В «Гамлете», как и в других трагедиях, объективный метод Шекспира раскрывает наряду с внешними и внутренние причины кризиса гуманизма. Гамлет отягощен сознанием «вины» человека. Полонию он говорит: «Если обращаться с каждым по заслугам, кто же избавится от пощечины», а Офелии советует идти в монастырь: «Зачем рождать на свет грешников. Я достаточно честен. Однако я мог бы обвинить себя в таких грехах, что лучше бы мне на свет не родиться». Меньше всего Гамлет имеет здесь в виду свою вину перед тенью отца, невыполненный долг мести. Напротив, перечисляя свои «грехи» (грехи «всякого человека»), Гамлет замечает: «Я горд, я мстителен, я честолюбив». Это «грехи» мнимосвободных героев последующих трагедий Шекспира («Лира», «Отелло», «Кориолана», «Макбета»), страсти значительной, деятельной личности, их слепота и роковой исход в несвободном обществе. Гамлет уже сознает иллюзорность героически уравновешенного пантагрюэльски гармонического идеала: «Дай мужа мне, которого бы страсть не сделала рабом, – и я его укрою в души моей святейших недрах». Он берет под сомнение идеал человека – свободного творца своей судьбы. Отсюда бездействие героя, решающий поступок которого в развязке трагедии совершен в том же состоянии страсти, вызванной обстоятельствами, в состоянии аффекта.
Шекспир и в «Гамлете» приходит к осознанию закономерности враждебного ему принципа ограничения человека. Но его отношение к абсолютизму враждебное, и сентенция: «Вокруг короля такая дышит святость, что, встретясь с ним, измена забывает свой черный замысел» – саркастически вложена в уста ничтожного короля Клавдия.
В «Дон Кихоте» магистральная тема реализма Возрождения находит свое завершение. Роман Сервантеса, «величайшая сатира на человеческую восторженность» (Гейне), исторически является «сатирой» па учение Ренессанса о неограниченных возможностях человека. В отличие от Шекспира, тема человека, свободного творца своей судьбы, освещена в произведении Сервантеса уже в комическом плане. (Оттенок «донкихотства», однако, есть и в образах всех протагонистов Шекспира от Брута до Тимона; свободен от него только образ проницательного и потому бездействующего Гамлета. Это единственный среди трагедийных героев, который не хочет оказаться «донкихотом».) В великом испанском романе Маркс видел «эпос вымиравшего рыцарства, добродетели которого в только что народившемся мире буржуазии стали чудачествами и вызывали насмешки»[11]. Сервантес в более категорической форме, чем Шекспир, утверждает, что гуманистическая этика «доблести» во многом связана с полупатриархальными иллюзиями и временными преимуществами героической переходной эпохи, что основанное на этой концепции поведение лишено такта жизни и непрактично. Более того, автор «Дон Кихота» уже ясно различает между теми элементами ренессансных идей, которые, хотя и в урезанном виде, будут освоены формирующимся буржуазным сознанием (критика феодальных ограничений), – и собственно утопическими элементами (идеализация автономной личности). Сервантес юмористически противопоставляет их в образе своего героя как его «мудрость» и «безумие», которые на поверку обычно оказываются мудростью и безумием гуманистической утопии.
С точки зрения законченно собственнического общества и его классического формально-правового сознания, Дон Кихот – воплощение наивного «доправового» сознания старого мира. На этом основана вся история благородного идальго, поставившего себе целью защиту угнетенных, и весь трагикомизм его доблестных деяний. Встретив преступников, сопровождаемых конвоем, Дон Кихот считает своим человеческим и рыцарским долгом их освободить, ибо «эти люди идут на галеры по принуждению, а не по своей доброй воле». «Мне надлежит исполнить свой долг: искоренить насилие и оказать помощь и покровительство несчастным», – заявляет он, не обращая внимания на слова трезвого Санчо: «Правосудие, то есть сам король, не чинит насилие, а карает». Игнорируя в своем безумии органы порядка и законности, странствующий рыцарь обнаруживает здравый смысл старого общества, в котором право было основано на привилегии, на открытом насилии и которое поэтому было более свободно от пиетета перед формальным правом, чем абсолютистское и буржуазное общество, и меньше склонно было смешивать право со справедливостью. В духе морали старого общества герой Сервантеса противопоставляет насилию, чинимому на основе права, свое право на насилие, подсказанное простой человечностью и милосердием.
Но наивное поведение Дон Кихота в этом эпизоде симптоматично также и для переходной и уже завершившейся культуры Возрождения. Цинизм методов, откровенно изображенных в «Князе» Макиавелли, которыми создавалось и государство Нового времени, и капиталистическое хозяйство («внеэкономическое принуждение»), был и для современников слишком очевиден. Общественные нравы XV–XVI веков и гуманистические представления как отражение жизненного процесса еще в значительной мере свободны от позднейшего юридического идеализма. Трактовка суда у Рабле или в «Венецианском купце», рассуждения Лиpa («нет в мире виноватых») и Тимона («все в мире – вор») – достаточно показательны для отношения к праву и его органам в эпоху, когда «распалась связь времен».
Сервантес гротескно смешивает в образе своего героя черты старого мира и черты гуманизма, рыцарскую романтику и романтику Ренессанса, для которой уже не оказывается места в буржуазном обществе. Гуманистическая мудрость лишь усугубляет комизм «странствующего» рыцаря. Идеи, выдвинутые буржуазным прогрессом, уже звучат на фоне утвердившейся реальной практики и в устах «книжного» рыцаря как «донкихотские», книжные представления. Отсюда комически противоречивое положение, в которое попадает воинственный идальго, когда проповедует враждующим станам мир и прекращение междоусобиц, сам вооруженный с ног до головы. Даже идеал всесторонне развитого человека оказывается в этом романе добродетелью старого мира, гротескно воплощенной в рыцаре Дон Кихоте. Ибо, как мы узнаем, согласно «науке странствующего рыцарства», рыцарь обязан быть юристом, богословом, врачом, ботаником, астрологом, математиком, кузнецом, седельщиком и т. д., но уж никак не должен стать рабом разделения труда, подобно человеку в буржуазном обществе.
В образе Дон Кихота Сервантес показывает, что героическая, свободная жизнь не совместима ни с условиями средневекового, ни с условиями буржуазного общества. Дон Кихот – последний ренессансный герой: юмористическим рассказом о самом отважном, деятельном и благородном человеке, какого когда-либо видел мир, и самом смешном безумце заканчивается тема реализма Возрождения. Проникнутые верой в будущее, социальные утопии Возрождения выступают в романе испанского художника уже как тоска Дон Кихота по давно исчезнувшему «золотому веку»: «Люди, жившие тогда, не знали двух слов: твое – мое. В те святые времена все было общее». Оптимистическим девизом Панурга: «человек стоит столько, во сколько он сам себя ценит», девизом, который уже приобретает демонический характер в устах леди Макбет: «Решись – и нам удастся все», – руководствуется и Дон Кихот, но вера в неограниченные силы личности здесь всего лишь следствие безумного игнорирования объективных условий.
Изобретательный, практичный, обычно преуспевающий персонаж новеллы и «хитроумный идальго», изобретательный в сфере воображения, неудачник, – таковы две крайние точки в эволюции темы Возрождения. Изображение значительных деяний завершается изображением субъективного героизма великих устремлений. Дон Кихот, уподобляя себя Икару, утешается тем, что о нем скажут: «Великих дел он не свершил, но умер, к ним стремясь душою». Идеализирующее, но реалистическое сознание героев Рабле переходит в романтику идеалистического сознания Дон Кихота. Своим романом Сервантес не только завершает реализм Возрождения, но указывает роману Нового времени, родоначальником которого он является, одну из главных его тем: протест непрактичной личности против общественных условий, романтика субъективной жизни как обратная сторона «прозаического» существования человека в буржуазном обществе. Отсюда и огромное значение «донкихотской ситуации» для всей последующей литературы.
IV. Метод типизации
Отличие «антропологической» формы реализма Возрождения наглядно выступает при анализе образа и сюжета у Шекспира – вершины этого реализма.
Здесь прежде всего характерно соотношение личного и социального в образе героя. В трагедии «Гамлет» – наиболее политической драме Шекспира после хроник из английской и римской истории – коллизия, в которую поставлен герой, не является собственно политической коллизией (как, например, в «Генрихе IV» или «Юлии Цезаре»). Непосредственно Гамлет стоит перед чисто личной задачей: он должен отомстить за отца похитителю престола и восстановить свои законные права. Упрощенная «социологическая» трактовка трагедии как «борьбы за престол» не случайно имеет некоторую поддержку в самом шекспировском тексте. На вопрос Розенкранца о причинах меланхолии принца Гамлет отвечает: «Мне нельзя возвыситься» (нет будущего). А в ответ на возражение царедворца, что он по-прежнему является наследником, Гамлет приводит поговорку «Покуда травка подрастет». И не только Розенкранцу – врагу, которого он, возможно, желает сбить с толку, – но и единственному своему другу Горацию принц датский недвусмысленно заявляет: «Король ловко втерся между моими надеждами и избранием на престол».
Но когда мы наряду с этим читаем: «Время вывихнуто. О, проклятье, что я родился на свет, чтобы вправить его», – или сцену объяснения с Офелией, где герой говорит о своей «греховности», – трактовка «быть или не быть» в смысле «быть или не быть королем» уже исключена. Подобные мотивы никак не укладываются в рамки узких, чисто личных интересов Гамлета как «принца датского» и придворной «борьбы за престол». Индивидуальность героя, разрастаясь, переходит в воплощение исторического принципа, личное дело становится делом времени и общества.
Для психологии шекспировского героя и для метода типизации в реализме Возрождения крайне характерно такое разрастание личного до степени социального и общечеловеческого. Имогена в «Цимбелине», узнав о том, что муж приказал ее умертвить, восклицает:
О мой супруг! Через твое паденье Все стало злом, что носит вид добра… Так, Постум, ты всех чистых запятнал. Да, благородство, доблесть – ложь, измена, С тех пор, как пал ты.Такова же логика Гамлета, когда он говорит матери:
…Ты запятнала Стыдливый цвет душевной чистоты: Ты назвала изменой добродетель… …О, твой поступок Исторг весь дух из брачного обряда, В пустых словах излил всю сладость веры! Горит чело небес. Земли твердыня, При мрачной думе о твоих делах, Грустна, как в день перед судом последним.На этой чисто ренессансной логике отношения героя к миру и человеческому обществу основано и развитие страсти в «Тимоне Афинском», часто поражавшее критику психологическим «неправдоподобием».
У Рабле эта особенность образа в реализме Возрождения – уподобление личного всеобщему, переходящее в отождествление, – гротескно обнажена в двойственности главного мотива последних книг: Панург вместе с Пантагрюэлем и его свитой отправляется к оракулу Божественной Бутылки за советом, следует ли ему жениться. Но вместе с тем это путешествие – поиски принципов новой жизни и изложение «учения», которое «раскрывает высочайшие таинства и страшные мистерии как в том, что касается нашей религии, так и в области политики и экономики».
Отсюда поэтическая цельность образов Ренессанса, утраченная в классицизме и реализме XVII и XVIII веков.
Сознание героя Возрождения еще не поднялось до различения между общенародными (или государственными, корпоративными) судьбами и его личными интересами. Но именно поэтому последние еще не выступают как узкие частные интересы буржуа или как судьба маленького человека в позднейшем буржуазном реализме. Говоря о людях эпохи Возрождения, Энгельс отмечает: «… Что особенно характерно для них, так это то, что они почти все живут всеми интересами своего времени, принимают участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии… Отсюда та полнота и сила характера, которая делает из них цельных людей»[12]. Эта характеристика применима и к человеческому образу в искусстве Возрождения. Герой здесь также не отделяет своих личных интересов от интересов своего времени, как он их понимает, всем поведением демонстрируя полноту и силу своего характера. Но в этом сказывается не только доблесть, но и наивная незрелость сознания полупатриархального общества, и в частности примитивность его социально-политических представлений. Буйный Уорик, «делатель королей» (и любой иной образ феодала из шекспировских хроник), который по своей прихоти смещает династии, распоряжаясь страной и троном как своим имуществом, обнаруживает не меньшую «цельность» характера, чем любимый Шекспиром принц Гарри, будущий Генрих V, хотя и принадлежит к «иной партии» (в этом тайна симпатии Шекспира к цельным и мощным натурам отрицательных персонажей хроник – к Уорику, Ричарду III и др. – даже когда он осуждает их поступки).
Благодаря такому соотношению личного и социального в художественном типе вокруг главных образов часто возникает созвучный социальный фон как раскрытие глубины и перспективы темы – своего рода обоснование значительности судьбы героя. Сборники новелл Возрождения обычно обрамлены рассказом, где выведены сочувствующие героям новелл рассказчики и их слушатели. В «Дон Кихоте» параллель главному герою образуют авантюрные и безумствующие персонажи вставных эпизодов. В драме Шекспира социальный фон составляют шуты, слуги, народ.
По своей функции шекспировский «фон» близок античному хору, выражая народную оценку всенародных по значению поступков освобождающейся личности. Но если сравнительно с античным хором народный фон в драме Шекспира в большей мере включен в действие, то, с другой стороны, сама его роль здесь не всегда велика. Она значительнее в драмах на сюжеты из английской и римской истории – именно на них мастера позднейшей исторической драмы учились у Шекспира искусству изображения определяющей роли народа в истории. Но в трагедиях страстей участие фона в самой коллизии ослаблено и значение этого начала не выходит за пределы аккомпанемента к основной мелодии, выраженной в образе героя. В такой совершенной трагедии, как «Отелло», Шекспир обходится без созвучных протагонисту персонажей заднего плана, но народность основного образа от этого не умаляется.
«Гамлет» в этом смысле особенно показателен. «Фон» в «Гамлете» составляют не только часовые первой сцены первого акта, не только могильщики, соответствующие шутам в других драмах Шекспира, но и народ, незримо выступающий за сценой. Дважды в трагедии король Клавдий говорит о Гамлете, что он любим толпой. В комедии «Как вам это понравится?» Оливер замечает об Орландо: «Он любим всеми сословиями до безумия и действительно так пришелся по сердцу всем и в особенности моим людям, которые знают его лучше, чем кто бы то ни было, что через это они меня ставят ни во что». Индивидуальность протагониста, раскрываясь, как бы включает в себя народное начало мира шекспировской драмы, оттесняя фон на задний план и даже за сцену.
В гротеске Рабле, как всегда, обнажается и это своеобразие реализма Возрождения, на этот раз в виде реализованной метафоры. Его великан Пантагрюэль – не «представитель гуманизма», не один из гуманистов, а «гуманизм», гуманистическое человечество – и в то же время личность, определенный характер. Это целый мир со своими морями, скалами, городами, государствами. В одном эпизоде Пантагрюэль языком прикрывает всю свою армию, защищая ее от дождя, и у него во рту может упрятаться вся его свита, весь «фон» его романа.
Подобный метод типизации оправдан тем, что основной образ у Рабле и в трагедиях Шекспира – герой в первоначальном, прямом, эпическом, а не в позднейшем, переносном, литературно-техническом смысле слова. Таков Отелло, покоряющий сердце Дездемоны героической своей судьбой, таков Макбет, вызывающий судьбу «на смертный поединок», или Кориолан, даже внешность которого обрисована в «титанических» чертах; «От его жестоких взглядов виноград портится; сам же он ходит, как стенобитный таран: земля дрожит от его походки, взглядом он, кажется, пробьет панцирь; голос его словно колокол или бранные клики. Сидит он точно статуя Александра, будто бог какой, лишь без вечности, без трона на небе».
Художественный тип в идеализирующем реализме Возрождения – это герой, личность, взятая «на пределе» человеческой натуры. Гамлет, один противопоставленный целому обществу, или Дон Кихот, в котором воплощена целая уходящая культура, – наиболее характерные примеры типического в реализме Ренессанса. По своему историческому месту реализм Возрождения составляет переход от эпико-героического добуржуазного реализма к реализму буржуазного общества, а непосредственно – к литературе XVII–XVIII веков, в которой героика, отмеченная уже известной искусственностью, и реальный быт, изображаемый сатирически, противостоят как враждебные начала. Употребляя терминологию Джамбаттиста Вико, можно сказать, что в творчестве Рабле, Шекспира, Сервантеса отражается переход от «героического» века к «человеческому».
Этот переход совершается двояко. Прежде всего, художник в характеристике окружения, обычно противопоставленного герою, обнаруживает значительно большую «трезвость» и умеренность в идеализации, чем в характеристике главных персонажей. Противопоставление необычайной натуры героя обыденному окружению, испанскому обществу, последовательно проведено в «Дон Кихоте». В обрисовке окружения при этом развивается традиция бытового реализма, которая рождается еще в Позднее Средневековье и затем переходит к роману и комедии XVII–XVIII веков. Собственно, бытовая драма или бытовой роман еще не характерны для ренессансного реализма. Не случайно «Виндзорские проказницы» выделяются среди драм Шекспира, для которых более типично композиционно подчиненное место фальстафовской темы в «Генрихе IV», где и образ самого Фальстафа, соотнесенный с высоким политическим планом хроники, более значителен и колоритен. Лишь в испанском театре, который уже в лице Лопе де Вега столько же принадлежит Возрождению, сколько и искусству XVII века, бытовой элемент часто выдвигается на первый план.
Но и образ самого героя у Шекспира и Сервантеса уже свидетельствует о переходе к буржуазному реализму. В индивидуализме ренессансного героя отражается мир Возрождения, мир отъединившихся личностей. В отличие от героев эпоса, Гамлет, Отелло, Тимон и даже Дон Кихот действуют на свой страх и риск, руководствуясь лишь своими личными интересами. Они наделены поэтому резко очерченными характерами, с гораздо большей степенью индивидуализации, чем в эпосе или античной и средневековой драме. Но их борьба в защиту своего достоинства и за свои чувства против традиционных и новых ограничений в это время еще настолько принципиальна и значительна, что она превращает их личное дело в дело истории и придает их личной судьбе общечеловеческое звучание. При этом героичность образа зависит от того, с какой непримиримостью он отстаивает свое личное дело, свое чувство, свою страсть против хода буржуазного прогресса. Иначе говоря, личное дело Гамлета, Отелло, Лира, Тимона или Дон Кихота становится общим делом широкой демократии в той степени, в какой оно является делом подлинно свободной личности, независимой от норм буржуазных представлений. Именно бунт скитающегося по степи Лира против общества во имя своих естественных прав отца и человека приводит его к осознанию царящей в мире несправедливости социальной и родственности его судьбы с уделом всех угнетенных и экспроприированных, а поэтому и к уравнительным требованиям народных низов.
Связь реализма Возрождения с героической поэзией добуржуазного общества сказывается и в развитии сюжета.
Как мы видели, действие в шекспировских трагедиях начинается с «пантагрюэльского» положения уравновешенности героя, его веры в себя и в жизнь. Таков Отелло в первых двух актах, Лир в начале трагедии, Тимон (в котором это положение уже доведено до гротеска). Таков в исходном пункте трагедии и Макбет, о котором Дункан замечает: «Он истинно велик. Хвалить его – прямое наслаждение». Это еще герой, а не преступник. И леди Макбет верно определяет его натуру словами: «В тебе, я знаю, и гордость есть и жажда громкой славы, да нету зла – их спутника».
Но вот наступает завязка интриги, а за ней развитие страсти – и тут обнаруживается своеобразие «героической» психологии, которое определяет и ход действия.
Завязку в «Короле Лире», как уже отмечено выше, иногда находили недостаточно мотивированной и даже просто бессмысленной. Отец отрекается от любимой дочери, изгоняет ее – из-за недостаточно почтительного, как ему кажется, выражения чувств. Можно как угодно относиться к этой завязке, но нельзя отрицать того, что она типична для поведения шекспировского героя и характерна для метода Шекспира, когда он изображает возникновение страсти. Внешние мотивы (объективные причины интриги) в драме Шекспира непосредственно не играют решающей роли в обосновании поступков героя, а следовательно, в ходе действия; они опосредствованы психологией героической натуры (у Сервантеса на этом основано «донкихотство»). Ренессансный театр в этом отношении коренным образом отличается от последующего, и в частности от испанской драмы интриги и от рационалистической драмы классицизма, – «правда» шекспировского метода, как и его материал, иные, чем в искусстве XVII века.
Сопоставление драм ревности у Шекспира показывает, что он постепенно ослабляет роль обстоятельств в коллизии. Таких драм – если не считать пьес вроде «Троила и Кресиды», где мотив ревности имеет побочный характер, – у Шекспира четыре. Уже в комедии «Много шума из ничего» ревность Клавдио лишь следствие доверчивой и легко воспламеняющейся натуры. Но возникновение страсти здесь еще достаточно мотивировано обстоятельствами: герой вместе со своим другом присутствует при тайном ночном свидании, якобы назначенном его невестой сопернику накануне свадьбы. В «Отелло» доказательством измены Дездемоны служит уже только платок. Однако в обеих драмах большую роль еще играет клеветник, которому герои верят. В «Цимбелине» уже нет искусного интригана; герою достаточно простых уверений Иахимо, чтобы решиться, подобно Отелло, на убийство Имогены. И, наконец, в «Зимней сказке», хронологически последней из этих драм, уже нет никакого вмешательства посторонних лиц и никаких вещественных доказательств измены. Для того, чтобы в душе Леонта зародился аффект ревности, достаточно нескольких незначительных слов Гермионы. В известном смысле все эти драмы, как и «Король Лир», – но меньше других первая комедия ревности! – построены по принципу «много шума из ничего».
Сравним также трагедию «Цимбелин» с 9-й новеллой второго дня «Декамерона», откуда Шекспир заимствовал фабулу, чтобы еще раз убедиться в закономерном характере этой особенности шекспировского действия. Постуму, Имогене и Иахимо трагедии соответствуют Бернабо, Джиневра и Амброджиоло новеллы. Доказательств измены у Иахимо, как и у Амброджиоло, три: описание спальни, подарки героини, родимое пятно под грудью. Но Шекспир, во-первых, уменьшает количество подарков до одного браслета (у Боккаччо Амброджиоло показывает Бернабо кошелек, верхнее платье героини, несколько колец и поясов – целый набор всяких вещей). Во-вторых, и это главное, в новелле Боккаччо трезвый, рассудительный горожанин Бернабо не верит еще в измену жены на основании первых двух доказательств, вполне резонно возражая, что описание спальни можно было выведать у прислуги и с ее же помощью овладеть вещами; лишь после «родимого пятна» он вынужден сдаться. Напротив, в трагедии Шекспира третий аргумент по сути оказывается лишним. Уже после второго доказательства Постум убежден, что жена ему изменила: «Нет чести в красоте, нет верности в смирении наружном и нет любви, где есть другой мужчина». Напрасно Филарио успокаивает его: «Все это недостаточно, чтобы быть уверенным». Постум уже и слушать не хочет: «Нет, более ни слова! Она была его». (Только вслед за этим Иахимо приводит третье доказательство.) Затем – в духе «разрастания» частного до степени всеобщего – следует монолог героя: «Ужели без участия жены нельзя родиться! Все мы незаконны…» – и т. д.
Такова лишенная рефлексии «фантастика» свободного чувства, не связанного ничем, даже логикой. Чтобы вызвать «реакцию» у героя шекспировской трагедии, не требуется соответственно равного «раздражения». Правдивость анализа непосредственной страсти у Шекспира приводит к отказу от спокойного взвешивания резонов рассудочным купцом в наивной новелле Боккаччо. К реализму Шекспира неприменимы и нормы более рефлектированной психологии позднейшей драмы.
Лишь на почве реализма подобного рода и может возникнуть прямая фантастика такой драмы, как «Сон в летнюю ночь». Магическое воздействие цветка Оберона, которым мотивируется зарождение чувств и их переходы в этой драме, – юмористическая интерпретация свободной натуры героев, подобно тому как сказочные ведьмы «Макбета» символизируют трагически раскованную демоническую страсть свободной личности[13].
Но Деметрий и Лизандр из «Сна в летнюю ночь» сродни другим шекспировским героям, в душе которых с такой же сказочной быстротой возникает и развивается чувство любви, гнева, ревности или мести. Так же быстро происходит перелом во взглядах Тимона, Анджело или Уорика, который ряд лет упорно защищает династию Йорков, а затем мгновенно переходит на сторону Ланкастеров. Таково же развитие страсти в «Кориолане», и слова Сициния по поводу Кориолана: «можно ли подумать, что человек так меняется в короткое время» – применимы ко всем шекспировским героям.
Эстетика классицизма имела поэтому основания отвергать театр Шекспира за «нецивилизованность» его героев и «некультурность» художественного метода. С неменьшими основаниями последующий литературный период усматривает в героях Шекспира образец естественности, а в методе Шекспира – норму реализма в изображении «природы» и правды человеческих страстей.
Идеализация человека у Шекспира еще чужда противопоставлению культуры, достоинства – правде безыскусственного выражения чувств. Отсюда обычные в реализме Возрождения и у Шекспира положения, которые позднейшему художественному вкусу могут показаться невероятными. Например, в «Генрихе VI» мальчик Ретленд молит убийцу Клиффорда о пощаде в прекрасных выражениях, которые сделали бы честь любому оратору:
Так заключенный лев глядит на жертву, Которая трепещет в хищных лапах. Так ходит он, глумяся над добычей, Так растерзать готовится ее… и т. д. (Часть III, д. I, с. 3)Уже заколотый, он умирает, и предсмертные его слова – стих из Овидия: Di faciant, laudis summa sit ista tuae (Пусть боги это сделают высшей для тебя хвалой).
Удивительное поведение мальчика здесь обусловлено тем же методом идеализации, что и героическое безумие Дон Кихота, фанатически постоянного в своих взглядах, независимого от обстоятельств и многократного опыта. На этой же правде натуры, обнаруживающей большие возможности, основана и метафорически насыщенная речь Отелло, Лира, Макбета, когда они пребывают в состоянии повышенного эмоционального возбуждения (Л. Толстому она представлялась предельно вычурной). Иногда язык героев Шекспира, как и выражение чувства в лирике, слагается в законченные художественные формы: дуэт в начале V действия «Венецианского купца», квартет во второй сцене V действия «Как вам это понравится?».
Во второй из этих драм есть одно исключительное для шекспировского театра положение. Розалинда награждает Орландо, победителя на состязании, цепью со своей шеи, выражая ему свое восхищение. Она ждет ответа, но влюбленный Орландо растерян и не в силах вымолвить ни слова. Он затем упрекает себя:
Каким Волненьем мой язык так сильно скован! С ней говорить не мог я, а она Настойчиво на это вызывала.В начале следующей сцены Розалинда делится своим горем с Целией: «Ни одного слова, чтобы бросить собаке». Орландо действительно здесь ведет себя необычно для героя литературы Возрождения (сдержанность Корделии в первой сцене вызвана совсем иными причинами), он скорее похож на влюбленного в литературе XIX–XX века. Героиня имеет все основания возмущаться его поведением.
Где же «психологическая правда» – в поведении Орландо или в поведении Ромео и прочих шекспировских героев? Выражает ли себя подлинное чувство в тривиальных выражениях, смущенном лепете и бессильном молчании – или, наоборот, оно находит богатую, выразительную форму, адекватную содержанию, – это частный вопрос общей проблемы возможностей чувства, возможностей человека, «правды» его изображения – основной проблемы в истории «открытий человека» в искусстве.
Здесь критический реализм буржуазного общества и идеализирующий героический реализм Возрождения неизбежно расходятся.
Эразм Роттердамский и его «Похвальное слово Глупости»
I
Для современного читателя знаменитый нидерландский гуманист Эразм Роттердамский (1469–1536) фактически писатель одной книги – бессмертного «Похвального слова Глупости». Даже его «Домашние беседы», любимая книга многих поколений, потускнели с ходом времени, потеряли свою былую остроту. Десять томов его собрания сочинений, выпущенных еще в начале XVIII века, больше не переиздаются, и к ним обращаются только специалисты, изучающие культуру Возрождения и Реформации, гуманизм, во главе которого стоял автор «Похвального слова Глупости». В наше время Эразм Роттердамский – более знаменитый, чем известный писатель.
Но такими же «писателями одной книги», несмотря на разностороннюю литературную и научную деятельность, остались для потомства и другие великие современники Эразма – корифей английского гуманизма Мор и французского – Рабле. Время – лучший критик – не ошиблось в своем отборе. Причина такого рода литературной судьбы – в особом характере мысли гуманистов Возрождения. Им присуще живое чувство глубокой взаимосвязи различных сторон жизненного процесса, та цельность взгляда на мир, когда творческая мысль не может ограничить себя одним уголком действительности, изображением одной ее стороны, но стремится дать картину всего общества, разрастаясь в своего рода энциклопедию современной культуры. Отсюда «универсальный» жанр таких произведений, как «Неистовый Роланд» Ариосто в итальянской литературе XVI века, «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле – во французской, «Дон Кихот» Сервантеса – в испанской, а в гуманистической литературе Англии «Утопия» Т. Мора, где в противовес современной жизни дано всестороннее изображение идеального строя. Мы называем эти произведения поэмой, романом или сатирой, хотя каждое такое произведение слишком синтетично, своеобычно и, подобно «Божественной комедии», составляет свой особый жанр. Литературная форма здесь обычно условна, фантастична или гротескна, на ней сказывается авторское стремление выразить все, передать весь опыт времени через индивидуальное преломление. Такое произведение, одновременно эпохальное и глубоко индивидуальное, как бы конденсирует в себе одном все творчество писателя во всем его своеобразии и, сливаясь для потомства с именем творца, заслоняет все остальное его наследие.
Но для современников Эразма каждое его произведение было большим событием в культурной жизни Европы. Современники прежде всего ценили его как ревностного популяризатора античной мысли, распространителя новых «гуманитарных» знаний. Его «Adagia» («Поговорки») – собрание античных поговорок и крылатых слов, с которым он выступил в 1500 году[14], – имели огромный успех. По замечанию одного гуманиста, Эразм в них «разболтал тайну мистерий» эрудитов и ввел античную мудрость в обиход широких кругов «непосвященных». В остроумных комментариях к каждой сентенции или выражению (напоминающих позднейшие знаменитые «Опыты» М. Монтеня), где Эразм указывает те случаи жизни, когда их уместно применить, уже сказывались ирония и сатирический дар будущего автора «Похвального слова». Уже здесь Эразм, в духе итальянских гуманистов XV века, противопоставляет выдохшейся средневековой схоластике живую античную мысль, ее пытливый, независимый дух. Сюда же примыкают его «Ароphthegmata» («Краткие изречения», 1531), его работы по стилистике и поэтике, а также издания сочинений Сенеки (1515), Светония (1518), «Естественной истории» Плиния (1525), Аристотеля (1531), Тита Ливия (1531), Демосфена (1532), Теренция (1532) и Птолемея (1533). До 1500 года греческий язык не преподавался ни в одном из учебных заведений Западной Европы, и Эразм, который изучил его самостоятельно, перевел с греческого на латынь – международный язык науки XVI века – произведения Плутарха, Лукиана, Ксенофонта, Исократа и Либания, а также две драмы Эврипида. Эразм отстаивал широкое светское образование – не только для мужчин, но и для женщин – и требовал реформы школьного обучения.
Его политическая мысль, воспитанная на традиции античного свободолюбия, проникнута отвращением ко всяким формам тирании, и в этом отвращении легко узнается Эразм из Роттердама, связанный с культурой нидерландских городов, веками отстаивавших свою независимость. Основной политический трактат Эразма «Христианский Государь» появился в том же 1516 году, что и «Утопия» Т. Мора, и через два года после того, как Макиавелли закончил своего «Князя». Это три основных памятника социально-политической мысли эпохи, однако весь дух трактата Эразма прямо противоположен концепции Макиавелли. Эразм требует от своего государя, чтобы он правил не как самодержец, а как слуга народа и рассчитывал на любовь, а не на страх, ибо страх перед наказанием не уменьшает преступлений. Воли монарха недостаточно, чтобы закон стал законом. Эразм не скрывает своего отрицательного отношения к «мусульманскому деспотизму» испанского государства и засилию военщины. В век нескончаемых войн Эразм, возведенный в ранг «советника империи» Карлом V (для которого он и написал своего «Христианского Государя»), неустанно борется за мир между государствами Европы. Его антивоенная «Жалоба Мира» (переведенная известным французским гуманистом Луи де Беркеном) была в свое время запрещена Сорбонной, но в наши годы появилась в новых французском и английском переводах послевоенных лет. В целом политическая мысль Эразма – и это показательно для гуманизма Возрождения, – несмотря на надежды, возлагаемые на реформы сверху, далека от позднейшего идеала просвещенного абсолютизма. Эразм отстаивает широкую местную автономию городов и областей – по нидерландскому образцу – под эгидой императорской власти.
В XVI–XVIII веках читатели особенно ценили также религиозно-этический трактат Эразма «Руководство христианского воина» (1504), переведенный на ряд европейских языков, в том числе и на русский в 1783 году. Здесь, как и в ряде других произведений, посвященных вопросам нравственности и веры, Эразм борется за «евангельскую чистоту» первоначального христианства, отвергая «языческое» поклонение святым и культ обряда, осмеивая суеверие и формализм предписаний «внешнего христианства», – то, что составляло основу могущества католической церкви. Признавая существенным для христианства лишь «дух веры», а не ритуал, Эразм вступает в противоречие с ортодоксальной теологией. Богословские работы Эразма вызывали поэтому самые страстные и ожесточенные споры и давали противникам немало поводов обвинять его во всех ересях.
Главным трудом своей жизни Эразм считал исправленное издание греческого текста Нового завета (1516) и его новый латинский перевод. Этим тщательным филологическим трудом, в котором текст Священного Писания освобожден от вкравшихся на протяжении веков ошибок и произвольных толкований, Эразм нанес удар авторитету церкви и принятого ею канонического латинского текста Библии (так называемой Вульгаты). Еще существеннее то, что в комментариях к своему переводу и в так называемых «парафразах» – толкованиях книг Священного Писания – Эразм применял научные методы исторической критики, указывал на связь Библии с древнееврейскими нравами и придерживался прямой интерпретации вместо аллегорического или казуистического толкования, присущего схоластам. Подвергая сомнению аутентичность отдельных книг и выражений и обнажая противоречия текста, он подготавливал почву для позднейшей рационалистической критики Библии.
Эразм оспаривал авторитеты позднесредневековой схоластики и в противовес им неустанно издавал труды первых отцов Церкви. Восстановление девяти томов сочинений св. Иеронима стоило Эразму, по его собственному замечанию, больше труда, чем автору их написать. Это возвращение к первоисточникам было формой движения вперед, как любил говорить Гегель, так как множило в умах сомнение в бесспорности установленных догм, относительно которых, как оказывалось, колебались сами отцы Церкви. Но тем самым Эразм обосновывал принцип самой широкой терпимости в вопросах веры, которые – за исключением немногих самых общих положений – должны были, по его мнению, стать частным делом убеждений каждого верующего, делом его свободной совести и разумения. Призывая своих последователей переводить Библию на новые языки и оставляя за каждым верующим право самому разобраться в Священном Писании, как единственном источнике веры, Эразм здесь, как и в изучении античности, открывал, по его собственному выражению, «доступ в святую святых всякому рядовому христианину, а не только первосвященникам» теологии.
Но это было – вольным или невольным – подкопом под устои единой, монолитной, «соборной» церкви. «Очищенная» от язычества «внешнего христианства», обоснованная филологическим анализом, новая теология Эразма объективно расчищала путь деизму и вела к отказу от всякой догматики. Неудивительно, что в «эразмизме», осужденном церковью уже в XVI веке, католические и протестантские теологи находили и арианскую ересь (отрицание божественности Христа) и пелагианство (сомнение в спасении верой, в роли благодати). И хотя сам Эразм вполне искренне отстаивал свою христианскую ортодоксию, его убеждение в бесплодности изощренных словопрений, его равнодушие к неразрешенным противоречиям триединства, к спорам о пресуществлении, о спасении верой или добрыми делами, его ирония по адресу всяких окончательных и общеобязательных суждений в подобных вопросах – все это сеяло в умах скепсис и подрывало основы церкви и христианства в целом.
Влияние Эразма на современников было огромным. Его иногда сравнивают с влиянием Вольтера в XVIII веке. Лучше всех других гуманистов Эразм оценил могучую силу книгопечатания, и его имя неразрывно связано с такими известными типографами XVI века, как Альд Мануций, Фробен, Бадий. С помощью печатного станка – «почти божественного инструмента», как его называл Эразм, – он выпускал в свет одно произведение за другим и благодаря личным связям с гуманистами всех стран (о чем свидетельствуют одиннадцать томов недавно законченного собрания переписки)[15] руководил некоей «республикой гуманитарных наук», прообразом позднейшего просветительного движения в XVIII веке во главе с Вольтером. И только поэтому Эразм мог устоять в борьбе с целой армией монахов и теологов, неизменно проповедовавших против него и отправлявших на костер его последователей.
Всей своей деятельностью, в особенности начиная с 1511 года, когда появляется его «Похвальное слово Глупости», Эразм способствовал тому, что в его время «духовная диктатура церкви была сломлена» (Энгельс). В германских странах XVI века это сказалось прежде всего в возникновении протестантства. Поэтому когда в Германии вспыхнула Реформация (1517), ее сторонники были уверены, что Эразм выступит в ее защиту и своим европейским авторитетом укрепит реформаторское движение.
Эразм несколько лет уклонялся от прямого ответа на этот волновавший современников вопрос. Но наконец он решительно разошелся с Лютером (1524), заняв в религиозных распрях нейтральную позицию, которую сохранил до конца дней. За это он навлекает на себя обвинение в измене делу веры и насмешки как со стороны католиков, так и протестантов. В позиции Эразма впоследствии часто усматривали только нерешительность и недостаток смелости. Несомненно, личные качества Эразма, на которые наложили отпечаток условия его рождения и обстоятельства жизни, сыграли здесь известную роль. Незаконнорожденный сын бюргера, «бастард», к тому же по сути беглый монах, скитавшийся по чужим странам, Эразм был вынужден соблюдать дипломатическую осторожность, а как бюргер по происхождению и связям, он питал отвращение к насилию. Но также несомненно, что идеалы Лютера, гораздо теснее связанного со схоластическим богословием, и Эразма были слишком различны даже в вопросах реформы церкви, а тем более в общих вопросах культуры и понимания жизни.
Об этом свидетельствует появившееся еще до выступления Лютера «Похвальное слово Глупости», где свободная мысль гуманизма далеко выходит за пределы узкой тенденции протестантства.
II
Со слов самого Эразма мы знаем, при каких обстоятельствах возник замысел «Похвального слова Глупости».
Летом 1509 года он покинул Италию, где провел три года, и направился во второй раз в Англию, куда его приглашали друзья, так как им казалось, что в связи с восшествием на престол короля Генриха VIII открываются широкие перспективы для расцвета новых гуманитарных наук.
Эразму уже исполнилось сорок лет. Два издания «Поговорок», трактат «Руководство христианскому воину», переводы Эврипида доставили ему европейскую известность, но его материальное положение оставалось по-прежнему шатким (пенсии, которые он получал от двух меценатов, выплачивались крайне нерегулярно, а к этому времени почти совсем прекратились). Однако скитания по городам Франции, Фландрии и Англии и в особенности годы пребывания в Италии расширили его кругозор и освободили от педантизма и кабинетной учености раннего германского гуманизма. Он не только изучил рукописи богатых итальянских книгохранилищ, но и увидел жалкую изнанку пышной культуры Италии начала XVI века. Гуманисту Эразму приходилось то и дело менять свое местопребывание, спасаясь от междоусобиц, раздиравших страну, от соперничества городов и сеньорий, от войны между папским Римом и вторгшимися в Италию французами. В Болонье, например, он был свидетелем того, как воинственный папа Юлий II в военных доспехах, сопровождаемый кардиналами, въезжал после победы над противником через брешь стены в город, подражая римским цезарям, – и это зрелище, столь не подобающее сану наместника Христа, вызвало у Эразма скорбь и отвращение. Впоследствии он недвусмысленно зафиксировал эту сцену в своем «Похвальном слове» в конце главы о верховных первосвященниках.
Впечатления от пестрой ярмарки «повседневной жизни смертных», где приходилось выступать в роли наблюдателя и «смеющегося» философа Демокрита, теснились в душе Эразма во время переезда через Альпы по пути в Англию, чередуясь с картинами предвкушаемой встречи с английскими друзьями – Т. Мором, Фишером и Колетом. Эразм вспоминал свою первую поездку в Англию двенадцать лет перед этим, научные споры, беседы об античных писателях и шутки, которые так любил его друг Томас Мор.
Так возник необычайный замысел этого произведения, где непосредственные наблюдения современной жизни как бы пропущены через призму античных реминисценций. Чувствуется, что госпожа Глупость, произносящая автопанегирик, уже читала «Поговорки», вышедшие за год до этого новым расширенным изданием в знаменитой типографии Альда Мануция в Венеции.
В доме Т. Мора, где Эразм остановился по приезде в Англию (в начале февраля 1510 г.) и ждал прибытия своих книг, за несколько дней, почти как импровизация, было написано это вдохновенное и самое яркое произведение Эразма. «Мория родилась подобно ее мудрой сестре Минерве-Палладе»[16]: она вышла во всеоружии из головы своего отца.
Как и во всей гуманистической мысли и во всем искусстве эпохи Возрождения, той ступени развития европейского общества, которая отмечена огромным влиянием античности, в «Похвальном слове Глупости» встречаются и органически сливаются две традиции – и это видно уже с заголовка книги.
С одной стороны, сатира написана в форме «похвального слова» (греч. «энкомион»), которую культивировали античные писатели, Гуманисты возродили эту форму и находили ей довольно разнообразное применение. Иногда их к этому толкала зависимость от меценатов, и сам Эразм не без отвращения, как он признается, написал в 1504 году такой панегирик Филиппу Красивому, отцу будущею императора Карла V. Искусственность этих льстивых упражнений античной риторики – «нарумяненной девки», как ее называл в древности Лукиан, – вызвала еще в поздней софистике жанр пародийного похвального слова, образец которого оставил нам, например, тот же Лукиан («Похвальное слово мухе»). К жанру иронического панегирика – наподобие известного в свое время «Похвального слова подагре» нюрнбергского друга Эразма В. Пиркхеймера – внешне примыкает и «Похвальное слово Глупости».
Но гораздо более существенно влияние Лукиана – великого насмешника, прозванного «Вольтером древности», – на универсально критический дух этого произведения. Лукиан был самым любимым писателем гуманистов Возрождения, и Эразм, его почитатель, переводчик и издатель, заслужил у современников репутацию нового Лукиана, что означало для одних остроумного врага предрассудков, для других – опасного безбожника. Эта слава закрепилась за ним после опубликования «Похвального слова» (1511).
С другой стороны, «Глупость, царящая над миром», не случайный предмет восхваления, как обычно в шуточных панегириках. Сквозной линией эта тема проходит через поэзию, искусство и народный театр XV–XVI веков. Любимое зрелище позднесредневекового и ренессансного города – это карнавальные «шествия дураков», «беззаботных ребят» во главе с Князем Дураков, Папой Дураком и Дурьей Матушкой, процессии ряженых, изображавших Государство, Церковь, Науку, Правосудие, Семью, как сборище плутов, лицемеров и глупцов. Девиз этих игр – «Число глупцов неисчислимо». Во французских соти («дурачествах»), голландских фарсах или немецких «фастнахтшпилях» (масленичных играх) царила богиня Глупости: глупец и его собрат шарлатан представляли в различных обличиях все разнообразие жизненных положений и состояний. Весь мир «ломал дурака».
Эта же тема проходит и через всю литературу эпохи Возрождения. В 1494 году вышла поэма «Корабль Дураков» немецкого писателя Себастьяна Бранта – замечательная сатира, имевшая громадный успех и переведенная на ряд языков (в латинском переводе 1505 года – за пять лет до создания «Похвального слова Глупости» – ее мог читать Эразм). Эта коллекция свыше ста видов глупости по энциклопедической форме уже напоминает произведение Эразма. Но сатира Бранта еще полусредневековое, чисто дидактическое произведение. Намного ближе к «Похвальному слову» тон свободной от морализации жизнерадостной народной книги «Тиль Эйленшпигель» (1500). Ее герой под видом дурачка, буквально исполняющего то, что ему говорят, проходит через все сословия, через все социальные круги, насмехаясь над всеми слоями современного общества. Эта книга уже знаменует рождение нового мира. Мнимая глупость Тиля Эйленшпигеля только обнажает царящую над жизнью Глупость – патриархальную ограниченность и отсталость сословного и цехового строя. Узкие рамки этой жизни уже тесны для лукавого и жизнерадостного народного героя.
Гуманистическая мысль, провожая уходящий мир и оценивая рождающийся новый, в своих самых живых и великих созданиях часто приближается к этой «дураческой» литературе, и не только в германских странах эпохи Реформации, но и во всей Западной Европе. В великом произведении Рабле мудрость одета в шутовской наряд. По совету шута Трибуле пантагрюэльцы отправляются за разрешением всех своих сомнений к оракулу Божественной Бутылки, ибо, как говорит Пантагрюэль, часто «иной дурак и умного научит»[17]. Мудрость «Короля Лира» выражает шут этой трагедии, а сам герой лишь тогда, когда впадает в безумие. В романе Сервантеса идеалы старого общества и мудрость гуманизма причудливо переплетаются в голове полубезумного идальго.
Конечно, то, что разум вынужден выступать под шутовским колпаком с бубенчиками – отчасти дань сословно-иерархическому обществу, где критическая мысль должна скрывать свое жало под маской шутки или забавного развлечения, чтобы «истину царям с улыбкой говорить». Но эта форма мудрости имеет и более глубокие корни в конкретной исторической почве и идейной атмосфере переходной эпохи.
Для народного сознания периода «величайшего прогрессивного переворота, пережитого до того человечеством», не только многовековая мудрость прошлого теряет свой авторитет, поворачиваясь «глупой» своей стороной, но и складывающаяся буржуазная культура еще не успела стать привычной и естественной. Откровенный цинизм внеэкономического принуждения эпохи первоначального накопления (вспомним близкую во многих отношениях «Похвальному слову Глупости» «Утопию» Т. Мора, опубликованную через пять лет после «Похвального слова»), разложение естественных связей между людьми представляется народному сознанию, как и гуманистам, тем же царством «неразумия»[18]. Глупость царит над прошлым и будущим. Современная жизнь – их стык – настоящая ярмарка дураков. Но и природа и разум также должны – если хотят, чтоб их голос был услышан, – напялить на себя шутовскую маску. Так возникает тема «Глупости, царящей над миром». Она означает для эпохи Возрождения здоровое недоверие ко всяким отживающим устоям и догмам и критическое отношение к новым веяниям, насмешку над косностью старого мира и равно над претенциозным доктринерством нового общества как залог свободной социальной мысли.
В центре этой литературы «дураческой» темы, как ее наиболее значительное обобщение в лукиановской литературной форме иронического «похвального слова», стоит книга Эразма. Не только своим содержанием, но и манерой освещения она передает колорит своего времени и его угол зрения на жизнь.
III
Композиция «Похвального слова» отличается внутренней стройностью, несмотря на некоторые отступления и повторения, которые разрешает себе Мория, выкладывая в непринужденной импровизации, как и подобает Глупости, то, «что в голову взбрело». Речь открывается большим вступлением, где Глупость излагает тему и представляется аудитории. За этим следует первая часть, доказывающая ее «общечеловеческую», универсальную власть, коренящуюся в самой основе жизни и в природе человека. Вторую часть составляет описание различных видов и форм Глупости в обществе от низших слоев народа до высших кругов знати. За этими основными частями, где дана картина жизни, как она есть, следует заключительная часть, где идеал блаженства – жизнь, как она «должна» быть согласно христианскому вероучению, – оказывается также лишь высшей формой безумия вездесущей Мории[19].
Для новейшего читателя, отделенного от аудитории Эразма веками, наиболее живой интерес, вероятно, представляет первая часть «Похвального слова», покоряющая неувядаемой свежестью парадоксально заостренной мысли и богатством тонких оттенков. Глупость неопровержимо доказывает свою власть над всей жизнью и всеми ее благами. Все возрасты и все сословия, все чувства и все интересы, все формы связей между людьми и всякая достойная деятельность обязаны ей своим существованием и своими радостями. Она основа всякого процветания и счастья. Что это – в шутку или всерьез? Невинная игра ума для развлечения друзей или пессимистическое «опровержение веры в разум»? Если это шутка, то она, как сказал бы Фальстаф, зашла слишком далеко, чтобы быть забавной. С другой стороны, весь облик Эразма не только как писателя, но и как человека – общительного, снисходительного к людским слабостям, хорошего друга и остроумного собеседника, человека, которому ничто человеческое не было чуждо, любителя хорошо поесть и энтузиаста знаний, – весь облик этого гуманиста, во многом как бы прототипа Пантагрюэля Рабле[20], исключает безрадостный взгляд на жизнь как на сцепление глупостей, где мудрецу остается только, по примеру Тимона, бежать в пустыню (гл. 25).
Сам автор – в предисловии и в позднейших письмах – на этот вопрос дает противоречивый и уклончивый ответ, полагая, очевидно, что sapienti sat – «мудрому достаточно», и читатель сам в состоянии разобраться. Но если кардиналы забавлялись чтением «Похвального слова» как шутовской выходкой, а папа Лев X с удовольствием отмечал: «Я рад, что наш Эразм тоже иногда умеет дурачиться», – то некоторые схоласты сочли нужным выступить в «защиту» разума, доказывая, что раз Бог создал все науки, то «Эразм, приписывая эту честь Глупости, кощунствует». В ответ Эразм иронически посвятил одному из этих «защитников разума» – некоему Пьеру Ле Куртурье – две апологии. Даже среди друзей кое-кто советовал Эразму для ясности написать «палинодию» (защиту противоположного тезиса) типа «Похвалы Разуму» или «Похвалы Благодати»… Не было недостатка, разумеется, и в читателях, вроде Т. Мора, оценивших юмор мысли. Любопытно, что и новейшая буржуазная критика на Западе стоит перед этой дилеммой, но в соответствии с реакционным истолкованием культуры гуманизма и Возрождения, характерным для модернистских работ, «Похвальное слово Глупости» все чаще интерпретируется в духе христианской мистики и прославления иррационализма[21].
Однако заметим, что эта дилемма никогда не существовала для непредубежденного читателя, который всегда видел в произведении Эразма под лукавой пародийной формой защиту жизнерадостного свободомыслия, направленную против невежества, во славу человека и его разума. Именно поэтому «Похвальное слово Глупости» и не нуждалось в дополнительной «палинодии» типа «Похвалы Разуму»[22].
Через всю первую «философскую» часть речи проходит сатирический образ «мудреца», и характеристика этого антипода Глупости оттеняет основную мысль Эразма. Отталкивающий и дикий внешний вид, волосатая кожа, дремучая борода, облик преждевременной старости (гл. 17). Строгий, глазастый, на пороки друзей зоркий, в дружбе пасмурный, неприятный (гл. 19). На пиру угрюмо молчит и смущает неуместными вопросами. Одним своим видом портит публике всякое удовольствие. Если вмешается в разговор, напугает собеседника не хуже, чем волк. Если надо что-либо купить или сделать – это тупой чурбан, ибо он не знает обычаев. В разладе с жизнью рождается у него ненависть ко всему окружающему (гл. 25). Враг всякой чувствительности, некое мраморное подобие человека, лишенное всех людских свойств. Не то чудовище, не то привидение, не знающее ни любви, ни жалости, подобно холодному камню. От него якобы ничто не ускользает, он никогда не заблуждается, все взвешивает по правилам своей науки, все знает, всегда собой доволен, один он свободен, он – все, но лишь в собственных помышлениях. Все, что случается в жизни, он порицает, словно безумие. Не печалится о друге, ибо сам никому не друг. Вот он каков, этот совершенный мудрец! Кто не предпочтет ему последнего дурака из простонародья (гл. 30) и т. д.
Это законченный образ схоласта, средневекового кабинетного ученого, загримированный согласно литературной традиции этой речи – под античного мудреца-стоика. Это рассудочный педант, ригорист и доктринер, принципиальный враг человеческой природы. Но с точки зрения живой жизни его книжная обветшалая мудрость – скорее абсолютная глупость.
Все многообразие конкретных человеческих интересов никак не сведешь к одному только знанию, а тем более к отвлеченному, оторванному от жизни книжному знанию. Страсти, желания, поступки, стремления – прежде всего стремление к счастью как основа жизни – более первичны, чем рассудок. И если рассудок себя противопоставляет жизни, то его формальный антипод – глупость – совпадает со всяким началом жизни. Эразмова Мория есть поэтому сама жизнь. Она синоним подлинной мудрости, не отделяющей себя от жизни, тогда как схоластическая «мудрость» – синоним подлинной глупости.
Речь Мории в первой части внешне как бы построена на софистической подмене абстрактного отрицания конкретной противоположностью: страсти не есть разум, желание не есть разум, счастье не то, что разум, следовательно это неразумное, то есть глупость (по приему «не белое, следовательно черное»). Мория пародирует софистику схоластических аргументаций. Но здесь заключена и более глубокая ирония: догматическая «мудрость», воюя с жизнью, превращает все начала в свою противоположность. Мория, якобы поверив «тупому чурбану», «некоему мраморному подобию человека», что он и есть подлинный мудрец, а вся жизнь человеческая не что иное, как забава Глупости (гл. 27), попадает в заколдованный круг известного софизма о критянине, который утверждал, что все жители Крита – лгуны. Так же, как через сто лет это положение повторяется в первой сцене шекспировского «Макбета», где ведьмы выкрикивают: «Прекрасное – бесчестно, бесчестное – прекрасно» (трагический аспект той же мысли Эразма о страстях, царящих над человеком). Доверие к пессимистической «мудрости» и здесь и там подорвано уже самым рангом этих прокуроров человеческой жизни. Чтобы вырваться из этого заколдованного круга, надо отбросить формалистическую логику рассуждения («не рассудочное, следовательно неразумное, глупое») или – что то же самое – сомнительный исходный тезис, где «мудрость» противопоставляет себя «неразумной» жизни.
Мория первой части – это сама Природа, которой нет нужды доказывать свою правоту «крокодиллитами, соритами, рогатыми силлогизмами и прочими диалектическими хитросплетениями» (гл. 19). Не категориям логики, а природному желанию люди обязаны своим рождением – желанию «делать детей» (гл. 11). Желанию быть счастливыми люди обязаны любовью, дружбой, миром в семье и обществе. Воинственный угрюмый «мудрец», которого посрамляет красноречивая Мория, – это в своем роде весьма развитый псевдорационализм средневековой схоластики, где рассудок, поставленный на службу вере, педантически разработал сложнейшую систему регламентации и норм поведения. Старческому рассудку схоластов, скудеющей мудрости невежественных опекунов жизни, почтенных магистров теологии противостоит Мория – новый принцип Природы, выдвинутый гуманизмом Возрождения. Этот принцип отражал прилив жизненных сил в европейском обществе в момент рождения новой эры.
Жизнерадостная философия речи Мории вызывает часто на память раннюю ренессансную новеллистику, комические ситуации которой как бы обобщены и сентенциях Глупости. Но еще ближе к Эразму (в особенности своим тоном) книга Рабле. И как в «Гаргантюа и Пантагрюэле» «вино» и «знание», физическое и духовное, неразрывно связаны как две стороны одного и того же, так и у Эразма наслаждение и истинная мудрость идут рука об руку, Похвала Глупости – это похвала разуму жизни. Чувственное начало природы и мудрость разума в цельной гуманистической мысли Возрождения еще не противостоят друг другу. Стихийно-материалистическое чувство жизни уже преодолевает христианский аскетический дуализм схоластики. Но, далекое от законченной систематизации, оно еще не пришло к тому односторонне рассудочному и абстрактному пониманию жизни, отвергающему свободные и яркие краски, о котором говорят Маркс и Энгельс, характеризуя в лице Гоббса материализм XVII века как «враждебный человеку»[23].
Напротив, Мория Эразма – субстанция жизни в первой части речи – благоприятна для счастья, снисходительна и «на всех смертных равно изливает свои благодеяния». Она, как материя Бэкона, «улыбается своим поэтически-чувственным блеском всему человеку»[24]. Как в философии Бэкона «чувства непогрешимы и составляют источник всякого знания», а подлинная мудрость ограничивает себя «применением рационального метода к чувственным данным», так и у Эразма чувства, порождения Мории, страсти и волнения (то, что Бэкон называет «стремлением», «жизненным духом» как извечными формами движения) направляют, служат хлыстом и шпорами доблести и побуждают человека ко всякому доброму делу (гл. 30).
Мория, как «поразительная мудрость природы» (гл. 22), – это доверие жизни к самой себе, противоположность отвлеченной мудрости схоластов, которые навязывают жизни свои предписания. Поэтому ни одно государство не приняло законы Платона, и только естественные интересы (например, жажда славы) образовали общественные учреждения. «Глупость» создает государство, поддерживает власть, религию, управление и суд (гл. 27). Жизнь в своем основании – это не простота геометрической линии, но игра противоречивых стремлений. Это театр, где выступают страсти и каждый играет свою роль, а неуживчивый мудрец, требующий, чтобы комедия не была комедией, не больше как сумасброд, забывающий основной закон пиршества: «либо пей, либо вон» (гл. 29). Раскрепощающий, охраняющий молодые побеги жизни от вмешательства «непрошеной мудрости», пафос мысли Эразма обнаруживает характерное для гуманизма Возрождения доверие к свободному развитию, родственное идеалу жизни в Телемском аббатстве Рабле с его девизом «Делай что хочешь». Мысль Эразма, связанная с началом эры буржуазного общества, еще далека от позднейшей идеализации неограниченной политической власти в XVII веке, ее миссии направляющего и регламентирующего центра национальной жизни. Сам Эразм держался вдали от «пышного ничтожества дворов» (как он выражается в одном из своих писем), а должность «королевского советника», которой его пожаловал император Карл V, была не более как почетной и доходной синекурой. И недаром Эразм из Роттердама, бюргер по происхождению, достигнув европейской славы, отвергает лестные предложения монархов Европы, предпочитая независимую жизнь в «вольном городе» Базеле или в нидерландском культурном центре Лувене. Философия его Мории коренится в исторической обстановке, где еще не победил абсолютистский порядок.
Эту философию пронизывает стихийная диалектика мысли, в которой дает себя знать объективная диалектика переживаемого во всех сферах культуры исторического переворота. Все начала перевернуты и обнаруживают свою изнанку: «любая вещь имеет два лица… и лица эти отнюдь не схожи одно с другим. Снаружи как будто смерть, а ежели внутрь заглянуть, увидишь жизнь, и наоборот, под жизнью скрывается смерть, под красотой – безобразие, под изобилием – жалкая бедность, под ученостью – невежество, под мощью – убожество, под благородством – низость, под весельем – печаль, под преуспеяньем – неудача, под дружбой – вражда, под пользой – вред» (гл. 29). Официальная репутация – и подлинное лицо, видимость – и сущность всего в мире противоположны. Мория природы на самом деле оказывается истинным разумом жизни, а отвлеченный «разум» официального учения – это безрассудство, сущее безумие. Мория – это мудрость, а казенная «мудрость» – худшая форма Мории, подлинная глупость. Чувства, которые нас обманывают, если верить философам, приводят к разуму; практика, а не схоластические писания, – к знанию; страсти, а не стоическое бесстрастие, – к доблести. Вообще «Глупость ведет к мудрости» (гл. 30). Уже с заголовка и с посвящения (где сближены Мория и «столь далекий от ее существа» Томас Мор, Глупость и гуманистическая мудрость) вся парадоксальность «Похвального слова» коренится в диалектическом взгляде, согласно которому все вещи сами по себе противоположны и «имеют два лица». Всем своим неувядаемым очарованием философский юмор Эразма обязан этой живой диалектике.
Жизнь не терпит никакой односторонности. Поэтому рассудочному «мудрецу» – доктринеру, схоласту, догматику, который жаждет все подогнать под бумажные нормы и везде суется с одним и тем же мерилом, – нет места ни на пиру, ни в любовном разговоре, ни за прилавком. Веселье, наслаждение, практика житейских дел имеют свои особые законы, критерии «мудреца» там неуместны. Ему следовало бы кончать самоубийством (гл. 31). Односторонность отвлеченного принципа убивает все живое, ибо не мирится с многообразием жизни. Но умирает этот непримиримый догматик уже как безрассудный служитель Мории. Все односторонности переходят в свою противоположность. Чистая «мудрость» кабинетных ученых, например грамматиков, плодит никому не нужные знания, а «глупой» жажде славы люди обязаны изобретением превосходных наук и искусств (гл. 28).
Поэтому пафос произведения Эразма направлен прежде всего против культа формальных предписаний, против всякого рода самоуверенного доктринерства. Вся первая часть речи построена на контрасте живого древа жизни и счастья и сухого древа отвлеченного знания. Эти непримиримые всезнающие стоики (читай: схоласты, духовные «отцы народа»), эти высокомерные чурбаны готовы все подогнать под общие нормы и отнять у человека все радости. Но всему свое место и время. Придется этому «стоику» отложить свою хмурую важность, покориться сладостному безумию, если он захочет стать отцом (гл. 11). Рассудительность и опыт подобают зрелости, но не детству. «Мальчик, рассуждающий, как взрослый, всем противен». Беспечности, беззаботности люди обязаны счастливой старостью (гл. 13). Игры, прыжки и всякие «дурачества» – лучшая приправа пиров: здесь они на своем месте (гл. 18). И Лета забвения для жизни также благотворна, как память и опыт (гл. 11). Снисходительность, терпимость, а не глазастая строгость – основа дружбы, мира в семье и всякой связи в человеческом обществе (главы 19, 20, 21).
Практическая сторона этой философии – светлый широкий взгляд на жизнь, отвергающий все формы фанатизма. Этика Эразма примыкает к эвдемонистическим учениям античности, согласно которым в самой человеческой натуре заложено естественное стремление к благу, – тогда как насильственно навязанная ей «мудрость» полна «невыгод», безрадостна, пагубна, не пригодна ни для деятельности, ни для счастья (гл. 24). Самолюбие (Филавтия) – это как будто родная сестра Глупости, но может ли полюбить кого-либо тот, кто сам себя ненавидит? Поэтому самолюбие, неотъемлемая «приправа жизни», создало все искусства. Оно стимул всякой полезной для общества деятельности, всякого радостного творчества, всякого стремления к благу (гл. 22). В мысли Эразма намечаются позиции Ларошфуко, нашедшего в самолюбии основу всего человеческого поведения и всех добродетелей. Но Эразм далек от пессимистического вывода моралиста XVII века и скорее предвосхищает материалистическую этику XVIII века (например, учение Гельвеция о творческой роли страстей). Без Филавтии, «поразительной мудрости природы», «не обходится ни одно великое дело». Эразм здесь близок к итальянскому гуманисту Пико делла Мирандола (любимому учителю Т. Мора), автору знаменитой речи «О достоинстве человека», прославляющей «дивное назначение человека быть тем, чем он захочет». Вместе со всеми гуманистами Эразм разделяет веру в свободное развитие человека, но держится ближе к простому здравому смыслу. Он избегает чрезмерной идеализации человека, свойственной Пико, и фантастики в переоценке «неограниченных его возможностей» как односторонности. Филавтия тоже имеет «два лица». Она стимул к развитию, но она же – там, где не хватает даров природы, – источник самодовольства, «а что может быть глупее самолюбования?» (гл. 22).
Но эта – собственно сатирическая – сторона мысли Эразма развивается больше во второй части речи Мории.
IV
Вторая часть «Похвального слова» посвящена «различным видам и формам» Глупости. Но легко заметить, что здесь незаметно меняется не только предмет, но и смысл, влагаемый в понятие «глупость», характер смеха и его тенденция. Меняется разительным образом и самый тон панегирика. Глупость забывает свою роль, и вместо того чтобы восхвалять себя и своих слуг, она начинает негодовать на служителей Мории, возмущаться, разоблачать и бичевать «морионов». Юмор переходит в сатиру.
Предмет первой части, как мы видели, – это «общечеловеческие состояния») различные возрасты человеческой жизни, многообразные и вечные источники наслаждения и деятельности, коренящиеся в человеческой природе. Мория там совпадала поэтому с самой Природой и была лишь условной Глупостью – глупостью с точки зрения отвлеченного рассудка. Но все имеет свою меру, и одностороннее развитие страстей, как и сухая мудрость, переходит в свою противоположность. Уже глава 34, прославляющая счастливое состояние животных, которые не знают никакой дрессировки, никаких знаний и «подчиняются одной природе», – двусмысленна. Значит ли это, что человек не должен стремиться «раздвинуть границы своего жребия», что он должен уподобиться животным? Не противоречит ли это как раз Природе, наделившей его интеллектом? Поэтому счастливое состояние, в котором пребывают дураки, юродивые и слабоумные, не убеждает нас следовать «скотскому бессмыслию» их существования (гл. 35). «Похвальное слово Глупости» незаметно переходит от панегирика природе к сатире на невежество, отсталость, косность общественных нравов.
Принцип природы – фермент всякой жизни. Позднее у Ларошфуко «самолюбие и порок входят в состав всех добродетелей, как яды в состав всех лекарств», – все зависит от условий, дозы и меры. Точно так же и у Эразма глупость входит в состав всего живого, но в своем одностороннем «раздувании и распухании» она становится окостенелым свойством, существом и «безумием» жизни. Глупость тогда переходит в различные маниакальные страсти: мания охотников, для которых нет большего блаженства, чем пение рогов и тявканье собак, мания алхимиков, азартных игроков (гл. 39), суеверов, паломников ко святым местам (гл. 40) и т. д. Здесь Мория жизни уже показывается с такими своими спутниками, как Анойя (Безумие), Мисопония (Лень), Комос (Разгул), Нигретос-Гипнос (Непробудный Сон), Трюфе (Чревоугодие) и т. д. (гл. 9). И теперь мы вспоминаем, что она еще во вступлении отрекомендовалась как дочь паразитического Богатства и невежественной Юности, плод вожделения, зачатая в состоянии похмелья на пиру у богов (гл. 7.), вскормленная нимфами Опьянение и Невоспитанность (гл. 8). Эразм здесь выступает как предшественник просветителей XVIII века, но только ход его мысли, как и у других гуманистов (например, у Рабле или Шекспира), обнаруживает обратную последовательность: от прославления «природы» – к рационалистической критике, от Руссо – к Вольтеру.
В первой части речи Мория как мудрость природы гарантировала жизни разнообразие интересов, движение и всестороннее развитие. Там она соответствовала гуманистическому идеалу «универсального» человека. Но безумствующая односторонняя Глупость создает фиксированные, косные формы и виды человеческой жизни: сословие родовитых скотов, которые кичатся благородством происхождения (гл. 42), или купцов-накопителей, «породу всех глупее и гаже» (гл. 48), разоряющихся сутяг или наемных воинов, мечтающих разбогатеть на войне, бездарных актеров и певцов, ораторов и поэтов, грамматиков и правоведов. Филавтия, родная сестра Глупости, теперь показывает другое свое лицо. Она порождает самодовольство разных городов и народов, тщеславие тупого шовинизма и самообольщения (гл. 43). Счастье лишается своего объективного основания в природе всего живого, оно уже теперь всецело «зависит от нашего мнения о вещах… и покоится на самообмане» (гл. 45). Как мания, оно уже субъективно, и всяк по-своему с ума сходит, находя в этом свое счастье. Как мнимая «глупость» природы, Мория была связью всякого человеческого общества. Теперь, как доподлинная глупость предрассудков, она, напротив, разлагает общество.
Общефилософский юмор панегирика Глупости сменяется поэтому социальной критикой современных нравов и учреждений. Теоретическая и с виду шутливая полемика с античными стоиками, доказывавшая, не без приемов софистического остроумия, «невыгоды» мудрости, уступает место колоритным и язвительным бытовым зарисовкам и ядовитым характеристикам «невыгодных» форм современной глупости. Впоследствии многие сатирические мотивы речи Глупости будут драматизированы в диалогах и своего рода маленьких комедиях Эразма, объединенных в «Домашних беседах»[25].
Универсальная сатира Эразма здесь не щадит ни одного звания в роде людском. Глупость порождает «силу всякого вздора» в народе, так же как и в придворных кругах, где у королей и вельмож не найти и пол унции здравого смысла (гл. 55). Независимость позиции Эразма, народный здравый смысл, которому он всегда остается верен, сказывается также в издевательстве над «морионами» собственного гуманистического лагеря, над «двуязычными» и «трехъязычными» педантами, над буквоедами – филологами и грамматиками, раболепствующими перед любым словом древнего автора. Сам Эразм в 1517 году организовал в Лувене «Школу Трех Языков», где впервые изучались наряду с латинским греческий и древнееврейский языки, но, энтузиаст изучения древности, он был врагом новой «гуманитарной» схоластики и рабского подражания античности в сфере мысли, как и в стиле. Против неолатинского педантизма – модной болезни века – направлена позднейшая сатира Эразма «Цицеронианец» (1528), одно из остроумнейших его произведений. Нозопонус, некогда дородный, завидного здоровья малый, совсем отощал и исчах за ревностным изучением Цицерона, которого он штудирует целых семь лет. Он поставил себе за правило не употреблять ни одного слова, которого нет у Цицерона, и уже составил несколько словарей: в одном приведены все употребленные оратором слова, в другом те, которыми начинаются или кончаются его периоды, и т. д. Книги других авторов он держит под замком, чтоб не впасть в соблазн их прочесть. У него нет ни жены, ни детей, он нигде не служит, и его дневную пищу составляют десяток виноградных ягод: все отдано изучению Цицерона. Современники полагали, что в Нозопонусе осмеян гуманист П. Бембо, который утверждал, что у него имеется сорок папок слов и выражений Цицерона, и перед тем как выпустить в свет повое сочинение, он с ними сверяет свой стиль. Этой сатирой Эразм нажил себе немало врагов среди поклонников П. Бембо.
Заметим, что автор «Домашних бесед» – произведения, по которому, несмотря на преследования реакции, ряд поколений обучался изящной латыни, – дал образец ясного, гибкого, легкого стиля, «который нравился всем, а не только ученым», как признается один из противников Эразма[26]. В стиле латыни Эразма дух всей его этики.
И хотя все его книги написаны по-латыни, слово Эразма, больше чем кого-либо из гуманистов, оказало влияние на литературную речь новых европейских языков, формировавшихся под влиянием неолатинской литературы. Эразм привил своим стилем вкус к непринужденной «природе» разговорной речи. Он секуляризировал литературный язык и освободил его от педантизма схоластической и церковной элоквенции.
Наибольшей резкости сатира «Похвального слова» достигает в главах о философах, епископах, кардиналах и первосвященниках (главы 52–60), и особенно в колоритных характеристиках богословов и монахов – главных противников Эразма на протяжении всей его деятельности. Нужна была большая смелость, чтобы показать миру это «смрадное болото» богословов – темы их диспутов, «архидурацкие тонкости» схоластики – и гнусные пороки монашеских орденов во всей их красе! Папа Александр VI – вспоминал впоследствии Эразм – однажды заметил, что предпочел бы оскорбить самого могущественного монарха, чем задеть эту нищенствующую братию, которая властвовала над умами невежественной толпы. И монахи действительно никогда не могли простить Эразму этих страниц «Похвального слова». Монахи были главными заправилами гонений против Эразма и его произведений. Они в конце концов добились занесения большой части литературного наследия Эразма и в первую очередь «Похвального слова» в индекс запрещенных церковью книг (1554), а его французский переводчик Беркен – несмотря на покровительство короля! – еще задолго до этого кончил жизнь на костре (1529). Популярное у испанцев изречение гласило: «Кто говорит дурное про Эразма – тот либо монах, либо осел»[27].
Речь Мории в этих главах местами неузнаваема по тону. Место Демокрита, со смехом «наблюдавшего повседневную жизнь смертных», занимает негодующий Ювенал, который «ворошит сточную яму тайных пороков», – и это вопреки первоначальному намерению «выставлять напоказ смешное, а не гнусное». Когда Христос устами Мории отвергает эту новую породу фарисеев – богословов и монахов всяческого толка, – заявляя, что он не признает их законов, ибо во время оно обещал блаженство не за капюшоны, не за молитвы, не за посты, а только за дела милосердия, и поэтому простой народ, матросы и извозчики ему угоднее монахов (гл. 54), – патетика речи уже возвещает атмосферу Лютера и страсти Реформации.
От прежней шутливости, благорасположенной к смертным Мории, не остается и следа. Условная маска Глупости спадает с лица оратора, и Эразм говорит прямо от своего имени, как «Иоанн Креститель Реформации» (по выражению французского философа-скептика конца XVII века П. Бейля). Новое в антимонашеской сатире Эразма не столько разоблачение обжорства, надувательства и лицемерия монахов – этими чертами их неизменно наделяли уже на протяжении трех веков авторы средневековых рассказов или ренессансных новелл. Но там они фигурировали как ловкие пройдохи, пользующиеся глупостью верующих. В их поведении человеческая природа давала себя знать вопреки сану. В новеллах монахи поэтому забавны, и рассказы об их проделках питают в умах только здоровый скепсис. У Эразма же монахи порочны, мерзки и уже «навлекли на себя единодушную ненависть». За сатирой Эразма чувствуется иная историческая и национальная почва, чем у Боккаччо. Созрели условия для радикальных изменений, и ощущается потребность в положительной программе действий. Мория, защитница природы в первой части речи, была в единстве с объектом своего юмора. Во второй части Мория, как разум, отделяется от предмета смеха. Противоречие становится антагонистическим и нетерпимым.
Это изменение тона и новые акценты второй половины «Похвального слова» связаны с особенностями «северного Возрождения», в отличие от итальянского, и с назревающим потрясением основ до того монолитной католической церкви. В германских странах историческая обстановка сложилась таким образом, что вопрос реформы церкви стал узлом всей политической и культурной жизни. С Реформацией здесь оказались связаны все великие события века: Крестьянская война в Германии, движение анабаптистов, Нидерландская революция. Но движение Лютера принимало в Германии все более односторонний характер: чисто религиозная борьба, вопросы вероисповедания на долгие годы заслонили более широкие задачи преобразований общественной жизни и культуры, вызванные ренессансным переворотом. После подавления крестьянской революции Реформация обнаруживает все большую узость и не меньшую, чем католическая контрреформация, нетерпимость к свободной мысли, к разуму, который Лютер объявил «блудницей дьявола». «Науки умерли везде, где установилось лютеранство», – с горечью отмечает в 1530 году Эразм.
Сохранилась старая гравюра XVI века, изображающая Лютера и Гуттена несущими ковчег религиозного раскола, а впереди них Эразма, танцем открывающего шествие. Она верно определяет роль Эразма в подготовке дел Лютера. Крылатое выражение, пущенное в ход кельнскими богословами, гласило: «Эразм снес яйцо, которое высидел Лютер». Но Эразм впоследствии заметил, что он отрекается «от цыплят подобной породы».
«Похвальное слово» стоит, таким образом, у конца недифференцированного этапа Возрождения – когда гуманизм еще не отделился от раннего протестантства – и на пороге Реформации.
Сатира Эразма завершается самым смелым заключением. После того как Глупость доказала свою власть над человечеством и над «всеми сословиями и состояниями» современности, она вторгается в святая святых христианского мира и отождествляет себя с самым духом религии Христа, а не только с церковью, как учреждением, где ее власть уже доказана ранее: «христианская вера сродни Глупости», ибо «высшей наградой для людей является некий вид безумия» (главы 66–67), а именно счастье экстаза слияния с божеством.
В чем смысл этой кульминационной «коды» панегирика Мории? Она явно отличается от предыдущих глав, где Глупость приводит в свою пользу все свидетельства древних и бездну цитат из Священного Писания, толкуя их вкось и вкривь и не брезгуя порой самыми дешевыми софизмами[28]. В тех главах явно пародируется схоластика «лукавых толкователей слов Священного Писания», и они прямо примыкают к разделу о теологах и монахах. Наоборот, в заключительных главах нет почти никаких цитат, тон здесь, по-видимому, вполне серьезный, и развиваемые положения выдержаны в духе ортодоксального благочестия и прославления святости. Мы как бы возвращаемся к положительному тону и апологии «неразумия» в 1-й части. Но ирония «божественной Мории», пожалуй, более тонка, чем сатира Мории – Разума и юмор Мории – Природы. Недаром она сбивает с толку новейших исследователей Эразма, которые усматривают здесь настоящее прославление мистицизма[29].
Ближе к истине те непредубежденные читатели и критики, которые видели в этих главах слишком «вольный» и почти «кощунственный дух»[30]. Нет сомнения, что автор «Похвального слова» не был атеистом, в чем его обвиняли фанатики обоих лагерей христианства. Субъективно он был скорее благочестивым верующим. Впоследствии он даже выражал сожаление, что закончил свою сатиру лукавой и двусмысленной иронией, направленной против «лукавых толкователей» – теологов. Но, как сказал Гейне по поводу «Дон Кихота» Сервантеса, перо гения всегда мудрее самого гения и увлекает его за пределы, поставленные им своей мысли. Эразм не раз утверждал, что в «Похвальном слове» излагается та же доктрина, что и в более раннем благочестивом «Руководстве христианскому воину». Однако вождь контрреформации, основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола недаром жаловался, что чтение в молодости этого «Руководства» ослабляло его религиозное рвение и охлаждало пыл веры. И Лютер, с другой стороны, также имел основание не доверять благочестию Эразма, которого он называл «королем двусмысленности». Мысль Эразма, как и автора «Утопии» (также далекого от атеизма), проникнутая в вопросах религиозных широкой терпимостью, граничащей с равнодушием, оказывала плохую услугу церкви, стоявшей на пороге великого раскола. Заключительные главы «Похвального слова», где Мория отождествляет себя с духом христианской веры, свидетельствуют, что в европейском обществе наряду с католиками и протестантами, наряду с Лойолой и Лютером, складывалась третья партия более смелых, хотя по виду более осторожных умов, враждебных всякому религиозному фанатизму. И именно этой, пока еще слабой партии «сомневающихся», партии свободомыслящих, опирающейся на природу и разум и отстаивающей свободу совести в момент высшего накала религиозных страстей, исторически принадлежало будущее.
V
«Похвальное слово» имело у современников огромный успех. За двумя изданиями 1511 года потребовались три издания 1512 года в Страсбурге, Антверпене и Париже. За одиннадцать лет оно разошлось в количестве двадцати тысяч экземпляров – успех по тому времени для книги, написанной на латинском языке, неслыханный.
Более чем любое произведение гуманистов, «Похвальное слово» распространяло в широких кругах презрение к теологам и монахам и возмущение состоянием церкви. Но Эразм не оправдал надежд сторонников Лютера, хотя и сам стоял за практические реформы, которые должны были возродить и укрепить христианство. Его гуманистический скепсис в вопросах религиозной догматики, его защита терпимости и снисходительности, его лукиановская непочтительная форма обращения со священными предметами оставляли слишком много места – даже с точки зрения протестантского богословия – для свободного исследования и были опасны для любой церкви, как новой, так и старой. Противники Эразма недаром называли его «современным Протеем». Впоследствии католические и протестантские богословы тщились – каждый на свой лад – доказать ортодоксальность его идей, но история расшифровала идеи автора «Похвального слова» в таком духе, который выводит их за пределы всякого вероисповедания.
Потомство не может упрекнуть Эразма за то, что он не примкнул ни к одной из борющихся религиозных партий. Его проницательность и здравый смысл помогли ему разгадать обскурантизм обоих лагерей. Но, вместо того чтобы возвыситься над обеими односторонностями религиозного фанатизма и употребить огромное свое влияние на современников для разоблачения равно «папоманов», как и «папефигов» (как поступили Рабле, Доле, Деперье и другие свободомыслящие), и для углубления освободительной борьбы, Эразм занял нейтральную позицию между партиями, выступая в неудачной роли примирителя непримиримых станов. Тем самым он уклонился от решительного ответа на религиозные и социальные вопросы, поставленные историей. Мир и покой ему казались дороже всего. «Я терпеть не могу столкновений, – писал он около 1522 года, – и до такой степени, что если начнется борьба, я покину скорее партию истины, чем покой». Но ход истории показал, что мир уже не был возможен и катаклизм был неизбежен. Глава европейской «республики ученых» не обладал натурой борца и той цельностью, отмечающей тип человека эпохи Возрождения, которая воплощена в благородном образе его друга Т. Мора, сложившего голову на эшафоте в борьбе за свои убеждения (за что Эразм его порицал!). Переоценка мирного распространения знаний, а также надежды, которые Эразм возлагал на реформы сверху, были его ограниченностью, которая доказывала, что он мог возглавить движение только на мирном подготовительном этапе. Все последовавшие за «Похвальным словом» наиболее значительные его произведения (издание Нового завета, «Христианский Государь», «Домашние беседы») приходятся на второе десятилетие XVI века. В 20-30-х годах, в разгар религиозной и социальной борьбы, его творчество уже не имеет прежней силы, его влияние на умы заметно падает.
Позиции Эразма в последний период его жизни оказались намного ниже пафоса его бессмертного произведения, вернее, он сделал из философии своей книги «удобный» вывод, что мудрец, наблюдая «комедию жизни», не должен быть мудрее, чем это подобает смертному, и лучше «вежливо заблуждаться вместе с толпой», чем быть «сумасбродом» и нарушать ее законы, рискуя покоем, если не своей жизнью (гл. 29). Он избегал «одностороннего» вмешательства, не желая принимать участие в распрях «морионов»-фанатиков. Но «всесторонняя» мудрость этой позиции наблюдателя и есть ее ограниченная односторонность, ибо что может быть одностороннее точки зрения, исключающей из жизни действие, само участие в жизни. Эразм оказался в положении осмеянного им самим в первой части речи Мории бесстрастного мудреца-стоика, высокомерного по отношению ко всяким живым интересам. А между тем выступления крестьян и городских низов на арену истории «с красным знаменем в руках и с требованием общности имущества на устах» (Энгельс) и были в этот период высшим выражением социальных «страстей» эпохи, тех принципов «природы» и «разума», которые с такой смелостью защищал Эразм в «Похвальном слове», а его друг Т. Мор в «Утопии». Это была настоящая борьба народных масс за «всестороннее развитие», за право человека на естественные радости – против традиционных ограничений и официальных норм средневекового царства Глупости.
Однако между гуманистами (даже такими, как Т. Мор) и народными движениями эпохи, идейно им созвучными, практически лежала целая пропасть. Даже будучи прямыми защитниками народных интересов, гуманисты редко связывали свою судьбу с «плебейско-мюнцеровской» оппозицией, не доверяя «непросвещенным» массам и обычно возлагая надежды на реформы сверху, хотя именно в движении революционных масс и выступала стихийная мудрость истории. Поэтому ограниченность позиций гуманистов сказывалась как раз в момент высшего подъема революционной волны. Эразм, например, порицал Лютера за его призывы «бить, душить, колоть» восставших крестьян, «как бешеных собак». Он приветствовал попытку базельской буржуазии выступить в роли арбитра между князьями и крестьянами. Но дальше этого его мирный гуманизм не шел.
Независимо от личных позиций Эразма, его идеи исторически делали свое дело. «Эразмизм», как ересь «арианская» и «пелагианская», подвергается преследованию в эпоху контрреформации, но его влияние обнаруживается и в скептицизме «Опытов» Монтеня, и в творчестве Шекспира, Бен-Джонсона и Сервантеса. Его внимательно читают французские вольнодумцы XVII века вплоть до П. Бейля (прожившего последний период своей жизни в Роттердаме, родном городе Эразма), автора статьи об Эразме и его продолжателя в рационалистическом подходе к богословским текстам. И эта традиция влияния Эразма приводит к французским и английским просветителям XVIII века, а также к Лессингу, Гердеру и Песталоцци. Одни развивают критическое начало его теологии, другие – его педагогические идеи, его социальную сатиру или этику.
Мыслители XVIII века с новой, невиданной до того силой используют основное орудие Эразма – печатное слово. Лишь в XVIII веке семена эразмизма дают богатые всходы, и его сомнение, направленное против догматики и косности, его защита «природы» и «разума» расцветают, как жизнерадостное свободомыслие Просвещения.
«Похвальное слово» Эразма, «Утопия» Т. Мора и книга Рабле – три вершины мысли европейского гуманизма периода его расцвета.
Современный обскурантизм вызывает тени прошлого из могил. Модные в наше время «семантическое направление» и неотомизм в реакционной философии на Западе пытаются возродить спор средневекового номинализма и реализма, выродившийся уже в XVI веке в борьбу «скоттистов» с «томистами», над которой насмехается Эразм. Можно подумать, что современная реакция намерена установить некий «закон сохранения глупости». На фоне модернизированной схоластики и воинственного обскурантизма всяческого толка сатира Эразма сохраняет силу старого, но меткого оружия.
Смех Рабле
I. Рабле в веках
Слава Рабле – если иметь в виду не только популярность, но, так сказать, «репутацию» Рабле и его смеха на протяжении четырех столетий – в высшей степени поучительна.
В первом смысле простые цифры известных нам изданий «Гаргантюа и Пантагрюэля» во Франции (не менее пятидесяти пяти в XVI веке, восемнадцати в XVII, пятнадцати в XVIII, тридцати шести – кроме перепечаток – в XIX) свидетельствуют о прочной привязанности широкой аудитории к великому гуманисту Возрождения[31]. Время и критика поэтому никогда не «открывали» Рабле – в точном смысле слова. Рабле в этом не нуждался, в отличие, скажем, от таких знаменитых к наше время писателей, как в немецкой литературе Гёльдерлин, в английской Блейк, а в той же французской Ронсар, открытых и заслуженно оцененных лишь после длительной полосы непризнания и забвения. Литературная судьба Рабле та же, что и другого корифея художественной прозы Возрождения, Сервантеса. Два монументальных создания искусства комического на пороге Нового времени – «Гаргантюа и Пантагрюэль» и «Дон Кихот» – выдержали все коренные изменения художественных вкусов, все последующие перипетии, которые не в состоянии были умалить их славу, а тем более предать их забвению.
История славы «Дон Кихота» поэтому не столько внешняя (рост популярности романа), сколько внутренняя (иное постижение его смысла). Каждая эпоха не открывает впервые «Дон Кихота», а раскрывает по-новому значение «донкихотской» ситуации; она не впервые признает, а по-новому осознает величие романа Сервантеса. В этом, как известно, и заключается жизнь бессмертных произведений искусства как отражения действительности. Основой их жизненности, критерием их бессмертия является новая общественная практика, новое человеческое сознание, когда оно открывает свое родство с искусством прежних веков. Тем самым источник этой жизненности заключен и в самом классическом искусстве, когда оно, обнаруживая дотоле не замеченные, но объективно заложенные в нем задатки, способно каждый раз вновь раскрываться в свежем и созвучном, живом и живительном аспекте.
Эволюция Рабле в веках, репутация автора «Гаргантюа и Пантагрюэля», как человека, мыслителя и гения комического, – яркий тому пример. «Каждый философ, – замечает Стендаль, – вновь открывал знаменитое предписание Божественной Бутылки Рабле». Идея, ситуация, образ и даже слово у Рабле (хотя бы знаменитое «пей!» в конце книги) явно полисемичны и поэтому постепенно раскрывались в веках разными аспектами. Смысл их самим автором не дан, а как бы лукаво задан аудитории – иногда просто как загадки, над которыми полезно поломать голову. Чувственный образ у Рабле еще не вполне отделился от многозначимости слова, от жизни языка, которым он выражен, как и от жизни идей, которые он выражает (отсюда пристрастие Рабле к реализованным метафорам, каламбурам, комическим этимологиям и т. п.). Слово – образ – идея Рабле как бы предполагает деятельное соучастие, своего рода сотворчество воображения и мысли аудитории. Сам автор в прологе к «Гаргантюа» полушутливой, как обычно, притчей о собаке – «самом философском животном в мире», – которая умеет добраться до «мозговой субстанции» кости, приглашает читателя играть роль философа, открывающего в «книгах, полных пантагрюэлизма», систематическое учение; себе же он отводит скромную роль рассказчика, вроде Гомера или Овидия, которым и не снились приписываемые им аллегории. Лишь пройдя через восприятие читателя, через его освоение, когда он – всегда на свой страх и риск! – «разгрызает кость», чувственный, многозначный образ-идея Рабле становится чем-то однозначным, как определенная идея или даже указание на какое-нибудь историческое лицо. Так, например, в двух героях-великанах усматривали в разные времена то Франциска I и его преемника Генриха II как образец просвещенных королей, то, наоборот, сатиру на абсолютистское государство, поглотившее нацию, как Гаргантюа – паломников (Мишле), то идеал невозмутимых мудрецов, а то всего-навсего проповедь чревоугодия (в последнем смысле слово «пантагрюэлизм» осталось в обиходе французской речи).
Многогранность образов Рабле вызывала, как видим, различные и часто несовместимые интерпретации, вплоть до самых курьезных и фантастических. Но, так же как идеал универсального знания, образы Рабле – отражение жизни, богатой различными задатками. Они поэтому выражают скорее пантагрюэльскую «неутолимую жажду» знаний, энтузиазм путешественников в царство истины, чем какие-нибудь точные знания и твердые истины. Подобно великим мореплавателям этого века, автор и его герои – всегда на пороге открываемых стран, о которых у них еще самые неясные представления, – освоение этих стран принадлежит будущему. Рабле как мыслитель и как художник не мог и не должен был придать своим поискам и художественным прозрениям большую степень ясности и определенности, чем разрешало его время. В известной степени поэтическая многоплановость метода и мысли у Рабле даже сознательна, когда он иронически предлагает читателю смотреть на «эти веселые новые повествования», как на «символы», дабы самому найти в них «учение более сокровенное, высочайшие таинства и страшные мистерии как в том, что касается нашей религии, так и в области политики и экономики». В поэтической полисемии – своеобразие и исторический колорит реализма Рабле как художника Возрождения.
«Одна из отличительных черт этой книги, – замечает А. Франс в своих лекциях о Рабле, – в том, что каждый понимает ее по-своему в меру своей любознательности и сообразно направлению своего ума»[32]. Это положение применимо не только к отдельным читателям и критикам, но и к целым историческим эпохам. Каждая эпоха раскрывает в мысли Рабле родственный ей аспект, а в полифонии его смеха – созвучный голос. Изучение посмертной славы Рабле, истории постижения потомством «пантагрюэлизма» только начато. Этому вопросу посвящены две специальные монографии выдающихся знатоков Рабле[33] – два свода эмпирического материала (собранного, по выражению одного из авторов, «без всякого метода» и «без заключения»), к сожалению, доведенные лишь до середины XIX века, хотя именно в XX веке в буржуазной критике, как дальше увидим, происходит разительная переоценка репутации Рабле.
Наиболее широкое и как бы синкретическое понимание автора «Гаргантюа и Пантагрюэля» обнаруживают его современники, судя по их высказываниям, а также по свидетельствам всенародной его популярности. Их восхищал мудрый и тонкий смех «приятного и полезного», «веселого» и «ученого» Рабле. Его мысль им еще не казалась загадочной, а его мораль – распущенной. Страницам «Пантагрюэля» внимает на площадях простой народ (например, во время карнавала в Руане в 1541 г.), а в тиши кабинетов их смакуют ученые. Яростные нападки со стороны противников, католиков, как и протестантов, вызваны именно тем уважением, которым окружают смелую и свободную мысль Рабле его современники.
Но уже во второй половине века, в период гражданских войн, когда французский гуманизм вступает в кризисный фазис, репутация произведения Рабле в среде его поклонников явно меняется. Оптимизм взглядов автора Телемского аббатства на свободное развитие человека и общества, пантагрюэльское спокойствие в оценке исторического хода жизни уже несозвучны современникам Варфоломеевской ночи. Его великаны, с такой легкостью одерживающие победы над силами старого мира, его короли, добрые, миролюбивые и «жаждущие знания», его монах – симпатичный, веселый брат Жан, да и весь беспечный тон повествования воспринимаются теперь как забавная, причудливая фантастика. Как писателя уже «просто забавного», его в это время оценивает Монтень. Комическое начало произведения Рабле отделяется от гуманистической мудрости, как бы заслоняет ее и тем самым снижается. С другой стороны, снижается и понимание самой мудрости, «мозговой субстанции» пантагрюэлизма, которую начинают сводить к примитивной проповеди чувственности. Известная эпитафия Ронсара «доброму пьянице», который «всегда пил, пока жил», так что «на его могиле вырос виноградник из желудка», – уже проникнута высокомерно-фамильярным отношением к Рабле, «эпикурейскому брюху, забавному шутнику и весельчаку», по характеристике одного из поэтов конца французского Ренессанса. Эта репутация Рабле переходит к XVII столетию.
Век католической реакции, абсолютизма и классицизма не был благоприятен для высокой оценки личности Рабле, его гуманистического учения и его смеха. Именно в воинственно-католической среде складывается «легенда о Рабле», циничном насмешнике, пройдохе, шуте и блюдолизе, к имени которого прикрепляются всякие бродячие сказания о ловких проделках – легенда о «медонском кюре», окончательно развеянная лишь в начале XX века новейшими исследованиями. Рабле и теперь много читают, но в этом уже редко признаются. Для светского общества века Людовика XIV и его культа «приличий» автор «Гаргантюа и Пантагрюэля» – писатель «неприличный», образец нецивилизованной природы, естественности без «правил». Он удивляет всех жизненностью образов, богатством наблюдений, наивной правдой – и поэтому Рабле «безумно смешон», по признанию писательницы маркизы де Севинье: от комического жанра, больше чем от всякого иного, классицизм требовал «верности природе». Поэтому из пантагрюэльского источника охотнее всего черпают представители комической литературы XVII века – Лафонтен, которому Рабле особенно дорог, Мольер, мастера бурлескного романа. XVII век видит и по-своему чувствует Рабле, но видит его односторонне – как воплощение народного галльского здравого смысла, как прекрасного рассказчика, задорного, насмешливого, чувственного и циничного. Читатели этого века, в отличие от новейших ученых-раблеведов, живо чувствуют «панурговское» скептическое начало как существенный элемент мысли автора, порой неотличимого от своего героя, но они не понимают благородного энтузиазма Рабле перед мудрой (даже в низменных проявлениях) и гармоничной Природой, они не разделяют его идеализации свободного человека, его ренессансной концепции жизни. Этот век умеет ценить отдельные страницы, образы и эпизоды «Гаргантюа и Пантагрюэля», но останавливается в недоумении перед целым и объявляет устами Лабрюйера создание Рабле некоей «необъяснимой загадкой», с точки зрения хорошего вкуса, «химерой с лицом красавицы, но с конечностями и хвостом гада или другого безобразного животного». «Когда он нехорош, – говорит Лабрюйер, – он выходит за пределы самого дурного, его смакует лишь чернь; но, когда он хорош, он достигает изысканности и совершенства, предлагая уму самые утонченные яства».
В XVII веке понимание идей Рабле сужается и огрубляется. Они по преимуществу питают дворянское вольномыслие и материализм, обосновывающий философию наслаждения жизнью для привилегированных «сильных умов», для «либертенов», вроде мольеровского Дон Жуана, – эгоистическую «свободную мораль» для домашнего употребления, весьма распространенную, хотя и неофициальную, во французском светском обществе XVII века. Социальный пафос Рабле, широта его демократической мысли, обращенной к будущем у, своеобразие его героических натур, живущих всеми интересами своего времени, были слишком далеки от социального пафоса эпохи классицизма, от ограничивающих и дисциплинирующих норм, от самого содержания героического начала в эстетике эпохи абсолютизма. Но шутки и насмешки этого «бездельника и балагура» не представляются образованному обществу опасными, хотя ханжи возмущаются безнравственностью «ученика Лукиана» и обливают его грязью. Пантагрюэльские сюжеты перелагают в фарсы, а при дворе разыгрывают балет о забавных приключениях Панурга, когда он задумал жениться.
Наоборот, XVIII век постепенно открывает всенародную «гражданскую» мысль автора «Гаргантюа и Пантагрюэля», антифеодальное сатирическое жало, направленное против двора и церкви – официальных основ старого режима. Отношение Вольтера к Рабле еще двойственно, но уже обнаруживает новое понимание его смеха[34]. Имея в виду унаследованную от XVII века репутацию пантагрюэльских книг, глава французских просветителей замечает с иронией, что «мало кто из читателей последовал примеру собаки, дабы „высосать мозг“ из произведения. Обычно удовлетворяются костью – бессмысленным шутовством, ужасающей похабщиной, которая заполняет эту книгу», это «скопище непристойностей и нечистот, какое мог изрыгнуть только пьяный монах». Но Вольтер раскрывает читателям XVIII века иной, более важный аспект комического у этого «ученого шута» и «пьяного философа» (как он же первый открывает французам мощь «пьяного дикаря» Шекспира). Вольтер находит у Рабле «любопытнейшую сатиру на папу, церковь и все события его времени». «Воспитание Гаргантюа – это сатира на воспитание принцев». «Нельзя не узнать Карла V в образе Пикрохоля». В эпизоде Квинтэссенции осмеяно церковное учение о душе. «Генеалогия Гаргантюа – скандальная пародия на чтимую всеми родословную» (Христа в Евангелии). Последовательно оценивая Рабле как сатирика, Вольтер усматривает даже в брате Жане лишь язвительное обобщение «монашества того времени», а в заключительном эпизоде Божественной Бутылки – насмешку над спором о причащении мирян водой (у католиков) или вином (у протестантов). Он удивляется неслыханной смелости идей Рабле и этим объясняет само непристойное шутовство и бессмысленную «дребедень» его книг: творец Пантагрюэля «предпочел скрыть себя под маской дурачества». И этим он себя спас, иначе его смелость «стоила бы ему жизни». У Вольтера, таким образом, лишь намечается позднейшее понимание смеха Рабле как «маски», под которой якобы «скрываются» истинные, более глубокие цели мыслителя. Для автора «Кандида» Рабле писатель комический, и маска буффона прикрывает смех сатирика, могучее оружие его мысли (в XX веке эта теория приведет к полному пренебрежению собственно комическим началом у Рабле). В «пьяном философе» глава партии «философов» века Просвещения как бы видит своего идейного предшественника и, восхищаясь его комическим даром, признается, что некоторые его сцены помнит почти наизусть. Однако за непристойное шутовство – дань нецивилизованному веку, за «отсутствие хорошего вкуса» он ставит Рабле ниже Свифта, «Рабле Англии, но без дребедени». Сожалея, что «человек с таким умом так недостойно им воспользовался», Вольтер в конечном счете определяет Рабле как «первого из шутов: двух таких было бы слишком много для одной нации, но один – нужен».
Показательно, что в XVIII веке расцветает аллегорическое направление в понимании «Гаргантюа и Пантагрюэля». Отвергая традиционную версию о беспечном балагуре и примитивном эпикурейце, новые почитатели Рабле видят в его книге ироническую летопись религиозной и политической жизни Франции XVI века. Война с Пикрохолем изображает войну Людовика XII за Милан или – согласно позднейшей, более изобретательной трактовке – борьбу католиков с протестантами (католики во главе с римским пастырем – это «пастухи» Грангузье, а протестанты, для которых облатки причащения всего лишь простой кусок теста, – это «пекари» Пикрохоля). Кобыла Гаргантюа, свалившая хвостом целый лес, – это любовница Франциска I герцогиня д'Этамп (а согласно другим комментаторам, Диана де Пуатье или Луиза Савойская, мать Франциска I) и т. п. Не только в таких прозрачных аллегориях, как папефиги и папоманы или остров Звонящий, но в любом образе и эпизоде теперь ищут «сокровенный» зашифрованный смысл, нуждающийся в «ключе». Ибо, как объясняет один из первых комментаторов этого направления Ле Мотте, Рабле, боясь преследований, скрывал свою мысль под аллегорией. Разумеется, общим доводом при таком толковании теперь служит притча о кости и «пифагорейских символах» в прологе – так же как раньше репутация веселого балагура опиралась на уверения автора (в том же прологе вслед за притчей), что он беспечно писал свои книги «за выпивкой»: в обоих случаях иронические заявления принимаются всерьез.
Версия о Рабле, как писателе «с ключом», зарождается в конце XVII века, накануне Просвещения, в атмосфере нарастания общественной оппозиции абсолютизму и в среде читателей, воспитанных на традиции «романа с ключом», которым в это время уже пользуются для сатирических и дидактических целей (например, «Приключения Телемака» Фенелона). В подыскивании «ключей» к Рабле ревностно упражнялась мысль исследователей на протяжении полутора столетий. Наиболее известным памятником историко-аллегорического «раскрытия» является вышедшее в середине 20-х годов XIX века девятитомное издание «Гаргантюа и Пантагрюэля» – единственное в своем роде явление, где комизм необузданной фантазии ученых-комментаторов соперничает с фантазией самого Рабле[35]. Но при всей курьезности подобное восприятие пантагрюэльских книг как «зашифрованных» соответствовало новым запросам читателей и подготовило умы к пониманию Рабле как писателя смелой критической и политической мысли, то есть «философа» в словоупотреблении XVIII века.
Высшая слава приходит к Рабле поэтому в годы Французской революции, которая открывает в нем своего предтечу. Не шут, наделенный поразительным воображением и чувством реального, не язвительный летописец, пикантно травестирующий исторических деятелей и события, не «бессознательный философ» (в оценке Дидро), но воинственный сатирик, непримиримый врат церкви и королевской власти, пророк, на заре абсолютизма предсказавший его крушение, гений разрушительного смеха. Таким предстает Рабле в книге Женгене «О влиянии Рабле на современную революцию и на декрет о духовенстве» (1791)[36]. Даже в непомерных аппетитах великанов или в астрономических цифрах материи, израсходованной на их одежды, автор усматривает разоблачение расточительности двора. Несмотря на известную односторонность, в книге Женгене впервые устанавливается значение Рабле как великого проповедника освободительных идей Нового времени, идей социального и духовного прогресса. Революция отмечает заслуги автора «Гаргантюа и Пантагрюэля» перед нацией переименованием Шинона, города, где Рабле родился, в Шинон-Рабле. Открытое общественное признание приходит лишь теперь – после двух с половиной столетий широкой популярности, но спорной репутации.
Новое отношение к великому писателю XVI века (и, в частности, его эстетическая реабилитация) связано с переворотом в художественных вкусах, совершенным романтиками и Бальзаком. В эпоху классицизма – а значит, и в годы революции – автору «Пантагрюэля», самое большее, извиняли «неправильную», «чудовищную» форму его произведения как маску, и старались найти «рассудок» в «мнимом безумии» его мысли. Романтики не отвергают версию о маске буффона, за которой «скрывается подтекст» возвышенной мудрости (Гюго), но в самом сочетании возвышенного с низким, в безмерной жажде знаний и чудовищных аппетитах великанов, в сращении противоположных начал ценят величайший образец гротеска, выдвигаемого теперь Гюго в качестве основного метода творчества. «Химера», «сфинкс» – прежние слова недоумения перед Рабле у классициста Лабрюйера – повторены романтиком Мишле как выражения восторга.
Шаткость прежних рассудочно-аллегорических толкований, расхождение между авторами бесчисленных «ключей» побуждают романтическую критику усомниться в самом подходе и задать себе «серьезный вопрос – понимали ли когда-нибудь Рабле» (Сент-Бёв). На это отвечает Гюго: «Рабле никто не понял… Раскаты его могучего хохота – бездна для рассудка». Сухая аллегория, как намек на какое-либо историческое лицо или событие, в восприятии романтиков переходит в неопределенно многозначный символ, в поэтическое обобщение нации, человечества, материи («утробы»), духа и т. д. Пантагрюэльские образы ощущаются теперь как грандиозные философские идеи в нарочито грубой и чувственной форме гротеска. Произведение Рабле – «фарс бесконечно глубокого значения» (Мишле). Как раз в самых шутовских эпизодах пантагрюэльских книг романтикам чудится наибольшее совершенство формы и значительность таинственного содержания. Из всех глав «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ш. Нодье, например, выше всех ставил главу «о том, как Грангузье узнал об изумительном уме Гаргантюа, когда тот изобрел подтирку»… Нодье даже утверждает, что одна эта глава может заменить все книги на свете. «Гомер-буффон» – так Нодье и Гюго определяют Рабле. Для них гений комического гротеска достигает эпической мощи только благодаря буффонаде.
Такова эстетическая переоценка шутовского элемента у романтиков сравнительно с предыдущими веками. Теперь безмерно разрастается значение забавно-комического начала «природы», за которое Рабле любят в XVII веке, – и одновременно расширяется смысл «смелой мудрости», ценимой XVIII веком. Традиционная репутация «философа-шута» осмысляется как высший синтез поэзии и мудрости. Это – «гармонизированный хаос», – восклицает Мишле. Отсюда и необычайный культ Рабле, которого современники Гюго ставят рядом с Гомером, Данте и Шекспиром – «гениями-кормильцами» поэзии (Шатобриан).
Романтики придали идеям и образам произведения Рабле (как и «Дон Кихота» Сервантеса) универсальный характер. Сухие иносказания ожили как поэтические образы-символы и, обогатившись содержанием, приблизились к художественным типам. Но само содержание при этом потеряло определенность сравнительно с прежними историческими аллегориями с «ключом», оно стало романтически туманным, неуловимым и субъективным. Как «фарс бесконечного значения», «Гаргантюа и Пантагрюэль» утратил осязаемую реалистическую конкретность – свое определенное «конечное значение» памятника известной эпохи, ее интересов и запросов, ее исторической силы и слабости. В великом гуманисте XVI века романтики усматривают предтечу своего понимания жизни, художника, свободного от рассудочности XVII–XVIII веков, мыслителя, тяготеющего к безмерному и «бездонному», к «вечным загадкам» бытия, ответом на которые является его смех.
Бальзак разделяет неумеренный культ Рабле в первой половине XIX века. В «Кузене Понсе» он заявляет, что «Рабле – величайший ум человечества Нового времени, синтез Пифагора, Гиппонакта, Аристофана и Данте». Но великий реалист видит в Рабле одного из тех писателей, которые «всегда изучали состояние атмосферы человеческих чувств… щупали пульс своей эпохи, чувствовали ее болезни, наблюдали ее физиономию, изучали ее настроения» (Бальзак здесь как бы характеризует и свой собственный метод!); «их книга или персонаж, – продолжает он, – всегда были звучным, сверкающим призывом, которому отвечали в каждую данную эпоху современные идеи, зарождающиеся фантазии, тайные страсти». Каждый читатель затем, по выражению Бальзака, «наряжает» эпохальные образы соответственно своим представлениям и своим сомнениям. «Весь мир пришел к поэту, который дал ему имя». «Панург, Гаргантюа и Пантагрюэль, превосходные бессмертные образы, кроме своего действительно огромного значения, обязаны жизнью подобному же соответствию». Тайна жизненности великих художественных созданий кроется во «всеобщности чувств» эпохи, которая в них отражена, в их «типичности», в том, что они рисуют «весь облик общества», – и в этом художественная определенность их идейного содержания.
Бальзак поэтому решительно отвергает «невежественное» утверждение Сент-Бёва, будто «Рабле мутен по материалу и содержанию», тогда как «Рабле в своей беспримерной книге выразил ясные, беспощадные суждения о самых возвышенных явлениях человечества». Образы Рабле Бальзак раскрывает как социальные обобщения, особенно часто возвращаясь к образу Панурга. Панург символизирует Народ, так как это имя состоит из двух греческих слов, означающих «кто все делает» («Блеск и нищета куртизанок»). Причудливую фантастику Рабле Бальзак сближает с народными сказками, «этой великолепной, мощной формой человеческой мысли, формой всеобъемлющей», с «арабесками», которым «гениальный человек может придать значение хотя и смутное, но останавливающее взгляд и наводящее на мысли». По-видимому, этой «смутной» и «наводящей» формой концепции Рабле, многозначными символами и притчами, которыми он окружает свои окончательные выводы, – тем, что вызывало восхищение романтиков! – объясняется критическое заявление Бальзака: «Мое восхищение Рабле очень велико, но оно не влияет на „Человеческую комедию“. Его нерешительность мне чужда. Это величайший гений французского средневековья». К себе, реалисту XIX века, Бальзак предъявлял требование открытой и более определенной тенденции[37].
Понимание старого искусства представителями каждой эпохи, по словам Маркса, соответствует «потребности их собственного искусства», и это можно сказать о «всяком достижении каждого предшествующего периода, усваиваемом периодом более поздним»[38]. Памятники культуры, как историческое наследие, мы всегда видим историческими глазами, оно поворачивается различными гранями, и глубина его содержания проступает для потомства постепенно. Полагать, что Рабле просто был «неправильно» понят в веках, что вокруг него только слагались «легенды», что его истолкования – ряд «курьезов», как самодовольно утверждают многие новейшие критики, – значит неисторически подходить к истории вопроса о жизненности Рабле, к истории как основе самого вопроса, и тем самым закрыть себе путь к верному постижению идей Рабле и его смеха. Разумеется, в легендах и курьезах недостатка не было. Но ни одна из «вековых» версий не была произволом или недоразумением, чуждым духу произведения. Поэтому и в наше время живет – и всегда будет жить в сознании читателей «Гаргантюа и Пантагрюэля» – забавный, веселый, «безумно смешной» Рабле (непосредственный эффект произведения), – и Рабле великий разрушитель, враг предрассудков, смелый, даже в аллегориях ясный ум, – и Рабле универсальный мыслитель, реалист и фантаст, творец необъятного, как его великаны, мира идей и образов. И в то же время каждая новая аудитория Рабле ставит свои акценты на неисчерпаемом – как во всяком великом искусстве – содержании пантагрюэльских книг, по-новому раздвигая и уточняя их значение.
Уже Бальзак понял существенный изъян туманно велеречивых оценок Рабле у романтиков. Бесплодным спорам о «ключах» и всякого рода субъективным догадкам могло положить конец только конкретное изучение «Гаргантюа и Пантагрюэля» как памятника эпохи Возрождения, ее реальных идей и страстей. На вопрос о содержании комического у Рабле, о том, что он сказал и чего он, человек своего времени, еще не мог сказать, можно было точнее ответить, лишь вооружившись знаниями о веке, о литературной среде и о личности автора «Пантагрюэля» более основательными, чем те, которыми располагала историческая наука во времена Мишле.
Со второй половины XIX века представление широкого читателя о Рабле и его произведении уже формируется не под влиянием художников и поэтов, как в период романтизма (своего рода «поэтом» среди выдающихся историков Франции – ученым с могучим и страстным воображением – был и знаменитый Мишле). Теперь эта роль переходит к исследователям-специалистам, литературоведам историко-культурного направления. Общая реакция против романтической эстетики, характерная для этого периода, сказывается и на изучении Рабле, которого позитивистическая критика низводит с прежних «космических» высот на землю, стремясь раскрыть его произведение в свете исторического момента и биографии писателя. Новый образ Рабле, осторожного скептика и провозвестника буржуазного либерализма, обнаруживает, однако, даже в лучших работах этой критики (Жебар, Стапфер) свои исторические корни – официальную атмосферу «третьей республики». Вся ограниченность подобного «раскрытия» пантагрюэльских книг сказывается в академическом «раблеведении» первой трети XX века.
Энтузиазм ученого мира перед творцом «Гаргантюа и Пантагрюэля» в эти десятилетия не может быть умален. В 1903 году организуется «Общество изучения Рабле», регулярно выпускающее специальное «Обозрение» (с 1913 г. преобразованное в «Обозрение XVI века»), где публикуется множество ценных работ о литературных, фольклорных и научных источниках Рабле, о его связях с гуманизмом и Реформацией, а также биографические и текстологические исследования. Под редакцией Абеля Лефрана и при участии крупнейших специалистов начинает выходить с 1912 года критическое, тщательно комментированное издание «Гаргантюа и Пантагрюэля». Во Франции и за ее пределами появляется ряд обобщающих монографий о Рабле (А. Тилли, Ж. Платтар, Л. Сенеан, Ж. Буланже и др.). Научное изучение Рабле, казалось бы, достигает своего зенита. И все же слова А. Франса о том, что Рабле каждый раз понимают «в меру своей любознательности и сообразно направлению своего ума», никогда не звучали более язвительно, чем в применении к новейшей буржуазной критике.
Перед исследователями Рабле стала задача – развеять традиционную легенду о «философе-шуте», широко распространенную еще в конце XIX века, и восстановить истинный облик писателя и подлинный смысл его произведения. Более убедительным оказалось решение первого вопроса. Благодаря тщательным разысканиям удалось установить, что образ «веселого медонского кюре», неизвестный современникам, сложился в потомстве как плод фантазии читателей, отождествивших автора с некоторыми героями его произведения, плод своего рода «творческой фантазии», приписавшей мэтру Алькофрибасу Назье проделки во вкусе Панурга и брата Жана.
Вместо забавного шута перед читателями XX века предстал уважаемый всеми врач, искусный дипломат, доверенное лицо епископов и кардиналов, «публицист короля» (А. Лефран), которому автор «Пантагрюэля» служит своим пером, а также выполняя разные негласные поручения. Вместо загадочного философа – «гуманист», то есть, в понимании позитивистической критики, блестящий эрудит, превосходивший своими знаниями всех современников. Ботаника, зоология и физиология; математика, морское дело, военное искусство; теология, педагогика, медицина; археология, история, география; архитектура, музыка, филология – везде новейшие исследования продемонстрировали первоклассную ученость автора «Гаргантюа и Пантагрюэля».
Но кроются ли за этой эрудицией идеи более общего порядка? Можно ли говорить здесь о смелом философе, провозвестнике новых путей научного и общественного развития, как полагали в XVIII и XIX веках? На этот вопрос позитивистическая критика дает скептический или уклончивый ответ. Прежде всего его идеи – философские, религиозные, политические и этические – после исследования «источников» обычно оказываются заимствованными (равно как и самые знаменитые эпизоды его произведения). Чаще всего у Эразма, его учителя, или у итальянских гуманистов. При этом благоразумный автор пантагрюэльских книг, как правило, придает этим идеям даже менее резкую, более умеренную форму выражения. Ибо этот ученый-гуманист был «оппортунистом в лучшем смысле слова», как отмечает с явным одобрением А. Лефран. Стремясь примениться к обстоятельствам, он уже не добивается невозможной победы и только поэтому не поплатился жизнью за свои убеждения, как более смелые его современники вроде Деперье и Доле[39].
А его могучий смех? Его комическая фантазия, предвосхищающая, как казалось читателям, будущее человечество? Критики из «Общества изучения Рабле» не придают большого значения комической стороне «Гаргантюа и Пантагрюэля». Для них это либо дань дешевым вкусам массового читателя, который «менее всего был дорог» автору, смех «для отвода глаз», как полагает А. Лефран (председатель «Общества»), либо забава ученого в перерывах между серьезными занятиями (Платтар). «Высшее для художника не в том, чтобы вызвать смех или слезы», – замечает, вслед за Флобером, Буланже (ученый секретарь «Общества») в заключении своего исследования о Рабле.
Во вступительных стихах к первой книге Рабле предупреждает читателей: «здесь мало чему совершенному вы научитесь, – разве лишь по части смешного». Естественно, что, пренебрегая самым «совершенным», критика XX века не может найти в мысли Рабле единства, ее «мозговую субстанцию». Идеи, «заимствованные» из разных источников, оказываются «противоречивыми», вывод из пантагрюэльских поисков истины двусмысленным и «разочаровывающим читателя» (Платтар). За вычетом колоссальной эрудиции, порой «весьма неуместно выставляемой» (которая, впрочем, представляет большой историко-культурный интерес), и сомнительной ценности «метафизики» (Буланже) остается, правда, еще мастерство художника. «В наши дни мы ценим Рабле главным образом за своеобразие его художественной манеры», – заявляет Платтар. В чем же заключается это своеобразие?
На это дает ответ глава французских раблеведов XX века А. Лефран. «Рабле – один из величайших и самых искусных реалистов, писатель, который искал, любил и изобразил правду, или, вернее, жизнь со страстностью, последовательностью и силой беспримерной». Характер этого реализма Лефран определяет следующим образом: «Автор „Пантагрюэля“ никогда ничего не выдумывает; воспоминание, факт, какое-нибудь обстоятельство всегда лежат в основе его самых фантастических замыслов, часто вплоть до мельчайших подробностей»[40]. Руководствуясь этим положением (которое в дальнейшем стало правилом для большинства современных комментаторов), А. Лефран открыл, можно сказать, с документальной точностью, что театр военных действий во время войны с Пикрохолем расположен вокруг Девиньера, поместья отца Рабле (вблизи Шинона), где и живут Грангузье и Гаргантюа. Сам Пикрохоль – это некий Гоше де Сент Март, владелец соседней деревушки Лерце (славившейся своими пекарями), самодур и сутяга, с которым отцу писателя пришлось вступить в изнурительную, многолетнюю тяжбу. Осенью 1532 года, когда Рабле посетил родные места, ссора разгорелась с удвоенной силой и послужила материалом для знаменитого эпизода «Гаргантюа», написанного в начале следующего года. Топонимия и топография этой ссоры, названия «союзников» (селения на Луаре), даже некоторые имена отличившихся с обеих сторон воспроизведены в описании пикрохольской войны, «вплоть до подробностей». Это открытие составило славу А. Лефрана. Гораздо менее убедительно указание на две засухи 1531 и 1532 годов как на «самую важную (!) нить реальной жизни в художественной ткани» «Пантагрюэля» (рождение «короля жаждущих»). Сюжет Третьей книги – история сомнений Панурга, следует ли ему жениться, основан, согласно Лефрану, на «споре о женщинах» в литературном мире 30–40-х годов, старом, впрочем, споре, восходящем еще к XIV веку, – причем Рабле, поддерживая своего друга юриста А. Тирако, якобы возглавил партию отъявленных женоненавистников…
Этот метод «раскрытия реализма» Рабле становится просто курьезным в применении к последним книгам, когда Лефран отождествляет путешествие пантагрюэльцев к оракулу Божественной Бутылки с плаванием известного капитана Жака Картье в поисках «третьего» (после Васко да Гамы и Колумба), северо-западного, пути в Индию. Ясные социальные аллегории подменены здесь случайными географически «реальными» островами, которые посетил (или мог посетить) этот завоеватель Канады во время своего плавания: остров Гастер (Обжор) соответствует на картах XVI века острову Маргастеру, к югу от Гренландии; остров Папоманов – острову Папи, близ Исландии, и т. п. Вполне серьезно комментатор исследовал местопребывание Телемского аббатства, и оно оказалось где-то около Китая… Для многих эпизодических персонажей Рабле тем же путем найдены «реальные» прототипы среди знакомых или современников. Остался только невыясненным «реализм» основных героев: в свое время А. Лефран отождествлял Грангузье, Гаргантюа и Пантагрюэля с дедом, отцом и самим Рабле, но позже, во введении к критическому изданию, в этом усомнился.
Позитивистическая школа Лефрана, начав с ниспровержения историко-аллегорических толкований и стремясь опереться на «положительные факты», кончила тем, что по сути возродила метод «романа с ключом», только на особый лад. Место официальной истории, государственной и придворной жизни заняла личная биография автора и частный быт. Но «правда» и «жизнь», которые Лефран обнаружил в образах и ситуациях Рабле, слишком случайны и поэтому уже по содержанию, беднее по значению, дальше от жизненно типического, чем даже иносказания XVIII века. Какое дело читателю до засухи 1532 года или до названий островов на старинных картах? Пожалуй, Карл V, – «ключ» Вольтера к завоевателю мира Пикрохолю – больше говорит живому воображению читателя и ближе к исторической правде образа, чем какой-то Гоше де Сент Март. Сам Лефран признает, что подобные «намеки… через несколько лет теряют всякий интерес для читателя» (впрочем, имя Гоше вряд ли было известно и в свое время за пределами Турени). Но тем самым оценена мера подобного «реализма» художника, как и мера любознательности комментатора.
Однако понимание старого искусства и на этот раз «соответствует потребности собственного искусства». За фактографической «правдой» – например, за воспоминаниями детства, которые комментаторы школы Лефрана открывают в «Гаргантюа», – чувствуются эстетические вкусы нисходящей линии буржуазного реализма (а порой даже вкусы читателей «В поисках утраченного времени» Пруста). Не большой план произведения, не ход жизни и движение истории, но «какое-нибудь обстоятельство» (Лефран), внешний толчок для известного эпизода, случайная деталь интересуют критика, позитивистический метод которого способен с успехом объяснить лишь эмпирические подробности (например, собственные имена в пантагрюэльских книгах) и связанный с ними комический эффект.
В ренессансном реализме Рабле, так же как и новеллистов Возрождения, еще сильны пережитки архаичного «наивного натурализма». Поэтическое обобщение не вполне отделилось от эмпирического частного факта, художественный вымысел – от «правды» реального события. В основе рыцарских поэм («жест», то есть «деяния»), как и городских новелл, лежат обычно местные предания, подлинные происшествия или анекдоты, с сохранением имен реальных лиц (рыцарей, горожан, шутов). О них еще свежо предание, и поэтому «верится» без труда. Такими местными «реалиями», множеством ссылок на частные события и случайных лиц флорентинской жизни, насыщена, например, вся «Божественная комедия» Данте, что повышает «правдоподобие» загробного видения для тогдашнего читателя. Архаичный реализм чуждается чистого вымысла, художник в самом полете творческой фантазии (если это не «сказка») исходит из подлинного факта и сохраняет некоторые его случайные, внешние черты, дабы придать рассказу силу достоверного. В подобных случайных деталях еще нет позднейшего искусства типизации частного быта (достижения буржуазного реализма), они художественно мертвы, но зато доставляют благодарный материал для «реконструкций» комментаторам Данте и Рабле.
Прав поэтому Платтар, усматривая черту «средневекового искусства» в этой манере «прикреплять эпизоды пикрохольской войны к подробностям деревенской хроники» и сравнивая ее с искусством поэта XV века Вийона, когда тот в «Завещании» перечисляет имена своих товарищей, ночлежки, постоялые дворы, обозначенные их вывесками, и т. п. «Этого рода „реализм“ представлял интерес только для современников и не пережил их», – замечает критик. Не в нем, следовательно, жизненность образов Рабле (как и лирики Вийона).
«Мы видим в Рабле, – говорит Буланже, – прежде всего художника с замечательным воображением, одаренного необыкновенным мастерством слова». «Часть его внимания, – говорит Платтар, – всегда обращена на само слово: он видит, слышит, схватывает его не только в отношении ко всей фразе, но и само по себе, в его этимологии, звучании, разных смысловых оттенках, метафорическом значении… В этом источник комизма Рабле и колорита его стиля». Сказано неплохо, но неужели от пантагрюэльских книг для нас осталось только мастерство стиля?
Рабле в ходе веков, как видим, не только раскрывается, но и «закрывается» для своих поклонников.
Последнее, по-видимому, с наибольшим успехом демонстрирует автор новейшего исследования о Рабле, известный французский историк XVI века Люсьен Февр. Его книга «Проблема неверия в XVI столетии. Религия Рабле»[41] оказалась «основополагающей» для всей реакционной критики послевоенных лет. В работах либеральных ученых из «Общества изучения Рабле» за автором «Пантагрюэля» еще сохраняется репутация свободомыслящего противника феодализма и средневековой церкви. А. Лефран, ученик Э. Ренана и друг А. Франса, даже объявил Рабле воинственным атеистом, а в «Пантагрюэле» открыл целый заговор против Христа и тайное учение, доступное лишь немногим посвященным и зашифрованное в «символах», секрет которых был утрачен уже с конца XVI века. Аллегорические «расшифровки» этого рода не нашли, впрочем, поддержки даже у коллег А. Лефрана. Но тезис об атеизме и рационализме Рабле привел в величайшее негодование Л. Февра, который, читая введение Лефрана к критическому изданию «Пантагрюэля», испытал настоящий «шок» (3). Ответом и явилась упомянутая книга, плод десятилетних трудов, по значению своему далеко выходящая за пределы частного вопроса о религиозных взглядах Рабле. Это «ревизия» всей культуры Ренессанса с позиций зарубежной реакционной историографии наших лет.
Февр – историк и «социолог» новейшей «психологической» «духовно-исторической» формации. Рабле он неизменно рассматривает в связи со «средой», нравами, обычаями и достигнутым уровнем культуры. Его выводы опираются на богатую документацию, тщательно отобранную и соответственно препарированную. Культуру Ренессанса Февр рисует в духе новейших модных на Западе концепций как последний этап «докритической», «дорационалистической», религиозной культуры Средневековья, как ее «бабье лето».
Какова картина века Возрождения по Февру? Прежде всего этот век еще совершенно не знает науки. «Слово „наука“ – анахронизм для времени Рабле» (456), ибо «наука начинается только с XIX века» (457). «Мысль о том, что знание – сила, была чужда нашим предкам» (456). Умы века Леонардо, Коперника, Палисси и Рабле «в своем растущем беспокойстве довольствуются тем, что удовлетворяло их отцов и дедов» (460). (Весь пафос образа Пантагрюэля, эпизода о Гастере и речи жрицы Бакбук, таким образом, целиком сброшен Февром со счетов.) Не было тогда и никакой философии в точном смысле слова, которая начинается только с XVII века, ибо не было еще таких слов, как абсолютный, относительный, абстрактный, конкретный, индукция, дедукция, система, классификация, материализм, идеализм, пантеизм, стоицизм, оптимизм, пессимизм, рационализм, деизм и множество других (385–388)… Истории современных идей, по семантической логике Февра, без году неделя, раз для них не существовало современных терминов, возникших лишь в XVII–XIX веках… Был ли материализм в древней Индии, в античности, в Средние века – до 1734 года, когда это слово употребил Вольтер? Существовал ли скептицизм (который называли «пирронизмом») до Дидро? Идеализм до 1752 года? Стоицизм до Лабрюйера? И вообще какие-нибудь сознательные «системы» до XVII и научные «классификации» до XVIII века, раз не было этих слов? Америку, вероятно, открыл не Колумб, и даже не Америго Веспуччи, а те, кто даль ей название по имени последнего.
Более того. Это век, когда у людей даже «не было потребности в логике, в последовательности, в единстве мысли» (104). «Простодушные взрослые дети» (100), которые всему верят, ибо «мышление XVI века еще лишено понятия невозможного» (476). (Знаменитый насмешливый эпизод Рабле о тех, кто учится у «Наслышки», для Февра не существует.) Грани между реальным и фантастичным стерты для сознания XVI века, которое проникнуто «текучестью мира» (474) и едва начинает различать между явлениями во времени и пространстве: то или это, здесь или там для него еще не существует (104). Стихийную диалектику мышления в эпоху Ренессанса – его преимущество сравнительно с метафизикой позднейшей науки – Л. Февр отождествляет с «первобытным мышлением», «дологическим сознанием», которое Леви-Брюль («наш учитель», как его называет автор) открыл у дикарей (7, 473).
Между типом мышления и чувства людей XVI века и нашим поэтому решительно нет ничего общего (103). Отсюда «пафос» всей книги Февра: эпоха Возрождения не была переходом к Новому времени, деятели этой эпохи ни в какой мере не были провозвестниками и зачинателями. Лучшие умы бродят в это время ощупью, вокруг да около тайн природы, но ничего не способны открыть или предвидеть. Это век духовно «бездетных», которые «никого и ничего не породили» (460). Они выступили «слишком рано», не имея никакой научной опоры для своих смутных «предчувствий».
Поверим на минуту этой удивительной «сверхисторической» картине прогресса человеческого разума, набросанной кистью новейшего историка. Итак, эра «дологического мышления» еще переживает свой расцвет в XVI веке, а современная «логическая эра» началась чуть ли не вчера. Рассмотрим теперь идеи лучших умов Ренессанса, так сказать, «в себе», в пределах своей эпохи, раз они не имеют никакого значения для будущего. Каково их отношение к господствующим идеям и представлениям XVI века? Они не были свободомыслящими, спешит заявить Февр. Рабле, например, – «благочестивый католик», несмелый ученик Эразма, «евангелиста» и «полумистика» в трактовке модернистских исследователей. Рабле даже поражает «робким оппортунизмом» своих идей (351, 360). Рабле не только не был, но и не мог быть сомневающимся в вопросах веры. «Свободомыслящий Рабле – это анахронизм вроде Диогена под зонтиком или Марса с пушкой» (382). Ибо не было еще естествознания, не было исторического подхода к библейским текстам, не было даже метода Декарта.
Но разве XVI век – особенно в Италии и Франции – не знает смелых вольнодумцев и даже атеистов? А Жан Боден, автор антихристианской «Гептапломерос», подпольной «библии для неверующих» ближайших веков? А Джордано Бруно? Они, видите ли, выступили уже позже – через шестьдесят лет после «Пантагрюэля». А смелые современники Рабле: Э. Доле – мученик свободомыслия, или Деперье – автор атеистического «Кимвала мира»? Перу того же Люсьена Февра принадлежит интересная работа о Деперье, где «Кимвал мира» объявлен произведением законченного вольнодумца, – правда, не созданием ученого («науки не было»), а поэта, некоего «Дедала, который возносится на своих крыльях свободно, куда хочет»[42]. Таких, как Деперье, оказывается, было слишком мало (491). Но почему в числе этих немногих – так ли уж немногих? – не мог быть Рабле, которого Февр называет «одним из трех-четырех наиболее могучих и оригинальных писателей Франции»? Пусть не как ученый, а как поэт, который в своей фантазии «возносится» и так далее, возвещая – если не атеизм (тут А. Лефран, пожалуй, преувеличивает), то будущий пантеизм или деизм? Разве пантеизм, деизм, свободомыслие не древнее на много веков и новейшего естествознания, и картезианского рационализма? Например, античный эвгемеризм, популярный в эпоху Возрождения, выводивший веру в богов из обожествления героев после смерти. Ведь эвгемеризм применяли в это время и к Христу.
«Не верить! – удивляется Л. Февр. – Как будто для человека так просто порвать с обычаями, нравами и даже (!) с законами тех общественных кругов, куда он входит, в какой бы малой мере он ни был приспособленцем» (491) (последняя оговорка не лишена оттенка самопризнания).
Здесь мы подходим к характерной черте буржуазной социологии Февра. Он «топит» мысль Рабле в среднем уровне представлений эпохи. Рабле – не новатор, не передовой ум, а «представитель общепринятых мыслей и чувств своего века» (218). У него нет никаких новых идей. Среди мыслителей он занимает весьма «скромное место». Книга Рабле «отличается от церковных сочинений лишь тем, что она мастерски написана» (181).
А его смех? Рабле смеется, как добрый католик доброго старого времени – до Тридентского собора, до контрреформации и усиления строгостей. Как добрый католик, который знает, что смех – не грех, даже когда речь идет о священных материях (182). Милые, старые шутки, которые лишь свидетельствуют об абсолютной, нерушимой вере. Рабле, как и его герои, как и все люди XVI века, верит в чудеса и полон предрассудков. Его религия выражена в проповедях благочестивых великанов, которые Февр советует принимать всерьез. Правда, когда речь заходит о чудесах, Панург кощунственно смеется, но «смех Панурга лишен значения» (289), как, впрочем, и смех самого рассказчика. Это невинные шутки со священными материями. Современному читателю без помощи ученого-комментатора никогда не разобраться в этом смехе. Рабле, например, «скорбит», что в Париже фокусник собирает на улице бóльшую аудиторию, чем проповедник в церкви (163). Он же «вероятно, сожалеет», что лубочной народной книги о Гаргантюа было продано за два месяца больше, чем Библии за девять лет.
Но ведь это насмешки, скажут читатели. Нет, не насмешки!
По поводу сказочного рождения Гаргантюа, который «вылез через левое ухо», Рабле высказывает подозрение, что читатель этому не поверит, но напоминает ему, что для Бога нет ничего невозможного; если бы Бог захотел, то все женщины рожали бы детей через уши. Соломон говорит: «Innocens credit omni verbo» («Невинный верит всякому глаголу»). Не только Лефран, но даже более осторожный Платтар видит здесь самую злую раблезианскую иронию. Но Февр решительно с ними не согласен. Видеть здесь шутку значит смотреть на Рабле «сквозь очки XX века» (173). Да! Бог все может. Ибо «все тогда верили в благодать» (174). Знаменитый врач XVI века, который допускает, что дети могут рождаться через ухо! Читателю действительно не разобраться в «первобытном дологическом сознании» подобного автора. Книга Рабле для нас – за семью печатями.
Февр – скептик, позитивист. «Историк – не тот, кто знает, а тот, кто ищет» (1). Он верит только фактам. Его книга насыщена документами. Впрочем, и к фактам он подходит с недоверием, «критически». «Когда речь идет об историческом факте, у нас никогда нет абсолютной уверенности. Мы ищем» (227). Он признается, что «после такого количества превосходных исследований о Рабле его образ все же остается для нас неясным. Его образ раздваивается. Кто он? Блюдолиз, пьяница, который, напившись, вечерами сочиняет всякие мерзости? Или ученый-врач, образованный гуманист, воспитанный на античных текстах, великий философ, князь философов?» (98). Но «сомнения» Февра – скромность не без кокетства. Образ Рабле в его книге не раздвоен и чужд авторских сомнений. Он оставляет вполне законченное и цельное впечатление – у читателя, который никогда не держал Рабле в руках. Моделью для Рабле Февра послужил Пантагрюэль последних книг, но без Панурга и брата Жана, – Пантагрюэль, благочестивый проповедник и эрудит, без комического начала, без внутренней иронии, без движения и жизни, – маска Пантагрюэля, которую никто из читателей никогда не принимал всерьез. По отношению к этому Пантагрюэлю Февр настроен торжественно. Как же! Религия великанов! Не омраченная никакими сомнениями вера в чудеса. Например, Пантагрюэль, рассуждающий о всяких чудесах, небесных знамениях и других явлениях, «противоречащих всем законам природы» и сопровождающих переселение душ героев в иные миры (причем даже вычисляется длительность жизни сатиров, водяных, демонов, нимф и героев в 9720 лет). Правда, брат Жан тут же высказывает сомнение («Этого у меня в требнике не стоит. Поверить могу только в угоду вам»), и сам Рабле заканчивает эпизод издевательской клятвой, что он не солгал ни на одно слово. Но зато Февр не сомневается: «Прежде всего не надо думать, что Рабле в этой главе забавляется. Он говорит об этом таким важным тоном» (483).
Февр – скептик лишь по отношению к Рабле, обращенному в будущее. Рабле провозвестник прогресса – это анахронизм, то есть смертный грех для историка (8). Смех Рабле? Его ирония? Но читатель не должен верить своему чувству комического. «Ирония – дочь времени» (172). Может быть, рождение Гаргантюа через ухо – это и шутка, но невинная шутка верующего. Ведь «мы не знаем пределов веры Рабле» (473), он об этом ничего не говорит. Но мы знаем, что это был «век глубокой веры» (заключительные слова книги Февра), век простодушных взрослых детей. Главное для Рабле в эпизоде о рождении Гаргантюа – Бог все может, и innocens credit omni verbo.
Февр, таким образом, догматик – по отношению ко всему, что связывает Рабле с прошлым и косным. По отношению к исторически ограниченному, религиозному, ненаучно-фантастическому в Рабле (как и в гуманизме в целом). Он знает Рабле (хотя «историк – не тот, кто знает»). Он знает, что Рабле простодушно верил в то, во что верили «все» в его время, – кроме разве «глупой веры бедных идиотов» (правда, граница тут неясна, ведь «мы не знаем пределов веры Рабле»). Следуя совету Рабле, Февр понимает каждое слово в прямом смысле. Он уже не ищет. Он верит. Innocens credit omni verbo.
Но – оговоримся – не всегда верит. Ведь Рабле иногда в положительной форме (без малейшей иронии, которой, как мы уже знаем, нельзя доверять) высказывает истины необычные, смелые и отнюдь не общепринятые. Как бы читатель, следуя этому же совету, не усмотрел здесь «провозвестника»! На сцену тогда опять выступает Февр-скептик, который знает, что когда речь идет об историческом факте, у нас никогда нет и не должно быть абсолютной уверенности. Например, в эпизоде Телемского аббатства Рабле заявляет, что люди «от природы» наделены стремлением ко «всему хорошему и не нуждаются поэтому ни в каких ограничениях. Знаменательные, памятные каждому читателю слова. Как тут не подумать о „природе“ Руссо, об освободительных идеях буржуазных революций, о преемственной связи Возрождения с Просвещением, с культурной традицией. Но Февр спешит объяснить, что природа Рабле – это не природа в нашем смысле, не природа естествоиспытателей XIX–XX веков, „эта соперница бога теологов“, – „об этом Рабле и думать не мог“ (309), природа Рабле это… Бог. „От природы“, если угодно (!), означает: согласно разуму Бога, когда человек идет за Богом» (310). Попробуйте после этого прочитать главу о жизни телемитов. «С постели вставали, когда заблагорассудится, пили, ели, работали, спали, когда охота приходила…»
Затем, Рабле недвусмысленно отвергает астрологию. И не где-нибудь, не шутовскими выходками недостаточно солидного Панурга, а в знаменитом письме Гаргантюа к сыну, одной из самых серьезных глав всего произведения. Что бы это означало? Не противоречит ли это образу Рабле у Февра? Ничуть. Дело в том, что некоторые выдающиеся умы этой эпохи – такие, как Агриппа Ноттесгеймский, осмеянный у Рабле под именем Гер-Триппа, даже Помпонацци – в фантастических поисках законов природы, освобождающих науку от теологии, а человеческие дела от вмешательства божества, приходили и к астрологии, которая якобы устанавливает строгую детерминированность жизни. А Рабле, отвергая влияние небесных светил, тем самым отрицает закономерность хода вещей в природе и обществе, допускает чудеса и все возводит к Божьему промыслу (268–269)… Этакие шутники эти новейшие комментаторы Рабле! Пожалуй, почище самого Рабле.
Впрочем, за скепсисом Февра, как и за его догматикой, кроется также свое «направление ума», по выражению А. Франса. Своя, так сказать, «романтика», несколько неожиданная для солидного историка[43], но подсказанная современными реальными интересами.
Февр не скрывает своего умиления перед созданной им легендой о веке Возрождения. «Наши предки были счастливее нас» (99). «Мы люди оранжерейные, они жили под открытым небом» (461). Ибо по устремлениям лучших своих представителей то был «век воодушевления, который во всем видел прежде всего отражение божества» (500). С именем Бога, уповая на Бога, изучали древних, старались приблизиться к ним в совершенстве божественного стиля, дабы прийти к мистическому слиянию с божеством (501). Усилия лучших мыслителей XVI века были направлены к установлению согласия между растущими знаниями о природе (это в век, когда еще «не было науки»!) и понятиями о Боге (499). Вот чему мы должны у них учиться… Но ведь между нашим типом мышления и их «первобытным» «нет ничего общего»? Воистину романтически безысходный разлад между идеалом и действительностью.
Послушаем самого Февра о том, что побудило его «пересмотреть» всю науку о Рабле. Конечно, не только ужасное «Введение» А. Лефрана. «Каждая эпоха создает свое представление об историческом прошлом: свой Рим, свои Афины, свое средневековье и свой Ренессанс… Наши отцы сотворили свой Ренессанс, и он по наследству перешел к нам; в пятнадцать лет мы с товарищами читали „Философию искусства“ И. Тэна; в восемнадцать питались Буркхардтом. И мой Рабле также долгое время был Рабле Э. Жебара: однако… с 1900 года по 1941 какие трагедии и разочарования!».
Так вот почему понадобилось – рассудку и фактам вопреки – перелицевать Рабле и из Пантагрюэля Ф. Рабле, «жаждущего знаний», смастерить Пантагрюэля Л. Февра, «жаждущего» веры!
Идеи автора «Религии Рабле» распространяются сейчас во Франции многими последователями «нового» учения, которое завоевывает и академическую науку, прежнюю цитадель школы Лефрана. К 400-летию со дня смерти Рабле был издан юбилейный сборник последних достижений раблеведческой мысли в серии «Труды по гуманизму и Ренессансу», VII[44]. Здесь помещена работа Ю. Жано «Политическая мысль Рабле». Метод тот же, что у Февра: понимать буквально, без иронии. Отсюда и выводы. В политике Рабле был таким же приспособленцем, как и в религии («его политические воззрения, насколько они выражены, исключительно конформистские»). Его идеальный строй – «христианская и феодальная монархия». Доказательства: 1) Панургу по окончании войны дарован во владение замок Сальмигонден – но феодальному обычаю; 2) Королева Колбас, побежденная Пантагрюэлем, признает себя его вассалом и обязуется («в порядке феодальной верности», как замечает сам Рабле) присылать ему ежегодно для закусок перед обедом 78 000 королевских мясных колбас, а также помогать ему против врагов; 3) сам Пантагрюэль говорит, что ему «не по душе любовь к новшествам и презрение к обычаям». Место Рабле как политического мыслителя поэтому «одновременно выдающееся и скромное» (скромное по идеям, выдающееся по стилю).
В этом же юбилейном сборнике помещена статья Ф. Дезоне «Перечитывая Телемское аббатство», посвященная этике Рабле. Пользуясь методом Февра, но «углубляя» учителя (который все же не сомневался в серьезности и даже глубоком благочестии эпизода Телемского аббатства), Дезоне приходит к выводу, что этот эпизод «не итог» этики Ренессанса, как всегда полагали, а «фарс» и «ловушка для дураков». Вся глава о жизни телемитов – это только безрассудная шутка Рабле. Ведь «делай что хочешь» исключается всей его концепцией, согласно которой «человек и шагу не может ступить без промысла Божьего». Пустая, антимонашеская шутка, где автор, увлекшись чистым словотворчеством (как мастер стилистических вывертов), впал в противоречие с самим собой и попросту «спятил с ума» (il déraille). Вслед за теми, кто, «перечитывая» Рабле, открывает в нем раба Господня и дологическое мышление, идут менее солидные «исследователи», обнаруживающие в нем слугу дьявола и сверхлогическое мышление. Еще в 1905 году Жозеф Пеладан, французский романист и мистик, возродивший общество «розенкрейцеров», выпустил книгу с «ключом» к Рабле, открыв в авторе «Пантагрюэля» члена тайного общества франкмасонов XVI века. Но версия «оккультного Рабле» до последних десятилетий не принималась всерьез. Теперь же творцы новой легенды о «медонском колдуне» (название книги о Рабле некоего Э. Леви) уже вступают в спор с последователями Февра, по сути модернизировавшими старую легенду о «медонском кюре». Из работ этого сорта можно назвать недавно выпущенную парижским оккультным издательством книгу Поля Нодона «Рабле франкмасон»[45], где автор стремится «снять» спор между А. Лефраном и Л. Февром неким «синтезом». Февр прав, утверждая, что эпоха Возрождения не была началом Нового времени, но он не прав, отрицая ее науку. На самом деле это была эпоха синтеза средневековой веры и античной науки, мистического синтеза двух культур прошлого. Современники Рабле мыслили, но не словами, а «герметическими» символами, рассчитанными «на немногих». Рабле писал языком одновременно эзотерическим и мистическим. Например, в понимании эпизода о рождении Гаргантюа не прав Лефран, ибо этот эпизод не направлен против христианства. Но не прав и Февр – это не невинная шутка или выражение пламенной веры в Бога. На самом деле здесь символическое «рождение посвященного», который жаждет мистического знания в духе гностиков и поэтому-то он рождается «через ухо», – как неофиту, ему положено «слушать». Пантагрюэльские книги истолкованы у Нодона как энциклопедия астрологии, алхимии, магии и всяких криптографических наук. А как же с насмешками Рабле над наукой Люлия и всякими гаданиями и астрологами? Это маскировка и предосторожность, ибо автор писал для «посвященных». Старая, знакомая песня!
Нельзя недооценивать вред, нанесенный книгой Февра. Разумеется, ее метод был подготовлен предшествующей реакционной историографией Возрождения (Нордстрём, Хёйзинга, Жильсон и др.). Но примененный авторитетным историком к величайшему и популярнейшему писателю французского Ренессанса, этот метод расчистил путь для реакционно-тенденциозных и просто шарлатанских работ. Появление книги о «Религии Рабле» положило начало глубокому кризису буржуазного раблеведения. Но значение ее выходит за пределы репутации Рабле в реакционной французской критике.
В статье «Официальное банкротство науки о Рабле»[46], написанной в 1953 году, когда по призыву Всемирного Совета Мира человечество отмечало 400-летие со дня смерти великого гуманиста, прогрессивный французский писатель Пьер Декс даже полагает, что на родине Рабле этот юбилей прошел в атмосфере общественного равнодушия. Круг читателей Рабле отнюдь не расширяется, исследования о нем бойкотируют. Рабле во Франции академизирован. «Он поистине набальзамирован, освящен церковью, похоронен в Сорбонне и стал недоступным». Ибо после выхода книги Февра все читатели оказались перед непроницаемой мумией, далекой от нашего мира, погребенной под горами текстов… Образ Рабле не только стал расплывчатым – он попросту исчез, уступив место сомнению касательно любой идеи, которую можно извлечь из его произведения, некоему «головокружительному ничто». Читатель подавлен эрудицией исследователей, он больше не верит тому, что читает, и не поддается тому, что текст говорит его, человека Нового времени, разуму. Пьер Декс даже полагает, что такой эффект был сознательной целью Февра, и определяет его книгу как «самую утонченную попытку за все четыреста лет отрезать от нас произведение Рабле». И все же «великаны Рабле пробиваются к нам сквозь туман, напущенный Февром».
Для современной французской критики Рабле – после всех разысканий п исследований! – «автор не столько неправильно понятый, сколько попросту непонятный»[47]. Кризис буржуазного раблеведения – не в «загадочности» Рабле. Загадкой, как мы видели, он представлялся кой-кому и прежде, начиная с Лабрюйера и вплоть до Сент-Бёва. Но раньше Рабле казался сложным, противоречивым, «мутным» (Сент-Бёв), даже возмутительно беспорядочным, какой-то «химерой» (Лабрюйер). О нем спорили, его превозносили до небес или ставили ниже всякой критики (Ламартин), раскрывали его образы и символы, вдохновлялись его идеями, черпали из пантагрюэльского источника, который всегда казался неисчерпаемым и бездонным. После книги Февра и благодаря его последователям Рабле скорее перестал быть загадочным. Ларчик открылся просто: «первобытное дологическое сознание». Весьма примитивное, хотя нам и недоступное, по части познания жизни – «головокружительное ничто», по уровню идей – какое-то палеонтологическое ископаемое, но – интереснейший стилист! Писать о нем стало легко – нужно только «перевернуть» непредубежденное понимание текста, а «перечитывать» в целях модернистской критики просто занимательно. Рабле, который всю жизнь смеялся над всякого рода гадателями, ныне в елисейских полях, наверно, смеется над своими комментаторами, заметил еще А. Франс.
Из этого беглого очерка эволюции оценок Рабле в веках нетрудно заметить, что плодотворным всякий раз оказывалось лишь то понимание его произведения, когда не умалялось значение его смеха, когда комическое начало не отделялось от освободительных и прогрессивных идей, от содержания «Гаргантюа и Пантагрюэля». Лишь в этом случае открывался новый, важный для жизни аспект его создания. Во все века Рабле оставался для живого восприятия аудитории прежде всего гением комического.
Уже историко-аллегорическое направление XVIII – начала XIX века, частично возрожденное в XX веке А. Лефраном, в известной мере отделило хитроумно обоснованными «ключами» «тайное» содержание образа Рабле от непосредственного комического впечатления. Между автором и читателем встал комментатор. Вольтер по этому поводу заметил, что комическое, которое нуждается в длинных объяснениях, уже неинтересно, «всякий комментатор остроумия – глупец». Исследователи из «Общества изучения Рабле» в борьбе с легендой о «медонском кюре» невысоко оценивают собственно комические эпизоды, противопоставляя им Рабле-«гуманиста», но они еще не берут под сомнение читательское восприятие этих эпизодов. И только Февр своим положением об «иронии – дочери времени» учит читателя не доверять своему комическому чувству. Между автором и читателем опять встает ученый посредник. От XX века отчуждаются не только идеи Рабле, но и его смех.
Развеять «туман, напущенный Февром», может только смех самого Рабле. Необходимо изучить прежде всего источники этого смеха: историческую почву комического у автора «Гаргантюа и Пантагрюэля» и его гуманистическое представление о человеческой природе. Затем – назначение комического, роль, которую смех играет, по Рабле, для познания жизни, для развития, для человеческого счастья.
Смех Рабле – единственный ключ к его мудрости. Это «ключ» самого автора.
II. Источники комического. Движение и время
По источнику эффекта комизм в «Гаргантюа и Пантагрюэле» принято относить к гротеску. Но в гротеске Рабле еще чувствуется первоначальный смысл термина, во многом отличный от того, что искусство XIX века вложило в это понятие. При всей фантастичности гротеск у Рабле гораздо менее субъективен, чем у Гофмана, Гюго или Диккенса, более динамичен и близок наивному стихийному реализму. Он непосредственнее передает природу самой жизни, в нем воплотившейся.
Термин «гротеск», как известно, возник в изобразительном искусстве эпохи Возрождения. Так была названа своеобразная живопись, обнаруженная Рафаэлем и его учениками в «гротах» во время археологических раскопок, произведенных на месте, где некогда стояли термы (общественные бани) Тита. Гротески известны, таким образом, еще античному – как и средневековому – искусству, но в эпоху Возрождения они привлекают особый интерес художников (ученики Рафаэля подражают им во фресках лоджий Ватикана и дворца Дориа в Генуе). Вначале – термин для обозначения одного вида орнаментального искусства – гротеск постепенно все более осознается как самостоятельный способ художественного постижения жизни.
В узком смысле гротеск, как и в античной стенной живописи, – причудливое переплетение форм чисто геометрических, растительных, животных и человеческих. Живая и мертвая природа, в особенности растительное и животное царство, переходят здесь друг в друга. Элементы выписаны со всем правдоподобием естественной натуры, но фантастичны сочетания, взаимопереходы форм и целое. Гротеск – искусство перехода жизни из одного состояния в другое.
Жизнь проходит в гротеске по всем ступеням – от низших, инертных и примитивных, до высших, самых подвижных и одухотворенных, – в этой гирлянде разнообразных форм свидетельствуя о своем единстве. Сближая далекое, сочетая взаимоисключающее, нарушая привычные представления, гротеск в искусстве родствен парадоксу в логике. С первого взгляда гротеск только остроумен и забавен, но он таит большие возможности. Он радует взор чувственным богатством мира, но способен и устрашать. Он не только фиксирует наличное, но указывает на движение предмета, на неожиданное разрешение. Гротеск, как показала история его развития, может быть комическим или трагическим, юмористическим или саркастическим (часто и здесь одно начало переходит в другое), но он всегда активен. Апеллируя к фантазии, он известным образом направляет творческое воображение аудитории.
В литературе – в искусстве слова, обращенном к воображению, – гротеск раньше всего перестал играть техническую роль, стал самодовлеющим художественным методом большого искусства. В литературе эпохи Возрождения – переходной, переломной поры в развитии европейского общества – гротеск как метод впервые обрел исторический смысл. В образах «Гаргантюа и Пантагрюэля» срослись две исторически взаимоисключающие эры, два «царства» в истории европейского общества, и в этом основной источник комического у Рабле. На дистанции веков мы можем в условном смысле провести эту аналогию до конца: культура эпохи Возрождения была переходом от «растительного» прозябания, от инертной патриархальной жизни Средневековья к более динамическому обществу, основанному на «животной» войне всех против всех, к «зоологическому царству» буржуазии. Правда, современникам Рабле этот исторический переход еще не мог рисоваться в таком свете (его характер яснее Шекспиру, в конце Возрождения). Знаменитое письмо Гаргантюа к сыну (II-8) проникнуто гордостью за свой век, когда после «темного времени пагубного и зловредного влияния готов» произошла «столь благодетельная перемена» и засиял свет восстановленных в своих правах наук как залог постоянного совершенствования человечества. Но и аудитория Рабле полна сознания, что переживает великое переходное состояние.
Гротеск прежде всего ощущается как нечто необычайное и курьезное. Это Гаргантюа, на которого, по приезде его в Париж, сбегаются глазеть жители, как на диковинку. Парижане «так глупы, так тупы», что великану, дабы отвязаться от толпы зевак, пришлось довольно своеобразно их искупать – для смеху (par ris), откуда город получил название Париж (Paris). Новая жизнь, пропущенная сквозь привычные представления, сначала кажется причудливым созданием фантазии, шутовством парадоксальной мысли. В этом иногда источник чисто комического эффекта как несоответствия между ожидаемым и разрешением. Его тогда можно назвать субъективно историческим, так как он коренится в традиционном полусредневековом восприятии.
Вся концепция «Гаргантюа и Пантагрюэля» может послужить здесь примером. Через произведение проходит раблезианский параллелизм «вина» и «знания». Посещая новый город, герои Рабле первым делом интересуются, «какие тут есть ученые и какое тут пьют вино» (I-16). Сам автор «выпивая творит, творя выпивает» (Пролог к III книге). Голова Пантагрюэля названа «кувшином для вина» (II– 33), а книга пантагрюэльской мудрости «бочкой» (Пролог к III книге). Рабле бесконечно забавляется этим сближением чувственного с духовным. «А ну-ка послушайте», «А ну-ка выпейте» – обычное авторское обращение к читателю. Ученый Таумаст, готовясь к предстоящему диспуту с Пантагрюэлем, всю ночь испытывает величайшую «жажду». Начиная с грандиозной картины засухи в год рождения Пантагрюэля, короля Жаждущих – когда сама природа жаждала! – и вплоть до знаменитого «тринк», разрешающего сомнения пантагрюэльцев, – все строится на этой двуплановости «жажды»[48].
Конечно, «вино» у Рабле не условность, не иносказание восточных мистиков. Но все же это в какой-то мере стилистический прием («синекдоха»), своего рода эмблема, как, впрочем, и мотив «знания». Прославление вина, как реабилитация плоти – против аскетизма. Прославление знания и духовного развития – против всякого рода обскурантизма: научного, религиозного, общественного. «Ибо между телом и духом существует согласие нерушимое» (III-13), учит Пантагрюэль. «Писания отшельников и постников такие же дряблые, худосочные и полные ядовитой слюны, как и их тело»[49] (III-13). Для древнего изречения «истина в вине» у входа в храм Божественной Бутылки жрица Бакбук находит новое толкование. Вино (которое по этимологии Рабле происходит от латинского слова vis – сила) таит в себе силу и истину. Великий Гастер (Желудок) – отец всякого знания, «первый магистр всех наук и искусств». Или в переводе на народный язык Панурга: «Голодное брюхо к учению глухо» (III-15).
Чувственно-жизнерадостная «двуплановость» Рабле сохраняет всю силу своего комизма до наших дней. Для нас, однако, здесь гротескна лишь форма выражения, которое Рабле придал гуманистической мысли эпохи, этот переход «вина» в «знание», отождествление чувственного с духовным. В основе учения доктора медицины Рабле лежит античная, ставшая для нас уже трюизмом, сентенция «в здоровом теле здоровый дух», лишь принявшая курьезную, утрированную форму.
Но для аудитории Рабле, только что вышедшей из недр Средневековья, курьезным представляется также само содержание пантагрюэльской мысли, парадоксальной – сама логика «нерушимого согласия между телом и духом», В хронологически первой из «книг, полных пантагрюэлизма»[50], приравненных автором к текстам Евангелия, новое учение определяется как искусство «жить в мире и радости, в добром здравии, пить да гулять» (II-34). Современникам Рабле, несомненно, по вкусу был такой образ жизни, народ умел его ценить и в Средние века. Однако для читателя, воспитанного в вековых патриархальных и христианских представлениях о самоограничении и победе духа над плотью как единственном пути к высшему знанию, для этого читателя само учение о «нерушимом согласии», как пути к божественной мудрости, кажется сперва прихотливой игрой ума, забавным гротеском.
Среди знаменитых произведений гуманизма Ренессанса есть только одно, глубоко родственное в этом отношении «Гаргантюа и Пантагрюэлю». Это «Похвальное слово Глупости» Эразма Роттердамского, старшего современника Рабле и его учителя. Недаром так часты у Рабле заимствования и пересказы целых страниц из комического панегирика Эразма, обычно без указания источника, ибо он у всех был на устах. В «Похвальном слове» наивное удивление перед непривычными сближениями принимает форму «обнаженного приема». Вместо беглого замечания о «глупых и тупых парижанах», глазеющих на Гаргантюа, здесь на протяжении всей речи с трибуны не сходит сама богиня Глупость. В особенности в первой, «общечеловеческой», части ее речи, где Глупость доказывает, что она источник всякой жизни и счастья на земле, комизм знаменитого парадокса Эразма носит чисто гротескный характер в духе Рабле, – жизнь здесь пропущена через призму традиционных представлений о мудрости. Мория, вполне последовательно отождествив себя с «неразумием» чувственной и радостной Природы, от которой отвернулся строгий и аскетический Рассудок схоластов, по существу защищает в «остраненной» форме пантагрюэльский совет «жить в мире и радости, в добром здравии, пить да гулять», как мудрость Природы, как новую истинную мудрость. Комизм отождествления Глупости с Жизнью здесь того же порядка, что и «вина» со «знанием» в двухпланной пантагрюэльской «жажде». В гротеске Эразма и Рабле причудливо, подобно фантастическому сплетению разнородных элементов в росписи гротов, срастается в одно целое то, что исторически представлялось взаимоисключающим.
Уместно здесь отметить, что образ доброго и мудрого великана для тогдашнего читателя – комически неожиданное сочетание, ныне не ощущаемый причудливый «оксюморон», вроде «горячего снега». Великаны, чудовища в античной и средневековой традиции наделены фантастической мощью, но это чаще всего злобные, дикие, чуждые справедливости и глуповатые существа (ср. Полифем в «Одиссее»). Вроде кита – несоразмерно маленький мозг и колоссальное тело. Ведь в них воплощены слепые и враждебные человеку силы неразумной природы. От гомеровского Одиссея до Дон Кихота Сервантеса – долг героя поэтому побеждать великанов и истреблять чудовищ. В первой части «Пантагрюэля», наиболее близкой к народной книге, великаны армии Анарха, с которыми воюют пантагрюэльцы, даны еще в духе традиции. Но в трех центральных образах великанов сочетаются грубая мощь природы и нравственная высота человека. Чудовище – и герой, физическая сила – и мудрая доблесть («вино» и «знание» на языке Рабле) – сливаются. И даже в заголовках на смену «ужасающим деяниям» первых двух книг – ироническая дань традиции – приходят «героические деяния доброго Пантагрюэля» трех последних книг[51].
Обучение Гаргантюа показано в контрасте с «прежней методой… бывших его наставников» (I-21). Гуманист Понократ, в противоположность схоластам, сочетает в своей системе физическое развитие с духовным, труд с игрой, чтение – с живым наблюдением. Арифметика усваивается с помощью игральных карт, астрономия – во время ночных прогулок, а в латыни совершенствуются на лужайке, списывая забавные эпиграммы. Королевский сын обучается не только всем наукам и искусствам, но и всякого рода простым ремеслам и т. д. Система воспитания и обучения у Рабле, как и у других великих педагогов-новаторов эпохи Возрождения (Яна Коменского, Витторино да Фельтре), поражает современников непривычным сближением взаимоисключающих начал.
В эпизоде Телемского аббатства наиболее обнажена субъективно-историческая основа комического у Рабле. Брата Жана по окончании войны с Пикрохолем должны наградить за подвиги, и Гаргантюа хочет его назначить аббатом монастыря, но тот отклоняет от себя эту честь. «Как я буду управлять другими, – говорит он, – раз не умею управлять самим собой» (I-52). Идеальный новый монастырь, который учреждают по вкусу брата Жана, должен быть во всем противоположен существующим монастырям. Комизм устройства Телема основан на сознательном выворачивании наизнанку традиции. Так как «в монастырях все размерено, рассчитано и расписано по часам», в Телеме указом будут воспрещены всякие часы, ибо «считать часы – это самая настоящая потеря времени». Так как «в женские обители мужчины проникают не иначе как тайком и украдкой, то в Телеме вводится правило, воспрещающее женщинам избегать мужского общества, а мужчинам – общества женского» (I-52) и т. д.
Но гротеск этого эпизода – одного из важнейших в произведении – далеко выходит по значению за пределы ограниченного восприятия жизни средневековым сознанием. Телемское аббатство не столько необычный монастырь, – как «монастырь» Телем заведомо условен, – сколько обращенная к будущему утопия нового общества, подсказанная переживаемым социальным кризисом и младенчески незрелым состоянием капиталистических противоречий.
Через все описание жизни телемитов проходит знаменательный контраст между неограниченной свободой личности и законченной организованностью общественного целого. «Вся их жизнь была подчинена не законам, уставам и правилам… Их устав состоял только из одного правила: „Делай что хочешь“. Однако тут же подробно описываются архитектура зданий, одежда телемитов и повседневные их занятия – везде, оказывается, торжествует ренессансная симметрия и соразмерность, порядок и единство… Ибо, как объясняет автор, благодаря этой свободе „возникло похвальное стремление делать всем то, чего, по-видимому, хотелось кому-нибудь одному. Если кто-нибудь из мужчин или женщин предлагал: выпьем! – то выпивали все… Если кто-нибудь предлагал: пойдемте порезвимся в поле! – то шли все“»(I-57). Гротеск перехода стихии в гармонию – основа всего телемского эпизода. Для ренессансного гуманизма здесь показателен примат свободной личности: общество, как добрая семья, сообразуется с желаниями каждого «одного», а не наоборот. (В дальнейшем повествовании, руководствуясь этим правилом, вся компания пантагрюэльцев во главе с королем – тоже своего рода телемское общество! – отправится в дальнее и опасное путешествие, понадобившееся одному из ее членов.)
Своеобразная «демократия наизнанку», картина Телемского аббатства явно направлена против патриархального поглощения личности обществом, где человеческая самодеятельность подавлена всякого рода запретами, «законами, уставами и правилами», но концепция Рабле чужда анархии и антисоциальности. Наоборот, для его любезных и в высшей степени общительных телемитов – законченного выражения французского национального характера – нет иного источника и цели влечения, кроме общества. «Ибо люди свободные, благородные, образованные, вращаясь в порядочном обществе, уже от природы обладают инстинктом и побуждением, которые их толкают на поступки добродетельные и отвлекают от порока: этот инстинкт называют они честью». Инстинкт и честь, голос природы и голос общества, начало стихийное и разумное сближены (подобно «вину» и «знанию») вплоть до отождествления. В гуманистической этике Рабле они еще не сталкиваются, как в позднейших непримиримых антиномиях начиная с XVII века. «Делай что хочешь» поэтому само собой переходит в гармонию и единство общей картины – вплоть до мелочей. Все мужчины Телема из взаимной симпатии даже одеваются одинаково, а также женщины, причем первые ежедневно подбирают себе костюмы в тон туалету дам, «ибо все делалось согласно воле дам» (I-56). «Взаимная симпатия» – вместо «тирании мод»…
Картина Телемского аббатства, направленная против патриархальной действительности, обнаруживает для позднейшего читателя патриархальную ограниченность самого идеала гуманизма. В предвосхищении будущего мысль Рабле связана своим временем, его материальными возможностями и историческим опытом. Дело не только в том, что в распоряжении его «неограниченных» и всесторонне развитых телемитов находится неограниченное количество слуг, обеспечивающих гармоническую жизнь для культурного меньшинства. Было бы неисторичным на этом основании усомниться в демократизме мысли Рабле. Его взгляд на роль народа в разумном обществе ярче всего высказан в начале Третьей книги: «Словно новорожденного младенца, народ должно поить молоком, нянчить, занимать. Словно вновь посаженное деревцо, его должно подпирать, укреплять, охранять от всяких бурь, напастей и повреждений. Словно человека, оправившегося от продолжительной и тяжкой болезни и постепенно выздоравливающего, его должно лелеять, беречь, подкреплять» (III-1).
В середине следующего века английский философ Гоббс также сравнит народ с ребенком, но повзрослее, нуждающимся в опеке иного характера, чем у Рабле. Теория государства Гоббса (в век расцвета абсолютизма) – уже порождение буржуазного общества, осознанного как война всех против всех. Оно призвано обуздать законами антисоциальные инстинкты «естественного состояния» и, как Левиафан, поглотить народ, этого «дюжего, но злокозненного малого» (puer robustus sed malitiosus). Образы, которыми пользуется автор Телемского аббатства для обозначения народа (новорожденный, молодое деревцо, выздоравливающий больной), его осуждение демоворов-народоглотов свидетельствуют о большем доверии к стихийному «природному» началу в общественной жизни у «людей, основавших современное господство буржуазии», о меньшем сравнительно с XVII веком историческом опыте, о чертах патриархального прекраснодушия у гуманистов на заре капиталистической эры.
История показала несостоятельность антропологического натурализма, которым Рабле пытается снять гротескное несоответствие между стихийностью и организованностью телемского устройства, основанного на учении о «доброй и свободной воле» человеческой природы. Она показала, какие антисоциальные, отнюдь не «добрые», как и не «свободные», инстинкты были раскованы ходом капиталистического развития в этой «природе». Но если «Утопия» более проницательного Т. Мора – в Англии, где аграрный переворот уже в XVI веке обнажил бесчеловечность капиталистического раскрепощения собственнических «инстинктов», – положила в Новое время начало исканиям социалистическим, то утопия его французского современника, еще фантастически беспечная в отношении экономических условий, стоит у истоков всего последующего буржуазного гуманизма и питает веру в человека, веру в общественную его природу как залог социального прогресса и возможной гармонической жизни (например, в учениях просветителей XVIII века).
Для понимания источников комического у Рабле преимущественно важны контрасты и несоответствия самой культуры Возрождения как начала Нового времени. Гротескно на сей раз движение и ход самой объективной жизни, а не только ее преломление через косное восприятие.
«Пантагрюэль» открывается главой о происхождении рода великанов, которая сразу вводит читателя в своеобразный мир Рабле. В первые времена, узнаем мы, земля была необычайно плодородной. Урожай был особенно на кизил, обладавший тем свойством, что у каждого, кто его вкушал, сказочно разрастались органы: у этих рос живот, у других вытягивались ноги, вздувались плечи (от них пошли горбуны) или уши – так что из одного уха можно было сшить себе костюм, а другим покрываться как плащом… У иных же невероятно разрастались все органы – и от тех произошли великаны. Эта глава о буйном цветении на пороге новой эры, о брожении жизненных сил и парадоксальной диспропорции гротескного роста символична для всего характера комического в этой гротескной энциклопедии французского Ренессанса.
Образ брата Жана может здесь послужить первым и достаточно показательным примером. Натура монаха Жана, по уверению автора, «самого настоящего монаха из всех, какими монашествующий мир когда-либо омонашивал монашество», кажется иногда просто несуразным сочетанием взаимоисключающих начал. Храбрый брат Жан, Жан Крошево, Жан Зубодробитель, великолепно орудующий древком от креста против мародеров, напавших на монастырский виноградник, человек молодой, щеголеватый, веселый, ловкий, решительный, горластый любитель покощунствовать, торопливый в чтении часов, чревоугодливый, «ученый до зубов по части требника» (I-27), которым пользуется, впрочем, как снотворным, когда пантагрюэльцы страдают от бессонницы, – в этом образе монаха критика часто не находила «ничего монашеского, кроме клобука и цинизма»[52].
Многие исследователи, дабы как-то мотивировать этот психологически «непонятный» гротеск, ищут прототипов для героев «Гаргантюа и Пантагрюэля» среди исторических деятелей Франции и современников Рабле. Чего только ни усматривала французская критика в брате Жане! Вплоть до отождествления – несмотря на различие пола! – брата Жана… с Жанной д'Арк в одной новейшей работе о Рабле[53], а до этого – с кардиналом Лотарингским, с кардиналом дю Белле, с самим автором и т. д. Упадок историзма в понимании искусства приводит к тому, что комическая эпопея Рабле, реалистическая картина развития целого общества, оценивается как своего рода «роман с ключом» в духе искусственных «прециозных» романов аристократической литературы XVII века, романов переодетой жизни, романов-маскарадов. Исторически характерное в психологии образов Рабле сводят тем самым к анекдотичной и биографической случайности. Но подобное стремление «снять» внутреннее несоответствие гротеска приводит к тому, что вместе с утратой социальной типичности образ деградирует и в своем комизме.
И все же читателя не покидает ощущение глубокой жизненной правды создания Рабле. Брат Жан как монах – не причуда художника, не пикантно «переодетый» сановник, не случайный или «автогенный» психологический курьез, но глубоко характерный для типизации у Рабле образ. В гротеске «настоящего» монаха, вопреки сомнениям критики, неизменно ощущается монастырская закваска. С помощью древка от креста благочестивый брат Жан отправляет своих врагов пачками в рай, «по прямой, как серп, как спина у горбуна, дороге» (I-27). Но лишь после того как они предварительно отысповедовались и получили отпущение грехов. Монашеские, даже традиционно монашеские черты в облике брата Жана восходят еще к типу монаха в средневековом фаблио. Новое рождается из старого реального материала. Но монастырский быт в образе ренессансного монаха дан динамически. И уж одно это производит впечатление гротеска на позднейшего читателя, в представлении которого начало бытового, жанрового, обычно связывается с уложившейся спокойной и внутренне однородной жизнью. Брат Жан – одновременно и порождение мира монастырских стен, и насмешливое его отрицание. Речь этого монаха уснащена отборными кощунственными проклятиями, приводящими в ужас порой даже Панурга («Ай-ай-ай! – воскликнул Панург, – брат Жан зря грубит свою душу», IV-20). Скандально простодушные разоблачения монастырского быта, циничные монашеские сентенции «для внутренного обихода» входят в амплуа этого пантагрюэльца в рясе. И, конечно, всегда со знанием дела, – никто не знает болезни лучше самого больного.
В монастыре, где «людей давят и гнетут подлое насилие и принуждение» (I-57), человеческая природа берет свое, но в грубо чувственной форме. Именно в мире Каремпренана (Постника) развивается чревоугодие. «Отчего монаха вы всегда найдете на кухне?» – спрашивает брат Жан. Ответ ясен. После обязательных постов и нудных песнопений монаху больше всего по вкусу «посмотреть, как вращаются вертела, послушать, как приятно потрескивают дрова, поглядеть, как заправляют супы в расчудесной кухне…» (IV-10). В виде иллюстрации к этому Эпистемон рассказывает об амьенском монахе Лардоне, который, находясь во Флоренции, не мог понять восторгов перед местными соборами и античными статуями, ибо в городе он еще не видел ни одной харчевни. Амьенские пирожки, на его взгляд, куда вкуснее флорентийского мрамора и порфира.
В гротеске Рабле своя внутренняя, хотя и парадоксальная логика. Человеческое поведение здесь еще не механический рефлекс «условий» (как позднее у реалистов XVIII века); оно в стихийно противоречивом единстве с этими условиями. Это инстинкт, «влечение» живой Природы, как обычно в домеханистической философии Возрождения. В условиях свободной жизни Телемского аббатства («Делай что хочешь») этот инстинкт выступает как «честь», которая направляет людей к порядку и добродетели. «Но когда тех же самых людей давят и гнетут подлое насилие и принуждение, они обращают благородный свой пыл… на то, чтобы сбросить с себя и свергнуть ярмо рабства. Ибо нас искони влечет к запретному, и мы жаждем того, в чем нам отказано» (I-57).
Брат Жан, воплощение монастырского чревоугодия и винопития, защищающий с дубиной в руках свои виноградники (церковное имущество и «тело Христово»), в то время как весь капитул предается песнопениям и литаниям, – поступает как самый «настоящий» монах. В слове «настоящий» (vray) Рабле гротескно сочетает обозначения – «существующего», реального, и «должного», идеального. Это, так сказать, динамическое «настоящее» в его движении от прошлого к будущему. Но тем самым смелый вояка брат Жан становится достойным соратником Гаргантюа в его войне с Пикрохолем. В компании пантагрюэльцев он будет принят как свой человек. Пантагрюэльцы ни на минуту не сомневаются в добротности монаха из аббатства Севилье, и, отправляясь в далекое плаванье, они должны захватить с собой и «своего», «настоящего» духовника. Он неизменно переводит опыт их «исканий» на язык монастырской трапезной. И именно ему подобает учредить Телемское аббатство, где человеческая природа не порабощена «подлым принуждением».
Образ брата Жана несет в себе отрицание условий, его породивших. Вырастая в монастырских условиях, он возвышается над ними – и весь комизм образа в этих колоритных переливах, переходах социально-бытовой краски в свою противоположность, Удивительность брата Жана в том, что он монах – и не монах. Эпистемон остроумно предлагает различать вконец «омонашенного монаха» (moyne moyné) и всего лишь «монашествующего монаха» (moyne moynant) (IV-11). Брата Жана породили «омонашенные монахи», но он – монах «попросту», живая природа в движении, натура, в которой человечность еще не убита капитулом и уставом. Он может поэтому стать телемитом, свободным человеком.
В этом смысле герой Рабле родствен наиболее ярким образам декамероновских монахов (вроде брата Чиполлы из десятой новеллы шестого дня), которые потешаются над верой благочестивой паствы. Молодые люди Боккаччо, которые вознамерились позабавиться за счет брата Чиполлы, кончают тем, что принимают его в свою веселую компанию: он им сродни по духу, как брат Жан пантагрюэльцам. Еще ближе, пожалуй, гротеску Рабле в поэме «Моргайте» Пульчи ученый дьявол Астаротте, который, перенося христианских паладинов по воздуху на ронсевальское поле сражения, ведет благочестивые рассуждения на богословские темы. Черт-богослов (ибо от чертей богословов, чертей монахов исходят всякие ереси) – это уже парадоксально комическое в духе Рабле на пороге века Савонаролы, Лютера и Кальвина.
Жизненность этого комизма, его реалистическая сила коренятся в самой эпохе, когда церковь несла семя своего разрушения в собственной среде. Известно, что свой путь отрицания и сомнения будущие вожди Реформации и гуманизма часто начинали в стенах монастырей. Сам Рабле, в молодости францисканец, а затем бенедиктинец, прошел эту школу, пока не нашел себе, как и брат Жан, просвещенных покровителей. В этом зерно истины «ключей» к брату Жану, в котором усматривали Лютера, некоего монаха Бюине или самого автора. История в образе брата Жана слилась с лично пережитым.
Гротеск «жизнерадостного монаха» имеет поэтому и свою историческую границу. Вместе с перестройкой католической церкви, после великого потрясения основ, исчезает жизненная база для пантагрюэльского образа брата Жана. Ему на смену приходит чисто сатирический комизм мольеровского Тартюфа, героя общества, основанного на твердом абсолютистском порядке. И в последней, Пятой книге Рабле антиклерикальные образы монаго, аббего и других отвратительных, злых птиц Острова Звонящего – уж явно иного порядка. Гротеск монаха-телемита стоит у конца полосы брожения, становления буржуазного общества и его церкви.
В образе брата Жана проступает существо гротеска Рабле. Чаще всего, определяя своеобразие комизма Рабле, отмечают «прием» безудержной гиперболы. Разумеется, это первое, что приходит на ум, когда мы вспоминаем повествование о великанах, их рождении, воспитании, деяниях, путешествии на край света, посещении сказочных островов с фантастическими обитателями. Однако фантастическое преувеличение в прямом смысле слова относится скорее к Пантагрюэлю, чем к пантагрюэльцам и к «пантагрюэльскому» началу комизма. «Панург был среднего роста, ни высок, ни низок» (II-16), брат Жан – высок. Что касается невероятных былых приключений Панурга (например, во время пребывания в плену у турок), то их следует отнести в значительной мере за счет его фальстафовского хвастовства, так как Панург придерживается правила, что «человек стоит столько, во сколько он сам себя ценит». Сравнивая раннюю, первую книгу «Пантагрюэля» с более зрелым «Гаргантюа» и Третьей книгой, легко заметить, что автор постепенно отказывается от примитивного эффекта фантастических масштабов, унаследованных в «Пантагрюэле» от лубочной книги о великанах. В «Третьей книге деяний доброго Пантагрюэля» они почти не ощущаются, но А. Франс с достаточным правом находит ее самой прекрасной, самой богатой комическими эпизодами во всем произведении. В Четвертой и Пятой книгах гиперболизм возрождается, но уже на аллегорической основе.
Масштабы героев Рабле неотделимы от гуманистической веры в человека, но они – производное и чисто внешнее выражение идеализации свободного развития, не скованного никакими границами. Подлинный комизм брата Жана поэтому не столько в том, что он один перебил 13 622 человека («не считая женщин и детей») из отряда Пикрохоля, сколько в самом образе монаха-воина, сбрасывающего рясу, чтобы орудовать древком от креста, как дубиной, «по старинке, колотя их по чему ни попало». «Одних он дубасил по черепу, другим ломал руки и ноги, третьим сворачивал шейные позвонки» и т. д. «Если кто-нибудь из его старых знакомцев кричал: „Эй, брат Жан, брат Жан, друг мой милый, я сдаюсь“, – то он говорил: „Да у тебя другого выхода нет, сдавай заодно и свою душу чертовой матери“»(I-27). Гротеск монаха-воина начинается уже со сцены, когда он, изрыгая проклятия, врывается в церковь, требуя прекращения песнопений, и затевает перепалку с приором, собирающимся за это посадить его в карцер.
Гротеск самой гиперболы основан у Рабле не столько на преувеличении, сколько на невероятном «разрастании» природы «в урожайный год», на ее движении вплоть до перехода в другую меру. В этом основное отличие гиперболы Рабле с чисто количественной стороны от гиперболы Свифта. Фантастика великанов и лилипутов Свифта всегда математически выверена и пропорциональна: художественное воображение уже прошло рационалистическую школу классицизма. Масштаб здесь условный, но неизменный, статичный. Современная Англия показана вначале через уменьшительное, а затем через увеличительное стекло. Гипербола «Гулливера» отличается поэтому гипнотизирующей иллюзией правдоподобия и могла внушить кое-каким наивным читателям идею «освоения» новооткрытых островов. Оценивая техническое мастерство гиперболы, мы должны были бы вместо с Вольтером поставить комический гений Рабле гораздо ниже Свифта.
Фантастика более поэтического гротеска Рабле лишена единого масштаба, его числа всегда «многозначные», иронически точные, не круглые. Фантастическая сцена сражения брата Жана с Колбасами сопровождается авторским восклицанием: «Хотите верьте, хотите нет». Это «эмоциональная» гипербола, как в языке Панурга («Если я говорю пятьсот, значит, много»). Дав волю фантазии, автор то превращает голову Пантагрюэля в целый новый мир со своими лесами, скалами, городами и народами, различающими мир «по ту сторону» и «по сю сторону» зубов Пантагрюэля; то не задумываясь вводит великана в зал парижского суда или Сорбонны на диспут. Пантагрюэль тем самым – то символ возрожденного свободного человечества, то просто добрый король или мудрый философ. Размеры великанов разрастаются и сокращаются в зависимости от ситуации. Очертания образа, его внешние масштабы, как и внутренняя характеристика, находятся в беспрестанном движении.
Поэтому никакая иллюстрация не может быть адекватна этой динамике, рассчитанной на фантазию, на поэтическое восприятие, а не на статический образ графики. Замечательные рисунки Доре, в соответствии с «дисгармоническим» гротеском у романтиков, фиксируют только «диспропорциональный» момент разросшейся плоти пантагрюэльского мира, но не его движение к ренессансной законченности. Тучные, вздутые, раздавшиеся вширь великаны Доре отличаются от ренессансных образов Рабле, который уверяет, что и «ляжки у Гаргантюа были очень красивы и всему его сложению соразмерны» (I-8). Выше мы уже видели, что великаны, в отличие от уродов, росли во всех измерениях…
Благодаря динамичности образ у Рабле по психологическому содержанию перерастает свою социальную почву (сословие, корпорацию), с которой связан, и возвышается над ней. Он сам способен ее оценить, и автор поэтому не нуждается в дидактической фигуре Гулливера рядом с комическими образами повествования. Комизм жизнерадостного монаха – в самодвижении жизни, вплоть до самоотрицания, в том, что именно монах Жан основывает Телемское аббатство – антипод монастыря.
В истории Бридуа, одном из бессмертных эпизодов Третьей книги, рассказывается о друге Пантагрюэля, старом судье, который выносил приговоры довольно оригинальным способом. Тщательно собрав и внимательно изучив всю документацию процесса, он затем решал исход дела игральными костями, предоставляя все чистому случаю. «Как все вы, господа!» – объясняет он сенаторам, вызвавшим его для отчета за сорокалетнюю деятельность и 4000 вынесенных приговоров (которые, впрочем, все были в свое время утверждены в высших инстанциях). Истинный комизм простодушного, но не лишенного лукавства Бридуа не в тарабарщине утрированного юридического жаргона его заключительной речи, а в разумных наблюдениях, полных глумления над формализмом судопроизводства. В суде, объясняет Бридуа, без формы содеянное не имеет значения, но формальности убивают суть дела: суд не должен быть «скорым», делу, как нарыву, надо дать созреть, авось тяжущиеся сами поладят и т. д. Пантагрюэль затем в защитительной речи восхваляет скромность и благочестие Бридуа, который, предоставляя решение Божьему промыслу, ошибался, как показывает опыт, не чаще чем любой другой судья.
Франсуа Рабле, сын адвоката Антуана Рабле, друг юриста Тирако, достаточно хорошо знал судебную практику своего времени и не питал насчет нее никаких иллюзий. Эпизод с Бридуа идейно созвучен многим произведениям эпохи Ренессанса, лишенным юридического идеализма, в частности «Венецианскому купцу» Шекспира. Гротескный комизм эпизода – весь в этой фразе: «как все вы, господа!», в этой простодушной мудрости судьи, который судит собственную профессию. Summa jus – summa injuria. Судить только по букве закона или по жребию – какая разница? Никто не знает этого лучше, чем старый опытный судья. Бридуа такой же «настоящий судья», как брат Жан «настоящий монах». Пантагрюэль недаром берет его к себе на службу.
Естественное развитие судебного процесса, его «формы» приводит к самоотрицанию «дела». Величайший формалист Бридуа, не торопясь, предоставляет процессу «разрастаться». В ходе времени, благодаря обычной судебной волоките, у «дела», бесформенного куска мяса при «рождении», постепенно вырастают голова, ноги, нервы, когти, клюв и т. д. И когда чудище созрело и карманы истощены, стороны сами иногда вынуждены мириться. Худой мир лучше доброй ссоры. Этот судья преподносит своим клиентам практический урок «пантагрюэлизма», как «жизни в мире». Гротескный судья у Рабле научает самого Пантагрюэля, что «лучше тяжущимся попасть в капкан, чем затеять процесс» (III-44). Даже в «стиле» своих приговоров Бридуа обнаруживает конгениальность пантагрюэльскому пристрастию к игре слов. Прибегая к жребию, он «подражает» самому Цезарю, его alea jacta est («жребий брошен») при переходе через Рубикон. Следует принять во внимание, что слово alea, помимо игры в кости, обозначало на тогдашнем юридическом языке случайность судебных приговоров. Таким образом, выражение alea judiciorum Бридуа толкует как практикуемый, нормальный, «настоящий» метод судопроизводства. Отсюда раблезиански шутливое (полуироническое-полусерьезное) «как все вы, господа!».
Сопоставление образа судьи у Рабле с его прямым литературным потомком Бридуазоном из «Женитьбы Фигаро» обнаруживает своеобразие комического в реализме Возрождения. Эпизод комедии Бомарше, где решение дела зависит от наличия запятой и значения союза в словосочетании, также направлен против формализма судопроизводства. Для заики судьи в комедии XVIII века главное «фо-орма». Внешне этот блюститель законности напоминает судью Рабле «искренностью и милой уверенностью животных, утративших робость», и его «комизм кроется всецело в том, что важность его звания не соответствует его смешному характеру», как поясняет сам Бомарше в замечаниях для актеров. Но комическое несоответствие у Бомарше в том, что Бридуазон ниже своего положения, а у Рабле в том, что Бридуа выше его. Поэтому в первом случае смысл всей ситуации может раскрыть только умный Фигаро репликой «хорошо известно, что суть дела принадлежит тяжущимся, а форма дела – собственность судьи», тогда как в другом – это тема речи самого судьи Бридуа. Простодушие Бридуазона обнажает ограниченность и глупость, а простодушие Бридуа – лукавство и ум. Гротеск образа Бридуа как бы строится на сочетании положения Бридуазона и сознания его антипода Фигаро. Смех Рабле более динамичен и коренится в избытке жизненных сил, тогда как в сатирическом образе Бридуазона – комична их недостаточность. Даже внешней комической детали – ставшему нарицательным косноязычию Бридуазона – соответствует ироническая избыточность ссылок на юридические источники в пародийном красноречии Бридуа.
Один из наиболее знаменитых эпизодов «Гаргантюа и Пантагрюэля» – речь Панурга о должниках – яркий образец «комического разрастания», переходов жизни из одного состояния в другое. Панург ухитрился промотать сказочные доходы от своего замка Рагу за три года вперед. Пантагрюэлю, который собирается уплатить его кредиторам, он доказывает, что долги – самое естественное и достойное человека состояние. Нынче только и слышишь: «Хозяйство!.. Хозяйство!..» Да толкуют-то о хозяйстве как раз те, кто ни черта в нем не смыслят. Главное – обзавестись долгами. Пока ты должник – все заботы о твоем здоровье и нуждах ложатся на кредиторов. Ведь они не допустят, чтобы должник умер, а вместе с ним пропали их долги. О, эти прекрасные и добрые создания – кредиторы! Кто не дает в долг – исчадие ада. Недаром весь мир теперь охвачен желанием делать долги.
Разрастаясь, мысль Панурга рисует картину хаоса, который наступил бы в мироздании с исчезновением «долгов». Мир без долгов! Никто никого не ссужает, ни у кого не берет, ни с кем не связан. Солнце не светит земле, земля ничего не производит, все стихии в распаде… Но хаос воцаряется и в обществе. «Из этого ничего не ссужающего мира получится одно безобразие и свинство». Люди тщетно будут взывать о помощи, никто никому не должен… И, наконец, такой же хаос возникнет в «малом мире», в физиологии человека, где органы перестанут «одалживать» друг у друга. «И наоборот, вообразите мир, где каждый дает взаймы, каждый берет в долг». Следует картина «всеобщей гармонии», воцаряющейся с возвращением «долгов». В космосе, обществе и «микрокосме» человека…
Панурговский панегирик должникам своим тоном и универсализмом явно перекликается с Эразмовым «Похвальным словом Глупости». Во вкусе века Возрождения на новую мудрость надет шутовской колпак, но в обоих случаях это, конечно, гораздо больше, чем забавный софизм. Здесь проступают черты культуры буржуазного общества, хотя глашатаем его этики является Глупость, а экономики – расточитель и шут. Этот «ссужающий и должающий мир» (III-4), где обмен не только связующее звено, но «великая мировая душа», которая, как кровь в организме, разносит питательные соки и живит все – этот мир, опоэтизированный Панургом, уже рождался в эпоху Рабле. Мировое хозяйство, основанное на развернутом обмене (на «долгах как естественном состоянии») – благодаря новым путям мировой торговли, – идет па смену натуральному изолированному хозяйству, его «свинству», по выражению Панурга. «Природа создала человека не для чего другого, как для того, чтобы он ссужал и занимал…» (III-4) и «люди рождены, чтобы содействовать и помогать другим» (III-3), восклицает Панург, рисуя картину всеобщего благоденствия в человеческом обществе, где все основано на «долгах». «Ссужать – дело божье, должать – геройская доблесть» (III-4). Через триста лет Бальзак саркастически назовет в «Крестьянах» деревенского ростовщика Ригу, ссужающего и одалживающего мироеда, «телемитом» (ибо тот для себя уже осуществил принцип Телема – «делай что хочешь»). Но на заре капитализма люди еще имели право идеализировать неограниченное развитие обмена как развитие социальной стороны «человеческой природы» и как залог наступления «золотого века и возвращения царства Сатурна» (III-4). И даже благоразумный Пантагрюэль, отвергая выводы мота, признается, что ему очень нравятся «прекрасные» космические и физиологические «образы» аргументации Панурга.
Забавная «экономика» Панурга обоснована естественным течением вещей, прекрасной Природой, которая никогда не ошибается. Не только человеческое сознание, полет фантазии Панурга, увлеченного парадоксальным ходом своей мысли, но сама Природа в ее живом движении – один из главных источников смешного у Рабле. Представления о природе в натурфилософии Возрождения еще далеки от механистических концепций XVII–XVIII веков и проникнуты антропоморфизмом. Это чувственная, возбужденная и возбуждающая, удивительная в своих переходах и эффектах «играющая» плоть, – недаром ее эмблемой у Рабле является вино. Отсюда в этой же речи Панурга прославление «превосходного зеленого соуса, который быстро усваивается, легко переваривается, оживляет деятельность мозга, разгоняет по телу животные токи, улучшает зрение, возбуждает аппетит, благотворно действует на сердце, щекочет язык, оздоровляет цвет лица, укрепляет мускулы, способствует кровообращению… „У вас исправно работает желудок, вы отлично рыгаете, испускаете ветры, газы, чихаете, икаете, кашляете, плюете, срыгиваете, зеваете, сморкаетесь, дышите, вдыхаете, выдыхаете, храпите, потеете“ и т. д. (III-2).
Комическое, предмет которого возбуждение животных токов, их избыток, игра, нередко даже – особенно у Рабле – физиологическая игра – характерная черта реализма Возрождения. Это историческое отличие его „положительного“ смеха по сравнению с чисто сатирическим смехом в литературе XVII века, эпохи барокко и классицизма, где источником комического является, как правило, недостаточное развитие, упадок человеческой природы, ограниченность (обычно сословная), вообще пороки: пороки „природы“, которой недостает „разума“, или пороки „разума“, который искусственно отдалился от „природы“ (употребляя обычное в XVII веке противопоставление). Традиция „комедии характеров“ Мольера и театр знаменитых испанских драматургов положили начало социально-сатирическому смеху в европейской драме (хотя в фарсах Мольер еще близок комедии Возрождения). Юмор комедий Шекспира гораздо ближе „Гаргантюа и Пантагрюэлю“ и иногда также строится на фантастике свободного развития чувства („Сон в летнюю ночь“). Вершину комического гения Шекспира – гротескный образ Фальстафа – вполне справедливо сравнивают с Панургом Рабле. Монолог Фальстафа о чести на поле брани – кульминация „разложения феодальных связей“ как существа „фальстафовского фона“. Но высший комизм этого монолога – в насмешливой отходной, которую сам бессмертный толстый рыцарь читает выдохшейся феодальной чести. Образ Фальстафа всюду с собой приносит „жизнь и движение“[54]. Там, где от оскудевших, кичливых идальго испанского плутовского романа или комедии Кальдерона отдает деградацией и тлением, герой Шекспира, во многом родственный пантагрюэльцам Рабле, с задором восклицает: „Дайте и нам, молодым, пожить“. Жизнь в цвету, жизнь, льющаяся через край, – основа раблезианского гротеска. Детство или юность героев – благодарная тема для Рабле, но почти неизвестная комическому жанру XVII века. „Гомер смеха“, как романтики обычно называли автора „Гаргантюа и Пантагрюэля“, – не только определение его ранга среди великих художников или в истории комического жанра. Оно указывает на источник смеха Рабле – жизнь, богатую многообразными возможностями, „детство“ жизни. Рассказав о детстве Пантагрюэля и его деяниях во дни молодости, автор, не боясь повторений, возвращается к детству и юности великана отца – для неистощимой фантазии Рабле это тема самая благодарная и ему нелегко с ней расстаться. Главы „О детстве Гаргантюа“, „Об игрушечных лошадках Гаргантюа“ и „О том, как Грангузье распознал необыкновенный ум Гаргантюа“ принадлежат к самым непосредственно комическим и поэтичным во всем произведении, но в первой из них почти нет повествования. Вместо него – набор фраз, вроде: „прыгал выше носа, клевал по зернышку, лопался от жира, точил зубы о колодку, расчесывал волосы стаканом, запивал суп водой, ковал, когда остывало, перескакивал из пятого в десятое, возвращался к своим баранам, ловил козлов отпущения, садился между двух стульев“ – и тому подобные перечисления на целые страницы. Это своего рода „ложноножки“ комического – от избытка „питательных соков“, – где жизнь языка, игра сталкивающихся идиом, выведенных из инерции привычного словоупотребления, переходит в картину первоначального „освоения мира“, „первых шагов“ ребенка, который, как новорожденный щенок, тычется мордой во что попало („на все чхал с высокого дерева“) – единственный в мировой литературе комический эпос детского развития! Эффект этих страниц основан не только на реализованной метафоре, но и на динамике нарастания, неожиданного сращения разнородных элементов, на беспрерывной мутации форм, на весеннем половодье беспечного детства.
Комизм деяний взрослых героев Рабле часто носит тот же характер игры как пробы сил. Забавляясь, Гаргантюа уносит колокола с собора Парижской Богоматери и тут же возвращает их парижанам. Главы „О нраве и обычае Панурга“, о том, как он приобретал индульгенции, выдавал замуж старух, ухаживал за одной парижанкой или затевал процессы против парижских модниц за то, что они носят высокие воротнички, – под стать главам о шалостях пятилетнего Гаргантюа, хотя Папургу в это время уже тридцать пять лет. Позднейший читатель иногда находит „шутки“ Панурга недопустимо жестокими (как и стихи юного Гаргантюа – неприличными), но для аудитории XVI века, для самого автора – они лишь забавны. И когда Панург приглашает своего учителя посмотреть, как он отомстил неприступной красавице, мудрец находит „это зрелище очаровательным“ (II-22). История неугомонного Панурга, который, задумав жениться, пробует всевозможные способы разрешения своих сомнений, гадает по Гомеру и Вергилию, на костях, по снам, обращается ко всякого рода советникам, начиная со старой сивиллы и глухонемого и кончая шутом Трибуле – содержание всей Третьей книги – напоминает неуемные поиски юного Гаргантюа „самого благородного, самого лучшего и самого удобного способа“ держать свое тело в опрятности, которые приводят в такой восторг его отца. Забавна неустанная пытливость Панурга, который всюду тычется со своим вопросом, готовность перепробовать все, опросить всех, начиная с первого встречного и кончая оракулом Божественной Бутылки, к которому он отправляется на край света, чтобы узнать, жениться ему или не жениться. Источник смеха здесь – движение жизни на пороге новой для нее эры. „Матримониальная“ тема при этом перерастает в социальную, ибо „природа“ едина в малом и большом. Не связанный никакими обычаями Панург, порождение распада старого корпоративного общества, вступает в жизнь как первая личность Нового времени, осваивая новый для него мир на свой страх и риск.
Это „освоение мира“ проходит часто в форме случайного и, казалось бы, алогичного. Рабле питает явное пристрастие к бесцельным, самодовлеющим формам „чистой самодеятельности“, к комизму играющего ребенка, которому просто весело. Ребенок строит уморительные рожи, в азарте лопочет несусветное, наслаждаясь игрой своих мышц, свободным речетворчеством. Таковы страницы перечисления имен поваров, вошедших в сооруженную братом Жаном „боевую свинью“ перед битвой с Колбасами (IV-39):
Жрижри
Пожри
Обожри
Салоешь
Салорежь
Салосвесь
Саломсмажь
Саломшпик
Саломсморк
Саломсмок
Салолюб
Прожри
Сожри
Дожри
Недожри
Саложри
Масложри
Свинейжри
Жирнейжри
Пейдажри
Саложуй
Саломблюй и т. д.
Таков и диспут по спорным вопросам философии, геометрии и кабалы между Панургом и ученым Таумастом (причем оба изъясняются только жестами). Таковы и речи сеньоров Лижизада, Пейвино и Пантагрюэля, разрешающего их тяжбу, – чистейшая ахинея, произносимая с необычайно важным видом. Гротеск здесь выходит за пределы пародирования схоластики или сатиры на судопроизводство. Судебные речи – своего рода вдохновенная абракадабра, где сама мелодика „аргументации“ тяжущихся сторон словно обладает „убедительной силой“.
Алогическое в произведении Рабле – это „играющая“ Природа, прославленная в пантагрюэлизме стихия „вина“ как источника силы – силы творческой, хотя еще бесцельной, „неразумной“ и детски забавной. Ритмика перечисления имен поваров или синтаксис судебной речи Пантагрюэля опьяняют читателя самим звучанием. Слово здесь рассчитано на произнесение, а не на чтение глазами, оно в прямом смысле почти ничего не сообщает. Но как и в „Похвальном слове“ Эразма, для Рабле отправным пунктом человеческого развития и прославления Разума является стихийно жизнерадостная, скорее нерассудочная, чем неразумная природа.
Античного Диогена Рабле считает превосходнейшим философом своего времени и видит в этом защитнике природы одного из „древних пантагрюэльцев“, а не аскета, не предшественника стоиков, осуждавших чувственные наслаждения. Вопреки ходячим представлениям, этот „жизнерадостный“ мудрец, оказывается, был примерным гражданином. В прологе к Третьей книге Рабле рассказывает, как Диоген во время осады Коринфа, не желая оставаться праздным среди сограждан, занятых укреплением городских стен, потащил свою бочку на высокий холм и начал катать ее вверх и вниз. Он эту свою бочку
„поворачивал, переворачивал, чинил, грязнил, наливал, выливал, забивал, скоблил, смолил, белил, катал, шатал, мотал, метал, латал, хомутал, … конопатил, колошматил, баламутил … выпаривал, выжаривал, обшаривал, встряхивал, потряхивал, обмахивал…“Смысл этой многозначительной притчи, в которой сама каденция сталкивающихся, „поворачиваемых и переворачиваемых“ глаголов передает состояние Диогена, обуреваемого жаждой деятельности, автор готов приложить и к „пантагрюэльским“ своим книгам. Он их тут же охотно называет и „диогеновскими“, полагая, что также катит свою „бочку“ на общее благо и на благо своей родины.
Эффект смешного, как чуднóго, непривычного – и веселящего, игрового, лежит в основе впечатления от комического гротеска Рабле. Характеристики „Гаргантюа и Пантагрюэля“ у исследователей обычно строятся как бы на попытках исчерпать синонимы к слову „странный“. Это „наиболее чудная, наиболее удивительная, наиболее поразительная книга на свете“, замечает А. Франс в своих лекциях о Рабле. „Наиболее причудливый, наиболее странный“ роман и т. д. Не менее прочна репутация „веселого“ Рабле. Даже Вольтер, для которого Рабле иногда только „первый из шутов“, отмечает его „необычайную веселость, которой у Свифта нет“. Сочетание непривычного, удивительного – и веселого, игрового образует забавное – первое ощущение от смешного у Рабле (как и у Пульчи, Ариосто, Фоленго и Берни – и вообще в комической литературе Возрождения). Забавна философия пантагрюэлизма, эти „прекрасные евангельские тексты на французском языке“, которым суждено заменить мудрость всех философов античной древности, философия, которая вся сводится к забавной глоссе „тринк!..“. Забавна современная религия – все эти войны Каремпренана с Колбасами, папефигов с папоманами. Можно подумать, будто „добрый человек“ Гоменанц, показывая упавшие с неба декреталии, просто решил в качестве гостеприимного хозяина разыграть веселый фарс перед заморскими гостями, зная заранее, что они не примут спектакля всерьез. („Вам, прибывшим сюда из-за моря, быть может, это покажется невероятным“, IV-49). Забавно схоластическое красноречие сорбоннитов: „Когда богослов окончил свою речь, Понократ и Эвдемон залились таким неудержимым хохотом, что чуть было не отдали богу душу“, – „глядя на них, захохотал и магистр Ианотус, – причем неизвестно, кто смеялся громче, так что в конце концов на глазах у всех выступили слезы… они изобразили собой гераклитствующего Демокрита и демокритствующего Гераклита“. Забавно рассуждение Панурга о долгах, забавен браг Жан как монах, Грангузье как король, Пикрохоль как „завоеватель мира“, и злополучные лепешки как повод к столкновению, и сцена „военного совета“, и театр военных действий в этой грандиозной войне, которая (как показывают исследования) не выходит за пределы окрестностей Девиньер, фермы отца Рабле.
В основе эффекта, забавного у Рабле, лежит чувство всеобщей относительности – великого и малого, высокого и ничтожного, сказочного и реального, физического и духовного – чувство возникновения, роста, разрастания, упадка, исчезновения, смены форм вечно живой Природы. На забавном „сближении далекого“ основан „физиологический комизм“ игры сил в „микрокосме“ человеческого организма, вроде приведенного выше прославления зеленого соуса (здесь нередко сказывается профессия Рабле – выдающегося врача). Чаще всего это комизм взаимопереходов ужасающего и ничтожного. На острове Руах, где жители питаются ветрами, народ терпит невзгоды от великана Бренгнарилля, Глотателя Мельниц. Дабы отвадить его, жители разводят в мельницах огороды, куда забираются петухи, куры, гуси. Птицы поют у великана в животе, летают – отчего у него начинаются колики. По совету врача великан начинает принимать клистир из хлебных зерен: за зернами из живота выходят куры, гуси… Но за ними вслед пускаются в живот лисицы. Тогда больной принимает пилюлю из борзых и гончих собак. В конце мы узнаем, что Бренгнарилль скончался, подавившись кусочком свежего масла… Третья книга заканчивается панегириком удивительному растению пантагрюэлиону. Это растение искореняет грабителей, помогает от ревматизма, лечит ожоги… Без него пища невкусна, сон несладок, колокола не звонят, невозможно ни книгопечатание, ни мореплавание… Эти четыре заключительные главы в забавно „остраненной“ форме – патетическое прославление прогресса, похвальное слово изобретательному пантагрюэльскому разуму человечества, который в будущем откроет и более мощные травы. Люди обоснуются на луне и на звездах, сядут, как равные, за трапезу с богами, ибо мнимофантастический пантагрюэлион – это всего лишь самая простая конопля!
Глава о Бренгнарилле носит поэтому название „О том, как сильные ветры стихают от мелких дождей“. Комизму превращения грандиозного в ничтожное и обратно – не в силах помешать и боги, ибо все „проходит через руки и веретена роковых сестер – дочерей необходимости“ (III-51). Великое и малое в ходе времени меняются местами. В генеалогии» великанов, предков Пантагрюэля, за Хуртали, «великим охотником до супов», идет Атлас, «подпирающий плечами небо»; а за героем Роландом – Моргант, известный лишь тем, что первый на свете играл в кости с очками на носу.
Законом «поразительной смены царств и империй» начинается «Гаргантюа и Пантагрюэль»: «Достаточно вспомнить, как поразительно быстро сменили
Ассириян мидяне,
мидян персы,
персов македоняне,
македонян римляне,
римлян греки,
греков французы».
Поэтому, замечает Рабле, теперь так много императоров, королей, князей и пап, которые произошли от каких-нибудь мелких торговцев реликвиями или корзинщиков, и столько убогих побирушек из богаделен ведут свое происхождение от великих королей.
Любимая тема меланхолических размышлений средневековой дидактики – тема бренности и тленности всякого величия (пресловутый мотив «где те, что до нас жили») – неожиданно поворачивается с новой стороны как источник забавного, жизнерадостно комического. «Но где же прошлогодний снег? Это больше всего волновало парижского поэта Вийона», – замечает Панург, когда у него спрашивают, куда делись его богатства.
Генеалогические истории – движение жизни во времени – обладают, по Рабле, тем свойством, что чем чаще о них вспоминать, тем больше они нравятся. Подобно прекрасным речам, они тем усладительнее, чем чаще их повторяют (I-1).
На законе «поразительной смены» основан забавный рассказ Эпистемона о том, что он видел на том свете. «С грешниками обходятся не так плохо, как вы думаете», только в их положении происходят «странные перемены» (II-30). Александр Великий чинит старые штаны, Ксеркс торгует горчицей, Ромул – солью, Нума Помпилий – гвоздями и т. д. Видение Эпистемона не сатирическое разоблачение или развенчание, так как жалкий жребий, как правило, не находится ни в каком соответствии с характером исторического или мифического героя и не выражает отношения автора к последнему (Кир персидский стал скотником, Брут и Кассий – землемерами, Демосфен – виноделом и т. д.) – за редкими исключениями, вроде папы Александра, который стал крысоловом[55]. Комизм вытекает из неожиданности жребия (Сципион Африканский торгует винной гущей, Газдрубал – фонарями, Ганнибал – яйцами, Клеопатра – луком, Дидона – вишнями), а комизм картины в целом – из того, что «важные господа терпят на том свете нужду и влачат жалкое существование, а кто терпел нужду, стали важными господами» (Диоген стал щеголем и бьет палкой Александра Македонского за то, что тот плохо починил ему штаны). Видение Эпистемона по духу ближе «дураческим процессиям» XVI века, народным игрищам эпохи величайшего социального переворота, чем празднествам римских сатурналий, где, обмениваясь местами, господа обслуживали за столом рабов в память о «золотом веке Сатурна», когда все были равны. «Мир наизнанку» у Рабле не благочестивый обряд, не суеверная дань доисторическому прошлому, но обращенный к будущему гротескный панегирик Времени, в ходе которого первые становятся последними, а последние первыми. Поэтому после сообщения Эпистемона о том, что делается на том свете, Панург решил обучить побежденного короля полезной профессии, которая могла бы ему пригодиться в будущем, и из Анарха получился славный уличный торговец зеленым соусом.
Древние, замечает жрица Бакбук, называли Сатурна, то есть Время, отцом Истины, Истину же дочерью Времени. Время, рост, развитие – также отец и комического у Рабле[56]. Поступательное движение жизни составляет источник его ренессансного гротеска.
III. Источники комического. Здоровая человеческая натура
В прологе к Четвертой книге пантагрюэлизм определяется как «глубокая и несокрушимая жизнерадостность, пред которой все преходящее бессильно». Источник смешного в произведении Рабле – не только бессилие преходящего, неспособное задержать движение жизни (ибо неотвратимо «все движется к своему концу», гласит надпись на храме Божественной Бутылки), не только ход времени и историческое движение общества, закон «смены» царств и империй. Не менее важным источником комического является «глубокая и несокрушимая жизнерадостность» человеческой натуры, способной возвыситься над временным, понять его именно как временное и преходящее. «Ибо смеяться свойственно человеку» – как напоминает автор в заключительном стихе вступительного стихотворения[57]. Последняя истина имеет для Рабле и нормативный оттенок. На ней основан «антропологический» метод типизации у французского гуманиста. Герои Рабле «доказывают» читателю свою естественность, свою общечеловеческую типичность этой способностью внутренне смеяться над превратностями судьбы. Настоящие «добрые пантагрюэльцы», подобно своему учителю, отличаются невозмутимой жизнерадостностью и внутренним спокойствием во всех жизненных передрягах, в которые они попадают волею автора, демиурга и главного режиссера спектакля под названием «Гаргантюа и Пантагрюэль». Ход времени, как мы видели, придает всем обстоятельствам и положениям относительный и условный характер. Весь мир – например, острова по пути к оракулу Божественной Бутылки – раскрывается перед пантагрюэльцами как комическое зрелище. «Весь мир театр» – надпись над входом в здание шекспировского театра – любимая мысль в эпоху Возрождения. Она дает ренессансному художнику право изображать на подмостках весь мир, а героям Рабле – включиться, но уже в качестве сознательных лицедеев, в этот спектакль жизни, идея которого – заключительное «тринк!» – известна им с самого начала. Условны поэтому, как во всякой художественной постановке, не только действие и обстоятельства, вся фабула о великанах и их приключениях (хотя каждый эпизод – реальная французская жизнь XVI века), но и характеры, различия между идеальным и совершенным Пантагрюэлем и реальным, далеко не совершенным Панургом или братом Жаном. Эти различия характеров для Рабле только роли, в которых комически «играет» жизнерадостная человеческая натура, поставленная в известные условия и способная оценить эти условия как бы «со стороны».
«Комическая сила» (vis comica) раблезианских героев в том, что мир всегда как бы поворачивается к ним комической стороной. Самые пресные, нейтральные темы (например, описание применения конопли в рассуждении о пантагрюэлионе или физиологического воздействия зеленого соуса) неожиданно становятся смешными. Смеяться свойственно человеку, – и в комическом аспекте темы сказывается человеческий угол зрения. Таково рассуждение Панурга о долгах как об основе порядка и нормального состояния в космосе, обществе и «микрокосме» человеческого тела. Всякая связь между элементами здесь осознана как их «вечные долги». Это комизм не столько темы, как ее преломления через темперамент и логику веселого мота. «Мне ведь надо наслаждаться, иначе я не могу жить», – восклицает Панург (III-9).
Но дело здесь не только в характере Панурга, как он дан в произведении. Комизм здесь вытекает также из заданного характера, из роли расточителя, которую Панург играет в данной ситуации, утрируя ее. Ведь логика рассуждения Панурга – полусерьезная-полушутливая. Это не комизм Гарпагона, который требует, после того как у него украли шкатулку, «всех пытать, всех повесить, весь город». Панург, правда, увлечен ходом своей универсальной логики «должающего и одалживающего мира». Это «безумие систематическое», как замечает Полоний о Гамлете, но герой Рабле ближе к Гамлету, притворяющемуся безумным, чтобы сорвать с мира его покров, чем к «старому шуту» Полонию, который и не подозревает, что он шут. Панург в известном смысле даже шут профессиональный, буффон при короле Пантагрюэле. Он сознательно играет определенную роль – в соответствии с данными условиями. Но роль играет также и Пантагрюэль – роль здравого смысла и трезвого рассудка – «в паре» с парадоксальным, остроумным Панургом[58].
«Итак, вы утверждаете, – сказал Пантагрюэль, – что самый главный воинский доспех это гульфик? Учение новое и в высшей степени парадоксальное. Принято думать, что вооружение начинается со шпор» (III-8). «Рассудительный» Пантагрюэль здесь «подает реплику», подзадоривает Панурга. И за этим тотчас же следует известная панурговская «философия природы» по поводу гульфиков в виде «стручков, оболочки, скорлупы, чашечек, шелухи, шипов» и т. д., которыми натура снабдила зародыши и семена растений, заботясь о том, чтобы виды выживали, хотя бы отдельные особи и вымирали. Вслед за этим привлекается и авторитет Моисея, который также утверждает, что человек первым делом вооружился нарядным, изящным гульфиком из фиговых листочков (III-8).
Глава, которая следует за рассуждением о гульфиках (о том, как Панург советуется с Пантагрюэлем, стоит ли ему жениться, III-9), построена более «драматически». Панург выкладывает свои соображения в пользу и против женитьбы – и каждый раз Пантагрюэль с ним соглашается: «Ну, так женитесь, – сказал Пантагрюэль». «Ну, так не женитесь, – ответил Пантагрюэль». Невозмутимая гармония с миром одного служит поводом для новых «дисгармонических» сомнений другого («Но если… – сказал Панург»). Оба не выходят из отведенной им «положительной» или «отрицательной» роли, оба «играют» – характер реплик им задан ролью. Это маленькая интермедия с двумя буффонами: Пьеро Смеющимся и Пьеро Плачущим, но внутренне оба веселы и веселят окружающих, оба только играют известную роль. Мудрец и клоун, король и шут абсолютно соотнесены и равно комичны. Рассуждает клоун – и посрамляет мудреца, мудрец – изменчив в приговорах, как шут, и во всем за ним следует. Пожалуй, здесь два философа (один говорит миру «да», а другой – «нет») – или два паяца, два дзани, как в итальянской народной комедии масок («первый дзани» – активный и «второй» – пассивный).
Только поэтому возможно развитие темы, движение главы. Но также и движение всей Третьей книги как серии интермедий, связанных единой темой – сомнениями Панурга, следует ли ему жениться. Каждая очередная консультация приводит к ответу, который главный консультант Пантагрюэль толкует в прямом смысле; все ответы, по его мнению, недвусмысленно гласят, что клиент в семейной жизни будет несчастлив: бит, обобран и рогат. Но Панург всегда находит обратное толкование: в его семье будет царить мир, любовь и согласие. Сомнения – все те же «а если…» – остаются неразрешенными. Движение Третьей книги приводит поэтому к путешествию за советом к оракулу Божественной Бутылки – в Четвертой и Пятой книгах.
Человеческий характер выражает у Рабле известное состояние общественной жизни, и в этом реализм «Гаргантюа и Пантагрюэля», художественной энциклопедии французского Ренессанса. Но это состояние не фиксировано в образе как нечто стабильное и завершенное, в этом отличие образов Рабле от сословных, корпоративных, родовых типов средневековой литературы (рыцарь, купец, крестьянин, поп, школяр, жена и др.), как и от позднейшего бытового реализма XVII века. Характеры Рабле (как и Шекспира и Сервантеса) одновременно более обобщены и более индивидуализированы. Основные комические образы Рабле (Гаргантюа, брат Жан, Пантагрюэль, Панург) соотнесены друг с другом, переходят один в другой и находятся в динамическом единстве со своей социальной почвой, ибо перед их творцом, Рабле, все время стоит единая, развивающаяся «человеческая природа». Каждый характер поэтому – ее вариант, но не окончательный, и в этом залог его жизненности в отличие от «мертвых» отрицательных гротесков, эпизодических образов схоласта Тубала Олоферна, воинственного Анарха или обитателей фантастических островов в последних частях эпопеи.
Яснее всего метод создания типического характера и вытекающий отсюда комизм образа видны на Пантагрюэле и Панурге. Это основная, стержневая пара произведения, два полюса живой человеческой натуры в гуманистическом представлении автора. Все остальные образы пантагрюэльской компании, в отличие от уходящего в прошлое старого мира, так или иначе тяготеют к одному из этих полюсов, стоят между ними. Понократ, Эпистемон, Карпалим, Ризотом, Гимнаст, Ксеноман – свита Пантагрюэля, тени мудрого великана, спутники, вращающиеся вокруг положительного полюса. Брат Жан и сам рассказчик Алькофрибас Назье, принимающий участие в действии, ближе стоят к отрицательному полюсу – Панургу, а иногда просто смешиваются с ним (например, во второй части сообщается, что по окончании войны с Анархом Пантагрюэль даровал Алькофрибасу поместье Рагу, а в начале Третьей книги мы узнаем, что это поместье указом Пантагрюэля было пожаловано Панургу)[59].
В Пантагрюэле, сыне просвещенного Гаргантюа, Рабле, как известно, изобразил гармонически и всесторонне развитую натуру, сложившуюся в самых благоприятных, идеальных условиях. В этом образе как бы воплощено само гуманистическое движение на восходящей фазе. Пантагрюэль исповедует безусловную веру в природу, разум и человека – в его задатки для неограниченного совершенствования. В то же время это идеальный образ человеческой натуры в ее совершенном виде, образ короля идеальной страны Утопии (название Рабле заимствует у Т. Мора). Реальные страсти этой эпохи, пафос гуманистического движения – борьба за всестороннее раскрепощение человека – даны в Пантагрюэле в гармонизированной форме уже достигнутого совершенства. «Всежаждущий» герой наделен безмерным аппетитом (в прямом и фигуральном смысле этого слова), всесторонними, активными человеческими интересами, но – в особенности начиная с Третьей книги – главной чертой его характера становится невозмутимое спокойствие и неопределенная благорасположенность к окружающему.
Пантагрюэль «во всем видел только одно хорошее, любой поступок истолковывал в хорошую сторону, ничто не удручало его, ничто не возмущало. Не был бы он божественным вместилищем разума, если бы когда-либо расстраивался или волновался» (III-2). В образе героя-мудреца чувствуется идеал человека, сложившийся под влиянием античной философии – эпикуреизма и (особенно в последних книгах Рабле) стоицизма. Мудростью проникается человек, по Пантагрюэлю, лишь тогда, «если самая божественная его часть (то есть nus и mens[60]) будет в состоянии покоя и мира, безмятежная, ничем не волнуемая, не отвлекаемая страстями и суетой мирского» (III-13). Мудреца ничто не должно выводить из состояния душевного равновесия. Идеально умиротворенному образу Пантагрюэля не хватает поэтому внутренней динамики. Он всегда «соглашается» с миром, обнаруживая фантастическую «широту» точки зрения, под стать своим физическим масштабам. В этом образе как бы затухает всякое движение. Мы уже видели, что каждое сомнение Панурга в Третьей книге после очередной консультации снимается гармонией Пантагрюэля, невозмутимо доказывающего, что ответ ясен, и ответ недвусмысленный, к тому же явно совпадающий с предыдущими. Без возобновляющихся сомнений и тревог Панурга, у которого вечно «блоха сидит в ухе», дальнейшее развитие ситуации было бы невозможно.
В переводе на социально-исторический язык, на язык реальных интересов XVI века, это означает, что идеальное пантагрюэльское начало, выраженное в самом короле «Жаждущих», взятое само по себе, абсолютизированное – консервативно и традиционно. Абстрактная жизнерадостность не в силах изменить жизнь. «Мне не по душе любовь к новшеству и презрение к обычаям», – замечает король Панургу, с одобрением отзываясь о вере в сны, в предсказания, в гадание по Вергилию и т. д. Благожелательность ко всему должна выразиться и в терпимости к отсталому и косному прошлому, которое еще было достаточно сильным настоящим и имело преимущество существующего перед становящимся неясным будущим. Пантагрюэль поэтому часто с видимым уважением отзывается о схоластах и вполне одобряет предложенный ему одним педантом курьезный способ диспута посредством знаков. Он и здесь находит «хорошую сторону»: «мы и так друг друга поймем и будем избавлены от рукоплесканий, к коим прибегают во время диспута бездельники софисты, ибо не почестей и рукоплесканий мы ищем, а только истины» (II-18). Его примиряющая мораль неизбежно приобретает старомодный оттенок. На вопрос Гаргантюа, не собирается ли он жениться, сын почтительно отвечает: «Я всецело полагаюсь на вашу волю и подчиняюсь вашей отцовской власти. Молю Бога, чтоб вы увидели меня лучше мертвым у ваших ног, чем живым, но женатым против вашей воли». Ибо, насколько ему известно, никакие законы не дозволяют детям жениться без воли и одобрения их родителей (III-48). Пантагрюэль неизменно подчеркивает свое уважение к религии, обычаям, нравам и, часто, к господствующим взглядам. В спорах с неугомонным, парадоксальным Панургом именно фантастический великан отстаивает «нефантастическую» точку зрения здравого смысла, но его рассуждения часто банальны и пресны. Человеческая натура в ее идеальном пределе – неожиданно оказывается внутренне бессильной, бесцветной, не творческой. Из инерции «золотой середины», которая, как учит Пантагрюэль, «всегда похвальна» (III-13), может вывести только динамичный Панург со своими сомнениями и фантастическими крайностями.
По своему характеру и поведению Панург внешне представляется абсолютным антиподом Пантагрюэлю. Это другой полюс «человеческой натуры» в компании добрых пантагрюэльцев Рабле. Французская критика часто приходила в ужас от распущенности и цинизма этого героя: «Панург совершенно лишен добродетели и чести; из него сочится порок и преступность… Он способен на все, кроме доброго дела»[61]. Но А. Франс по этому поводу замечает более тонко, что Панург «естественно испорчен». В Панурге великий художник французского Возрождения воплотил реальное состояние «человеческой натуры» в народной жизни XVI века, а не идеальную картину ее совершенства на сказочно щедрой почве Утопии.
Свою школу жизни Панург прошел не под руководством мудрого наставника Понократа, а в бесконечных скитаниях по разным странам, на больших дорогах и шумных улицах, – масштабы этой реальной жизни намного превосходят размеры фантастического государства Гаргантюа и Пантагрюэля. Представление о мытарствах Панурга мы получаем из рассказа о том, как он вырвался из рук турок, которые, «обернув его салом, как кролика, и посадив на вертел», собирались заживо его зажарить. После этого он долго страдал «от зубной боли» – от укусов собак, которые, почуяв запах поджаренного мяса, впивались зубами и его тело.
«Панург олицетворяет народ», – сказал Бальзак. Это «превосходный, бессмертный образ… действительно огромного значения».
Бродяга Панург – это народ эпохи ренессансного переворота, выброшенный из веками насиженных гнезд, художественное обобщение тех процессов на заре капиталистической эры, которые описал К. Маркс в XXIV главе «Капитала».
Бунт Панурга против норм окружающего общества (глава «О нраве и занятиях Панурга», II-16) перерастает, правда, в отвращение к каким бы то ни было дисциплинирующим нормам, в анархическую мораль беспризорной, деклассированной массы… Но если Панург отказался от всяких обязательств перед обществом, то общество еще раньше само отреклось от него. Великий демократизм Рабле сказывается в неизменной снисходительности к Панургу и даже любви к нему. Прекрасный, «любознательный человек», как замечает Пантагрюэль при первой встрече с «изодранным и раненным в разные места» Панургом, только «по капризу Фортуны» доведен «до такого упадка и нищеты».
Формируясь не в идеально-человечной среде Утопии, а в самых бесчеловечных условиях социального распада, Панург становится у Рабле носителем действенных и разрушительных сил жизненного процесса. Он всегда во всем сомневается, чтобы дойти до истины своим умом. Отвергая ходячие представления, он верит только собственному опыту. Это чувственное, критическое начало «человеческой натуры», конкретное выражение ее незавершенности, ее задатков для неограниченного развития, ее жажды знаний и новых условий жизни.
Распад средневекового общества и его морали выступает в Панурге как условие и отправной пункт дальнейшего прогресса. Именно в поведении Панурга ярче всего демонстрируется критическое отношение самого Рабле к устоям старого мира. Рассказ о том, как Панург с тремя товарищами «посредством хитрости» побили вчетвером шестьсот шестьдесят рыцарей, полон глумления над феодальной воинственностью, а другой рассказ о том, как Панург приобретал индульгенции, проникнут презрением к священной церковной собственности. Забавные судебные процессы, которые возбуждает Панург против городских модниц или против магистров и мулов, – обнаруживает то же отношение к средневековому суду, как и у автора эпизодов о Бридуа и о сутягах острова Прокуратии.
Но в образе Панурга сказывается также и свободное отношение гуманиста Рабле к формирующейся частной собственности капитализма, к этике буржуазной бережливости эпохи первоначального накопления. Мотовство Панурга рисуется не в сатирических чертах, оно выведено из беспечной жизнерадостности, к которой Рабле, как и Пантагрюэль, относится снисходительно. Панург – озорник, кутила, гуляка, каких и в Париже немного, «а в остальном чудесный человек». Это сказано не только в шутку. Реальный, «отрицательный» вариант человеческой натуры привлекает автора не в меньшей степени, чем образ идеального героя. Он – народная основа пантагрюэльского мира.
Основные два образа произведения поэтому не только противопоставлены друг другу. Под внешней положительностью Пантагрюэля часто скрывается несомненная ирония. «Советы ваши – одни сарказмы», – замечает с комическим отчаянием Панург. Читатель вправе усомниться в искренности Пантагрюэля, заявляющего, что его «тошнит от кощунственных речей брата Жана» (IV-50). Читатель не принимает всерьез слова мудреца, что «лучших христиан, чем эти добрые папоманы, он не видал» (IV-55). Когда путешественники прибывают на остров Ханеф, где живут пустосвяты и отшельники, Панург отказывается даже ступить на их берег, а его учитель Пантагрюэль благочестиво жертвует им 78 000 пол-экю. Остров Руах населен странным народом, который питается одним ветром, но Пантагрюэль с той же внешней невозмутимостью одобряет здешние нравы и обычаи. Его спутники дружно издеваются над величайшей святыней папоманов, которую им показывает епископ Гоменац, тогда как сам Пантагрюэль находит это изображение достойным кисти мифического художника древности Дедала: «Даже если это подделка, да еще топорная, в ней все же незримо присутствует некая божественная сила, отпускающая грехи» (IV-50). Это уже явная издевка. Защита Пантагрюэлем судьи Бридуа, выносящего приговоры с помощью игральных костей (ибо, «по мнению талмудистов, в метании жребия нет ничего дурного, и, когда люди полны тревоги и сомнений, воля божья обнаруживается именно в жребии», III-44), – глумление равно над судьями, как и над верой в Божий промысел. Во всем эпизоде о Бридуа – вставке между двумя рассказами о мудрых приговорах шутов – «положительность» Пантагрюэля внутренне шутовская, панурговская, так как официальная мудрость для Рабле, как и для Эразма, – род безумия.
Позитивность Пантагрюэля не менее парадоксальна и забавна, чем негативность Панурга. Именно в образе великана-мудреца кульминирует сократовская ирония Рабле. Пантагрюэль «утверждает» прописные истины, чтобы подчеркнуто банальной формой вернее их дискредитировать. Он порой высказывает удивительные взгляды. Вслед за древними философами Пантагрюэль, например, уверяет, что между именем человека и его судьбой существует таинственная связь, и еще Пифагор умел по числу слогов определить, какая сторона у человека будет повреждена: Ахиллес («нечетное» имя) был ранен в правую ногу. Афродита («четное») – в левую руку, Ганнибал был слеп на правый глаз, Гефест – хром на левую ногу и т. д. В этом произведении, где все пропущено сквозь призму комического, устами эрудита Пантагрюэля Рабле часто потешается над многими наивными положениями авторитетов, в том числе и античных. Скрыто ироническая «положительность» Пантагрюэля иногда попросту сливается с открытым озорством Панурга, отличаясь только по форме. Пантагрюэль отправляется вместе со своим другом смотреть парижанку, вокруг которой по милости Панурга собрались все собаки города, и благородный король Жаждущих, не выходя из отведенной ему «благожелательной» роли, находит это представление весьма прекрасным (II-22).
С другой стороны, и Панург, откровенно распущенный в речах и поступках, от природы не чужд облагороженной человечности короля Пантагрюэля. Рабле рисует Панурга как «человека хорошего роста и изящного телосложения» (II-9), «в высшей степени обходительного» (II-16), это не только внешние черты образа. Роль отрицательного начала, начала сомнения и цинизма, у Рабле не та, что у Гёте в Мефистофеле. Панург отличается от демонического спутника Фауста. Это не «лжедруг»[62], не враг, а веселый компаньон и до конца верный товарищ. Именно его Пантагрюэль призывает на помощь в самую опасную минуту битвы с бесовской силой, с вурдалаком. В знаменитом письме Гаргантюа советует сыну избегать дурного общества и тщательно подбирать себе друзей, а в начале следующей главы Пантагрюэль находит себе достойного товарища в лице Панурга. Они с первого же знакомства клянутся в вечной дружбе: «Вы мне так полюбились, – говорит Пантагрюэль, – что, если вы ничего не имеете против, я не отпущу вас от себя ни на шаг, и отныне мы с вами составим такую же неразрывную пару, как Эней и Ахат» (II-9). Положительное и отрицательное начала человеческой жизни, идеальное и земное еще не выступают в такой антагонистической и трагической форме, как в поэме Гёте, принадлежащей к более позднему этапу буржуазного искусства. У Рабле больше стихийной непосредственности в понимании диалектики развития личности и общества. Как и у других гуманистов эпохи Возрождения, жизнерадостная мысль Рабле проникнута более безусловным и цельным доверием к человеческой природе.
Характер Панурга раскрывается в соответствии с условиями жизни, всегда преходящими и относительными. Он дерзок, груб, жесток в известных обстоятельствах (дерзок с представителями бюрократического порядка, груб с жеманницами, жесток с глуповатым и самодовольным Дендено в эпизоде «Панургова стада»). В других обстоятельствах, например в обществе пантагрюэльцев, он учтив и любезен, хороший товарищ, остроумный собеседник и «в остальном прекрасный человек». Он поэтому так же всесторонен, пытлив и свободен, как и его учитель Пантагрюэль. Но жизнерадостная, «человеческая натура» в нем раскрывается реалистически и в динамическом брожении, тогда как в Пантагрюэле она выступает идеализированно, как нечто готовое и законченное. «Пантагрюэль представлял собой идею наивысшей жизнерадостности» (III-51).
Учение Рабле поэтому названо по имени великана. Но беспредельный оптимизм во взгляде Рабле на «человеческую натуру», пожалуй, наиболее разительно представлен в образе Панурга. В нормальной человеческой среде – в кругу пантагрюэльцев – обнаруживается здоровая, прекрасная основа его натуры, которую «портят» обстоятельства общественного кризиса XVI века. Поэтому Пантагрюэль и замечает о Панурге, что тот лишь «доведен до упадка и нищеты». Характер Панурга тем самым до известной степени условен, как условны, преходящи обстоятельства его жизни, и не совпадает с «человеческой натурой» – основой его характера. Его «отрицательный» характер – это комическая роль, которую он играет в спектакле жизни, реагируя на обстоятельства, как Пантагрюэль играет комическую «положительную» роль.
Два полюса в природе человека, два противоположных характера Пантагрюэля п Панурга настолько взаимосвязаны в методе типизации у Рабле, что как бы переходят один в другой. У них по сути общее отношение к миру, общий язык. Единая человеческая натура в них только различно проявляется, образуя противоположные характеры. Поэтому, несмотря на все свои пороки, Панург в глазах Рабле неизменно остается «добрым пантагрюэльцем». Он прекрасно понимает своих товарищей, и они его понимают с полуслова. Широта обобщения жизнерадостной «человеческой натуры» в образе Панурга не меньше, чем ее высота в образе Пантагрюэля, этой утопии неограниченных возможностей освобожденного человечества. Со всеми своими «естественными» недостатками, во всей своей незавершенности и противоречивости, вечно беспокойный Панург воплощает реальное движение «человеческой натуры» к свободе. «Панург – это вкратце все человечество», – замечает А. Франс.
Связь Пантагрюэля с Панургом – высшей мудрости с народным началом – полна глубокого исторического смысла. Как известно, за передовыми идеями века Возрождения, за теоретической борьбой гуманистов в конечном счете всегда стояла социальная борьба народных масс за свои жизненные и материальные интересы, борьба, которая питала и язвительную иронию гуманистов над старым, и их веру в развитие общества, их «идею наивысшей жизнерадостности». Не менее известно, что теоретическая защита прав «человеческой натуры» не доводилась гуманистами до революционных выводов, до сознательной классовой защиты политических движений низов (чего мы не найдем и в политической мысли Рабле), но это никак не снимает народности художественного видения Рабле, не снимает и исторического колорита его образов, их внутренней связи.
Благодаря единству природы человека – в ее мудром, идеальном, пантагрюэльском виде и чувственном, земном, панурговском – возможен обычный в этом произведении спор между героями Рабле. Этот спор напоминает «агон» (состязание) аристофановской комедии, борьбу между Правдой и Кривдой, между взглядами привычными и парадоксальными как основу идейной коллизии. В древнеаттической комедии это непримиримый спор, который переходит в потасовку, где верх берет сила и часто (как, например, в «Облаках» Аристофана) старая мораль побеждает новые веяния, подтачивающие традиционные устои. У Рабле исход «агона» другой. Обе спорящие стороны по существу критически относятся к окружающему и только распределили между собою роли «защитника» и «прокурора». Обе точки зрения – абсолютное доверие и абсолютное сомнение – недостаточны, односторонни, нуждаются друг в друге, то и дело переходят друг в друга как выражение единой основы. Пантагрюэль и Панург могут поэтому, споря, договориться – не выходя за пределы своего характера – как в отдельных эпизодах, так и в конце всего произведения.
Образцом такого «спора» может послужить хотя бы глава 29 Третьей книги. Дабы решить после многих неудач злополучный вопрос о женитьбе, Пантагрюэль советует Панургу пригласить на консилиум трех специалистов: богослова, лекаря и законника. Исходный тезис Пантагрюэля таков: «Мы сами и все, что у нас есть, состоит из трех вещей: души, тела и имущества. Соответственно этому три рода людей в наши дни приставлены пещись о каждом из трех наших благ. Богословы пекутся о нашей душе, лекари – о теле, юристы – о нашем имуществе». На это Панург возражает: «Клянусь святым Пико, ничего путного из этого не выйдет, наперед вижу: в этом мире все устроено шиворот-навыворот. Охрану наших душ мы доверяем богословам, а между тем большинство из них – еретики; охрану тела доверяем лекарям, тогда как сами они ненавидят лекарства и никогда их не принимают; охрану имущества нашего – адвокатам, а ведь между собой адвокаты тяжб никогда не заводят». Пантагрюэль со скрытой иронией подытоживает спор. Он в общем соглашается с Панургом, формально сохраняя, в отличие от него, неизменную «благорасположенность» к миру: «Вы говорите как настоящий царедворец», – замечает Пантагрюэль, но иронически отводит первый пункт: «добрые богословы» лишь искореняют чужие заблуждения и ереси, «а чтобы самим впасть в ересь – им просто не до того». Но со вторым он на свой лад «соглашается»: врачи профилактическими мерами действительно избавляют себя от необходимости в лекарствах. Он «одобряет» и третий пункт: адвокаты так заняты защитой чужих дел, что у них просто нет времени уделять внимание собственным делам… Пантагрюэль и Панург прекрасно понимают друг друга, как два артиста с определенными ролями, играющие по заранее намеченному режиссерскому плану.
Комизм метода типизации у Рабле – в этой условности характера, в том, что ситуация поворачивается к герою соответственно его роли и он видит мир глазами своей условной роли. И так как в конечном счете у Рабле только две роли – «панурговская» и «пантагрюэльская», – то до появления на сцене Панурга образ Пантагрюэля синкретически выполняет оба амплуа (эпизоды детства Пантагрюэля, озорные деяния его молодости, первые эпизоды пребывания в Париже). Как «положительный» образ Пантагрюэль определяется лишь с девятой главы второй книги после того, как нашел Панурга. Те же два начала выступают сперва недифференцированно в образе юного Гаргантюа. Но как только в повествовании появляется монах Жан, родной брат Панурга, – образ Гаргантюа становится «положительным».
Индивидуальные черты монаха Жана, за которым выступает также крестьянство, умеющее отстоять свои виноградники на своей земле, – его сила, смелость, решительность отличают этого героя Рабле от непоседливого, лишенного отечества и крова, деклассированного Панурга. Но крестьянский элемент в характере брата Жана – представителя низов духовенства, по своему происхождению и положению близкого к народу, – соотнесен с патриархальным, «мужицким» королем Грангузье, с более примитивным миром, где такую большую роль еще играет Гастер. В этом мире и рождается Гаргантюа, а за обильный стол Грангузье садится питомец Каремпренана (Постника) брат Жан. Сравнительно с «Повестью о Гаргантюа», рамки жизни, как и круг человеческих интересов в «Пантагрюэле», особенно начиная с Третьей книги, значительно раздвигаются. Поэтому с Пантагрюэлем соотнесен и деклассированный Панург. Однако и чревоугодие как комическая черта в характере брата Жана для Рабле – «условная роль», соответствующая условиям, где формировался этот характер – миру монастырских стен. И в высшей степени показательно, что в подробном описании Телемского аббатства, учрежденного братом Жаном, нет даже упоминания о кухне.
Условность характеров «Гаргантюа и Пантагрюэля», то, что для Рабле это лишь роли, в которых играет единая жизнерадостная природа человека, ярче всего раскрывается на образе все того же Панурга, самом значительном создании комического гения Рабле. Недаром в ходе действия интерес к Панургу отодвигает на второй план все другие образы произведения: в Панурге полнее и колоритнее всего дана «человеческая природа» в понимании Рабле. Начиная с Третьей книги выдвигается трусость Панурга, как новый источник комических ситуаций. Наиболее ярко она демонстрируется во время бури на море – эпизод, которому отведено семь глав. Панург обнаруживает крайнюю – поистине пантагрюэльских масштабов – степень трусости. Разумеется, Пантагрюэль видит и трусость Панурга «с лучшей стороны». «Коль скоро он во всех случаях жизни держится молодцом, а страх на него напал только во время этой страшной бури и грозного урагана, я уважаю его ни на волос не меньше, чем прежде», – объявляет Пантагрюэль. Ибо, «подобно тому как всечасная боязнь есть отличительная черта людей грубых и малодушных… так же точно бесстрашие в минуту явной опасности есть знак тупоумия, а то и вовсе бестолковости» (IV-22). Но к Панургу не применимо ни первое, ни второе. Он не пребывает в постоянном страхе, он только «предусмотрителен», учитывает обстоятельства и в этом смысле «естественно труслив». Трусость не помешает ему пуститься в далекое и опасное путешествие. В свое время Панург отличился в войне с Анархом не меньше других пантагрюэльцев. Он трусит только в известных обстоятельствах или, по его собственному выражению, «не боится ничего, кроме опасности» (IV-22). По окончании бури Панург снова становится славным парнем и, сходя на берег, интересуется, какой толщины доски на корабле. Узнав от шкипера, что они в два добрых пальца, он с удивлением восклицает: «Ах ты господи, значит, мы все время были на два пальца от смерти!». Но беспечный Панург обычно не задумывается над этой всегдашней дистанцией жизни «на два пальца от смерти». В его трусости комична неизменная жизнерадостность – основа натуры Панурга. И в других его пороках играет все та же чувственная природа. Например, когда он зол. А зол он, когда голоден. Стоит Панурга накормить, как и вся злость проходит[63]. Его комические пороки, трусость, злость – преходящи и производны от обстоятельств.
Все пантагрюэльские характеры при нормальных человеческих условиях сходятся, обнаруживая внутреннее родство, как на острове Эназин, где все жители – родственники и свойственники, хотя «их родство и свойство было весьма странное – никто из них никому не приходился ни отцом, ни матерью, ни братом, ни сестрой, ни дядей, ни теткой и т. д.» (IV-9). В конечном счете герои Рабле тождественны: это «пантагрюэльцы». В Телеме нет чревоугодия брата Жана. В компании хороших людей Панург – прекрасный малый. В конце произведения в храме Божественной Бутылки стираются грани между Пантагрюэлем, Панургом и братом Жаном. Рассудительный Пантагрюэль прославляет вино вместе с пьяницей Жаном, все сомнения Панурга разрешены, «блоха в ухе» успокоилась, жизнь теперь для него так же ясна, как для Пантагрюэля. Но истина «тринк!» ведь известна уже с начала повествования, когда рождается Гаргантюа с криком «пить!». Пантагрюэльская субстанция человека невозмутима и верна себе, хотя ее проявления различны, даже диаметрально противоположны, изменчивы, как роли – в зависимости от условий. Всем пантагрюэльским персонажам присуще внутреннее спокойствие, «глубокая и несокрушимая жизнерадостность, пред которой все преходящее бессильно».
Рядом с «комизмом движения жизни», источник которого удивительные переходы форм, поразительные смены в природе и обществе, взаимная связь и зависимость противоположных и далеких начал, выступает у Рабле «комизм спокойствия духа», источник которого не менее удивительная невозмутимость человеческой натуры, ирония над своим положением, поведение, не соответствующее обстоятельствам, – короче, комизм независимости от условий. Сочетание этих двух видов комического в характерах Рабле уже само по себе гротескно, но это связь историческая. Первый вид настолько же коренится в динамической природе эпохи «величайшего прогрессивного переворота», насколько второй вытекает из ее осознания, из гуманистической идеализации человека.
Из «комизма спокойствия духа» вытекают многие характерные для Рабле положения, перед которыми в недоумении останавливается позднейшая критика, когда подходит к Рабле с чуждой для него меркой, без учета его метода типизации. Вспомним хотя бы сцену первой встречи Пантагрюэля с Панургом, который, умирая с голод у, обращается к королю с просьбой о помощи подряд на тринадцати языках. Оказывается, что многоученый Пантагрюэль ни одного из них (в том числе и латинского и итальянского) не знает и спрашивает незнакомца, не сможет ли он объясниться по-французски. «Слава богу, это мой родной язык, я родился и вырос в зеленом саду Франции, то есть в Турени», – отвечает Панург. Даже такой тонкий критик, как А. Франс, усматривает здесь не больше как непоследовательную прихоть доброго Рабле, который словно забыл и о голодном состоянии Панурга в данную минуту, и о пресловутой учености Пантагрюэля. Но в этой, несомненно, буффонной сцене Рабле верен себе. Подобно другим великим реалистам Возрождения (Шекспир, Сервантес), Рабле иногда пренебрегает «увязкой» технических деталей и внешним правдоподобием ради высшей правды и поэтической полноты характеров. Если бы Панург обратился к Пантагрюэлю сразу на родном языке или если бы Пантагрюэль понял первое же обращение к нему незнакомца по-немецки, не было бы всей этой колоритной сцены с бродягой-полиглотом, изучившим свои тринадцать языков отнюдь не за школьной партой. Вся прошлая жизнь беспечного Панурга, о которой он в дальнейшем вспоминает не чаще, чем о прошлогоднем снеге, не предстала бы перед читателем сразу во всей пестроте ее географии и образ Панурга потерял бы общечеловеческий масштаб обобщения. В этой шутовской, насквозь игровой (и в этом смысле условной) сцене Панург демонстрирует перед Пантагрюэлем свою жизнерадостную, независимую от превратностей судьбы натуру и будущее амплуа шута – и только поэтому может сразу войти полноправным членом в пантагрюэльский мир. Великану, заканчивающему свои годы учения, Панург именно в этой тринадцатиязычной сцене должен полюбиться с первого взгляда. Отныне они составят «неразрывную пару друзей», ту пару, которая станет основой всего произведения, основой его действия, его мысли, его комизма.
Другим примером может послужить все та же сцена трусости Панурга во время бури. Комизм поведения Панурга не столько в этих выкриках и воплях: «Бе-бе! Бу-бу! Бо-бу! Го-го! Я тону, тону! Увы, увы!» и т. д. Пожалуй, более забавны его элегические медитации и прекрасная эрудиция, обнаруживаемая в такой, казалось бы, неподходящий момент. «О, если бы Бог и благословенная, достойная, святая Дева Мария соизволили, чтоб я теперь – то есть вот именно сейчас! – находился где-нибудь на твердой земле, в полном покое! О, трижды и четырежды счастливы те, кто сажает капусту! О парки! Зачем вы из меня не выпряли человека, сажающего капусту? О, как мало число тех, к которым Юпитер настолько был благосклонен, что предопределил им сажать капусту! Они всегда стоят на земле одной ногой, другая тоже неподалеку» – и т. д. Затем идет сообщение о философе Пироне, который, находясь в такой же опасности и увидев на берегу поросенка, объявил его вдвойне счастливым. «Во-первых, потому, что у него ячменя в изобилии, и, во-вторых, потому, что он на твердой земле» – и т. д.
Для Рабле этот комизм несоответствия поведения обстоятельствам довольно обычен. Именно так всегда проявляется трусость Панурга. Когда пантагрюэльцы спускаются под землю, в храм Божественной Бутылки, аффект трусости не мешает Панургу вступить тут же в шутливую перепалку с братом Жаном, которому он предсказывает, что скоро начнут женить всех монахов. Но в этом же комизм самого брата Жана. Такова сцена, где он врывается в церковь, негодуя на монахов, распевающих псалмы в то время, когда грабят их виноградники, – аффект гнева не мешает ему пуститься в шутливые рассуждения на тему, «почему в пору жатвы и сбора винограда читаются краткие часы, а в течение всей зимы – длинные». Того же характера комизм эпизода, где брат Жан, отправляясь на войну с Пикрохолем, зацепился за дерево и повис на ветвях, так как лошадь из-под него ускакала. Пока он висит на дереве, Гаргантюа и Эвдемон спорят о том, напоминает ли брат Жан библейского Авессалома, который повис на волосах. «Нашли время лясы точить!» – кричит им монах, но сам, в свою очередь, продолжая висеть на дереве, рассказывает им о проповедниках декреталистах, «которые говорят, что ежели нашему ближнему грозит смертельная опасность, то мы под страхом троекратного отлучения должны прежде убедить его исповедоваться и восприять благодать, а потом уже оказывать ему помощь» (I-42).
Все это – комизм поведения вопреки правилу tempore et loco praelibatis («в свое время, на своем месте»), употребляя выражение брата Жана. Читатели XVII века еще умели ценить подобный вид комизма. Известная писательница Севинье больше всего любила в «Гаргантюа и Пантагрюэле» комичную элегию Панурга: «О, трижды и четырежды счастливы те, кто сажает капусту!». Но французская критика XIX–XX веков в этой «неуместно» обнаруживаемой эрудиции в красноречии «не ко времени» героев Рабле уже видит «неумелость, неловкость, которой лучше было бы избежать» (Стапфер)[64] или «хвастовство знаниями», «форму педантизма, которую сам же Рабле осмеивает у сорбоннитов» (Платтар)[65]. Это значит не почувствовать шутливого, подлинно комического начала раблезианских характеров, присущего им во всех ситуациях. В эпизоде бури на море, когда даже Пантагрюэля охватывает уныние, Панург повергает всех в изумление своей просьбой помочь ему составить завещание. Он дает обет, если спасется, построить «хорошенькую, большую, пребольшую, малюсенькую капеллу[66], а то и две, между Канд и Монсоро, где не пасет пастух коров» (IV-19). Стапфер поэтому гораздо ближе к истине, определяя Панурга как великого насмешника, который насмехается над всем и над самим собой: «Панург не принимает и Панурга всерьез»[67]. Но ведь эта формула по сути применима ко всем героям комической эпопеи Рабле: Пантагрюэль, как мы видели, также не принимает всерьез свою серьезность. И когда по окончании бури, сойдя на берег, Панург с веселым видом объявляет всей благородной компании, что под обещанной капеллой он разумел «капельницу, из которой будет капать розовая водица и где ни бычок, ни коровка не станут водиться» (IV-24), он остается верным себе и своей шутливой роли: «Я страху совсем не испытываю. Я зовусь Гильом Бесстрашный. Храбрости во мне хоть отбавляй, я не боюсь ничего, кроме опасностей» (IV-23).
Комизм этого вида вытекает из пантагрюэльского героического взгляда на человека с его «глубокой несокрушимой жизнерадостностью, перед которой все преходящее бессильно». Он аналогичен трагизму речей шекспировских героев, патетика которых также кажется искусственной и риторичной, если подойти к ним с психологической меркой позднейшего искусства. Но то, что кажется психологически неправдоподобным для литературы начиная с XVIII века, героем которой является «средний человек», неотделимо от самого понимания типического в героическом реализме Возрождения. Для Рабле рассуждения трусящего Панурга и раздраженного брата Жана свидетельствуют о пантагрюэльском спокойствии духа его героев, которые способны внутренне возвыситься над условиями. Само это возвышение над «превратностями преходящего» является показателем возможностей и уровня человеческой природы. Оно часто служит основанием ее комического аспекта у Рабле, как и трагического у Шекспира. Последним образцом героического комизма Возрождения является Дон Кихот, все поведение которого строится на несоответствии условиям. Но для Сервантеса, завершающего реализм Возрождения, «комические несоответствия» Дон Кихота есть уже своего рода безумие героя.
Типическое в основных образах Рабле поэтически обобщает слишком широкий жизненный материал, чтобы его можно было упрощенно вывести из частных условий места и времени, как в позднейшем буржуазном реализме. В образе Панурга критика давно отметила своеобразную и неожиданную «мутацию» при переходе от «Пантагрюэля» к Третьей книге и последующим. В «Пантагрюэле» Панург – неугомонный бродяга, вместилище любых пороков, но не трусости: в войне с Анархом он обнаруживает не меньшую храбрость, чем любой из сподвижников Пантагрюэля. Авантюрный его облик здесь даже исключает само подозрение в трусости. Этот порок возникает лишь в Третьей книге, после того, как Пантагрюэль освободил Панурга от «заботливых, добрых кредиторов» и тот почувствовал себя одиноким. («Без долгов и без жены, – кто же обо мне будет заботиться?») Панург теперь задумывает жениться, но вместе с тем боится прелестей будущей семейной жизни. Его трусость, разрастаясь на протяжении последних книг, становится характерной его чертой, его основной ролью в действии. Его трусость – это озабоченность перед будущим. Что сулит ему будущее? Жениться ему или не жениться? Но Панург – первая личность Нового времени, все общество, которое вышло из старой колеи, и вместе с тем «вкратце все человечество», которое без прежних опекунов стоит на пороге новой жизни. Поэтому вопрос принимает, как обычно у Рабле, гротескно двупланный характер: матримониальный и социальный, чувственно-физиологический и общественно-культурный. Искания, наблюдения, личный опыт должны рассеять ложный страх и заботы, изгнать тревогу, «блоху», которая засела «в ухе» Панурга, и укрепить человеческий дух.
Пантагрюэльское учение раскрывается в поздних книгах Рабле не в положительной форме идеального Телемского аббатства или воспитания Гаргантюа, но методом отрицания, знакомством с уродливыми явлениями современной культуры, с «островами» на пути к оракулу Истины. Учителем мудрости в этих книгах остается по-прежнему Пантагрюэль, но их героем становится ищущий и деятельный Панург. И поэтому меняется акцент в его характере, как и его роль в действии. В первых книгах, где главными героями были могущественные великаны, человеческая природа комически обнаруживается у Панурга в его самоуверенности, озорстве и беспечности. Теперь же, когда главным героем повествования становится Панург, когда он сам должен решить свою судьбу, на первый план выдвигается беспокойство, сомнения, страх за свою жизнь – короче, трусость как проявление все того же жизнелюбия.
В одной новейшей работе о характере Панурга[68] автор, исходя из понимания Рабле как «предшественника новейших реалистов физиологического направления», стремится объяснить эту метаморфозу – превращение авантюриста в труса – тем, что образ Панурга всецело обусловлен обстоятельствами, ибо это характер, «подобный персонажам Бальзака». Все дело, оказывается, в том, что в Третьей книге Панургу уже сорок лет, тогда как во Второй книге он еще молод (ему тридцать пять лет). Его трусость вытекает из того, что он уже устал от похождений, постарел и ведет себя как «потрепанный Дон Жуан», Объяснение «эволюции» образа Панурга возрастом – весьма натянутое, ибо понимание реализма здесь не историческое. На самом деле эта эволюция – того же порядка, что и в образе Дон Кихота при переходе ко второй части, где Сервантес все больше выдвигает на первый план мудрость безумного идальго. И в том и в другом случае развивается не столько герой, сколько автор. Углубляется взгляд автора – и читателя вместе с ним – на мир и на героя, образ которого, как и вся ситуация, открывается с новых сторон. Этим переходам в движении образа еще не хватает технического обоснования и внутреннего драматического развития, подобно тому как и композиция повествования у Рабле и Сервантеса, при органичности поэтического целого и драматизме отдельных эпизодов, еще остается наивно механической в переходах от одного эпизода к другому.
В образах пантагрюэльцев комизм стоит близко к юмору (но основанием смеха здесь, как мы видели, является обычно не слабость, а сила человека). Во враждебных им, в собственно отрицательных и порочных образах, комическое по материалу совпадает с сатирой (отличаясь от нее, однако, своим тоном). Но в чем комизм порока для Рабле? В Четвертой книге Пантагрюэль рассказывает своим спутникам о том, как Физис, то есть Природа, родила Красоту и Гармонию всего живого. Тогда Антифизис, «извечный противник Природы», позавидовав ей, произвел на свет изуверов, лицемеров и святош; затем маньяков всякого рода, неуемных кальвинистов, женевских обманщиков, бесноватых фанатиков, ханжей, людоедов, монахов-обжор и «прочих чудовищ безобразных и противоестественных, чтобы досадить Природе» (IV-32).
Комизм порока в собственном смысле слова – комизм противоестественного. Антифизис пытается подражать Природе, но он лишь ее передразнивает и переворачивает. Подобно Ариману в древнеперсидской мифологии, который создает мир, во всем противоположный миру Ормузда, Антифизис создает мир навыворот. Творения Антифизиса ходят ногами вверх, головой вниз, подражая деревьям, ибо, доказывают они, «волосы у человека подобны корням, ноги напоминают ветви, деревьям же удобнее, чтобы у них были воткнуты в землю корни, а не ветви».
В мире Антифизиса внешне повторяются пантагрюэльские мотивы «вина» и «знания». Но чувственному началу пантагрюэлизма здесь соответствует низменная животность, а разумному – бесплодная отвлеченность. На острове Гастролатров (Обжор) не признают иного бога, кроме всемогущего желудка; на острове Раздутом жители «лопаются от жиру» – буквально, с оглушительным взрывом. В царстве Квинтэссенции – королева ничего не ест, кроме некоторых категорий, абстракций, антитез и иных логических фигур. Обитатели Атласной страны отличаются не меньшей, чем у пантагрюэльцев, «жадностью к знаниям», которые они, однако, усваивают только «по слухам».
Противоестественный мир «островов» Четвертой и Пятой книг, так же как и образы обскурантов и феодалов предыдущих книг, лишен творческого начала. Он в уродливой форме лишь повторяет чувственные и духовные интересы живого пантагрюэльского человечества, как тень воспроизводит контуры живого тела. Грандиозное здесь превращается в чудовищное и отталкивающее прежде всего в силу своей односторонности. На «островах» обитают всякого рода маньяки, фанатики, представители различных корпораций, церквей, профессий. Универсальная природа человека в них разложилась, распалось единство общественной жизни.
Это застывшие, неподвижные, мертвые состояния. Изолированность каждого из островов Антифизиса оттеняет распад и застой в осмеиваемой Рабле культуре старого мира, из которой ушел дух жизни. В противоположность пантагрюэльскому обществу, здесь нет внутренней соотнесенности и взаимопереходов в образах. На каждом из островов царит свой окостеневший быт, свои неизменные порядки и представления. Обитатели островов не могут возвыситься над своим состоянием, над своими аффектами. Им недоступна ирония над своим положением, над обстоятельствами, которые им не представляются превратными. Между образами Антифизиса исключается поэтому «спор». Здесь возможна только нескончаемая, бессмысленная, фанатическая война между папефигами и папоманами, между Постником и Колбасами.
У обитателей мира Антифизиса нет чувства комического. Разве только дурацкий смех сорбоннского оратора Ианотуса, который и не подозревает, что слушатели смеются над его глупостью. По пути к оракулу Истины пантагрюэльцы получают представление о достойной жизни доказательством от противного. Этот мир так же раскрывается перед ними, как комический спектакль, но они участвуют в нем обычно лишь в качестве зрителей. Гротеск противоестественного, своего рода серия застывших масок – лишь объект, а не субъект смеха. Смеяться, по Рабле, свойственно только живому, здоровому, естественному человеку.
IV. Роль комического. Смех и знание
В чем суть раблезианского смеха? В чем его самый общий смысл, его пафос? Применительно к автору «Гаргантюа и Пантагрюэля» этот вопрос более важен и настоятелен, чем к кому-либо из великих мастеров комического, будь то Сервантес или Кеведо, Мольер или Вольтер, Свифт, Диккенс или Марк Твен, Гоголь, Щедрин или Чехов.
Можно сказать, что у всех этих великих художников комическое является средством для известной цели, это смех над предметом комического, смех, обнажающий природу предмета. Он свойствен и Рабле. Но, гуманистический по преимуществу, смех Рабле ставит перед собой еще одну особую цель: он возвращает человека к собственной природе. Он восстанавливает в читателе человека, «ибо человеку свойственно смеяться», смех – эталон нормальной здоровой природы. Если для Платона, «божественного» учителя, на которого Рабле так часто ссылается, здоровье – первое благо в жизни, то для Рабле показателем здоровья является смех. Это и средство и нечто большее, чем средство. Смех – некая наличная «веселость духа»[69] естественное состояние, из которого человек не должен выходить, но которое всегда должен в себе поддерживать.
Свои книги Рабле всегда называет «пантагрюэльскими» или «полными пантагрюэлизма», настаивая на «особого рода таинственном учении», их пронизывающем и объединяющем. Раблезианский смех не только неотделим от этого учения, но составляет самое непосредственное его выражение. Концепция Рабле не сводится к сумме отдельных научных теорий. Каковы бы ни были философские и религиозные, политические или педагогические выводы читателя – в меру любознательности и сообразно направлению его ума, – Рабле остается всегда верным себе в смехе. Существо своего учения, «мозг», который нужно извлечь, Рабле называет «мозговой субстанцией», то есть единой основой многообразных, а порой противоречивых положений. Эта основа – в мироощущении, в «пантагрюэлизме». «Книги, полные пантагрюэлизма», – то есть радостного состояния духа.
Нет поэтому ничего более противоположного истинной цели, которую ставил себе Рабле, чем понимание его смеха как «маски» для выражения некоей мысли или как приема «для отвода глаз» (своего рода технического камуфляжа). Смех будто бы призван был заглушить возможные подозрения в ереси и сбить тем самым с толку непосвященных читателей 1532 года, которые «и не подозревали о смелых дерзаниях» мысли автора, рассчитанной на «немногих избранных», «лишь они ему были дороги»[70]. Но любая страница Рабле по духу и букве противоречит оценке его как писателя для избранных. И если необходимо прямое свидетельство, то в прологе к Пятой книге сам автор заявляет, что, в отличие от аристократической линии в современной ему поэзии, он «стряпает на каменщиков».
В самых простых эпизодах курьезно отыскивается особый «таинственный смысл». Рассказ Панурга, как он спасся от турок, собиравшихся заживо его изжарить на вертеле, «обернув салом, как кролика», оказывается, направлен против веры в чудеса, а точнее, против эпизода из «Деяний апостолов» о спасении Петра. Сходство, по мнению Лефрана, здесь поразительное: и там и тут стража уснула, и там и тут нерадивую стражу казнили… Остается еще добавить, что и апостол Петр и Панург странствуют, как бродяги, по белу свету. Кроме того – и в этом актуальный «реализм» Рабле, «королевского публициста», – турецкий плен Панурга и пережитые им муки должны были мобилизовать внимание общественного мнения к нависшей над Европой опасности со стороны турок после их побед в Венгрии в 1532 году. От комизма, как и от подлинного реализма, от жизненности образа Панурга после этого «толкования» мало что остается. Другой подвиг Панурга, когда он после битвы с Анархом воскрешает Эпистемона, приклеив с помощью какой-то мази отрубленную голову к туловищу, оказывается, пародирует евангельское воскрешение дочери Иаира, а также мученичество св. Дионисия. «Поразительный параллелизм» обоих рассказов заключается в том, что Панург, как и Христос (в версии евангелиста Луки), советует окружающим «не плакать»[71] и т. п.
Разумеется, Рабле, как и все старые писатели, нуждается теперь в комментариях. Но более чем сомнительным представляется исходный тезис, будто его образы и ситуации были засекречены уже для современников, причем «ключ» был утрачен уже с конца XVI и найден только в начале XX века. Или – в другой версии – что «иррациональный» Рабле был вполне доступен лишь для «дологических» современников, а затем в веках его совершенно не понимали и только в наше время наконец поняли… как иррациональное и недоступное для нас сознание. Либерал Лефран и «антилиберал» Февр приходят в известном смысле к аналогичным результатам. Но загадочной на сей раз становится неизменная популярность произведения – в века, когда его якобы совершенно не понимали.
Пренебрежение к комическому отражается и на толковании концепции Рабле. «Кость» пантагрюэлизма уже «не по зубам» новейшей критике, и не случайно в лице Сенеана она приходит к печальному выводу, что «XVI век был периодом наиболее благоприятным для понимания Рабле… Никогда впоследствии его огромного масштаба произведение не было оценено более справедливо»[72]. И в самом деле, живое чувство Рабле уже утрачено у А. Лефрана, когда он ставит читателя перед дилеммой: «Какова была цель Рабле, когда он печатал свою первую книгу? Хотел ли он просто вызвать смех у современников или, наоборот, преследовал тайную и более важную цель?»[73]. В этой дилемме, где важная «тайная цель» учения противопоставлена «простому» смеху и близкие друзья отделены от «простонародья», овны – от козлищ, существо пантагрюэлизма также отделено от его непосредственного выражения и поэтому становится неуловимым или во всяком случае предметом всякого рода шатких догадок.
Но предоставим слово самому Рабле. В его произведении важно уловить особый тон, раблезианский подход к теме. Он проходит через все книги, но отчетливее всего звучит в колоритных прологах, прямых обращениях к читателю, которого автор зазывает, приглашая «выпить» из «бочки» и излагая ему основы пантагрюэлизма. «Ключ» к мудрости «Гаргантюа и Пантагрюэля» дает сам Рабле во вступительном стихотворении к первой части:
Други читатели, берясь за эту книгу, Освободите себя от всяких аффектов И, ее читая, не возмущайтесь: В ней нет ничего дурного или заразного. Правда, здесь мало чему совершенному Вы научитесь, – разве лишь по части смеха; Другой предмет не могло мое сердце избрать, Видя горе, которое вас точит и снедает: Лучше писать о смешном, чем о горестном, Потому что смеяться свойственно человеку.Пусть читателю, говорит Рабле, многое представится неясным, недостаточно законченным, пусть выводы покажутся спорными и несовершенными, – цель уже будет достигнута в самом смехе. Смех в «Пантагрюэле» – тема и аргументация одновременно. Читателю нужно вернуть ту способность, которую горе у него отняло, способность смеяться. Он должен вернуться к нормальному состоянию человеческой натуры, для того чтобы истина ему открылась. Сто лет спустя для Спинозы путь к истине лежит через освобождение от аффектов печали и радости. Его девиз – не плакать, не смеяться, а познать. Для Рабле, мыслителя Ренессанса, смех и есть освобождение от аффектов, затемняющих познание жизни. Смех свидетельствует о ясном духовном зрении – и дарует его. Чувство комического и разум – два атрибута человеческой натуры. Сама истина, улыбаясь, открывается человеку, когда он пребывает в нетревожно радостном, комическом состоянии.
В приведенном стихотворении мысль Рабле развивается по принципу круга. Оно открывается советом читателю освободить себя с самого начала от всяких аффектов – и заканчивается обещанием рассеять его горе, освободить его от аффектов смехом. Начало и конец, путь и цель движения совпадают. Само движение есть упражнение в том, что задано с самого начала и что обретается в конце. Но по тому же принципу построена и вся Первая книга. Она начинается главами о добром весельчаке Грангузье и беспечном детстве его сына, который «делает что хочет», и заканчивается социальной утопией Телемского аббатства. Бесконечные сомнения и поиски Панурга – сюжет трех последних книг – разрешаются наконец знаменитым откровением Божественной Бутылки. «Отменная, поразительно верная глосса „пить!“»(V-45), однако, известна пантагрюэльцам с самого начала и «трижды великое слово» произнес, родившись, еще Гаргантюа. «Лучше не скажешь, – заметил Пантагрюэль, – ведь и я сказал вам то же самое, когда вы впервые со мной об этом заговорили. Ну что же, „тринк!“» (V-45).
«Смех» в полисемическом языке и в стихийно-диалектической логике Рабле – синоним «вина», а значит, силы, веры в себя, веры в жизнь, синоним радостного состояния души. «Что подсказывает вам сердце, вакхическим охваченное восторгом», – спрашивает Пантагрюэль. «Тринкнем, – молвил Панург» (V-45). Панург, одержимый сомнениями касательно будущего, Панург, осаждаемый заботами, забыл основную пантагрюэльскую глоссу. Он утратил прежнюю беспечность, пантагрюэльскую, не омраченную страхом «веселость духа», он трусит. Истина теперь для него темна, будущее – неясно и тревожно. Всякий совет можно толковать и так и этак, всякая теория практически о двух концах – там, где слышен голос страха и заботы. Правда, здоровая натура Панурга, его естественный инстинкт, изворачиваясь, – и в этом особый комизм каждого эпизода «советов» – всегда находит благоприятное толкование оракулам: брак ему сулит семейный мир, верность жены, потомство. Но каждый раз страх отнимает уверенность, сомнения возобновляются. Посещение Панургом островов, населенных разного рода маньяками – у каждого своя забота, своя «блоха в ухе», – созерцание комедии противоестественных аффектов и забот укрепляет в Панурге комическое чувство жизни, освобождает его от тревог, от собственной «блохи в ухе». Бакбук «с веселым и смеющимся лицом» заставляет его проглотить глоссу – флягу, полную вина, освобождая его от страха перед будущим. Сердце его, охваченное вакхическим восторгом, теперь способно само стать «толмачом собственного предприятия» (V-45). Лишь теперь незамутненному сознанию открывается истина, – смеясь над Панургом, Панург возвращается к Панургу. В конце произведения звучат поэтому исходные мотивы: «вино», «знание» и телемское радостное «делай что хочешь».
Своеобразие смеха Рабле, отличающее его от других мастеров комического, таким образом, в роли, которую играет смех в ренессансном учении о жизни. И «загадочность» Рабле возникает лишь тогда, когда его доктрину абстрагируют от его смеха, когда она берется в отвлеченном «чистом» виде и к «учителю» подходят педантически серьезно. Тогда страницы книги Рабле превращаются – по его собственному шутливому выражению – в ряд «пифагорейских символов», которые можно толковать и так и этак, подобно оракулам Панурга. Высочайшие истины, «как в том, что касается нашей религии, так и в области политики и экономики», становятся загадочными «таинствами и мистериями», которым мистагоги А. Лефран и Л. Февр будут придавать противоположные толкования. «Зачем не понимать слова Учителя буквально?» – восклицает Лефран, имея в виду слова Рабле о «пифагорейских символах». – «Под маской забавного он излагает теорию, значение которой исключительно»[74].
И в самом деле, «слова Учителя» надо понимать буквально – проглотить его глоссы в их комическом натуральном виде, и тогда возымеет действие его теория, значение которой воистину исключительно. И прежде всего нужно верить Рабле, когда он предупреждает читателя: мало чему совершенному вы здесь научитесь, разве лишь по части смеха.
Мысль Рабле в целом фантастически утопична и реалистически осторожна одновременно. Она удивительно трезва в самом экстазе опьянения – «вино» и «знание» здесь в нерасторжимом союзе. Она как бы отдает себе отчет в своем историческом положении. «Во всех областях приходилось начинать с самого начала»[75]. Концепция Рабле – как и Эразма, Монтеня и всех «жаждущих» гуманистов Возрождения – враждебна поэтому прежде всего догматике непререкаемых решений. Всякая готовая догматическая истина, как показывает история консультаций Панурга, не убеждает, особенно когда она расходится с желаниями, страстями (ибо Панург хочет жениться, но боится). Ее можно тогда толковать вкось и вкривь, даже когда она недвусмысленна (к тому же она обычно действительно темна). Решение дает жизнь и личный опыт. Божественная жрица Истины отказывается поэтому дать готовый ответ, жениться Панургу или не жениться, она только изгоняет из его сердца страх перед будущим: «Будьте сами толмачами собственного предприятия». Тому же учил его в свое время Пантагрюэль своими ответами: «Ну, так женитесь, с богом». «Ну, так не женитесь».
Эпоха Возрождения, в отличие от последующих веков, не оставила в философии никаких законченных систем, она исторически не могла и не должна была к этому стремиться, и в этом равно и сила и слабость ее стихийно-диалектической мысли. Там, где эта мысль пробует слишком рано систематизировать, она несамостоятельна, схоластична или удивительно непоследовательна и не идет даже в сравнение с воздвигнутыми позже – от Декарта и Спинозы до Шеллинга и Гегеля – монументальными логическими сооружениями. Излагать поэтому как нечто законченное трактат эпохи Возрождения по любой сфере знания, например в области теории искусства, несмотря на невиданный расцвет художественного творчества, значит умалять подлинное значение, даже чисто историческое, идей этой эпохи. Гениальные прозрения чередуются с фантастическими утверждениями, способными в наше время лишь вызвать улыбку, смелые гипотезы – с забавной детской игрой в аналогии, за отсутствием доказательств, для которых еще не наступило время. И яркий тому пример прежде всего «Гаргантюа и Пантагрюэль» – создание гуманиста с энциклопедическими интересами и замечательной научной интуицией, но человека своего времени.
История отделила и продолжает отделять в учении Рабле настоящую, глубокую мудрость от шутовства чистейшей воды, предвосхищение будущего – от забавного дурачества, высокий комизм парадоксов развития – от остроумных каламбуров и игры слов. «Истина» и по отношению к самому Рабле, к пантагрюэльской доктрине, оказывается «дочерью времени». И смех Рабле, комическое начало его мысли, играет при этом особую роль. «У Рабле поразительный дар говорить о серьезных научных предметах, как о чистейшем вздоре, и говорить чистейший вздор, как правило, не утомляя». Поэтому «шутки и дурачества Рабле часто стоят больше, чем серьезнейшие рассуждения кого-либо другого», – заметил еще в конце XVII века Фонтенель. Здесь верно передано впечатление от комического у Рабле, от формы, которую он сознательно избирает для своей мудрости. Смех Рабле внешне сближает серьезное со вздором, истину с шуткой. Рабле не хочет казаться важным там, где он действительно глубок, и часто он всего лишь шутит, хотя и с важным видом. Он знает свое время и не хочет преувеличивать его достижений. Все впереди, знание всех мудрецов и их предшественников «едва составляет малейшую часть того, что есть и чего они не знают», – говорит его жрица Истины. Благодаря смеху слово Рабле лишено догматического оттенка окончательных, завершивших свое развитие, «серьезных» заключений.
С этой стороны оценивая смех Рабле, можно сблизить его функцию с ролью, которую играет в философии Монтеня сомнение. При всей односторонности оценки Монтенем Рабле как писателя всего лишь «забавного», он улавливает одну существенную функцию комического у Рабле, родственную мысли самого Монтеня. Смех «Пантагрюэля», как и сомнение (знаменитое «Почем знать?») автора «Опытов», – выражение недоверия всяким догматическим теориям современности. Это своего рода «свидетельство о бедности», которое и Рабле и Монтень – с различными оттенками – выдают всей предшествующей мысли, а также своему времени по абсолютному уровню достигнутых знаний.
Явная ирония над достижениями науки в XVI веке звучит в эпизоде посещения пантагрюэльцами Атласной страны (V-30, 31). Каких только чудес нет на этом баснословном острове – начиная с хамелеона, который питается одним воздухом, и кончая «кожей Золотого осла Апулея». Но наибольшее чудо Атласной страны – горбатый старикашка Наслышка. В его пасти, растянутой до ушей, целых семь языков, и всеми семью языками он говорит разное на разных языках. Ушей у него сколько у Аргуса глаз, но зато он слеп и ноги его парализованы. Ничего он не видел своими глазами и мало где был, но зато все досконально знает – с чужих уст, вещая так громогласно, будто мельница работает. Это кладезь всяческих знаний о природе и истории – и все понаслышке. Вокруг старичка огромная толпа внимающих учеников, и пантагрюэльцы здесь замечают – нечего греха таить – и Геродота, и Плиния, и Страбона, и Альберта Великого – философа и алхимика, и Марко Поло – знаменитого путешественника. Здесь же находится и Жак Картье – мореплаватель, выведенный в произведении Рабле, как полагают комментаторы то ли под именем главного лоцмана Жаннэ Брейе, то ли гидрографа Ксеномана, которые ведут пантагрюэльский флот в страну оракула Божественной Бутылки… Среди последователей Наслышки, таким образом, есть и «свои» люди. Жаждущих знания пантагрюэльцев здесь весьма дурно «накормили» (Пантагрюэль признается, что его желудок прямо бесится от голода), но они по крайней мере в этом вполне отдают себе отчет.
У Рабле не только Панург смеется над Панургом, но и сам автор – над собой, над мудростью своего времени, сама мудрость очищается, проходя сквозь фильтр комического. С этим связаны и шутливые ссылки на античных писателей – один из излюбленных источников смеха, функция которого не только пародийная. Рабле многозначительно называет Гиппократа, Плиния, Плавта, Аристотеля господами древними пантагрюэльцами. Он полон почтения к своим учителям, но увы!.. во что только ни превращает Время прежнюю мудрость. Славный Платон и вслед за ним Плутарх, например, уверяют, что жидкость переходит изо рта через дыхательное горло в легкие… А согласно пифагорейцам, душа – огонь, и поэтому, если человек тонет, то вся душа его гаснет. Не всегда, впрочем, ясен характер ссылок – иронический или серьезный? – на древних писателей, как и на Библию. Да это для Рабле и не важно! Читатель, как Панург, должен в подобных случаях сам быть толмачом текста – в соответствии со своим опытом. Возможно, этот будущий читатель тех времен, когда «все книги позабудутся, и их место заступят бобы в стручках, веселые и плодоносные пантагрюэльские книги», будет еще смеяться вместе с древними авторами, с ренессансным автором, а возможно, уже над ними, над их курьезными утверждениями. Но Рабле всегда будет смеяться вместе со своим читателем.
Мало в «Гаргантюа и Пантагрюэле» совершенного, кроме смеха. Но смех компенсирует недостаток совершенства. В смелом полете фантазии смех – трезвый голос здравого смысла. Это не смех скептика над мудростью и не маскировка мудрости, а голос самой мудрости. И если смех – самозащита для Рабле, то скорее против знания мудрецов, чем против невежества обскурантов, скорее против насмешек друзей в будущем, чем против преследований врагов в настоящем. Произведение Рабле – на добрую половину утопия, подобная утопиям Мора, Бэкона и Кампанеллы. Картина будущего социального и научного расцвета – плод «сердца, охваченного вакхическим восторгом», и забегающей вперед фантазии – не может не быть фантастичной: время внесет неизвестно какие коррективы в эти предвидения. Смех придает поэтому поэтически условный и полисемичный характер мысли Рабле.
Благословеннейшая трава пантагрюэлион совершает чудеса. Благодаря ей исландцы могут уже теперь пить воды Евфрата, она помогает людям «измерить весь зодиак, пересечь экватор, видя перед собой на горизонте оба полюса». Пантагрюэлион всего лишь конопля, из которой изготавливают между прочим и корабельные канаты. Но это и не конопля, а пантагрюэлион, орудие пантагрюэльской творческой мысли, которому суждено великое будущее, это трава вообще, волшебная сила трав в промышленности. И даже больше, чем трава. Это эмблема технического и научного прогресса. И боги уже обеспокоены, что потомки Пантагрюэля не с этой, так с другой травой (а может быть, и не с травой?) заберутся на луну, будут совершать межпланетные путешествия и сравняются с бессмертными. Пантагрюэлион – притча о прогрессе в форме комического похвального слова «изобретающему человеку» (homo faber), где фантазия защищена смехом. В смеющейся мудрости эпизода о пантагрюэлионе безмерный энтузиазм («чего только нельзя ожидать от будущего!») показан в форме игры мысля, а в игре мысли, в условности комического разрастания снимается претенциозный догматизм пророчеств, сохраняется свободное критическое начало пантагрюэлизма. Такова же полисемия вина и пития, или одухотворенной физиологии человеческого тела, где врач и поэт Рабле материалистически предвосхищает будущие открытия науки – влияние физиологии на психологию. Комизм реализованных метафор одновременно свидетельствует и о незрелости научной мысли в настоящем, и о поэтическом предвидении будущих открытий. Совершенны здесь не конкретные знания, но смех – образная форма постижения живого целого.
Одна из самых удивительных черт смеха Рабле – многозначность тона, сложное отношение к объекту комического. Откровенная насмешка и апология, развенчание и восхищение, ирония и дифирамб сочетаются. И не только применительно к Панургу или Пантагрюэлю, но и в эпизодах Антифизиса. Яркими примерами могут послужить эпизоды Гастера и Квинтэссенции. На острове Желудка живут отвратительно смешные чревовещатели и обжоры – энгастримиты и гастролатры. Они устраивают в честь своего бога Гастера процессии, на которых несут грубо размалеванную статую с глазами больше живота, со страшными челюстями и крепкими зубами. Гастролатры – «бесполезный груз на земле» (IV-58), а Гастер – деспот, который не терпит никаких споров, его нельзя ни в чем убедить, ибо у него нет ушей и он объясняется только знаками. Ему повинуются короли и простолюдины, звери и птицы – весь мир на него работает. Ужасающее в облике Гастера, однако, тут же переходит в смехотворное, его статуя способна «пугать только маленьких детей». Страшный Гастер, ради которого люди и животные пляшут, ходят, по канату, сражаются, плавают, прячутся, приносят все, что он хочет, и берут все, что он хочет, иначе он их казнит, – величайший благодетель своего народа, чудотворец. Это он, а не Прометей даровал людям огонь, научил всем ремеслам, изобрел все машины, приборы и все науки. Желудок – первый в мире магистр всех наук и искусств. Прославление Гастера переходит в пророчество об открытиях и изобретениях; будущее комически переносится в настоящее – Гастер «уже» открыл способ вызывать дождь с неба, предотвращать град, успокаивать ветры, останавливать пушечные ядра на лету, использовать силу магнетизма и т. д.
Остров Квинтэссенции – царство абстрактного знания и лжезнания. Чиновники Квинтэссенции доят козлов и собирают молоко в сито, стерегут луну от волков и т. п. Они обуреваемы желаниями, не менее фантастическими, чем у алхимиков и астрологов XVI века. Они распахивают песчаный морской берег, собирают виноград с шиповника и фиги с чертополоха, «из ничего делают нечто великое, а великое превращают в ничто».
Абстракторы Квинтэссенции, как и гастролатры, – маньяки. Поиски «знаний» у одних и низменная чувственность у других принимают чудовищные, уродливо односторонние формы. Но в этих же эпизодах диалектически показана и сила «одного». Эпизод Гастера убедительно демонстрирует могущество материального начала, его решающую роль для прогресса общества. Фантастические эксперименты Квинтэссенции – блуждания научной и технической мысли в XVI веке, перед которыми Рабле останавливается со сложным чувством изумления. Пантагрюэльцы, правда, забавляются, наблюдая удивительные деяния в этой стране, но то, что говорит приветливая молодая королева (которой, впрочем, уже около 800 лет) в своем дворце, где – не мешает заметить – путешественников радушно приняли и хорошо накормили, достойно внимания. Она говорит о блужданиях человеческой мысли и изумительной, казалось бы, забавной новизне опытов, о естественных причинах, нам пока еще неизвестных, о том, что нужно сочетать ясное суждение разума с настойчивым наблюдением опыта. Она предлагает гостям свободно смотреть и слушать, отрешиться от страха перед новыми диковинными путями исследования и от косного невежества. То же им посоветует жрица Бакбук, предсказывая великие открытия и удивительные «феномены» в грядущем. Это уже явно слова самого автора. Страна Квинтэссенции у Рабле расположена недалеко от царства Мудрости.
Движение истории питает комическое у Рабле, и его смех обнажает стихийную диалектику жизни и познания. Невероятная сегодня фантастика может завтра оказаться замечательной научной истиной. Чиновники Квинтэссенции пытаются лечить болезни новыми и самыми курьезными методами, но они же утверждают, что два противоречащих начала могут быть одновременно истинны, даже по форме. Значит ли это, что Рабле на стороне «парижских софистов», которые «скорее позволят распять себя, чем признают это положение» (V-22), и что он только издевается над абстрактными «диалектиками» Квинтэссенции? Читатель решает этот вопрос в меру своего отношения к диалектике и разумения Рабле. Известно, насколько передовая мысль Возрождения, начиная с Николая Кузанского и до Джордано Бруно, – дометафизическая, а не «дологическая», – враждебна схоластической логике и проникнута стихийной, а порой и сознательной, диалектикой.
Смех Рабле, одновременно и отрицающий и утверждающий, но точнее всего, как и сама компания «жаждущих» пантагрюэльцев, «ищущий» и «надеющийся». Безграничный энтузиазм перед знанием и осторожная ирония здесь переходят друг в друга. Самый тон этого смеха показывает, что два противоречащих начала одновременно совместимы даже по форме. Смех Рабле во многом родствен мысли Бэкона (который высоко ценил автора «Пантагрюэля» и называл его «великим французским шутником»), когда он советует ученым изучать удивительные, загадочные и, казалось бы, невероятные «аномалии» природы: их не следует, по Бэкону, отвергать «с порога», как абсурд, ибо опыты с ними могут натолкнуть на интересные открытия общих законов гораздо вернее, чем дедукции умозрительных выводов. Рабле также питает интерес к тем изумительным «аномалиям жизни», где Физис и Антифизис, знание и фантастика соприкасаются, обнажая истину. Сущность вещей для Рабле еще не проста, как для метафизической мысли XVII–XVIII веков; скорее просты, глуповато просты, схоластические учения о сущности. «Жаждущие» пантагрюэльцы ждут от нее, как и от земли в речи Бакбук, раскрытия великих тайн. Их путешествие заканчивается комически торжественной мистерией в храме Божественной Бутылки; но тон описания этой мистерии сложнее, чем пародийный.
Смех Рабле многозначен, как напиток жрицы Бакбук: на вкус Панурга, это боннское вино, брат Жан уверен, что пьет вино грав, а Пантагрюэлю оно кажется мирвосским. А пьют они, и это им хорошо известно, холодную свежую воду из фонтана Божественной Бутылки. «В этом чудесном напитке – вкус того вина, которое вообразите», – объясняет жрица. Воображение пантагрюэльцев – субъективно окрашено. Мы уже видели, как различно раскрывались в веках характер смеха Рабле и его идей, содержание его образов и ситуаций. Но всегда это был освежающий напиток. За воображением читателей стоит объективный и многообразный смысл учения Рабле. Только в смехе обнаруживалось у читателей Рабле единство и взаимопонимание, когда они «пили» из его «бочки».
Грань между серьезным и шутовским, между мудростью и потехой, между высококомическим и буффонадой у Рабле подвижная, и сдвигает ее Время. Тезис Рабле – чаще смелая гипотеза творческой фантазии, чем доказанная теория. Лишь в ходе времени кристаллизуется истина и действительная глубина предвосхищения отделяется от курьезных догадок, от игры мысли и игры слов. Время у Рабле призвано установить также градацию комического в «Гаргантюа и Пантагрюэле» – высокие, полные мудрости, и низшие, всего лишь забавные, виды смешного. Смысл многих глав «Пантагрюэля» расширяется для потомства в соответствии с успехами прогресса.
Есть у Рабле эпизод посещения пантагрюэльцами острова Годос (греч. «путь»), где дороги – существа одушевленные и сами ходят («если верна мысль Аристотеля, что отличительной особенностью существа одушевленного является способность самопроизвольно двигаться», V-26). Среди дорог есть старые («с бородой»), военные, пешие, конные… Став на такую дорогу, прибываешь туда, куда она сама идет (правда, некоторые дороги передвигаются «черепашьим шагом»). В этой главе шутка перемешана с мудростью и между прочим приводятся соображения в пользу гелиоцентрической системы (сочинение Коперника опубликовано за десять лет до смерти Рабле). Ибо когда мы плывем по Луаре, нам кажется, будто движутся деревья, а на самом деле движется лодка. Первое впечатление от эпизода Годоса – и так, несомненно, должен был его понимать прежний читатель, – что это только шутка, обычный для Рабле прием «реализованной метафоры» в выражении «куда ведет дорога». Но в этой забавной шутке из «Гаргантюа и Пантагрюэля», произведения, близкого к фольклору, есть и другой мифически-утопический оттенок («молочных рек и кисельных берегов»), как и в фантастике народных сказок, вроде ковра-самолета, – наивная мечта о будущем покорении природы. Наконец, современная критика, основываясь на том, что в XVI веке во Франции уже сооружались каналы, соединяющие реки (ведущие дороги), с достаточными основаниями усматривает здесь одно из многих смелых научных предвидений Рабле, а именно: современных и будущих «движущихся дорог»[76]. В образе Родоса переливаются разные оттенки многогранного смеха. Это, как и образ «всежаждущего» Пантагрюэля, и забавная, буффонная игра слов, и сказочный полет поэтического воображения, и трезвая мудрость учителя, – читатель волен толковать эпизод как хочет, «Аттическая соль чередуется здесь с поваренной солью», – сказал А. Франс о произведении Рабле. Но часто они не чередуются, а органически сливаются, и не всегда ясен «сорт» этой соли. В смехе Рабле сознательно спутаны карты, – философская мудрость в пантагрюэлизме не должна явно отделяться от шутовства, от иронически простоватой, как у Сократа, формы развития мысли.
Пролог к Первой книге сейчас же после приведенного стихотворного обращения к читателю, где определяется роль смеха, – поэтому не случайно начинается с характеристики Сократа, некрасивого и смешного, с лицом дурака; всегда смеющегося, всегда выпивающего, всегда скрывающего свое божественное знание, но с разумением более чем человеческим, мужеством непобедимым и трезвостью несравненной. Роль смеха в учении Рабле совершенно такая же, как эвристического метода в учении Сократа, древнего пантагрюэльца и «бесспорно князя философов» (хотя Рабле нигде не пользуется сократовским методом). В обоих случаях форма мысли – это не только средство (педагогический прием для одного, художественный – для другого), но и демонстрация самой формой существа мысли учителя, основного принципа его учения. Как у Сократа беседа со случайным прохожим завязывается иногда по самому случайному поводу, так и у Рабле темы эпизодов забавно незначительны (глава о гульфиках, четыре главы о значении пантагрюэлиона и т. п.) – сама тема учения для обоих только один из незначительных, случайных примеров сути учения. Учитель в обоих случаях, при всем разнообразии тем, не претендует на полноту охвата учения, она ему не нужна. Рабле в предисловии к Третьей книге умоляет благосклонных читателей приберечь свой смех до семьдесят восьмой. Он успел выпустить в свет только четыре пантагрюэльские книги, а пятая, по-видимому, осталась неоконченной, но пантагрюэлизм от этого – вероятно, не проиграл. Систематизацию такого учения берут на себя последователи и исследователи, влагая в него свое понимание. И то, что заметил Сократ, слушая диалог своего ученика Платона, – «сколько этот юноша про меня выдумал!» – мог бы сказать Рабле о многих своих интерпретаторах всех времен. Законченность придает учению Сократа сам метод, а учению Рабле – смех.
Сходство с эвристическим методом обнаруживается и более внутреннее. Сократовскому доведению исходной точки зрения собеседника до логического абсурда соответствует утрировка я разрастание в раблезианском гротеске. Философ Сократ, прикидываясь простачком, предлагает собеседнику прийти самому к новому, правильному, хотя и неожиданному выводу; мудрец, помогая наводящими вопросами, по собственному определению, играет в этих «родах» мысли лишь роль повивальной бабки. Художник Рабле в роли веселого рассказчика, потешника, подводит читателя к свободному состоянию духа, при котором читатель сам может извлечь «мозг» из «кости» рассказа, сам станет «толмачом своего предприятия». Наводящий метод античного философа призван освободить человеческую личность от ига традиционных предрассудков, от страха перед богами и научить его смело повиноваться только внутреннему своему «демону», единому для всех консультанту, голосу разума в человеческой груди. Смех у автора Телемского аббатства играет аналогичную роль: гений истины, голос мудрости обнаруживается в жизнерадостном смехе. Жрица Бакбук предстает перед Панургом – «всяким человеком», Человеком Всё Могущим, «Вседелателем» – «с веселым и смеющимся лицом» и избавляет его от ходячих представлений, от ложных и недостойных страхов. Человечество, смеясь, прощается с прошлым – и с «доброй надеждой» взирает на свое будущее[77].
V. Характер комического. Сатира, юмор, забавное
Как повествовательное произведение «Гаргантюа и Пантагрюэль», подобно «Комедии» Данте, явление уникальное в истории литературы. Оно не вызвало достойных продолжений, несмотря на существование в XVI веке так называемой «школы Рабле» (Ноэль дю Файль, Гильом Буше, Бероальд де Вервиль). Создание переходной поры, пантагрюэльские книги вобрали в себя различные элементы старого повествовательного искусства героического эпоса, ушедшего в лубок, комической поэмы, средневековой городской повести и во многом возвестили характер рождающегося «буржуазного эпоса» (комический приключенческий роман XVII–XVIII веков, а также социально-философский и морально-образовательный). Но гротескная форма «Гаргантюа и Пантагрюэля» не укладывается ни в рамки архаического эпоса, а тем более сборника фаблио, ни в рамки «эпоса частной жизни» и напоминает палеонтологические ископаемые, исчезнувшие звенья прежней жизни на земле. Нетрудно заметить преемственность между героем Рабле и героем фаблио или «Рейнеке Лиса». Страхи Панурга повторяют три основные мотива сюжетов фаблио: шкура, кошелек и жена. Панург опасается, что будет бит, обобран и рогат. Но в облике реального и предприимчивого Панурга не больше сходства со средневековым прототипом, чем в деяниях идеального и могущественного Пантагрюэля с подвигами героя эпоса. Соответственно не больше сходства и с позднейшим романом. Лишь в силу расплывчатого или чисто технического понимания термина «роман» как «большой повествовательной формы», его обычно применяют к произведению Рабле. Так же как стихотворное создание Данте называют поэмой. Но верное замечание Шелли об истинно эпическом в высшем смысле слова характере «Божественной комедии» применимо и здесь. «Гомер был первым, Данте вторым эпическим поэтом, творение которого представляет ясную и понятную связь с познаниями, чувствами и религией того века, когда он жил, и с веками последующими», – пишет Шелли. В этом смысле «Гаргантюа и Пантагрюэль», всеобъемлющее и единственное в своем роде произведение, – «эпос эпохи Ренессанса».
Смех Рабле по своему «жанру» также не укладывается в какой-нибудь одной из основных рубрик теории комического, ее родов и видов. Вековой спор критиков о том, следует ли отнести Рабле к сатирикам или юмористам, много выяснил в характере раблезианского смеха, но вопрос остался открытым. Да иначе и не могло быть при формально-теоретическом подходе. Значение этого вопроса, однако, выходит за пределы чисто классификационных определений. Характер пантагрюэльского смеха неотделим от известного мировоззрения, от отношения к жизни у гуманистов Ренессанса. Лишь не упуская из виду «ясную и понятную связь с познаниями, чувствами и религией своего века», можно установить историческую и общечеловеческую природу комического у Рабле.
Это в целом не сатира в точном смысле слова, не возмущение против порока или негодование против зла в социальной и культурной жизни. Пантагрюэльская компания, прежде всего брат Жан или Панург, никак не сатиричны, а они – основные носители комического. Комизм непринужденных проявлений чувственной природы – чревоугодие брата Жана, похотливость Панурга, непристойность юного Гаргантюа – не призван вызывать негодование читателя. Язык и весь облик самого рассказчика Алькофрибаса Назье, одного из членов кружка пантагрюэльцев, явно исключают какой бы то ни было сатирический тон по отношению к Панургу. Это скорее близкий друг, «второе я» рассказчика, как и его главного героя. Панург должен забавлять, смешить, удивлять и даже, по-своему, учить раблезианскую аудиторию, но никак не возмущать ее.
Но и в странах Антифизиса, где царит зло, смех Рабле близок сатире только по предмету, а не по тону. Обитатели острова Жалкого или Дикого забавляют пантагрюэльцев и пантагрюэльского читателя, вызывают веселье, хохот или презрение, учат по методу от противного – и только. Всякая подлинная сатира серьезна по своей цели, по настроению автора, которое переходит и к аудитории. За комической формой стоит опасение и тревога, патетический элемент, а порой и трагический взгляд на жизнь. Жизненный тонус великих сатириков (Кеведо, Свифт, Щедрин) – всегда между комическим и трагическим. Но зло и порок, как правило, не в силах вывести героев Рабле из их комического состояния. Во главе их мы видим всегда невозмутимо спокойную, жизнерадостную фигуру гиганта, воплощение здоровой и мудрой человеческой природы. «Ничто не удручало его, ничто не возмущало. Потому-то он и являл собою сосуд божественного разума, что никогда не расстраивался и не волновался» (III-2). Антифизис, как яд в лекарственной дозе, только активизирует природу пантагрюэльцев. Обитатели его стран оказывают действие на героев Рабле согласно их пантагрюэльской природе. Пантагрюэльцы хохочут до слез, слушая ученую речь Ианотуса, они наперебой состязаются в остроумии перед Гоменацом, воспевающим благодать, исходящую от папских декреталий, и приводят кучу примеров чудесной силы этих декреталий, чем вызывают восхищение папоманского епископа, а брат Жан готов тут же «заржать как жеребец» от удовольствия. На подобных преподносимых Антифизисом спектаклях пантагрюэльцы обнаруживают незаурядные артистические дарования, – Панург посрамляет в искусстве «диспута жестами» самого Таумаста, а Пантагрюэль в роли арбитра, превзойдя в бессмыслице спорящих господ Лижизада и Пейвино, припирает их к стенке.
В столкновениях с монстрами феодализма, церкви и лженауки герои «Гаргантюа и Пантагрюэля» и сам рассказчик полны бодрости, пантагрюэльской уверенности в своих силах и ненасытной любознательности. Они не озабочены исходом столкновения, им чужды тревога или страх. Или, точнее, они (как, например, Панург, а иногда даже сам Пантагрюэль) всего лишь изображают заботу, тревогу или страх – для того, чтобы указать на свое положение и на те условия, где им придется выступать. Да и какие могут быть тревоги и страх перед битвой с Пикрохолем или Анархом у армии во главе с такими великанами, как Гаргантюа или Пантагрюэль, какие силы им страшны? Страхи на море или на суше при такой «предпосылке» ситуации совершенно условны. Огромный кит у острова Фаруш или мелкая рыбешка – какая разница? Столкновения с чудищами всякого рода, «ужасающие деяния» Пантагрюэля или его отца лишены занимательности, так как пресная интрига здесь лишена обычной «поваренной соли» – ожидания «чем кончится», – в ней нет драматического нарастания, неясности перед будущим и т. п. Но читатель и не должен испытывать чувства тревоги за героев в столкновениях «добра» со «злом». Как и герои, он должен быть вне аффекта страха. Это не ситуация «Гулливера», где герою не только у великанов, но даже в царстве лилипутов иногда угрожает серьезная опасность. В произведении Рабле драматическим ситуациям нет места, и читатель не должен выходить из веселого, любознательного – пантагрюэльски комического состояния духа.
Заботы и тревоги, страдания и страх – «патетическая» сторона человеческой жизни – окрашены у Рабле в комические тона. Это страхи Панурга и страдания нетерпеливого желудка брата Жана. И только в забавной форме ужасающее вызывает интерес: интересно не описание грандиозной морской бури (в котором дают себя знать элементы книжной эрудиции), а забавная анатомия Каремпренана, портрет и занятия этого Великого Постника. Незабываемо знаменитое описание схоластических «прекрасных книг» в библиотеке Сен-Виктора. И из всех батальных сцен читателю ярче всего запоминается не героическая война Пантагрюэля с Анархом, а веселый бой брата Жана с Колбасами: изобретательность Рабле здесь неисчерпаема. Весь эпизод страшной бури, настигающей пантагрюэльцев в открытом море, заполнен комическими ламентациями Панурга п шутками его товарищей. Рассказ о встрече с чудовищным китом, когда страхи Панурга возобновляются, нужен автору для того, чтобы шутками исцелить Панурга от страха. Брат Жан уже предсказал, что Панург закончит жизнь на виселице и поэтому ему нечего бояться воды. «Эта стихия скорее защитит и охранит вас, но уж во всяком случае не погубит», замечает ему со своей стороны Пантагрюэль. Но Панург боится, как бы черти-повара не напутали с его судьбой, ведь «между жареным и вареным расстояние невелико», и если уж погибать в жидкой стихии, то он предпочел бы утонуть в бочке с мальвазией (IV-33).
Собственно сатирический материал – зло в обществе и жизни – также переключается в чисто комический план. Общественные бедствия, порождаемые фанатизмом, не должны омрачать душу аудитории Рабле, страдание здесь, подобно страхам Панурга, вызывает не сострадание, а смех. Во вражде, царящей между островом Постника и островом Колбас, осмеяны религиозные войны Реформации. Гротеск в материализованной метафоре «Колбас» настолько утрирован, что мы уже не видим в этом порождении Антифизиса живых людей. Колбасы принимают по ошибке Пантагрюэля за своего врага Постника и завязывают с ним войну. Их сокрушает во главе отряда поваров брат Жан, которому как «монаху» и «католику» подобает немилосердно истреблять протестантских «Колбас». Все это не более как веселая карнавальная игра, так как миролюбивые пантагрюэльцы отнюдь не кровожадны и не сочувствуют партии Постника.
В следующих эпизодах посещения папефигов и папоманов повторяется та же тема, но перед нами теперь уже люди, а не аллегории, мы на более реальной почве. Страна бедных папефигов, некогда остров Весельчаков, доведена до самого жалкого состояния после того, как население решило показать папскому портрету фигу («а в Папомании знак тот почитался за прямое глумление», – докладывает автор). Край опустошен набегами папоманов. Голод и чума обрушиваются на этих маньяков… «При виде этой нищеты и народного бедствия мы порешили в глубь страны не заходить» (IV-45). Рабле также предпочитает не углубляться в описание этой картины горя, благодарнейшей для сатирика темы. О ней с шутливыми отступлениями мельком сказано в начале эпизода, который почти весь заполнен непристойным рассказом о том, как один местный крестьянин дважды надул черта, а с помощью жены затем выпутался из великой беды. Да еще рассуждениям этого черта о сравнительных вкусовых достоинствах различных душ, которые подаются на стол Люциферу в преисподней: душ кляузников, адвокатов, горничных, монахов… Читатель почти забывает о «стране нищеты и народного бедствия». Пантагрюэль, правда, уезжая, кладет в церковную кружку 18 000 золотых «во внимание к народной нищете», но в следующем эпизоде он так же щедро одарит сытых папоманов за то, что они показали ему священное изображение папы. Такова уж его роль в произведении. Тон обоих эпизодов – смесь иронии, добродушия и презрения, а смех – довольно далек от сатирического.
В конце концов все эти папефиги и папоманы, Постник и Колбасы, все детища противоестественного играют такую же роль в открывающейся перед пантагрюэльцами панораме жизни, как уродливые, с уморительными рожами, кривляющиеся черти в средневековом театре, хорошо знакомом аудитории Рабле. Эти черти нередко встречаются во вставных рассказах и всегда напоминают беса, с которым связался пахарь-папефиг. У Рабле, как и в мистериях и мираклях, это чисто комические, хотя и зловредные создания. Их козней человеку нечего бояться, ему только следует положиться на милосердие Божье (в одном случае), на добрую и разумную природу (в другом). В мираклях – молитва, у Рабле – смех изгоняют из души страх перед злом. Сатира мобилизует человека против порока, открывает таящуюся опасность, настораживает душу. Смех Рабле освобождает человека от пороков, сводит страх перед злом на нет, восстанавливает душевное равновесие.
В тоне смеха без отчаяния, боли и даже страха сказывается ренессансный гуманизм Рабле. «На дне» пантагрюэльской бочки «покоится Надежда». Как обычно, Рабле придает печальному гесиодовскому мотиву обратное, гротескно оптимистическое звучание. Надежда, согласно Рабле, всегда с людьми, и она покоится, как основа, на дне открытого, всем доступного сосуда мудрости, исцеляющей от недугов.
Эпизод папефигов в этом смысле показателен. История с крестьянином и чертом только внешне уводит в сторону от темы «горя и страдания». Смешной рассказ – противоядие или второй голос в этой фуге, голос самой мудрости (буффонной, разумеется). Земля этих бедняков и одержимых перешла к насильникам-папоманам. В ней, как новые начальники объясняют народу, хозяйничают теперь черти, с тех пор как население дружно показало папе фигу. Да и сам народ покорно признал себя данником этих чертей. Но религиозный фанатизм, папефигская мания не съели целиком человека, душа его еще не поступила на стол Люциферу вместе с душами кляузников, адвокатов, монахов. Глупый бес рано радуется. У забитого крестьянина хватает смекалки, чтобы избавиться от непрошеного хозяина. Страхи этого земледельца-папефига, его проделки, жена, которая приходит ему на помощь в тяжелую минуту, – все это весело и пантагрюэльски поучительно (кстати, Панургу в особенности не мешает запомнить заботливую жену папефига). Рабле всегда различает современные порядки, законы, нравы, официальную жизнь – о ней Рабле самого низкого мнения – и современного человека, народ, основу движения жизни: здесь «покоится надежда», и нет основания предаваться унынию.
Сытые декреталисты в следующем эпизоде не менее достойны смеха, чем голодные их соседи. Но когда самодовольный епископ Гоменац благодушно приветствует в лице гостей истинных христиан, прыскают со смеху и девицы, обслуживающие пантагрюэльцев, не только брат Жан. Глупость папоманов слишком очевидна всем. Мир Антифизиса населен не одними схоластами, насильниками, крючкотворами и глупцами всякого рода. Везде земля, как объясняет жрица Мудрости, таит в своих недрах тайны, о которых не подозревают официальные мудрецы, Грань между пантагрюэльцами и их антиподами, между «жаждущими» путешественниками и косными туземцами, между комизмом «забавляющихся» и только «забавляющих» – не безусловная, не абсолютная, но, как все в произведении Рабле, зыбкая. И уже одно это исключает определенность чисто сатирического смеха. Эту грань также движет Время и – как объясняет Гаргантюа в письме к сыну – не в пользу обскурантов. Среди последних судьи, законники – излюбленный у Рабле объект глумления – занимают рядом с монахами и схоластами первые места. Но как раз самый законченный индивидуальный образ этой группы, судья Бридуа, поставлен автором между пантагрюэльцами и их противниками. По своей профессии он принадлежит к Пушистым Котам, судит он не хуже и не лучше других («как все вы, господа!»), а по красноречию соперничает с магистром Ианотусом. И все же судебные приговоры Бридуа стоят процессов Панурга против парижских модниц. Смех Рабле ближе к сатире в собирательных и более отвлеченных образах (их больше всего в последней части), чем в индивидуальных и конкретных. Первые обращены к общественным институтам и партиям, вторые к человеческой «природе», а она для Рабле живет и развивается вопреки официальным косным условиям. В этом памятнике эпохи на откуп чертям отданы только порядки – преходящие исторические учреждения.
«Острова» Четвертой и Пятой книг производят более мрачное впечатление, когда пантагрюэльцы подъезжают к ним и оценивают их со стороны и обобщенно на основе их «славы». Но стоит ступить на берег, углубиться в страну, – и даже здесь можно найти ростки Природы и здравого смысла. Уныл вид острова Звонящего с его прожорливыми птицами клерго, монаго, аббего, карденго и главной птицей папего, но местный церковный сторож оказался славным старичком, который прекрасно знает цену всем этим птицам. Его речи порой достойны брата Жана, который ведь тоже воспитан на этом острове, хотя уже оттуда вырвался.
Нет никакого сомнения, что такие эпизоды, как папефиги, папоманы, Прокуратия, остров Звонящий, система воспитания Тубала Олоферна, война с Пикрохолем, процесс Бридуа и т. д., достигают целей, которые ставит социальная сатира. Но характер смеха даже в этих эпизодах, их соотнесенность с главами об основных героях, выводит комическое за пределы сатиры. Смех Рабле, эволюционируя от книги к книге, остается в целом единым в пределах своего качества. Мотивы, приемы, источники комического диффундируют, переходят из мира пантагрюэльцев в мир противоестественного и обратно, подобно тому как контрастные образы Пантагрюэля и Панурга взаимосвязаны. В распущенности «отрицательного» Панурга заложены чуть ли не все пороки «островов» (в последних книгах к его богатому амплуа прибавляется еще ханжество острова Ханеф). Его путешествие к оракулу Божественной Бутылки протекает по достаточно знакомым местам, в этом и смысл «образовательного путешествия». «Острова» у Рабле гротескно остранены. Панург «впервые» видит остров Кассаду, где живут разного рода мошенники; в центре острова высится построенный чертями замок Азарт. Пантагрюэльцы, в том числе и брат Жан, посетив остров Звонящий, «впервые» узнают о существовании аббатов и аббатис, кардиналов и пап, о монастырских и церковных порядках. Странным и чудовищным в нравах островов является только гипертрофированная, фантастически раздувшаяся односторонность. Пороки (предмет сатиры) для Рабле – патологическое перерождение и разложение той же ткани Физиса, наподобие злокачественной опухоли.
Отношение сатирика к объектам сатиры никогда не вызывает сомнения. Без этой характерной черты сатира лишена своего пафоса. Но отношение Рабле к Гастеру или к королеве Квинтэссенции гораздо более сложное (так же как и к некоторым консультантам Панурга). Большинство чиновников Квинты забавны и, так сказать, комически однозначны, но есть среди них и такие, которые «делали из необходимости доблесть, и это дело мне показалось прекрасным и нужным» (V-22), замечает рассказчик. Что это – едкая ирония непримиримого телемита? А может быть, стоицизм – не без скепсиса и горечи позднего Возрождения, стоицизм, который намечается в последних пантагрюэльских книгах? Ведь недаром, приплывая к острову Квинты, путники во время бури вспоминают девиз Эпиктета sustine et abstine – «терпи и воздерживайся». В царстве Квинтэссенции пантагрюэльцы возведены в ранг ее «абстракторов», а до этого сам рассказчик, начиная с Первой книги, выступал перед публикой под именем Алькофрибаса Назье, «абстрактора Квинтэссенции». Характер иронии в обоих случаях двусмысленный, как в некоторых крылатых выражениях, которым Рабле любит придавать иной, даже противоположный общепринятому, смысл.
Многими мотивами эпизода Квинтэссенции впоследствии почти в готовом виде воспользовался Свифт в третьей части «Гулливера», в сатирических образах прожектеров. Но автор Лапуты и академии Лагадо, издеваясь над современными учеными и изобретателями, занимает противоположные Рабле позиции в отношении к научному и техническому прогрессу. Тон Свифта поэтому недвусмысленно враждебный и насмешливый, тогда как в смехе гуманиста Рабле, «энтузиаста» и «ищущего», сочетаются, как отмечено выше, глумление с апологией. И неудивительно, что в некоторых фантастических «опытах» чиновников Квинтэссенции, которые «стерегут луну от волков», «делают эфиопов белыми, растирая им живот дном корзины», повторяются буквально занятия юного Гаргантюа, его детские «поиски».
Если Свифт воспользовался материалами эпизода Квинтэссенции, то в свою очередь сам Рабле в эпизоде Гастера местами почти пересказывает первую сатиру Персия. Но от суровой и негодующей дидактики древнеримского стоика, так же как от желчного, саркастического тона Свифта, Рабле отличает гротескная полисемия. Противопоставление Физиса Антифизису лежит в основе «обличительных» эпизодов Четвертой и Пятой книг, но стихийно диалектическая мысль Рабле не останавливается на внешнем противопоставлении. Они скорее поляризированы и соотнесены в жизни. Низменные гастролатры осмеяны, но начало «утробы», как мы уже видели, показано во всем могуществе и положительном значении. Гастер явно сближен с самим Пантагрюэлем, меню «жертв», приносимых обжорами их богу, описано с пантагрюэльским смаком, а список изобретений Гастера сделал бы честь и «всежаждущему» великану. Гастер, как истинный мудрец, несмотря на все свои заслуги, не любит лести и, когда его называют божественным, отсылает чрезмерных энтузиастов к своему судну, «дабы они поглядели, пораскинули умом и поразмыслили, какое такое божество находится в кишечных его извержениях». Спутница Гастера Нужда раблезиански определенна как «добрая Госпожа Нужда, иначе называемая Бедностью». Она мать всех девяти муз и т. д. Нужду и Страдание, как и Голод, мы у Рабле видим, в отличие от сатиры, по-пантагрюэльски «с хорошей стороны». Многосторонностью и универсализмом Рабле объясняется впечатление искусственности от его образов у читателей, воспитанных на принципах «ясности» и «несмешения» противоположных элементов. Эти образы казались им химерами. И вот почему рационалист Вольтер, рассматривая Рабле как сатирика, естественно отдает предпочтение Свифту, автору академии в Лагадо, перед его источником. Противник Ньютона и современной науки, перед которой Вольтер преклонялся, был все же ему эстетически и исторически ближе благодаря рационалистическому методу, чем Рабле, которого он осуждал за шутовство и «не чистый» стиль смеха.
Собственно сатирический характер имеют лишь два эпизода последней книги «Пантагрюэля» – Пушистые Коты (судейское сословие) и Апедевты (органы фиска). Здесь царит совершенно иная атмосфера. В мире Эрцгерцога Грипмино (Цап-Царап) пантагрюэльцам уже приходится туго. С великим страхом они смотрят на этих чудовищ Апедевтов: на огромного двухголового пса «Штраф в Двойном размере», на его отца, четырехголового пса «Штраф в Четырехкратном размере», и на самое страшное чудовище «Просроченный вексель», некий ужасный пресс-давильню, которым, как из винограда, выжимают все соки из жителей. Единственными основаниями действий для этих палачей являются: «так сказали господа начальники» и «так угодно господам начальникам». Товарищи Пантагрюэля попадают на скамью подсудимых в лапы Цап-Царапа, и когда они ссылаются на свою невиновность, тот, рыча, им разъясняет: законы что паутина – мушки и бабочки попадаются в них, а слепни прорывают их насквозь (формула, перешедшая к Бальзаку). Пантагрюэльцы здесь уже маленькие «мушки», и они откупаются мешком экю. В царстве Пушистых Котов герои Рабле неузнаваемы: брат Жан забыл свой кощунственный язык и чревоугодие, Панург – свою чувственность. Страхи Панурга уже никому не кажутся забавными, – это воистину страшный мир. Пантагрюэля же в этом эпизоде вообще не видно и не слышно. От «книг, полных пантагрюэлизма», ничего не осталось.
Эти два эпизода «страшного», не комического мира в силу многих особенностей признаются исследователями наиболее подозрительными в последней книге, степень аутентичности которой остается еще спорной. Стоит их сравнить с эпизодом острова Звонящего, наиболее близким к сатире среди всех остальных эпизодов, чтобы заметить интересующее нас отличие пантагрюэльского смеха. На острове Звонящем резко разоблачительный антиклерикальный гротеск сохраняет еще в фантастике черты раблезианского смеха. Путешественники забавляются, наблюдая «пернатых» туземцев, изучая местные нравы, «страшные-престрашные посты» (Рабле в описании постов пользуется реализованными метафорами) и беседуя с местным сторожем. В качестве «иностранцев» они (в том числе и брат Жан!) «впервые узнают» о повадках курьезных тварей. Они и злятся на откормленных, бесполезных птиц (Панург даже готов запустить в них камнем), и тут же шутят. Панург – в полном соответствии со своей ролью – рассказывает церковному сторожу притчу о жеребце и осле, один из самых совершенных образцов галльской народной иронии у Рабле, притчу, проникнутую чувством превосходства над тунеядцами монахами. В мире Пушистых Котов о шутках не может быть и речи. Язык путешественников буквально «скован» страхом: храбрый брат Жан возражает Цап-Царапу, «не разжимая губ» (своего рода ремарки «в сторону» как остаток «игрового» начала бывших пантагрюэльцев). По возвращении на корабль путешественников охватывает чувство гражданского негодования, и брат Жан предлагает тут же «освободить страну от тирании», но его никто не поддерживает: и герои и их враги уже не те, что в войнах с Пикрохолем и Анархом, над которыми победы одерживались шутя. Наконец, если в этих эпизодах сравнить фигуры фона, различия не менее показательны. Церковный сторож острова Звонящего – «славный старичок, лысый, румяный, багроволицый», гостеприимный, лукаво добродушный и язвительный в пояснениях – колоритный раблезианский персонаж в духе судьи Бридуа, переходный образ от брата Жана к уродливым птицам; тогда как нищий с паперти судилища, олицетворение ограбленного народа, антагонистически противопоставлен Пушистым Котам. Речи его проникнуты страстным негодованием и безмерным отчаянием. Светотень добра и зла здесь резкая, комически колоритные переходные образы в этой юдоли плача были бы неуместны.
Независимо от характера вмешательства чужой руки, от того, являются ли эпизоды о Пушистых Котах и Апедевтах, а также некоторые фразы в других главах[78] Пятой книги, интерполяцией неизвестного талантливого сатирика, или он лишь переработал оставшиеся от Рабле материалы, – несомненно, что эти два эпизода только оттеняют своеобразие комического «Гаргантюа и Пантагрюэля» в целом. Разумеется, в произведении, создававшемся на протяжении двадцати лет, заметно развиваются идеи, образы и художественный метод Рабле, изменяется и тон его смеха, но в пределах четкого и своеобразного «раблезианского» качества. Смех Рабле, эволюционируя, остается внутренне законченным, как и образы Пантагрюэля и Панурга. Лишь там, где бледнеет или исчезает пантагрюэльское чувство жизни – и со сцены уходит сам Пантагрюэль! – тускнеет, пропадает и характерный колорит раблезианского смеха.
Автор «полных пантагрюэлизма книг» отличается от таких писателей, как, например, Диккенс, у которого в пределах одного романа часто совмещаются различные жанры искусства комического (забавное, юмор, сатира) и даже не комического (трогательное, элегическое, патетическое). В «Гаргантюа и Пантагрюэле» поэзия совпадает с комическим. Там, где Рабле не смеется, он высказывает интересные мысли, обнаруживает во вкусе времени огромную эрудицию, блистает эпистолярным или ораторским искусством, но он не поэт. Смех господствует в этом «комическом эпосе» – и смех определенного жанра, в целом довольно далекого от норм сатиры.
Но это и не юмор. В эту рубрику комического никак не войдет смех Рабле над старым педантом Тубалом Олоферном или магистром Ианотусом, над феодальными зубрами Пикрохолем и Анархом, над щеголем-лимузинцем, коверкающим французский язык, или самодовольным Дендено из эпизода «Панургова стада», над папефигами, папоманами, кляузниками, ханжами – над всем многообразным миром противоестественного. К сложному тону юмора, где смех обычно витает между веселым и грустным настроением, Рабле ближе всего подходит в истории Грангузье да еще, пожалуй, в последнем эпизоде Пятой книги. В сказочной идиллии о добром и мирном короле, который, греясь у камина, рассказывает домочадцам, в том числе и мэтру Алькофрибасу Назье, про доброе старое время и за этими занятиями получает известие о нависшей грозной опасности, о неприятеле, вторгшемся в его владения, – опоэтизированы «добрые старые времена» и патриархальное прошлое (в основу эпизода легли воспоминания автора о своем детстве, проведенном на ферме дедушки). Отсюда и оттенок умиления, часто присущий юмору, но исключительный для смеха Рабле. В описаниях символической мозаики храма Истины, где изображены подвиги Бахуса, который завоевывает Индию, предавая страну огню и мечу, есть налет грусти. Жрица Бакбук в этом эпизоде замечает, что слово «сак» (как и «тринк») понятно всем народам, ибо все люди рождаются с мешком на шее, природой обречены на страдание и просят милостыню друг у друга. Первая книга («Гаргантюа») заканчивается «Пророческой загадкой»: «ближайшей осенью или зимой» настанут мрачные времена, исчезнет веселье и радость, страну охватит смута, и лишь затем воцарится на земле рай. Рабле здесь как бы защищает свой исторический оптимизм от упреков в прекраснодушии: предсказания о грядущих бедах следуют за описанием Телемского аббатства. Впрочем, брат Жан тут же, пользуясь любимым у Рабле комизмом полисемии, истолковывает пророчество как описание «игры в мяч», – шутовская концовка Первой книги.
Юмористические нотки, таким образом, появляются в обрамляющих эпизодах и, так же как комическое в целом, соотнесены с коллизиями бега времени, с законом «поразительной смены», с прошлым и будущим. Но в основном пантагрюэльском повествовании, в его «настоящем времени», где прошлое переходит в будущее, смех Рабле далек от юмора. Юмора нет не только в изображении «противоестественных» объектов смеха, но и «естественных» героев. Комизм Панурга может здесь послужить еще раз самым ярким и убедительным примером смеха Рабле. Панург – норма комического в «Гаргантюа и Пантагрюэле». Отношение к Панургу – автора, компаньонов Панурга, читателя, наконец самого Панурга к себе – наиболее верный показатель раблезианского смеха. Оно достаточно однородно, так как Панург для Рабле – сама «природа» в настоящем, в широком, движущемся и реальном настоящем.
Панург – комик чистейшей воды. Мы не сочувствуем, как при юморе, его сомнениям, страхам, страданиям. Над ними потешается брат Жан, издеваются и все пантагрюэльцы. Сам Панург, утрируя все на свете, доводит эти страхи до забавных «блох в ухе». Это смех без оттенка опасения (в отличие от сатиры) или сострадания (в отличие от юмора). В нем нет предстательства автора за героя, нет примирения с его слабостями или пороками. Мы не «прощаем» Панургу «63 способов добывания денег, из которых самым честным и самым обычным была простая кража», – да он в этом и не нуждается. От читателя не требуется, чтобы он любил Панурга – бездельника, шулера, забулдыгу, распутника. Рабле, как и Пантагрюэль, ценит в нем «человеческую природу», ее независимость, любознательность, фантазию, активность, а не жалкое состояние этой природы, доведенной до «упадка и нищеты». Так сказать, Панурга, взятого динамически, а не статически, – силу, а не слабость человека. Забавляет Панург в целом, как живой человек со своими слабостями и силой, – например, в эпизоде морской бури, где он выказывает предельную трусость и неожиданное шутовское красноречие, – но в этом смехе нет растроганности естественной слабостью человека перед разбушевавшейся стихией, нет и умиления достоинствами слабого человека. Это свободный от сентиментального оттенка, характерный смех Рабле. Аудитория Панурга, забавляясь его поведением, сохраняет полную объективность или, вернее, каждый судит о нем соответственно своей натуре, своим правилам, не поддаваясь аффекту Панурга, его жалобам, его логике.
Панург в этом эпизоде, как всегда, никого не увлекает, не завлекает, а только развлекает и забавляет, но забавляя, многому научает. Деятельный брат Жан извлекает урок, что во время опасности нужно защищать свой виноградник, а мудрый Пантагрюэль – что в характере страха познается натура. Панургово рассуждение о долгах Пантагрюэль выслушивает с интересом, но с софистическими выводами Панурга не соглашается и, вопреки комическим протестам, освобождает его от «добрых» кредиторов. Как Фальстаф – «не только сам остроумен, но и источник остроумия для других» – комическая истина в Панурге подводит окружающих к самостоятельной истине в духе utile dulci («приятное с полезным») – обычное определение значения смеха Рабле у его современников.
Смех здесь не претендует на теплоту или сердечность юмора, он только обнажает истину, иногда в форме достаточно «бессердечной». Примером может послужить заимствованный у Фоленго, но ставший знаменитым лишь в обработке Рабле эпизод «Панургова стада». В этой проделке на манер итальянской burla (злая шутка) – покоробит ли читателя жестокость расправы Панурга, или он вместе с братом Жаном найдет, что дело чисто сработано и в нем нет ничего дурного[79], – смешон стадный инстинкт, который сумел обнажить Панург, а заодно и тупость собственнического инстинкта: купец стоит своих баранов. Этому Панург «учит» и своих товарищей и читателя. Все они привязываются к Панургу лишь благодаря его комизму и следуют за ним в его путешествии к оракулу Истины.
Но смех Рабле – и не комизм забавного, самый простой и примитивный жанр комического, его безобидный, бесцельный, чисто игровой вид. Вернее, комическое у Рабле по форме всегда забавно, тогда как по своему существу оно прямо противоположно забавному и принадлежит, наряду с настоящей сатирой и подлинным юмором, к высоко комическому искусству. Рабле уже давно никому не кажется «первым из шутов», каким он представлялся в период классицизма. Разумеется, если в данном случае не играть словами, подобно романтическим поклонникам Рабле, которые, как отмечено выше, величали его «Гомером-шутом», творцом мудрого «фарса бесконечно глубокого значения», настоящей «бездной для рассудка».
Смех Рабле – но бездумный фарс. Но он и не вселяет чувства беспомощности перед «бесконечно глубоким значением» жизни (как часто бывает в юморе). Он стимулирует разум читателя. Даже в игре мысли, например, в рассуждении о долгах, «прекрасные образы» (по выражению Пантагрюэля) в забавной форме развивают идею живого единства мира. Для читательского разума смех Рабле поэтому отнюдь не «бездна». Рабле придает интересам своей аудитории – социальным, религиозным, научным, педагогическим – определенное направление. «Гаргантюа и Пантагрюэль» поэтому один из самых замечательных памятников воинственной и прогрессивной мысли, и раблезианский смех подтачивал устои старого общества и питал в веках свободомыслие. По социальному значению он стоял на уровне сатиры и вызывал не меньшее озлобление реакции. Это смех, который поражает насмерть не менее метко, но достигает эффекта иным путем, чем сатира, – как бы мимоходом и забавляясь. Подобно Панургу с товарищами, когда они ловкой проделкой вчетвером побили шестьсот шестьдесят рыцарей армии Анарха.
По-своему Рабле достигает и высокого эффекта юмора – широкого и всестороннего взгляда на предмет комического, объективно оцененного в присущих ему достоинствах и слабостях, во внутренних переливах несовершенной человеческой натуры. Но смех Рабле – порой с жестокими нотками – в целом так же далек от юмора «всепрощающей доброты», как и от чистой «сатиры и безжалостной насмешки»[80].
Комическое в «Гаргантюа и Пантагрюэле» находится, таким образом, между положительным смехом юмора и отрицательным смехом сатиры, и вместе с тем оно в известной мере включает черты того и другого, а также забавно-комическое.
«Своеобразие раблезианского смеха, сбивающее с толку его критиков, исследователей, любителей и толкователей, состоит как раз в его многоликости, в том, что он включает в себя и жестокость нападающего, и радость победителя, и бездумье веселящегося: и ликование, и гнев, и издевку, и забаву одновременно»[81]. Однако при несомненной «многоликости» комическое в «Гаргантюа и Пантагрюэле» сохраняет свой особый, «раблезианский» единый тон. И в то же время при всем своеобразии смех Рабле – этим объясняется неизменно широкая четырехвековая его слава – пожалуй, самый распространенный, народный и «натуральный», самый «свойственный человеку» смех. В чем же его существо?
VI. «Чисто комический» смех Рабле
Это прежде всего смех человека, которому весело и который хочет, чтобы всем кругом было весело.
Многозначный, богатый оттенками, но единый по своей природе, раблезианский смех является разновидностью того смеха, который можно – в отличие от иных сложных и переходных видов – назвать «чисто комическим». Смех как синоним веселья, радости, беспечности, как антоним скорби, печали, забот. Пантагрюэльский смех внутренне сродни сельскому «комосу» древней Аттики, «гулящей компании», ватаге ряженых на празднествах Диониса, шествовавшей но улицам с насмешливыми, откровенно чувственными песнями, в которых веселье лилось через край. Из этого комоса, как известно, постепенно возникла комедия Аристофана. Удивительная близость – в самых различных отношениях – комического у Аристофана и Рабле отмечалась уже французскими гуманистами XVI века[82] и привлекает внимание критики и в наше время. Никому, однако, в голову не придет искать книжных корней раблезианского смеха, – его оригинальный характер слишком очевиден. Ключ к пониманию этой близости в том, что автор «Пантагрюэля», как и автор «Облаков» и «Птиц», обнаруживает явно ощутимую связь с наивно народной первоначальной природой комического как веселого и веселящего. Основа и функция (природа и цель) смеха здесь совпадают. Mieulx est de ris que de larmes escripre – лучше писать о смешном, чем о горестном (буквально «о слезах»), включает, помимо указания на содержание и цель книги, как бы еще оттенок причины: «лучше писать с радости, чем с горя».
Противопоставление «смеха» «слезам», как веселого – горестному, скорбному, ясно и недвусмысленно передает характер комического у Рабле. Это самое элементарное, общечеловеческое, народное чувство комического. Гуманист Рабле имеет основание непосредственно вывести эту форму смеха – присущую независимо от культурного уровня всем народам, всем состояниям, всем возрастам, начиная с грудного – из нормальной природы человека. В «Гаргантюа и Пантагрюэле» внешне царит атмосфера веселого домашнего празднества или народного карнавала. Здесь встречаются комические номера, приближающиеся к сатире, полные глумления над врагом, но врагом в данное время не опасным; немало дружеских, близких юмору, шаржей, а то и чистейшей воды дурачеств, и даже просто непристойных – в любой иной обстановке – выходок. Но над всем царит дух заразительного веселья, и все хотят, чтобы всем было весело. Клич карнавала: «делайте как мы!» («faites comme nous!»). Фантастическим выдумкам, «комической самодеятельности», нет никаких препон, и атмосфера праздничного карнавала слишком условна и необычна, чтобы кому-нибудь вздумалось требовать «правдоподобия деталей». Но неограниченная фантазия, даже утрируя, остается верной жизненным прототипам. Она не выходит за пределы реального, но лишь гротескно представленного, за пределы всем знакомого, но лишь забавно остраненного, а иначе комическое потеряло бы свою заразительную силу.
В народной форме «чисто комического» смеха, однородной по тону, но достаточно широкой, как мы видим, по объему, синкретически заложены задатки более развитых и сложных видов комического. Здесь в зародыше все виды смеха, за исключением, пожалуй, «смеха сквозь невидимые миру слезы». Слезы здесь видимые, но имеют чисто физиологическую причину. Они выступают на глазах, как объясняет врач Рабле, от гомерического хохота, «ибо от сильного сотрясения мозговое вещество отжало слезную жидкость, и она притекла к глазным нервам» (I-20).
Комическое у Рабле вырастает из этой первоначальной народной основы смеха. «Гаргантюа и Пантагрюэль» открывается сценами веселья и плясок на лугу, которые устроил для народа добрый Грангузье, и заканчивается (после описания мозаик храма, изображавших подвиги вторгшегося в Индию Диониса) плясками упившихся пантагрюэльцев вокруг Божественной Бутылки. Через все повествование проходят карнавальные мотивы и приемы («беседы во хмелю» в Первой книге и бой брата Жана с Колбасами в Четвертой наиболее показательны в этом смысле). Да и в целом смех Рабле, главный источник которого, как мы видели, движение Времени, внутренне родствен духу карнавалов, празднеств, связанных с переходом от зимы к весне, от старого года к новому. Комическое у Рабле, соприкасаясь с сатирой или юмором, сохраняет более непосредственную связь с веселым смехом и достигает высоких регистров комизма самобытным и специфическим путем.
Ибо это смех человека, которому важно, чтобы всем было весело. Смех здесь не сводится к развлечению, хотя забавная форма и существенна для него. За забавным мы чувствуем серьезную цель и автора – мудреца, выступающего в роли потешника. Смех, по Рабле, важен для истины, для постижения природы вещей. Пантагрюэльские книги – нужные человеку книги. И автор – как всегда в шутку, но лишь наполовину – предсказывает в прологе последней части, что придет время и все книги позабудутся, никто их и в руки не возьмет, и их место заступят веселые и плодоносные пантагрюэльские книги. Он «дарит» читателю свои книги, как молодой Маяковский – свои стихи, «веселые, как би-ба-бо, и острые и нужные, как зубочистка».
Смех автора «Пантагрюэля» и его героев – от избытка сил и здоровья, но он оказывает и обратное действие: он придает силы и возвращает человеку здоровье. Этот характер смеха исцеляющего, возрождающего к жизни, также имели в виду современники, когда они называли Рабле «приятно-полезным». Эпитафия поэта А. Баифа, соратника Ронсара и Дю Белле, гласит, что Рабле способен рассмешить даже мертвецов:
О, Pluton, Rabelais reçoi Afin quo toi qui est le roi De ceux qui ne rient jamais Tu ais un rieur dé sormais[83].Гуманист Э. Доле в латинском трехстишии 1536 года прославляет «Франциска Рабле, честь и славу искусств Пеонид, который даже из царства Плутона может вызвать усопших и вернуть им свет солнца».
Рабле, начиная с Третьей книги, где он впервые появляется перед публикой под своим настоящим именем, неизменно подписывает свое произведение с указанием медицинского звания: такая-то книга «Деяний и сказаний Пантагрюэля» «сочинение мэтра Франсуа Рабле, доктора медицины». Это больше, чем деталь титульного листа. Аудитория, к которой Рабле обращается, – больные, страдающие теми недугами, с которыми врачу XVI века приходилось особенно часто иметь дело. И в начале Первой книги вслед за подобным обращением идет сравнение пантагрюэльских книг с аптекарскими снадобьями, с античными силенами (ибо «Силен – учитель доброго Бахуса»), снаружи смехотворными, но заключавшими целебные средства. И Сократ, с которым себя сравнивает автор, был великим врачевателем душ.
Более подробно эта мысль развивается в посвящении и Прологе в Четвертой книге. Его читатели – это люди, впавшие в хандру, больные или чем-либо озабоченные и удрученные. И если Гиппократ сравнивает врачебное искусство с битвой, то автору оно напоминает фарс, где участвуют три действующих лица: болезнь, больной и врач. Творец комического подобен врачу, а смех – курсу лечения. Читая его книгу, больные весело проводят время, обретают в ней источник радости, утешение и исцеляются от своей тоски. Если, как врач, он, Рабле, облегчает страдания больных, пользуя их лично, то, как писатель, он лечит тех пациентов, которые живут вдали. Поэтому он и не стыдится заполнять свои книги смехотворными дурачествами, Учитель и врач отождествляются в мэтре Франсуа Рабле. Анатомические и физиологические экскурсы, один из источников смеха в «Пантагрюэле», приобретают тем самым особый смысл для этого учения о «терапевтически комическом».
В Монпелье, на медицинском факультете, одном из самых знаменитых в Европе, так же как и во врачебных кругах Салерно, была в ходу теория благотворного воздействия смеха на здоровье, теория лечения смехом. Рабле (который, между прочим, одним из первых во Франции публично анатомировал труп) некоторое время жил в Монпелье, где получил степень доктора медицины. В своей книге он остается верным этому учению о роли комического начала. Совет «Пей», который дает Панургу Божественная Бутылка, напоминает рецепт, а «Беседы во хмелю», подобно целительному снадобью, восстанавливают силу и бодрость духа.
Врач, замечает Рабле, прежде всего должен быть здоровым и бодрым: врачу, исцелися сам. Не случайно многие известные врачи всю жизнь пользовались завидным здоровьем. В обращении с больным врач должен быть приятным, ничем пациента не раздражать, не досаждать и одним своим видом вселять надежду. Ибо всегда «от врача к больному идут токи: чистые или мутные, воздушные или землистые, веселые или меланхолические». «Врач с физиономией мрачной, угрюмой, отталкивающей, катоновской, неприветливой, сердитой, хмурой огорчает больного; врач же с лицом веселым, безмятежным, приветливым, открытым, улыбающимся радует его». С «веселым и смеющимся лицом» предстанет перед Панургом жрица Мудрости.
Как мастер комического, Рабле усваивает ту же «веселую и открытую» манеру обращения с «больным» читателем. Он всегда как бы видит перед собой свою клиентуру, свою аудиторию, он вхож к ней, он с ней на короткой ноге. «Добрые люди, где вы? Я вас не вижу. Дайте-ка я нос оседлаю очками. A-а! Наше вам. Теперь я вас вижу. Ну, как дела? Сколько мне известно, насвистались вы изрядно. Но я вас не корю! Все ли вы в добром здоровье? Вы сами, ваша супруга, ваши детки, родственники, домочадцы?» и т. д. (Пролог к Четвертой книге). «Только вот что, балбесы, чума вас возьми. Смотрите, не забудьте за меня выпить» (конец Пролога к «Гаргантюа»). Авторский голос все время слышен. Он спорит с читателем, подтрунивает над ним, предвидит его возражения, хвастает, божится, ругается, если ему не верят, вступает в перепалку, огрызается, добродушно покрикивает на читателей, а неугодных попросту гонит прочь: «Я вас, вот я вас, вот я вас сейчас! Ну, пошли, ну, пошли! Да уйдете вы, наконец?» (это по адресу читателей-папоманов в конце Пролога к Третьей книге) и т. д. Из прологов – самых непосредственных по стилю страниц произведения – эта манера переходит в основной текст, где автор предстает как участник деяний Пантагрюэля. В Пятой книге рассказ уже просто ведется от первого лица, но, впрочем, именно в этой не совсем аутентичной части нет уже прежних радужных красок в манере изложения.
Рабле – первый замечательный мастер сказа в европейской литературе. Этот художественный прием для него сам по себе богатый и поэтический источник комического. Книжная речь посла Грангузье к Пикрохолю или письмо Гаргантюа к сыну, построенные по всем правилам восходящего к античности литературного слова, воспринимаются на общем фоне как вставки, которые лишь оттеняют веселый, открытый, непринужденный тон дружеского обращения автора с аудиторией.
Сказ в «Пантагрюэле» носит фамильярный характер. Рабле на короткой ноге не только с аудиторией, которую он учит, но и с античными философами, у которых учится, с древними героями, которых затмевают своими деяниями его великаны, с любым великолепием, известным на земле, которое, как учит жрица подземного храма, меркнет пред тем, что пока скрывается в недрах земли. Рабле на короткой ноге с великим, как только оно попадает в его поле зрения, – даже с Богом, которого он по-своему чтит и любит, пантеистически отождествляя его с Физисом, с доброй Природой, но обращаясь с ним с той же фамильярностью. В Четвертой книге Пантагрюэль рассказывает своим ученикам «жалостную историю» о том, как «умер Великий Пан». Известный рассказ Плутарха, вызвавший различные толкования, излагается здесь в христианском духе, как аллегория смерти Христа («Наше Все»). Но для Рабле Великий Пан, языческое чувственное Все, Природа, продолжает жить и после возникновения христианства. Содержание этого мифа у Рабле лишено поэтому трагизма. Прежалостный рассказ, заканчиваясь «капавшими из глаз Пантагрюэля слезами», «величиной со страусовое яйцо», сопровождается комически сказовой ремаркой: «Убей меня бог, если я солгал хоть слово!» (IV-28).
Фамильярный сказ в обращении с читателем уничтожает суеверный страх перед великим, ту форму боязливого почтения, когда душа подавлена своей слабостью и беспомощностью и испытывает трагическую скорбь. Жизнь (Пан, «Все») непрерывна и едина на всех ступенях, во всех формах. Великое и малое, макрокосм и микрокосм, Пантагрюэль и Панург, знание и вино, мудрость и смех – внутренне глубоко родственны. Таинственный великий храм Божественной Мудрости напоминает рассказчику (и он спешит поделиться этим впечатлением с Пантагрюэлем) погребок в родном городке Шиноне, иначе Каиноне, «первом городе в мире», построенном еще первым градостроителем Каином. Время – рост, развитие и упадок – сближает великое и ничтожное. Боги умирают, а люди в будущем сравняются с богами.
Фамильярное обращение с великим в комическом эпосе о великанах вытекает, таким образом, у Рабле из своеобразного гуманистического релятивизма. В этом мироощущении нет ни трагического, ни цинического оттенка в отношении к истинной мудрости, ко всему достойному в жизни. Смех Рабле сохраняет уважение к прошлому и питает энтузиазм перед будущим. Бакбук учит пантагрюэльцев, что перед ними все впереди, а следовательно, то, что теперь кажется бог весть каким важным и страшным, с ходом времени потеряет прежнее значение и репутацию.
В эпоху Возрождения великие живописцы открывают закон перспективы, который Леонардо да Винчи ставит так высоко, что астрономии и геометрии отводит только роль частных разделов великой науки Перспективы, без которой нельзя познать природу вещей[84]. Знание перспективы обнажает для ренессансных живописцев, питомцев городской культуры, относительность всех величин и всех средневековых оценок; предметы и люди лишаются абсолютного, но по сути условного ранга, который фиксировал их масштаб и место в византийской живописи; тем самым открывается глубина третьего измерения, чувственная природа предметов и фигур, их динамика и жизнь в пространстве. Рабле, начиная свою «хронику» «изумительным законом смены» и фиксируя внимание аудитории на движении жизни во времени, как бы переносит закон относительности всяких величин на историю общества и оценивает настоящее с перспективой в прошлое и будущее. Фамильярность Рабле выполняет «морально терапевтическую» функцию.
«Книги, полные пантагрюэлизма», – ряд «веселых бесед», внешне мало систематизированных, но внутренне единых, которые автор ведет с читателем. Они посвящены «больным вопросам» современной жизни, которые тревожат «больного» читателя, «терзают и снедают его», как горе или болезнь. Автор выступает в этих беседах в роли уверенного в своем искусстве врача, с лицом веселым, приветливым, открытым, улыбающимся – как подобает врачу – и как веселый близкий приятель «больного». Отсюда и непринужденность откровенных и грубоватых выражений, где все вещи названы своими именами, а некоторые сюжеты веселых бесед смахивают на неприличные анекдоты.
Объяснять непристойность многих страниц Рабле, как это иногда принято, только его «временем» – тем, что Рабле, как писатель эпохи Возрождения, «выражал радость плоти, потребовавшей своих прав», – конечно, недостаточно. Подобные «извинения» классика не свободны от академического ханжества. Вряд ли здесь можно усматривать всего лишь «невинное простодушие» ребенка, который, катаясь по полу, показывает те части тела, какие обычно принято прятать, – к этому образу прибегал Л. Стерн, последователь Рабле в XVIII веке (хотя, впрочем, к автору «Тристрама Шенди» этот образ еще менее применим, чем к автору «Пантагрюэля»), Разумеется, нормы приличий для устного и письменного слова были в XVI веке гораздо более свободными, чем впоследствии. «Гаргантюа и Пантагрюэль», однако, с этой стороны слишком выделяется даже на фоне откровенно чувственной прозы Ренессанса. Грубоватый комизм этого рода, безусловно, скорее забавлял, чем коробил современников, но вряд ли его можно целиком свести – как и все своеобразие Рабле – к общей природе «времени».
Как раз в сравнении с более литературными выражениями, более приглаженными сюжетами предшественников и современников (начиная с Боккаччо в Италии или Маргариты Наваррской во Франции), которые прибегают к эвфемизмам и «играют» эротическим, выступает совершенно иной характер непристойностей Рабле, их природа фамильярного сказа. Рабле разговаривает с читателем как врач, который привык не стесняться в выражениях, или как близкий приятель, который разрешает себе ввернуть соленое словцо в «мужской» компании и для вящего убеждения рассказать соответствующий анекдот. Не будет преувеличением сказать, что Рабле – один из наименее эротических писателей в европейской литературе. Язык и сюжет Рабле в этом отношении также восходят к устному, нелитературному слову. Их функция чисто комическая, а не эротическая. Подобно бесконечным гастрономическим перечислениям, которые не рассчитаны на то, чтобы возбуждать аппетит. Цель Рабле – не возбуждать «аффект», а успокаивать и вселять надежду.
«Освободите себя от всяких аффектов» – гласит второй стих вступительного стихотворения. И, главным образом, от аффектов страха и тревоги. В этом основная функция комического у Рабле. Объективный источник смеха в «Гаргантюа и Пантагрюэле», как мы видели, рассматривая его гротеск, – историческое движение и развитие жизни. Субъективная основа смеха – здоровая человеческая натура. Его серьезная, важная цель, его функция – изгнать из души читателя страх, уничтожить «патетическое» (от греческого namoc – страдание). В этом смысл «книг, полных пантагрюэлизма»: над всем повествованием об опасном путешествии к оракулу будущего возвышается уверенная и невозмутимая фигура великана. который все принимает «с лучшей стороны».
Смех Рабле внушает читателю, что несовершенство, дисгармоничность движения не надо воспринимать трагически. Это либо преходящие недостатки и пороки здоровой в основе человеческой природы, как в брате Жане и Панурге, либо действительное социальное зло, но тогда оно всего лишь колосс на глиняных ногах. Важная осанка всех этих насильников-агрессоров, одержимых планами мирового господства, этих держиморд, тупых невежд, врагов прогресса и культуры, этих взбесившихся маньяков, жирных тунеядцев, паразитирующих на теле народа – Пикрохолей и Анархов, Тубалов Олофернов и Ианотусов де Брагмардо, папоманов и птиц острова Звонящего, – в ходе поступательного движения человечества не больше, как претенциозный блеф. Они и сами не уверены в своем будущем. Такова забавная сцена военного совета у Пикрохоля: к концу заседания, когда «уже» завоевана вся Европа, Африка и Азия, воинственного авантюриста вдруг охватывает страх: не нападет ли на него армия Грангузье с тыла, пока он победоносно проходит через весь мир. Этот страх еще комичнее, чем сумасшедшие планы мирового господства. Пикрохоль забыл, что армия его соседа уже была молниеносно «разгромлена» еще в самом начале блестящего генерального плана. Грандиозные планы Пикрохоля, как и воинственная псевдоученость схоластов или магическая сила папоманских декреталий, – мыльные пузыри истории.
Есть в Четвертой книге один забавный и многозначительный эпизод. Когда путешественники, покинув страну папоманов, пируют и веселятся на своем корабле, они в открытом море слышат варварскую речь, как бы исходящую от множества невидимых призраков, – ржание лошадей, шум битвы, слова, полные угроз, а также ругательства и непристойности. Вскоре выясняется, что это «замерзшие слова», оттаявшие с наступлением теплой погоды. Ибо, как объясняет Пантагрюэль, эры прошлого и будущего духовно соприкасаются во времени, как в пространстве соприкасаются миры. Слова, девизы, идеи прошлых эпох, некогда крылатые, подвижные и одухотворенные, но отошедшие в царство теней, «замерзшие», способны, «оттаяв», как бы ожить и обрушиться на людей подобно «простуде», пугая их в настоящем. Пантагрюэльцев вначале охватывает страх, и Панург предлагает спасаться бегством («Мы в ловушке!»). Но, узнав причину своих страхов, путешественники уже только забавляются «замерзшими словами», отогревают их на ладонях (и те лопаются, как каштаны на огне, издавая пугающие звуки); «ловят» друг друга «на слове», отказываются «дать слово», так как «это дело влюбленных» и т. п. Призраки прошлого – впоследствии Ф. Бэкон их назовет «идолами театра» – играют часто в спектакле жизни у Рабле роль «оттаявших», пугающих воображение «слов». Панург тут напрасно надеется найти ответ на свои сомнения.
Правда, есть страхи иного порядка, но не более основательные. На границе Ледовитого моря также пребывают никогда еще не услышанные «слова, идеи, образы и прообразы будущего» (IV-55). Они пугают людей страшными и неясными перспективами. Но мысль Рабле, проникнутая верой в развитие, со скептической насмешкой относится ко всякого рода дурным предвидениям, этим «предупреждениям природы», по язвительному выражению Бэкона, когда противоестественно применяют человеческий разум, который слишком забегает вперед, вместо того чтобы полагаться лишь на опыт, на «опрос» природы. Подобные пугающие «предвидения» всегда шатки, и Рабле издевался над ними в своих пародийных астрологических «Предсказаниях Пантагрюэля», которые он выпускал с 1533 года одновременно с книгами основного произведения. Мы уже видели, что подобное пророчество грядущих бед в конце «Гаргантюа» брат Жан предпочитает истолковать, как описание невинной игры в мяч. Так же двусмысленны все оракулы Панурга в Третьей книге. Мрачные Кассандры, которым будущее рисуется в безнадежном свете, подобны у Рабле тому ловкому демону Цинцинатулу из Четвертой книги, который, вещая из чрева одной старухи, великолепно угадывал прошлое и настоящее, но когда дело доходило до предсказания будущего, то всегда путался, завирался и портил воздух.
Комизм забавных забот, ложных страхов перед грядущим – любимая тема Рабле. Она варьируется на все лады, в особенности начиная с Третьей книги. Таковы страхи, внушаемые Панургу женитьбой, различные страхи и заботы островитян. Путь героев Рабле к царству Мудрости, которое пока что находится за тридевять земель и скрыто от взора в недрах нашей планеты, пролегает мимо острова Руах, где население питается только ветрами и поветриями, мимо соседних островов Тоху и Боху – два слова, обозначающие первоначальный хаос, из которого возникает мир[85], мимо множества разоренных и опустошенных земель. Будущий новый мир возникает из хаоса. На островах Тоху и Боху пантагрюэльцам не удалось ничего зажарить, так как чудовище Брегнариль проглотил все сковороды, котлы, горшки и даже печи. Эта глава (IV-17) заполнена примерами всякого рода удивительных, скоропостижных кончин. Рабле здесь глумится над эсхатологическими страхами, известными еще с древности. Например, что небо упадет на землю или на нее обрушится луна и опять воцарится хаос. Кто знает, будет ли мир существовать еще три года? – спрашивает Панург (III-2).
Как уже много раз отмечалось критикой, в ходе повествования «Гаргантюа и Пантагрюэля» авторский тон несколько меняется. В более ранних первых двух книгах (1532–1534) царит беспечность не только в мире добрых великанов, но даже в мире их противников, тогда как в позднейших книгах, отделенных от первых более чем десятилетием, страх и заботы проникают в лице Панурга даже в среду пантагрюэльцев (не говоря уже о вечных глупых заботах в мире Антифизиса). Смех Рабле становится внутренне более серьезным, но именно в поздних книгах это прежде всего смех над всякого рода страхом и заботой. Не отказ от жизнерадостного мироощущения, но более сложное его доказательство от противного, своеобразное слияние прежнего эпикуреизма с гуманистическим стоицизмом. «Ducunt volentem fata, nolentem trahunt»[86], латинская надпись у входа в храм Бутылки, девиз умудренных опытом героев Рабле, имеет тот же смысл, что и вторая, греческая надпись: «Все движется к своей цели» (V-37) – не отречение от естественных желаний и стремлений, но утверждение разумности жизни и ее развития. Это смех над теми, кто не желает (nolentem) движения жизни, над всякого рода косностью или страхом перед неизвестным будущим. Смех и знание уничтожают тревогу перед естественным ходом вещей. Можно поэтому говорить о радостном «комедийном стоицизме» позднего Рабле.
Комическое сохраняет в «Пантагрюэле» до конца свой универсальный характер как показатель здоровья и как восстановитель, стимулятор здоровья. В этом комическом эпосе о всевозможных чудищах все страшное и чудовищное в жизни переключено в смешное и парализовано смехом, своего рода прививкой.
Этим объясняется порой встречающееся в критике странное – и неверное! – суждение о Рабле как о недостаточно гуманном художнике, по-средневековому «жестоком» в изображении страдания. Взять хотя бы сцены военной резни, например бой брата Жана с грабителями-пикрохольцами. «Одних он дубасил по черепу, другим ломал руки и ноги, третьим сворачивал шейные позвонки, четвертым отшибал поясницу, кому расквашивал нос, кому ставил фонари под глазами, кому заезжал по скуле, кому пересчитывал зубы, кому выворачивал лопатки и т. д… Кто пытался спастись бегством, тому он ударом по ламбовидному шву раскалывал на куски черепную коробку… Иных он со всего размаху бил по пупку, и у них вываливались кишки. Свет еще не видел столь ужасного зрелища, можете мне поверить… Одни взывали: „Святая Варвара!“ Другие – „Святой Георгий!“ Третьи: „Святая Нитуш!“ Четвертые: „Каносская Божья матерь!“ Одни умирали, ничего не говоря, другие говорили не умирая; одни умирали говоря, другие говорили умирая» и т. д. (I-27). Рабле – враг войны. Пантагрюэлизм он определяет прежде всего как «жизнь в мире». Огнестрельное оружие он называет вслед за другими гуманистами «адским изобретением» (IV-61). И в то же время – не впадая в противоречие с собой – он в духе раблезианской этимологии выводит «войну» (bellum) из «прекрасного» (средний род от bellus), ибо во время войны «все прекрасное и благородное выступает также вперед» (Пролог к Третьей книге). Ведь жизнь для Рабле – картина войны Физиса с Антифизисом. В этой свободной от прекраснодушия, подлинно гуманистической точке зрения сливаются жизнерадостный пантагрюэлизм (как способность «все принимать с лучшей стороны») и мужественный, чисто народный взгляд на войну: сострадания не должно быть там, где оно неуместно, там, где жестокость оправданна.
Пожалуй, самый поразительный пример «переключения» жестокого в комическое – рассказ Панурга в эпизоде острова Прокуратии об избиении сутяг. Господин Баше, дабы отвадить сутяг, инсценирует в своем доме свадебный пир. В момент вручения повестки его слуги, между которыми заранее распределены роли, пользуясь старинным обычаем, каждый раз отделывают под орех очередного сутягу: ломают ребра, разбивают лопатки и т. п. – и все под видом милой шутки между тостами и десертом, Причем лучше всех «работает» священник мессир Удар, прикрывающий рукавом стихаря огромную стальную рукавицу. «„Свадьба, свадьба, памятный обычай!“ – кричали все и так славно ябедника отхолили, что кровь текла у него изо рта, из носа, из ушей, из глаз. Коротко говоря, ему сломали, раскроили, проломили голову, затылок, спину, грудь, руки, все как есть. Смею вас уверить, что в Авиньоне во время карнавала бакалавры никогда так весело не играли в рафу, как потешились над этим ябедником. В конце концов он грохнулся на пол». Дикий мордобой или нечленораздельная речь изувеченных сутяг – у них вывихнуты челюсти – производит при чтении чисто комическое впечатление: «Мало вам, что вы искалечковерувечкровянкровавколупкрошкромскорежили верхние наши члены, так вам еще надо было пинками бацбуцзвезданхрясгрюктрюкбабахчебурахать нас по ногам? Это потешный, по-вашему, бой? Убой это, а не бой потешный». На что свидетель, сложа руки и, по-видимому, моля о прощении, шлепал языком как обезьяна: «Мой… не мой… немой…» Весь этот «жестокий» эпизод расправы крайне показателен для «карнавального», условно-игрового характера «жестокого» у Рабле, близкого к притче или фарсу. Рассказ об избиении сутяг заканчивается поэтому, как полагается в веселой комедии, примирением сторон: сутяга и его помощники просят прощения и публично заявляют, что хозяин – великолепный человек и свадьба была чудесная. «Тогда же было признано, что деньги де Баше – еще более пагубны… для ябедников и свидетелей, нежели встарь тулузское золото. Сеньора де Баше с тех пор оставили в покое, свадьбы же его вошли в поговорку» (IV-15). Комическое здесь всецело в «раблезианском» духе.
Тот же характер «переключения» имеет следующая за эпизодом о сутягах глава об островах Тоху и Боху, посвященная комическим смертям. Эсхила убила черепаха, выпавшая из когтей орла, Анакреон подавился виноградным зернышком, Зевксис умер от смеха, увидав портрет старухи собственной работы, и т. д. Страшный Бренгнариль, питавшийся мельницами, задохнулся, проглотив кусок свежего масла, предписанный врачом. Здесь же речь идет о жаворонках, которые («как говорят») очень боятся падения неба: упадет небо – все они попадутся. Подобные же страхи перед кончиной мира испытывали многие народы… Глава заканчивается упоминанием островов Нарг и Зарг («Наплевать» и «Начхать»), мимо которых проезжают пантагрюэльцы… «Комедийный стоицизм» подготавливает описание страшной бури на море в следующей главе. Душа читателя, подобно героям Рабле, направляющимся к оракулу Мудрости, должна быть освобождена от аффекта страха перед превратностями судьбы, ибо «все сокровища, над коими раскинулся небесный свод и которые таит в себе земля, в каком бы измерении ее ни взять: в высоту, в глубину, в ширину или же в длину, – не стоят того, чтобы из-за них волновалось наше сердце, приходили в смятение наши чувства и разум» (III-2).
Комическое, таким образом, играет не только «методологически» познавательную роль, очищая восприятие, подготавливая не смущаемые страхом, ясные суждения о вещах, как предпосылку заключительного «Пей!» – приложись к роднику знаний! Но это и мужественный смех, без оттенка сентиментальной растроганности перед беспомощностью человека, без страха перед чудищами социальной жизни и без сострадания к недостойному. Он характерен для героического реализма Возрождения, исходящего из идеализированного, высокого представления о возможностях человека. Гуманист Рабле, как и другие художники Ренессанса, в этом смысле исторически отличается от великих буржуазных реалистов XVIII–XX веков и их отношения к «маленькому человеку». Модель «природы» в героическом смехе Рабле не слабый «маленький человек», а бесстрашный «здоровый человек», которому великое должно быть сродни и который способен возвыситься над преходящим.
Это смех человека, который как бы стыдится обнаружить смущение или возмущение как своего рода проявление слабости. Уверенный в своем искусстве врач, чтобы победить болезнь, не должен являться к больному с «катоновской физиономией». В тех крайне редких случаях, где чувствуется раздражение автора, оно прикрыто шутовством сказа (кроме отмеченных выше двух исключительных эпизодов Пятой книги о Пушистых Котах и Апедевтах). Такова, например, брань по адресу врагов в конце Пролога Третьей книги: «А ну, проваливайте, святоши! Я вам задам, собаки! Убирайтесь, ханжи, ну вас ко всем чертям! Вы все еще здесь?… Я вас, вот я вас, вот я вас сейчас! Ну, пошли, ну, пошли! Да уйдете вы, наконец?» – и т. д. Враги здесь «убраны с дороги» с такой же легкостью, с какой великан уносит колокола с Собора Парижской Богоматери. Смех глумления разит вернее, чем катоновское негодование. Время показало, что Рабле был прав. Его смех, больше чем пыл всех антифеодальных инвектив XVI века, поражал, дискредитировал реакцию и утверждал свободную мысль, «исцеляя» ее от всякого недостойного страха.
«Новый Демокрит, он осмеивал пустые страхи, желания и заботы простого народа и вельмож» – так определяет через тридцать лет после смерти Рабле характер его комического гения врач XVI века Пьер Буланже в своей латинской эпитафии. Здесь же Буланже выражает опасение, что потомство не сумеет достойно оценить «превосходнейшего из комиков», которого «более, чем кого– либо другого, преследовали, но он был всем дорог».
В немногих словах автор эпитафии раскрывает основу репутации Рабле у современников как «приятно-полезного» комика. Буланже не касается близости Рабле Демокриту, который полагал, что во вселенной есть только атомы и движение, что душа также материальна, но состоит из более подвижных атомов, что мышление – тот же материальный процесс, жизнь в целом едина, и над всем господствует закон необходимости – короче, сходства пантагрюэлизма с метафизикой Демокрита. Но его интересует сходство в этике. Демокрит учил, что если реальны только атомы, а всякое сцепление их временно, что если миры не вечны, но возникают и исчезают во времени и нет ни абсолютного возникновения, ни абсолютного исчезновения материи, то, следовательно, нет и разумного основания для мрачного взгляда на жизнь. Согласно этике «смеющегося философа» (как вслед за древними обычно называют Демокрита гуманисты), блаженство заключается в спокойном состоянии души, не омраченной никакими страхами, никакими заботами или неразумными желаниями. В частности, страх перед богами и традиционные представления о них порождены невежеством и аффектами. Знание истинной природы вещей уничтожает страх, заботы и приводит человека к блаженству. Осмеивая пустые страхи и заботы в народе и в высших кругах – в частности, религиозные и социальные страхи, хотя в эпитафии об этом прямо не говорится, – Рабле, как «новый Демокрит», дарует душевный покой, уверенность и счастье, и поэтому он всем так дорог.
Если общая идейная и художественная основа реализма Рабле, его гуманистическое мировоззрение и идеализирующий «фантастический» реализм неотделимы от культуры Ренессанса, то своеобразный пафос его смеха, главная функция комического внутренне связаны с общественной атмосферой 30-40-х годов XVI века во Франции и Европе. Актуальность произведения Рабле для своего времени была всегда очевидна вдумчивому читателю, как и критике. По-своему из нее исходят даже авторы всяких «ключей» к Рабле (начиная с комментаторов XVIII века и вплоть до наших дней), хотя при этом и «разменивают» комическое на мелочи, сводя его к намекам на отдельных лиц и события, часто незначительных, политической и придворной жизни, то есть, по существу, к забавно остраненному, к шутовскому. XVIII век, как мы видели, открыл высокое общественное значение смеха Рабле. Как ни односторонне понимание пантагрюэльского смеха у Вольтера и Женгене, оно гораздо ближе к истине в оценке его актуальности, чем многие новейшие интерпретации.
Рабле у современных критиков выступает как остроумный, ловкий писатель, умеющий улучить подходящий момент и выпустить в свет забавную, полную учености книгу на тему пикантную и модную (например, «спор о женщинах» между противниками и защитниками прекрасного пола в 30-40-х годах, будто бы лежащий в основе Третьей книги «Пантагрюэля»). Или на более серьезную тему, волнующую в это время умы, – очередное расхождение между французским двором и папой, запрет на вывоз французского золота в Рим как повод для создания Четвертой книги со скандальным эпизодом о декреталистах-папоманах. Так возникает бестселлер сезона. А когда атмосфера меняется и сгущаются тучи, осторожный «оппортунист» Рабле умеет маневрировать, в отличие от других, более смелых гуманистов, вроде Л. Беркена, Деперье, Доле. Ибо, несмотря на актуальность тем, Рабле «скорее консерватор, чем реформатор»[87]. А для тех, кто, как А. Лефран, усматривает в «Гаргантюа и Пантагрюэле» единую, серьезную и лишь «замаскированную» смехом концепцию, актуальность идей Рабле для своего времени сводится к тому, что Рабле был неизменным защитником политики короля, в свою очередь всегда его защищавшим[88].
На самом деле Рабле не служил королю даже в тех случаях, когда король Франции и ее великий художник оказывались – всегда временно! – перед общим противником (в лице Сорбонны, папской курии или лагеря сторонников новой церкви). Свою «бочку», которую, по выражению писателя, он катит на благо родине, Рабле никогда не привязывал к трону короля Франциска I, метко названного историком Мишле «королем-флюгером».
Только поэтому Рабле, всегда актуальный в своем смехе, несмотря на изменчивость политической конъюнктуры и непоследовательность Франциска I, остался, как гуманист, верным себе. Его смех чаще служил не орудием официальной политики, а противоядием психозу фанатизма и террора, периодически охватывавшему Францию времен Рабле, обычно при попустительстве и даже инициативе со стороны королевской власти.
30–40-е годы XVI века, когда выходит произведение Рабле, – время расцвета литературы французского Возрождения, расцвета, который продолжается еще в творчестве Ронсара и поэтов Плеяды, предшествуя периоду гражданских войн в последней трети века, когда уже наступает кризис французского гуманизма. Но нет ничего более несостоятельного, чем представление о гармоническом развитии ренессансной культуры в этот далеко не «мирный» период правления Франциска I и Генриха II. В частности, пресловутое покровительство со стороны Франциска I, выступавшего в роли «отца словесности», заигрывание короля с ранней французской Реформацией, учреждение Коллегии королевских лекторов (1530) в противовес Сорбонне приходятся на первую половину его царствования, когда войны с Карлом V, возглавившим католический фронт, толкали Франциска на союз с протестантским лагерем. Однако расцвет Ренессанса во Франции наступает позже, чем в Италии и в Германии. Он протекает здесь в условиях, когда Реформация во всей Европе зашла достаточно далеко и переросла рамки чисто церковных вопросов, вызвав революционный взрыв Великой крестьянской войны в соседней Германии, движение анабаптистов и мюнстерское восстание. Даже умеренное, чисто бюргерское протестантство обнаруживает в Голландии и Швейцарии уже в это время – как позднее в XVII веке в Англии – республиканскую ориентацию, а в Германии Реформация приводит к усилению власти князей.
Французский двор поэтому довольно скоро меняет либеральную и опасную для него политику. Перелом наступает в 1534 году в связи с «делом о плакатах». Король возглавляет борьбу с протестантскими еретиками и свободомыслящими. Реакция торжествует. Еще до этого в 20-е годы обскуранты добились сожжения первого французского перевода Библии, заставили бежать из Франции автора перевода, патриарха французского гуманизма, филолога и математика Лефевра д'Этапля, и отправили на костер Луи Беркена – переводчика Лютера (1529). Теперь под эгидой короля католические мракобесы устанавливают в стране режим страха и преследований. В 1535 году особым указом запрещено книгопечатание. «Еретиков» отправляют на костры и виселицы. Виднейшие гуманисты и поэты Франции подвергаются гонениям. К. Маро бежит из Парижа в 1534 году и после десятилетнего скитания по разным странам умирает на чужбине. За свободомыслие сожжен на костре Э. Доле. На подозрении у Сорбонны находится и Г. Бюде, глава французского гуманизма, несмотря на высокий пост королевского советника, и даже сестра короля писательница Маргарита Наваррская. Автор «Кимвала Мира» и сборника замечательных новелл Б. Деперье – наиболее близкий Рабле по смелости мысли и характеру смеха французский гуманист – в отчаянии кончает жизнь самоубийством (1543). Да и жизнь самого Рабле, который «всех больше подвергался преследованиям», хотя «всем был дорог», служит достаточно ярким показателем господствовавшей в эти десятилетия атмосферы. Все его книги подвергаются запрещению сейчас же вслед за опубликованием, и автору несколько раз приходится скрываться от преследования сорбоннитов, иногда за пределы родины.
Во всей Европе успехи гуманистических идей сталкиваются в 30-40-е годы с нарастающим сопротивлением врагов свободной мысли. В том же 1534 году, когда выходит «Гаргантюа» Рабле, Игнатий Лойола основывает Орден иезуитов. В последующие годы инквизиция распространяет свою деятельность на Португалию и ее колонии (1536), на Италию (1542) и несколько позже на Францию (50-е годы). Целое десятилетие западная церковь готовится к Тридентскому собору (открывшемуся в 1545 г.), мощному фактору начинающейся католической реакции. Протестантское движение окончательно отмежевывается от гуманизма, с которым оно было связано в предыдущий период. Виттенбергский папа, как называет Лютера Т. Мюнцер, и «женевский папа» Кальвин состязаются в фанатической нетерпимости с римским: в год смерти Рабле Кальвин отправляет на костер Сервета.
С наибольшим ожесточением, однако, реакция обрушивается на революционные низы общества, выступившие «с красным знаменем в руках и с требованием общности имущества на устах» (Энгельс). Неслыханная по жестокости расправа господствующего класса с этими зачатками современного пролетариата вызывает в среде разгромленных анабаптистов эсхатологические чаяния. И если незадолго до самоубийства гуманист Деперье говорит о наступившей «године бедствий и невзгод», то в Германии и Нидерландах разгул «сатанинских» сил возвещает экзальтированным умам близость кончины мира и Второго пришествия.
«Книги, полные пантагрюэлизма», обращены к тем, кого «горе точит и снедает». Они не только разоблачают воинственную реакцию, но и «облачают» чудовище в такие смехотворные одежды, которые должны изгнать страх перед ним, вернуть современникам бодрость, мужество и чувство перспективы. Мироощущение Рабле стоит на уровне его великого века и не подчиняется зигзагам политической конъюнктуры. Величайший революционный переворот, пережитый до того человечеством, питает его жизнерадостный и исцеляющий смех. Обращаясь к своим современникам, автор «Пантагрюэля» напоминает им известную истину: «Мертвый хватает живого». В свойственной ему манере врач Рабле придает этому отнюдь не веселому изречению обратный смысл – в духе предписания или рецепта. Жизнь – это здоровье. «Без здоровья жизнь не есть жизнь, не есть жизнь живая. Без здоровья жизнь есть лишь томление духа, есть лишь подобие смерти. Так вот, когда вы свое здоровье утратите, иными словами, будете мертвы, хватайте живое, хватайте жизнь, то есть здоровье» (Пролог к Четвертой книге). И прежде всего – смех, приносящий здоровье и бодрость.
Гуманизм Возрождения на различных стадиях развития выдвинул величайшего гения трагического, Шекспира, и гения смеха «чисто комического», Рабле. Исходя из положения Аристотеля о том, что «смех свойствен человеку», Рабле приходит своим путем к катарсису, «очищению», которое, по тому же Аристотелю, составляет существо и цель трагического. Но смех Рабле, минуя «страх и сострадание», приводит читателя к очищению от самого «страха» перед злом жизни, как и от «сострадания» всему недостойному жизни. Рабле не доверяет трагическому восприятию мира, которое он, по-видимому, склонен считать состоянием болезненным и упадочным. И в этом мудрость пантагрюэльского смеха.
Жизнеописание Челлини и ренессансная этика «доблести»
I
Нет другой книги на нашем языке, которую было бы так приятно читать, как «„Жизнеописание“ Челлини», – писал известный итальянский критик XVIII века Джузеппе Баретти. Эта восторженная оценка показательна для отношения потомства к замечательнейшему памятнику мемуаристики эпохи Возрождения. Увлекательный рассказ художника о своей жизни вызывает острый интерес у историков культуры и философов, искусствоведов и лингвистов, поэтов и критиков, а также среди широких кругов читателей. На немецкий язык книгу перевел в 1803 году сам Гёте. Четыре столетия отделяют нас от того момента, когда автор приступил к своим воспоминаниям, но интерес к ним возрастает, о чем свидетельствуют всё новые издания и исследования.
Славу этой книги мемуаров нельзя, однако, объяснить громким именем ее автора как художника. Это не отраженный свет.
Флорентийский золотых дел мастер и скульптор Бенвенуто Челлини (1500–1571) был, несомненно, высокоодаренным художником, но имя его не стоит в первом ряду великих мастеров итальянского Возрождения. Это имя не первого ранга. Как известно, современники восторгались его ювелирным искусством, и здесь, вероятно, не было ему равных в Италии, но из всех замечательных творений Челлини-ювелира, так интересно описанных в его мемуарах, до нас почти ничего не дошло. Драгоценный материал, с которым работал Челлини, сыграл роковую роль в судьбе его созданий. Так, во время итальянских кампаний была переплавлена в слиток для выплаты контрибуций Бонапарту знаменитая застежка папской ризы с изображением Бога-Отца, о которой художник рассказывает в главах 43–44 и 55 книги I своих мемуаров. Единственный дошедший до нас шедевр Челлини-ювелира – это золотая солонка Франциска I (она еще при жизни художника, в 60-е годы XVI столетия, во время религиозных войн, дважды была внесена в списки золотых ценностей, подлежащих переплавке, и только случайно уцелела). Множество колец, ожерелий, камей, медальонов, фермуаров, а также маятников, подсвечников и ваз, хранящихся в европейских музеях, приписываются Челлини без достаточных оснований. Среди этих экспонатов много изделий мастеров позднейших эпох или иных стран. Потомство охотно приписывало Челлини все шедевры ювелирного искусства. И уже одно это заставляет подозревать, что манере Челлини, быть может, несколько и не хватало неповторимого своеобразия.
Образцы его мастерства чеканщика и резчика сохранились лучше. До нас дошли почти все его медали и монеты. Но здесь у Челлини были достойные соперники (Карадоссо и Леони).
Время пощадило и лучшие творения Челлини-скульптора: бронзового «Персея» и две замечательные модели к нему (Флоренция), мраморное «Распятие» (Эскуриал), бюсты Биндо Альтовити (Бостон), Козимо I (Флоренция), а также нимфу Фонтенбло (Лувр), Борзую (Флоренция) и некоторые другие работы. Пристрастие скульптора к динамизму и резкости обнаруживает в нем талантливого ученика позднего Микеланджело. Но богатство внутреннего содержания и значительность идей учителя обычно не под силу Челлини, и поза его героя иногда уже несколько театральна и искусственна. В наше время статуя «Персея» уже не вызывает того энтузиазма, с каким ее встретили современники в день 27 апреля 1554 года, когда она была выставлена на городской площади под аркой Лоджии деи Ланци. Композиция кажется нам загроможденной фигурами и барельефами подножья, поза Персея – малоустойчивой, трактовка тела – противоречивой, а аксессуары, например шлем героя, – излишне детализированными. В целом наиболее известная скульптура Челлини обнаруживает технику орнаментального ювелирного искусства, перенесенную в ваяние, требующее, однако, большего духовного содержания и простоты выразительных средств[89]. Две сохранившиеся модели «Персея» – бронзовая и восковая, в особенности последняя, – производят благодаря малому размеру и простоте позы лучшее впечатление, чем сама статуя.
Впрочем, характер реализма бронзовых бюстов, а также, пожалуй, мраморного «Распятия» доказывает, что Челлини более других своих современников сохранил связь с традициями итальянского искусства поры расцвета, хотя в общем его создания уже отмечены налетом маньеризма, усиливающегося в искусстве позднего Возрождения.
Не слава Челлини-художника поддерживает интерес потомства к его «Жизнеописанию». Скорее наоборот. Прав был Гёте, когда писал, что «Челлини обязан своей известностью едва ли не больше своему слову, чем творениям», ибо «своим пером, едва ли не вернее, чем резцом, он оставил прочный памятник себе и своему искусству». Если имя Челлини стало нарицательным для всего золотого века художественного ремесла, которое мы охотно называем «челлиниевским», хотя от самого Челлини-ювелира, как мы видели, мало что сохранилось, то известную роль здесь сыграли вдохновенные страницы его автобиографии. Загипнотизированные наивной саморекламой Челлини, поклонники его таланта готовы были приписать ему любой безымянный ювелирный шедевр. С другой стороны, отчасти основываясь на указаниях «Жизнеописания», такие исследователи, как Плон[90] и другие, могли установить в целом ряде случаев его авторство. Так, лишь в XIX веке доказано, что эскуриальское мраморное «Распятие» принадлежит резцу Челлини, и установлено, что «венская солонка» является той самой знаменитой солонкой, которую создал Челлини для Франциска I.
Своей славой мемуары Бенвенуто Челлини не обязаны также какому-то исключительному богатству исторических свидетельств или точности в их передаче. Челлини не историк своего времени. Он жил в бурную, переломную для развития европейского общества эпоху, богатую всемирно-историческими событиями и глубоко трагическую для Италии. Великие географические открытия, перевороты в науке, начало Реформации, Великая крестьянская война, социальные брожения века – обо всем этом нет ни малейшего упоминания в его мемуарах. Единственный эпизод итальянской истории, отразившийся в книге, – осада замка Св. Ангела (1527), – освещен чисто биографически: автор рассказывает, как события повлияли на его личную судьбу. В своих записках Челлини неоднократно предупреждает, что он не историк, что пишет «только свою жизнь» и «то, что к ней относится». А между тем он жил и работал при папском дворе и при дворе короля Франции – в средоточиях тогдашней политической жизни! «Жизнеописание» Челлини и, скажем, такая вершина в жанре автобиографии, настоящая энциклопедия своей эпохи, как «Былое и думы» нашего Герцена, – это два полюса, два антипода мировой мемуаристики.
Но если Челлини так сузил рамки своего «Жизнеописания», то в чем интерес и на чем основана слава его мемуаров?
II
Читателя «Жизнеописания» прежде всего поражает могучая волевая и целеустремленная натура автора. Со страниц безыскусного рассказа, который художник под старость, сидя за работой в мастерской, диктовал хворому четырнадцатилетнему мальчику, сыну соседа, встает резко очерченный характер. Но в этом самобытном характере бессознательно воплотились нравы века и народная жизнь. Вобрав в себя, как в фокус, черты целой эпохи, личность Челлини, поэтому, покоряет и убеждает как совершенный художественный образ.
Подобно другим художникам и поэтам итальянского Возрождения от Данте до Микеланджело, Челлини – питомец городской культуры, взращенный строем жизни вольных городов-государств. «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции» открывается горделивой генеалогией потомственного горожанина, род которого восходит к легендарным временам, когда зачинался город. Гордость за Флоренцию, которая «поистине всегда была школой величайших дарований» (II, 65)[91], и даже известное высокомерие к другим городам (отзвуки традиционных распрей) нередко чувствуются в «Жизнеописании». Бурная политическая жизнь итальянских городов-синьорий, как известно, послужила прологом к истории буржуазного прогресса в Европе, и среди итальянских городов – за Флоренцией наибольшие заслуги как за мастерской передовых идей Возрождения, недаром ее иногда называют «яйцом Нового времени».
Правда, ко времени выступления Челлини культура итальянских городов уже клонилась к упадку. Новые атлантические пути мировой торговли, проложенные великими географическими открытиями, лишают итальянские города их экономических преимуществ в средиземноморской торговле и приводят к хозяйственному кризису и упадку. К тому же Италия в XVI веке не смогла перейти к единым национальным формам развития, а начало собственно капиталистической эры открывается там, «где… уже значительно увял наиболее яркий цветок средневековья – свободные города»[92]. Республиканские городские вольности сменяются деспотией реакционных мелких князей (во Флоренции устанавливается власть Медичи). Как мы дальше увидим, это в значительной мере определило биографию Челлини, его непоседливый образ жизни, его судьбу, в которой он наивно усматривает влияние «зловредных звезд». Но независимая и мощная натура Челлини в основном еще связана с прогрессивными завоеваниями периода расцвета городской культуры, с теми представлениями о человеке и его месте в мире, о его возможностях и правах, о его достоинстве и назначении, которые веками складывались в среде итальянских гуманистов.
Бенвенуто Челлини не обладал широким гуманистическим образованием, обычным для его современников. Он не только не знал ни греческого, ни латинского, но плохо ладил даже с грамматикой родного итальянского языка. Нигде в его произведениях не видно следов особой начитанности. Меньше всего это человек книжной культуры. По своему происхождению и жизненной школе он близко стоял к простому народу. И если немногие сентенции общего характера, сопровождающие его живое повествование, не только близки по духу этическим нормам гуманистов, но и буквально их повторяют, то это показывает, насколько вся атмосфера тогдашнего итальянского общества была пропитана этими идеями.
«Жизнеописание» – это прежде всего рассказ о достойно прожитой значительной жизни, отмеченной большими творческими дерзаниями, увенчавшимися успехом благодаря независимому духу, непреклонной энергии человека.
Тем самым «Жизнеописание» Челлини как бы реальный, осуществившийся этический идеал итальянского Возрождения.
Уже само начало мемуаров знаменательно. «Все люди всяческого рода, которые сделали что-либо доблестное (virtuosa) или похожее на доблесть (virtú), должны бы… описать свою жизнь». Здесь мы сразу сталкиваемся с понятием, являющимся как бы этическим принципом всей эпохи итальянского, да, пожалуй, и всего западноевропейского Ренессанса. Значение слова «вирту» для Возрождения (как и всякое богатое в своей исторической конкретности понятие) может быть только приблизительно передано современным русским словом «доблесть». Слово «вирту» вызывает у итальянца XV–XVI веков целый комплекс представлений.
Это прежде всего представление о значительных, великих делах, на которые способен человек, рожденный не для прозябания в обыденном и мелочном, и которыми ознаменована прожитая им жизнь. В известной характеристике людей Возрождения у Энгельса, где отмечается их «титанизм», лучше всего выражено существо «вирту» как нравственной и эстетической нормы. Жизнеописание Челлини повествует о творческой жизни художника, превзошедшего в своем искусстве всех предшественников и изумившего современников своими шедеврами, перед которыми должно будет склониться и потомство.
И этой славой Челлини обязан – таково его убеждение – только творческому началу своей индивидуальности, своему свободному гению, а не общественному рангу, не происхождению. В этом прогрессивная, демократическая сторона идеала «доблести». Сын маэстро Джованни, бедного музыканта и зодчего, он, Бенвенуто, добился всего, полагаясь только на себя и свои силы. «Гораздо больше горжусь тем, что, родясь простым, положил своему дому некоторое почтенное начало, чем если бы я был рожден от высокого рода» (I, 2). В этих словах, проникнутых гордостью плебея и чувством человеческого достоинства, звучит общий для всех гуманистов мотив учения о «доблести» и истинном благородстве. «Насколько больше заслуги построить дом, чем обитать в нем… Благородство – атрибут доблести», – заметил гуманист Поджо Браччолини. «Не в богатстве, не в занимаемой должности, а единственно только в доблести духа заключается благородство», – учил канцлер флорентинской синьории гуманист Кристофоро Ландино. Еще Петрарка писал, что «кровь всегда одного цвета. Благородным человек себя делает своими великолепными делами».
Страницы мемуаров Челлини – это преимущественно рассказ о его делах, его «труды и дни». Вначале – годы учения во Флоренции, затем – странствования подмастерьем, наконец годы мастерства и славы. Болонья, Пиза, Рим, Париж, Флоренция. Не только «из края в край, из града в град», но и от одной области искусства – к другой. Разные виды многогранного ювелирного мастерства, резьба печатей и медалей, чеканка монет. Игра на флейте и корнете, которой он впервые обратил на себя внимание папы Климента VII. Фортификация и зодчество. Артиллерийское искусство, к которому он, по его признанию, даже «более склонен», чем к ювелирному. Разумеется, – как и у других итальянских художников и ученых, как у Микеланджело, его учителя, – поэтические опыты (образчиком его стихов служит написанная в тюрьме поэма в терцинах). И – как венец его творческого развития – высокое искусство ваятеля.
«Питая благородную зависть» к прославленным мастерам, переходя от одного искусства «чрезвычайно трудного» к другому «наитруднейшему», «никогда не уставая от труда, который оно мне задавало, – рассказывает автор записок, – я беспрестанно старался преуспевать и учиться». «Все эти сказанные художества весьма и очень различны друг от друга; так что если кто исполняет хорошо одно из них и хочет взяться за другие, то почти никому они не удаются так, как то, которое он исполняет хорошо; тогда как я изо всех моих сил старался одинаково орудовать во всех этих художествах» (I, 26). Разве в этих строках не запечатлен идеал «многосторонности» целой эпохи! «Великое искусство скульптуры» отчасти потому и стоит выше всего в глазах Челлини, что оно по своей природе предполагает всякого рода умения и знания.
«Я говорю, что этим удивительным искусством ваятеля нельзя заниматься без знания всех благородных искусств», – замечает он в уже цитированном письме к Б. Варки. «Ведь желая изобразить воина со всеми подобающими ему качествами и свойствами, этот мастер необходимо должен быть храбрым и хорошо знать военное дело, и если он хочет изобразить оратора, то он сам должен быть весьма красноречив и сведущ в науках; если же он хочет изобразить музыканта, то он должен иметь разнообразные музыкальные знания, чтобы своей статуе правильно вложить в руки музыкальный инструмент». Затем выясняется, что ваятель «совершенно необходимо должен быть также поэтом». Подобные же требования к художнику, как воплощению идеала универсально развитой личности, предъявляют Л. Б. Альберти и Леонардо да Винчи.
Еще незадолго до рождения Челлини идеал этот красноречиво формулирует Пико делла Мирандола в известной речи «О достоинстве человека»: человек «по собственному произволу чертит границы своей природы», «по собственному желанию избирает место, дело и цель» своих занятий. «Он сам себе творец, и сам выковывает окончательно свой образ», ибо «дивное и возвышенное назначение человека» в том, что «ему дано достигнуть того, к чему он стремится, и быть тем, чем он хочет».
Такое представление о «назначении человека» и вся этика «доблести» связаны с огромной верой в себя, в свои творческие силы («Человек может из себя извлечь все, что пожелает», – заявляет Л. Б. Альберти). Мемуары Челлини в этом смысле – удивительно яркий исторический документ. Меньше всего этому благочестивому христианину, каким он неизменно себя характеризует, присуща первейшая христианская добродетель – смирение духа. Чтобы вывести его из себя, достаточно окружающим только усомниться в том, справится ли он с задачей, осуществит ли свой необычный замысел, особенно в искусстве, где он еще новичок. Это неминуемо вызовет с его стороны град упреков, саркастических стрел, язвительных оскорблений. Его заказчики и их консультанты должны безусловно в него верить. Творческие сомнения в своих силах ему неведомы. «Рвением и усердием» в работе он всегда достигнет высшего совершенства и заставит всех признать, что он не только сравнялся с античными художниками, но и превзошел их[93], ибо и античное искусство – перед которым он вместе с другими мастерами Возрождения преклоняется! – не может быть непревзойденным. Чем труднее задача, тем больше она его воодушевляет. Девиз поддерживающего небесный свод Атланта на одной из его медалей summa tulisse juvat – «высшее сладко нести» – мог бы стать творческим девизом самого Челлини.
Впрочем, и девизом всей его жизни. В ней немало приключений из ряда вон выходящих, на грани сказочного или просто фантастических. Не говоря уже о побеге из замка Св. Ангела или о рукопашных схватках с врагами, где Челлини неизменно оказывается победителем, ибо «никогда не знал, какого цвета бывает страх» (I, 15), он еще в детстве совершает подвиги, напоминающие Геркулесовы, а впоследствии, ни много ни мало, вступает в прямые сношения с силами ада и неба: некромантические заклинания в Колизее и лицезрение Христа в тюрьме – «вещь величайшая, какая случалась с другими людьми» (после чего над его головой, как он сообщает, засиял нимб, как у святого, I, 78).
Безграничная вера в себя – и в оценках своих произведений и в рассказах о своих приключениях – то и дело переходит у Челлини в забавное самомнение, в невероятное хвастовство и смешные фанфаронады. Но, отражаясь на достоверности сообщаемых фактов, эта особенность мемуаров никак не умаляет типичности образа самого рассказчика и даже, пожалуй, усугубляет колорит характера. Гиперболический стиль Челлини, страстный и восторженный, его фантастика неотделимы от чувства жизни, от эстетики «фантастического реализма» его эпохи, питавшей повышенный интерес к идеализированным, сказочным приключениям (рыцарские поэмы Боярдо и Ариосто, книга Рабле о великанах). В основе этой эстетики героического и необычайного лежало то же историческое представление о неограниченных возможностях свободных натур. И было бы странно, если бы мемуары этого времени (например, «Жизнеописания великих полководцев и знаменитых дам» выдающегося французского мемуариста XVI века Брантома) отличались трезвой мерой и скромностью. У Рабле, современника Челлини, любимый герой автора Панург утверждает, что «человек стоит столько, во сколько он сам себя ценит». Под этими словами, выражающими в гротескной форме гуманистическую веру в человека, мог бы подписаться и Челлини.
Но путь к значительным делам, к «доблести» лежит через деятельность страстную, неустанную, напряженную. При каждом новом заказе Челлини «разбирает нетерпение скорее приняться за дело», и он тотчас же начинает «с великим усердием работать». Получив долгожданный мрамор, он не в силах запастись терпением и сделать вначале модель. Он тут же начинает обтесывать статую Аполлона и Гиацинта: «такая мне была охота работать из мрамора» (II, 72).
Когда Франциск I советует Челлини беречь свое здоровье и не утруждать себя чрезмерно, тот заявляет в ответ, что «сразу же заболел бы, если бы не стал работать». И больше всего ему льстит изумление окружающих перед этим «удивительным человеком», который «должно быть, никогда не отдыхает» (II, 15, 16). Своим резцом в мастерской он действует так же, как на площади кинжалом, – «смело и с некоторой долей ярости». Знаменитый (ставший уже хрестоматийным) рассказ об отливке «Персея» (II, 75–77) дает достаточно яркое представление о творческой ярости, творческом раже художника, преодолевающего упорное сопротивление материала, укрощающего своим словом даже неистовство стихий – огня и воды. Можно подумать, что перед Челлини, когда он диктовал эти вдохновенные страницы, возникал образ Бога-Отца в дни сотворения мира, увековеченный на плафоне Сикстинской капеллы его учителем Микеланджело. «Ужасающее величие» (terribilitá) и «ярость» (furore), характерные для итальянского искусства XVI века и для этики «доблести», пронизывают и образ Челлини в этом эпизоде. Его помощники признают, что он себя показал «не человеком, а сущим великим дьяволом» и «сделал то, чего искусство не могло сделать; и столько великих дел, каковых было бы слишком даже для дьявола».
Идеал великих дел предполагает натуры цельные и решительные. Девиз своего современника Аретино «жить решительно» (vivere risolutamente) разделяет и автор «Жизнеописания». Жить для него значит действовать. Решение он принимает сразу, не колеблясь, как бы в силу внутреннего, неотвратимого импульса, и действует со страстной целеустремленностью. Эта цельность Челлини, так поражающая позднейшего читателя, характерная историческая черта человеческого типа его эпохи. Отсюда и господство в «Жизнеописании» чисто повествовательного начала. Рассуждения, медитации играют здесь небольшую и скорее орнаментальную роль. Нет в «Жизнеописании» и интереса к психологическому анализу. Если Челлини прекрасный рассказчик, то это во многом связано с его чуждой рефлексии деятельной и цельной натурой.
Это темперамент неукротимый, неуемный и буйный. Мемуары Челлини переполнены рассказами о потасовках, драках, кровавых столкновениях с личными врагами, соперниками, а то и просто с первыми встречными, имевшими несчастье его задеть неосторожным словом. Свой длинный кинжал, с которым Челлини не расстается, он пускает в ход весьма «решительно». И так как он «по природе немного вспыльчив»[94], – замечание это не может не вызвать улыбки у читателя, – а «распалясь», он «становится как аспид» или «как бешеный бык», то дело часто кончается худо, и на его совести есть несколько убийств, хотя не видно, чтобы это его особенно тревожило. Несомненно, что о своих драках автор мемуаров рассказывает с удовольствием, не без гордости сообщая, как он один ворвался в дом к оскорбителю, где, орудуя кинжалом направо и налево, нагнал страху, как «в судный день», и вышел победителем против дюжины противников (I, 17). Вообще, начиная с участия пятнадцатилетним юношей в уличной потасовке, за которую он подвергается изгнанию в Сиену, реестр подобного рода подвигов ведется не менее аккуратно, чем перечень художественных работ, и эти подвиги описываются с не меньшим красноречием и гордостью.
Исследователи «Жизнеописания», исходя из этого, часто говорят об «аморальности» флорентийского художника, «не признающего никаких нравственных авторитетов, кроме своей индивидуальной воли». Его этика сближается с «моральным индифферентизмом» Макиавелли, трактуемом к тому же в духе философии Ницше, и Челлини тогда оказывается неким «хищником в джунглях»! Независимо от оценки самого критика – осуждает ли он такую позицию «по ту сторону добра и зла» или восхищается ею, – подобная трактовка «Жизнеописания» чудовищная модернизация, свойственная многим новейшим работам о культуре Возрождения. Это искажение реального образа автора мемуаров. Скорее наоборот – читателю запоминаются многие патриархальные черты натуры и морали Челлини. Он – хороший, почтительный сын, горячо любящий брат и вообще образцовый семьянин. С какой теплотой он рассказывает о своем брате или о сестре и ее семье, которой он помогает всю жизнь. В отношениях с помощниками и слугами он верен традиции «доброго старого времени»: с Феличе (в Риме), с Асканио (в Париже) он обращается как с родными детьми. Кое-кто из его учеников оказывается впоследствии неблагодарным, но большей частью они ему преданны за заботу и щедрость. Колотушек им, видно, при вспыльчивом нраве маэстро достается во время работы немало (а рука у него тяжелая!), но это тоже в духе обычая. Многие места книги рисуют автора преданным другом, хорошим товарищем, гостеприимным хозяином. В его характере и стиле жизни много добродушия. Ему чужды тайные интриги или вероломство, пустившие такие глубокие корни в обществе века Цезаря Борджиа. Он действует прямо и открыто. Наконец, его наивное благочестие, пожалуй, уже достаточно старомодно и для XVI века, в особенности в Италии. И было бы странно ожидать от него ниспровержения всяких моральных норм. Это явно не его сфера. Челлини, лишенному рефлектирующего цинизма, скорее присуще традиционное и естественное чувство долга.
И, пожалуй, именно поэтому всякая несправедливость или нанесенная ему обида легко приводят его в ярость. И тогда в ход пускаются кулаки и кинжал. Апеллировать к органам общественного порядка или правосудия – такая мысль ему и в голову не может прийти. Прятаться за чужой широкой спиной! Прибегать к крючкотворству! Слава богу, у него еще есть пара крепких рук, а после его удара остается только «бежать за духовником, потому что врачу тут уже делать нечего». С органами правосудия он всю жизнь не в ладах. Их вмешательство в личные дела граждан, их борьба с самоуправством – для него явное покушение на традиционное право междоусобиц. Старинное кулачное право ближе его сердцу и, конечно, более достойно уважения, чем судебная волокита. Как-никак исход спора тогда решает все та же «доблесть»!
Необычайно интересна и колоритна в этом смысле глава 27 книги II его мемуаров. Челлини недавно приехал во Францию, и, несмотря на лестный прием у короля и ряд выгодных заказов, ему скоро стало здесь не по себе. Настолько, что он даже собирается поскорее закончить начатые работы и вернуться в Италию, «не в силах будучи ужиться со злодействами этих французов» (в устах Челлини эта жалоба звучит весьма забавно). Оказывается, что он уже успел «для своей защиты учинить много этих самых дел». А во Франции несколько другие порядки, чем в итальянских городах, В Италии на «эти самые дела» смотрели часто сквозь пальцы, и наказание обычно сводилось к изгнанию из города; буйство ему легко сходило с рук. Здесь же весьма развито судопроизводство, и против постановлений муниципалитета иногда бессилен сам король. Буржуазия во Франции развивалась под знаменем укрепления законности и порядка, тогда как развитие итальянских городов шло путем завоевания независимости и изъятия автономных городов из общегосударственного подчинения. Поэтому во Франции у Челлини сразу возникает ряд процессов: с соседями, с натурщицей и т. д. Эти тяжбы приводят его в отчаяние. С отвращением он сообщает об удивительной страсти французов к тяжбам: тяжбы даже продают и «дают в приданое», а кто не умеет судиться – пропащий человек. Челлини вручают повестку – и вот он в зале суда. Здесь ему, иностранцу, все кажется просто поразительным. Наконец он приходит к выводу, что перед ним настоящая картина ада, а судья, «этот удивительный человек – истинный облик Плутона». Челлини саркастически берется даже прокомментировать одно темное место из песни VII «Ада» Данте, который, как известно, одно время жил в Париже и перенес, дескать, в свою поэму восклицание судьи, призывающего публику к порядку. А толкователи Данте этого не поняли… Вся эта глава мемуаров достойна занять место рядом с эпизодами о сутягах или о Пушистых Котах из «Гаргантюа и Пантагрюэля». Она им конгениальна.
Впрочем, общественные порядки в XVI веке таковы, что поведение Челлини отнюдь не является каким-то вызовом общепринятым нормам морали. Через жизнь он проходит «с открытыми глазами, с доброй охраной, и отлично вооруженный, в кольчуге и наручах» (I, 75). Не только в Италии, где ему легко прощают и убийство капрала, и убийство папского ювелира, как бы безмолвно признавая за ним неписаное право сведения личных счетов, но и за Апеннинами сам король поощряет его самоуправство. По приезде Челлини в Париж король дарит ему свой замок Нель для мастерской. Но там уже давно обосновался прево (верховный судья), который отказывается подчиниться приказанию короля. Приходится исполнительным органам применить силу – против самого блюстителя законности! Но принятых мер оказывается недостаточно, и тогда король советует Челлини: «поступите по вашему обычаю…». Исход этой распри решает уже упомянутый длинный кинжал Челлини… Таковы нравы.
Прав Гёте, отмечая глубокую внутреннюю связь характера Челлини и его этики с правовым и политическим состоянием переходного времени. «Даже войны тогда были не больше, как крупными дуэлями» (например, нескончаемые распри между Карлом V и Франциском I). Образ Челлини, как и воплощенная в нем ренессансная этика «доблести», если их не модернизировать в духе новейшей буржуазной «аморальности», представляют своими достоинствами, как и своими пороками, определенную ступень человеческого развития: его завоевания и достижения, его примитивность, его наивную цельность сравнительно с позднейшим, более «цивилизованным» сознанием.
III
Жизнь Бенвенуто Челлини вел беспокойную и кочевую. И не только в молодые годы, годы учения, когда он покидает родной город, чтобы совершенствоваться в игре на флейте у мастеров Болоньи и в ювелирном искусстве в Пизе и Риме. Тридцать лет скитаний по разным городам Италии. Дважды он перебирается во Францию, часто пробует обосноваться в Риме. Флоренция, признание у прославленных мастеров ее «чудесной школы» влечет его к себе, и он часто приезжает в родной город, но не задерживается в нем подолгу. И лишь под старость Челлини возвращается во Флоренцию, однако без твердого решения тут осесть. Он еще посещает Венецию, безуспешно ведет переговоры с новым папой Юлием III, но уже вынужден провести остаток жизни под властью неблагодарных герцогов Флоренции.
Чем объясняется этот непоседливый образ жизни и скитания Челлини? Конечно, известную роль здесь сыграла отмеченная выше экономическая депрессия и упадок итальянских городов начиная с конца XV века. Как отмечалось в нашей критике, итальянские коммуны и синьории уже не в состоянии были обеспечить своих художников заказами. Диспропорция между высоким развитием художественной культуры и материальным упадком Италии усиливает в XVI веке стремление художников к эмиграции во Францию и другие страны. Даже гений Леонардо да Винчи не всегда находит поддержку на родине, его грандиозные технические и художественные замыслы остаются неосуществленными, и он кончает свои дни в Париже, на службе у французского двора. На протяжении нескольких веков Италия становится поставщиком даровитых художников и государственных деятелей для соседей, и тип странствующего артиста или художника, как и тип крупного авантюриста (Казанова, Калиостро), связан в европейской культуре XVI–XVIII веков именно с Италией (вспомним «Египетские ночи» Пушкина).
И все же это еще не объясняет биографии Челлини. Если недостаток заказов побуждает его покинуть Флоренцию и перебраться в Рим или Париж, то все же непонятно, почему флорентинский мастер не остается в Париже, где он завален работой и получает огромное содержание на службе у двора. Почему он не остается во Франции и не обретает здесь второй родины, как, например, его соперник болонец Приматиччо, декоратор дворца Фонтенбло, или живописец Джованбаттиста Россо, не менее известный под офранцуженным именем мэтр Ру. Кочевая жизнь Челлини отчасти обусловлена характерной для эпохи страстью к путешествиям, желанием «увидеть свет»: «мне всегда нравилось видеть свет, и, никогда еще не бывав в Мантуе, я охотно отправился» (I, 40). Но это стремление руководило им больше в молодости. В постоянных переездах зрелых лет решающую роль сыграла независимость его характера, как и его представление о роли художника и его месте в обществе.
В глазах Челлини талант и гений выше всякого герцогского титула или кардинальского сана. Он, Бенвенуто Челлини, имеет право на удобства в пути не меньше, чем герцогский сын (II, 7), и когда он заболевает, врач должен помнить, что его жизнь дороже жизни всех кардиналов Рима (I, 29), «Таких, как я, ходит, может быть, один на свете, а таких, как ты, ходит по десять в каждую дверь», – бросает он в лицо майордому Козимо I (II, 55), ибо нет, кроме него, человека, который смог бы создать его Персея (II, 97). Во всех этих суждениях мы узнаем традицию флорентинской культуры, ее антифеодальные идеи.
Но автор «Персея» живет уже в период заката этой культуры. Он уже на службе при дворе кардиналов и пап, герцогов и королей. Сам «Персей» был ему заказан тираном Козимо I как символ победы этого узурпатора над обезглавленной республиканской вольницей. По всему видно, что эти старые политические права флорентийскому ювелиру уже не очень дороги. Правда, герцог Алессандро, предшественник Козимо I, еще подозревает Челлини в тайных сношениях с изгнанниками-республиканцами; ему доложили, что Челлини хвастал, будто хотел бы первый взойти на стены Флоренции вместе с заговорщиками в день их победы. Но это, видимо, напраслины, возводимые на художника личными врагами. Он сам по крайней мере уверяет в этом читателя, хотя все же должен был бежать в Рим, спасаясь от герцогского гнева. Он уже не верит в будущее республиканской партии и насмехается после убийства Алессандро над теми, кто надеется, что можно будет при избрании ограничить власть нового герцога: «нельзя давать законов тому, – иронически замечает он, – кто их хозяин» (I, 89). Поведение Челлини во Флоренции в 1530 году, когда Флорентийская республика готовилась к героической защите против объединенных войск императора и папы, показывает, что он не питал никаких иллюзий, не верил в возможность победы. Призванный в ополчение, Челлини – в отличие от Микеланджело, всецело отдавшегося защите стен родного города, – после некоторых колебаний тайно уезжает в Рим, приняв приглашение папы Климента VII, врага республиканцев. Подобно другим художникам (а также поэтам и ученым) XVI века, он возлагает все надежды на просвещенного мецената в лице папы или короля. По существу Челлини уже достаточно аполитичен. И это показательно для наметившегося в Италии упадка общественного самосознания в век, который Микеланджело с негодованием назвал «преступным и постыдным».
Знаменателен ответ Челлини республиканцам, предающимся ликованию после того, как в Рим пришло известие об убийстве герцога Алессандро. Они насмехаются над художником, готовившим медаль в честь герцога: «ты нам хотел обессмертить герцогов, а мы не желаем больше герцогов», – говорят они ему. На что Челлини, защищаясь, отвечает: «О, дурачье! Я бедный золотых дел мастер, который служу тому, кто мне платит, а вы надо мной издеваетесь, как если бы я был глава партии». Он предсказывает им, что новый герцог, Козимо I, будет куда хуже прежнего (I, 89).
Эти слова «служу тому, кто мне платит» первым из художников Возрождения сказал, кажется, Леонардо да Винчи. И – пусть в меньшей мере, чем у его гениального земляка и старшего современника – они все же полны горечи и у Челлини. Эта формула является общим местом у деятелей искусства этого времени и свидетельствует о новой зависимости художника, характерной для буржуазного общества. Подобные заявления чередуются поэтому с обычными проклятиями власти денег и заключают в себе существенный оттенок: у этих «наемных» художников, «кондотьеров искусства», каким является и Челлини, нет внутреннего уважения к тем, кому они создают памятники своими творениями или кого они славословят в литературных посвящениях. У настоящих мастеров эпохи эти отношения между художником и меценатом чисто коммерческие, но именно поэтому художник стремится сохранить автономию своего искусства, его внутреннего содержания, как и личную независимость.
Мемуары Челлини с этой стороны представляют большой исторический интерес. Поставленный жизнью перед необходимостью стать художником при дворе, он все же далек от уже складывавшегося тогда типа придворного художника. В своем поведении он никак не удовлетворяет идеалу придворного, нарисованному его старшим современником Бальдассаром Кастильоне в трактате «Придворный».
Живя при дворе пап и владетельных особ, он прежде всего достаточно несдержан в речах и поступках. Папу Павла III он, как утверждал кое-кто, назвал «разодетым снопом соломы», и тот ему в свое время это припомнил. Заболев в Мантуе лихорадкой, он в раздражении громко «проклинал Мантую и того, кто ей хозяин», и вызвал гнев герцога («но в гневе, – замечает Челлини, – мы были равны»). Герцогу Козимо в ответ на его сомнения он прямо дает понять, что его светлость «не разбирается в искусстве». Папе Клименту VII, когда тот у него отнял монетный двор, он велит передать, что папа тем самым отнял монетный двор у себя, а не у него, Челлини, а когда папа захочет ему вернуть этот двор, то он не пожелает его брать вновь и т. д. и т. п. Если – принимая во внимание склонность автора мемуаров к хвастовству – можно и усомниться в абсолютной точности передачи подобных дерзких выходок, то в общем свидетельства современников показывают, что он действительно «не умел изображать льстеца». Его «Жизнеописание» изобилует стычками с сановными советниками двора, и в уста папы Климента VII он вкладывает собственную презрительную оценку придворных: «больше стóят сапоги Бенвенуто, чем глаза всех этих прочих тупиц» (I, 45).
Да и как ему с ними ладить, если ему предлагают быть всего лишь «исполнителем» замыслов заказчика и его советчиков, а это явная «придворная чепуха» (I, 40). За ним уже установилась прочная слава, что он «всегда хочет делать наоборот», а не то, что угодно заказчику. Даже король Франциск I, более снисходительный к Челлини, чем другие меценаты, упрекает его за то, что он «оставляет в стороне его – короля – желания и что он недостаточно послушен», потому что без ведома короля, не кончив заказы, принимается за осуществление других, собственных замыслов, не любит, чтобы ему диктовали, над чем работать, – и вообще действует «самочинно» (II, 18, 44).
К этому нужно добавить, что при всем неистовстве и «ярости» в труде, работы, которые он стремится довести до совершенства, подвигаются медленно. Над «Персеем», например, Челлини трудился девять лет, давая при этом пищу злословию соперников и завистников, утверждавших, что он, золотых дел мастер, не справится с таким большим скульптурным замыслом. Челлини часто торопят заказчики, но он с этим не считается, наверно памятуя, что «удивительный» и «великий» Леонардо да Винчи почти четыре года готовил картон для фрески «Битвы при Ангиари» и столько же лет писал портрет «Джиоконды», что «Тайная Вечеря» создавалась целых десять лет, а модель колоссального памятника Франческо Сфорца – целых семнадцать, да и то осталась незавершенной. Неоконченными остались также и основные работы самого Челлини во Франции: двенадцать серебряных статуй-светильников и колосс Марса. Эта медлительность взыскательного художника приводит порой к рукопашным стычкам с нетерпеливыми заказчиками, как, например, во время работы над вазой для испанского епископа, когда пришлось показать слугам этого сановника дуло пищали с зажженным фитилем. Порой у Челлини пытаются отнять незаконченную вещь, а он отказывается ее отдать, ведет себя дерзко, и тогда даже папе приходится унижаться и упрашивать его завершить работу.
Таким образом, «сделав из необходимости доблесть»[95] – употребляя любимое выражение автора – и стараясь «весело переносить превратности судьбы», Челлини оказывается все же не на высоте положения как придворный художник. Независимая этика «доблести» то и дело оказывается не в ладу с его положением художника при дворе, с «необходимостью», которая ему диктует иные нормы долга, иное – придворное – представление о достойных делах. Новые меценаты легко прощают ему убийства, но не строптивость и дерзкую независимость. «Этот дьявол Бенвенуто не выносит никаких замечаний… Нельзя же быть таким гордым с папой»[96]. То, что скрепя сердце приходилось прощать гению республиканца Микеланджело, не так легко сходило даровитому золотых дел мастеру. И если папа Климент VII, более тонкий знаток искусства – как-никак из рода Медичи! – в общем благоволил к земляку (отчасти в силу традиционных связей родов Челлини и Медичи) и отпускал ему грехи не только убийства, но и недозволенной гордыни, то отношения Челлини с новым папой Павлом III довольно скоро испортились непоправимо. Челлини заключают в тюрьму, где его долго держат как человека опасного.
Любопытно, что в то время, когда Челлини томился в замке Св. Ангела, его приятель, известный писатель Аннибале Каро, делает в своих письмах по этому поводу следующее замечание: «Вина Бенвенуто пустячна сравнительно с таким суровым наказанием… но боюсь, что характер Бенвенуто, безусловно, очень странный[97], может ему повредить… Ведь его речи могут потревожить любого государя… Просто не знаешь, что делать с его упрямством. Ему советуют, как себя вести, но эти советы остаются втуне, так как его резкости ему еще кажутся недостаточными».
Неудивительно, что при таком «очень странном» для придворной среды «характере» Челлини не удается ужиться и при французском дворе, где вскоре он приобрел себе непримиримого врага в лице фаворитки короля. Так и не закончив своих работ, он уезжает во Флоренцию, где создает свои лучшие произведения и достигает высшей славы как скульптор. Но и здесь, при дворе герцога Козимо, независимый характер Челлини мешает его жизненному благополучию, и он рад бы опять куда-нибудь уехать. Противоречие между натурой Челлини и его местом в жизни движет его биографию и определяет его «превратную и кусачую судьбу» (II, 59).
В своей судьбе он суеверно видит влияние зловредного сочетания звезд (II, 31 и др.). Но для нас несомненно, что это было сочетание «исторических» звезд – тех новых, что уже всходили над горизонтом его времени, и старых, что еще светили в его ренессансной душе, своей наивной прямотой завоевавшей ему симпатию потомства.
IV
Как мы узнаем в начале жизнеописания от самого автора, Челлини приступил к своей автобиографии в возрасте пятидесяти восьми лет, то есть в 1558 году. Он еще писал ее в 1566 году и, доведя рассказ до 1562 года, оставил свой труд неоконченным. При его жизни мемуары не были опубликованы, и впервые их издал Антонио Кокки в Неаполе в 1728 году, то есть более чем через полтора века после смерти автора. Интерес, вызванный этой публикацией (сделанной еще на основе искаженного списка), лишь возрастает на протяжении XVIII века и выходит за пределы Италии. В 1771 году в Лондоне появляется английский перевод; на французский язык автобиографию, по-видимому, впервые перевел еще в 1777 году известный генерал Дюмурье (перевод остался ненапечатанным), а на немецкий, как уже сказано, Гёте, снабдивший свой перевод очерком о Челлини и его времени. Флорентийский художник, типичный «представитель своего века», поражает Гёте не своими творениями, а натурой, удивительной и многогранной, деятельной и могучей, – не глубиной мысли или сознательным пониманием природы вещей, а завидной «технической легкостью» воспроизведения, которой Челлини обязан тогдашнему необычайному расцвету искусства. Еще выше популярность «Жизнеописания» в первой половине XIX века, особенно после опубликования оригинала рукописи (1829). О. Конт в это время включает автобиографию Челлини в свой список избранных книг, которые должен прочитать каждый человек.
«Жизнеописание», таким образом, было оценено только в перспективе веков, когда время Челлини стало далеким прошлым. Безыскусственный рассказ о прожитой жизни, не удостоенный внимания современников, но «в котором отразился век и современный человек», обнаруживает для потомства силу и неповторимые краски, соперничающие с художественным обобщением. Восемнадцатый век открыл книгу Челлини – и стоит сопоставить ее с такой характерной для Просвещения и в то же время уже столь близкой к литературе XIX века книгой, как «Исповедь» Руссо, чтобы в отчете о прожитой жизни увидеть все различие правды о «человеческой природе», о возможностях человеческой личности в автобиографиях, отделенных друг от друга двумя веками.
Оба жизнеописания принадлежат к той разновидности мемуаристики, где личность автора, вынесенная на первый план, господствует над всем повествованием, приковывая к себе внимание своеобразием натуры и судьбы. Но, не вдаваясь в более детальное сравнение, нельзя не заметить двух различий между мемуаристами: в методе, каким освещается своеобразие отдельной человеческой натуры, и в характере ее развития, в итоге ее судьбы. Эти различия объясняются не только культурным уровнем авторов записок (малообразованный художник – и знаменитый философ), но также уровнем достигнутого исторического развития.
Руссо начинает свою «Исповедь» заявлением, что он «один» и «не похож ни на кого из существующих на свете». «Если я стóю меньше, чем они, то по крайней мере я не такой, как они. Хорошо или дурно сделала природа, разбив форму, в которую она меня отлила, об этом можно судить, только прочтя мою исповедь». Образ единственной «разбитой формы» восходит, по-видимому, к Ариосто[98]. Но Руссо в духе реализма Просвещения вкладывает в этот образ другой, чем в эстетике Ренессанса, смысл, направленный против общих внешних норм дурной цивилизации, уродующей человеческую натуру, – всегда неповторимую и единственную, как все природное, личность. Образ этой ни на кого не похожей личности (так, как он показан в «Исповеди») всегда несовершенен – Руссо не верит в совершенство человека, живущего в обществе и удалившегося от «природы». Руссо указал своим учением путь к изображению реального слабого «среднего человека», или «маленького человека», который один только и заключает в себе драму «человеческой природы» в современном обществе, – и всю сложность этой задачи. Его понимание единственной, неповторимой «формы», обогатив характеристику образа, соответствовал все же процессу дегероизации, упадку силы и цельности человеческого характера в буржуазной литературе.
Когда Челлини простодушно заявляет придворному герцога: «таких, как я, ходит, может быть, один на свете, а таких, как ты, ходит по десять в каждую дверь», – его наивное чувство подлинного своеобразия человеческой личности совпадет по содержанию с ариостовским образом Природы, которая «разбила форму», создав самого прекрасного героя. С эстетикой высокого Возрождения, которая еще далека от противопоставления природы и общества, естественности и культуры, личного и общего, характерного своеобразия и формального совершенства и тому подобных антиномий метафизической мысли XVIII века. На заре буржуазного общества этика значительных, больших дел – и связанное с ней искусство, как и теории прекрасного – еще имела почву в самой жизни, в цельных и мощных человеческих натурах, к которым принадлежит и автор «Жизнеописания».
Не менее показательно различие в изображении жизненного пути. Автобиография Руссо, как и Челлини, изображает крайне беспокойную натуру и жизнь, полную разнообразных приключений, странствований, перемен профессий, борьбы с недоброжелателями и завистниками. Обе книги написаны с явной целью апологии жизни и деятельности их авторов и разоблачения врагов, причем свидетельства отнюдь не всегда отличаются объективностью. Но тогда как Руссо с явным пристрастием обнажает перед читателем самое неприглядное и отвратительное в своей жизни («пусть хоть один из них, если осмелится, скажет: „я был лучше этого человека“»), Челлини с не меньшим пристрастием показывает жизнь известного художника «с лучшей стороны»: он даже опускает целый период своей жизни с 1556 по 1559 год, когда он дважды был заточен в тюрьму (за побои, нанесенные одному коллеге, и за содомию). «Исповедь» Руссо начинается счастливыми сценами детства, но чем ближе к концу, краски становятся все более мрачными, завершаясь разрывом с друзьями и полным одиночеством. Общая идея «Исповеди»: беспомощность «естественного человека» перед обществом, которое его только портит, перед ходом собственной жизни, которой он не управляет. Общее впечатление от мемуаров Челлини, несмотря на частые сетования на «кусачую судьбу», – ряд восхождений, ряд триумфов художника, которые переполняют его сердце восторгом, ибо он может себя отнести к числу тех, «которые потрудились с некоторым оттенком доблести и дали миру весть о себе».
V
Колоритный образ Челлини выступает на живописном бытовом фоне, также представляющем немалый исторический и художественный интерес. Беспокойные дороги и шумные площади, зал суда и тюремные камеры, папский двор и королевские апартаменты, но прежде всего повседневный быт художника века Возрождения в Италии, его дом и мастерская, условия его работы, зависимость от титулованных потребителей, взаимоотношения с соперниками, с товарищами по ремеслу или с учениками и натурщицами – все это хорошо запоминается читателю. Сцены, посвященные беседам художника с духовными и светскими князьями (например, та, где приводится суждение папы Павла III, что мастера, «единственные в своем художестве, не могут быть подчинены закону», I, 74, – цитируемое историками и критиками) – незабываемы и полны исторического колорита. Если в изложении событий, от которых Челлини отделен двадцатью-тридцатью годами, память ему порой изменяла в отдельных частностях – некоторую роль здесь могла играть и кичливость художника, – нет сомнений, что нарисованная им историческая картина в целом верна. Сочетание эстетической изысканности и грубой жадности у папских прелатов, деспотизм и власть интриганов в Ватикане, своеобразие раннего французского Возрождения при дворе Франциска I – все это изображено Челлини достаточно ярко.
Читая мемуары, мы находимся все время в атмосфере того повышенного интереса к искусству, в частности орнаментальному, которое свойственно культуре Возрождения. Сам Челлини, золотых дел мастер и скульптор, еще связан с такими выдающимися художниками предыдущего века, как Донателло и Гиберти, Полайуоло, Гирландайо и Боттичелли, которые также прославились как искусные ювелиры. А у его современников уже более определилось отделение художественного ремесла от высокого искусства.
В живом повествовании Челлини отдельные эпизоды переходят в законченные бытовые новеллы. Такова, например, глава 30-я, книга I о веселом ужине у скульптора Микеланьоло, пленившая Гёте изображением нравов римской художественной богемы. Или забавная сцена заклинания бесов в Колизее (I, 64), живо рисующая силу суеверий в то время. Такую же самостоятельную ренессансную новеллу составляют эпизоды со служанкой-натурщицей Катериной, на которой Челлини заставляет жениться своего подмастерья Паголо.
В целом «Жизнеописание» Челлини сохраняет скорее художественный и историко-культурный интерес, чем ценность объективного исторического свидетельства. Если кое-кто из критиков заходит слишком далеко, называя эту книгу «романом», то все же нет сомнения, что отдельные факты и эпизоды не обладают правдивостью целого – верно нарисованной картины его века.
Вся эта книга написана языком, который сам по себе обладает своеобразным и незабываемым очарованием. На фоне блестяще образованных современников, мастеров пышного, закругленного, «правильного» стиля, автор «Жизнеописания» был человеком малограмотным. Но дело не только в том, что Бенвенуто Челлини оставил в своих мемуарах незаменимый памятник живой устной речи флорентийского простолюдина XVI века. Как настоящий человек эпохи Ренессанса, питая большое уважение к «учености», к «культуре», к развернутому, богатому, но соразмерному слогу, Челлини, особенно в рассуждениях, пробует свои силы в сложном цицероновском периоде, однако, запутавшись в нем, вырывается на волю, так и оставив словесное здание недостроенным. Законы грамматические, как и законы юридические, явно его стесняют. Но и здесь он меньше всего ниспровергатель норм: он просто их еще не усвоил.
В своем стиле Челлини идет «естественным путем». Он, несомненно, обладает природным красноречием высокоодаренной страстной натуры. Его бурный, динамичный стиль увлекает читателя. Страсти – величайшие ораторы, скажет в следующем столетии французский мыслитель Ларошфуко.
Светотени в мемуарах резкие. Весь мир делится на тех, кто за него, Челлини, или враждебен ему. Отсюда характеристики восторженные – стиль человека, упоенного великолепием открывающегося перед ним мира. И характеристики саркастические, «едкая и колкая ирония», которой Челлини «играет, как кинжалом» (по выражению его исследователя Плона).
Читателю, конечно, запоминается гиперболичность его определений: изумительнейший сеньор Джованни, изумительный рубака, изумительное войско, неописуемая болезнь, неописуемые труды, неописуемая жажда; болезнь его безмерная; его домоправительница самая искусная, какая когда-либо рождалась и настолько же самая сердечная; его друг самый удивительный юноша и самый отважный; даже за обедом его удивительно накормили. Это в высокой мере пристрастный и эмоциональный стиль человека, который прошел жизненный путь в борьбе с врагами и завистниками, в борьбе с самой судьбой, как бы руководствуясь надписью на одной из своих медалей: «fortunam virtute devicit» («доблестью судьбу победил»).
Трагическое у Шекспира
I. Постановка вопроса
Определить характер трагического у Шекспира можно, лишь установив объективные основания его трагедии, которая все еще остается нормой и недосягаемым образцом величественного в драме. Это далеко не весь вопрос, но это основа вопроса. Речь должна идти прежде всего об историческом содержании его трагического чувства жизни в зрелые годы творчества, – о том неповторенном в развитии западноевропейского общества историческом процессе, который в трагедийной форме его драмы нашел адекватное отражение. Ни идейное богатство наследия Шекспира, ни даже его художественный метод в собственном смысле слова здесь не имеются в виду, но скорее сознательная или бессознательная историческая правда трагического тона, гарантирующая естественность в развитии героической коллизии, без которой нет трагедии. Именно этот реализм трагического и был, как известно, предметом удивления и зависти для драматургов последующих веков. Закономерно поэтому, минуя анализ отдельных трагедий и не касаясь эволюции Шекспира как трагика, поставить вопрос об общем основании его трагедии – не об отдельных ветвях и стволе, но о корнях и почве дерева.
В каком состоянии находится вопрос о характере трагического у Шекспира в современной науке.
Исторический подход к творчеству Шекспира испытал ту же судьбу, что и западноевропейская наука о литературе в целом. И здесь можно отметить два направления. Историко-культурное направление еще продолжает рассматривать Шекспира в связи с его временем, но этот историзм, восходящий к Гизо как автору вступительного исследования к переводу Шекспира Летурнером 1821 года (впоследствии расширенного в известную монографию «Шекспир и его время»), – историзм измельчавший, позитивистский, где «время» Шекспира совпадает с «веком Елизаветы». Английский вкус к эмпирически точному и фактическому сохраняется в этих традиционных обоснованиях ведьм «Макбета» демонологией Якова I или в установлении связи между «Гамлетом» и заговором Эссекса. При всей несомненной ценности множества конкретных, порой весьма интересных указаний на обстоятельства «века Шекспира» как «века Елизаветы», дальше своего рода «психофизического параллелизма» эта связь между Шекспиром и историческим моментом не идет, и вопрос о трагическом по сути остается открытым.
Реакцией на этот позитивистский метод является течение преимущественно новейшего немецкого шекспироведения, откровенно антиисторическое. Наиболее показательное исследование этого типа – известная двухтомная монография о Шекспире Гундольфа (1928). Автор остается верным методу, избранному в его книге «Цезарь и его век», по которому не время выдвинуло Цезаря, а Цезарь создал свое время. И выражение «век Цезаря» надо понимать буквально: без Цезаря не было бы его века и в помине. «Век Шекспира», согласно Гундольфу, поэтому пустой костюм шекспировского творчества, которым исследователь может пренебречь. Для саморазвития шекспировского гения – для «постижения его личности» или постижения «космического» – XVI или XX век равнозначны, и история вообще не имеет никакого значения.
На фоне упадка исторического понимания искусства или модернистского сознательного отказа от историзма выступают преимущества классического периода буржуазной мысли и его оценок Шекспира хотя бы в той же Германии, родине Гундольфа. Когда Гёте утверждал, что сила Шекспира обусловлена его временем, он под этим понимал нечто большее, чем частные факты эпохи Елизаветы и даже вся эпоха в целом. От Гердера до Гегеля сохраняется живое историческое ощущение Шекспира, хотя и на идеалистической основе, знаменательное для современников революционного периода. Однако в такой итоговой работе этого времени, как «Эстетика» Гегеля, решение вопроса еще остается в значительной степени открытым. Страницы о Шекспире при всей тонкости отдельных замечаний, как известно, не принадлежат к лучшим в этой работе Гегеля. Но кроме того, слишком широкое понимание «романтического искусства» (куда, по Гегелю, относится вся западноевропейская поэзия, начиная со Средних веков), вершиной которого является творчество Шекспира, не дает Гегелю возможности определить конкретно-историческую базу трагического у Шекспира. Между Шекспиром, Кальдероном и Расином усматривается поэтому лишь различие нормативного порядка. Исторический момент при таком рассмотрении выпадает из идеалистической эстетики Гегеля.
В немецкой критике середины прошлого века, развившей систематическую сторону «Эстетики», почти совершенно исчезает чувство конкретной почвы трагического у Шекспира, как стадии в живой смене общественных форм. Морализующий подход к Шекспиру здесь обусловил расцвет академического шекспироведения, легко сочетающегося с тем буржуазным социологизмом, о котором речь была выше.
Заслуги советского шекспироведения выступают ясно перед нами, как черты мысли революционной эпохи, которая поэтому и почувствовала в Шекспире гения эпохи «величайшего прогрессивного переворота, пережитого до того человечеством». Для советского исследователя или режиссера, зрителя или читателя, как правило, всегда было очевидным, что в трагической коллизии Шекспира сталкивается «век нынышний» буржуазного общества и «век минувший» – рыцарства. Связь трагедии Шекспира с веком Ренессанса и гуманизма, с переломной эпохой, стала в нашем шекспироведении общим местом. Другой вопрос – более конкретное понимание характера этой связи.
В наиболее принятом в нашем шекспироведении понимании исходят из заключительной фазы культуры Ренессанса и ставят содержание трагедии Шекспира – от «Гамлета» до «Тимона Афинского» – в связь с кризисом гуманизма Возрождения. Таким образом, после мажорного периода восхождения, после фазы надежд и неомраченной веры в человека, фазы, отраженной в новеллистике и поэмах раннего Ренессанса, в произведении Рабле и комедиях, особенно ранних, того же Шекспира, наступают во всей Европе и, в частности, в Англии тяжелые времена сомнений и разочарования гуманизма в возможностях своего времени. Этот разлад между гуманизмом Ренессанса и общественными устоями абсолютизма или рождающегося буржуазного общества и приводит к трагическому прозрению Шекспира и его героев (Гамлет, Тимон и другие).
Истина этого взгляда заключается в определении места трагедии Шекспира в эволюции литературы Возрождения. Несомненно, что кризис Возрождения трагически обостряет мироощущение гуманистов и придает их мысли во многом новое – антикапиталистическое – звучание. Не случайно поэтому расцвет трагедии Возрождения во всех литературах Западной Европы приходится на конец эпохи. При этом, однако, никак нельзя забывать, что сама культура Ренессанса была по своей природе с самого начала великим революционным кризисом заката многовековой культуры Средневековья и рождения капиталистической эры. И то и другое питало идеи Возрождения. Поэтому творчество тех художников, мысль которых справедливо связывается с кризисной фазой гуманизма – Шекспира и Сервантеса, – и остается в веках наиболее ярким, зрелым памятником культуры Ренессанса. Нет ничего более неверного, чем представление об ущербности и неполноценности отражения атмосферы Возрождения в «Дон Кихоте» или трагедии Шекспира. Поздние плоды литературы Ренессанса наиболее богатые и зрелые его плоды. Кризис гуманизма в «Гамлете» или в «Короле Лире» усугублен осознанием конца тысячелетнего миропорядка.
Уже отсюда вытекает, что трагедия Шекспира вырастает на более широком и значительном фундаменте, чем только кризис гуманизма Возрождения. Такое понимание Шекспира, несомненно, недостаточно. Оно не объясняет прежде всего существа трагедий Шекспира, их материала. Действительно, какое отношение имеет кризис гуманизма к истории Макбета или Кориолана, Антония или старого короля Лира? Связь тут, очевидно, не прямая, не непосредственная, не основополагающая. Даже Гамлет – наиболее интеллектуальный герой шекспировской трагедии, в котором связь с гуманизмом Возрождения нагляднее всего, – не только гуманист во стане придворных порочного короля Клавдия, но и принц датский, иногда с книгой в руках, но чаще со шпагой на боку. Рыцарский сюжет трагедии Шекспира вообще не является иносказанием и условностью, но сам непосредственно носит трагический характер.
Правильность отмеченной выше точки зрения вызывает сомнения и более общего – методологического – порядка. Может ли кризис течения общественной мысли стать сам по себе достаточным основанием великого жизненного искусства и, в частности, такого, как трагедия? Другие великие течения общественной мысли – например, Просвещение в XVIII веке – переживали также свой расцвет и затем кризис, который не вызвал, однако, расцвета трагедии. Не повторяется ли при таком подходе к искусству, когда из самой общественной мысли как почвы выводится мощный расцвет искусства, старая идеалистическая ошибка Бахофена, которого критикует Энгельс, когда исследователь из смены религиозных представлений пытается вывести великую трагедию греков, такую, как «Орестея» Эсхила?
Вопрос об исторической почве шекспировской трагедии только часть более общей проблемы развития западноевропейской трагедии в XVII веке.
Вместе с Шекспиром выступает замечательная плеяда трагиков английского театра, его сверстников. Почти одновременно расцветает великий испанский театр от Лопе де Вега до Кальдерона, а несколько позже – французская трагедия Корнеля и Расина. Вокруг пяти величайших трагиков – десятки первоклассных имен, небывалый расцвет трагедии, многие образцы которой сохраняют живой интерес до наших дней. Поистине то был золотой век трагедии, период от Шекспира до Расина. Он остался неповторимой страницей, как эпос на более ранней фазе развития поэзии. Подобно тому как, начиная с эпохи Возрождения, попытки продолжения эпопеи приводили только к искусственному эпосу, – начиная с XVIII века, опыты возрождения на Западе трагедии на новой основе приводят лишь к искусственным образцам позднего классицизма, романтизма и модернизма. При этом многие замечательные драмы, особенно исторические, позднейших веков как раз своими художественными достижениями выходят за пределы жанра трагедии и даже вступают в противоречие с его природой, – то же, что обнаруживают отдельные великие создания искусственного эпоса Камоэнса, Тассо или Мильтона.
В этих «искусственных трагедиях» позднейшего времени обычно заметна характерная оглядка назад, чаще всего на Шекспира. Шекспир оказался для этих трагедий тем же, чем был Гомер (обычно через Вергилия) для искусственного эпоса. И эта оглядка назад свидетельствует о невозможности для художников развитого буржуазного общества создать новую органическую форму трагического. Трагедия подменяется поэтому исторической драмой, искусственной романтической трагедией ужасов или мелодрамой.
XVII век в литературе – классический век трагедии. На пороге его возникает великий роман Сервантеса, знаменующий конец собственно эпического творчества и начало романа как «эпоса частной жизни». Но Сервантес – современник Шекспира – так и не нашел в этом веке достойных продолжателей, и классическая история европейского романа начинается только со следующего столетия. Именно трагедия послужила промежуточным звеном между эрой эпоса и эрой романа.
Современники не сознавали всего значения жанра трагедии для их культуры. Благоприятные исторические условия, определившие такое невиданное богатство творчества и массовый расцвет трагедии (невероятная продуктивность Лопе де Вега и его современников, а также «елизаветинцев»), должны были создать представление о «легкости» этого жанра, выключающее его из круга «настоящей» высокой литературы, хотя именно не «ученая», а народная трагедия Шекспира и его современников, а также испанских драматургов, пользуется всеобщей любовью. Эти трагедии иногда появляются на свет даже без подписи автора. Только во французском театре – к концу полосы расцвета – трагедия реабилитирована как высший жанр и стоит в центре внимания художественной критики.
Для понимания исторического основания золотого века западноевропейской трагедии многое уясняют замечания Маркса и Энгельса о трагическом. Еще в характеристиках «Орестеи» и «Прикованного Прометея» Эсхила классики марксизма раскрывают жизненную базу трагедии, связанную с переломным моментом в развитии человечества. В античной трагедии коллизия основана на нарушении извечного миропорядка, на столкновении «старших и младших богов», традиционного и нового способа жизни.
В применении к западноевропейской драме это означает у Маркса, что гибель старого, добуржуазного правопорядка, его примитивной демократии, уступающей место более развитым и прозаичным формам жизни, гибель рыцарства, отстаивающего свою свободу в борьбе с утверждающимся государством Нового времени, составляла содержание трагедии в эпоху ее расцвета. Маркс поэтому в письме к Лассалю хвалит Гёте за то, что, «шекспиризируя», он в своей исторической драме «Гёц фон Берлихинген» нашел адекватную форму для трагической коллизии эпохи в изображении «трагической противоположности рыцарства с императором» и «новой формой существующего»[99] (впрочем, героя этой исторической драмы – художественный идеал уже иной эпохи – Маркс, в отличие от героев шекспировских трагедий, характеризует как «жалкого субъекта»).
Но не всегда, однако, гибель многовековых культур может, согласно Марксу и Энгельсу, питать трагическую коллизию. «Если гибель прежних классов, например рыцарства, могла дать материал для грандиозных произведений трагического искусства, то мещанство, естественно, не может дать ничего другого, кроме бессильных проявлений фанатической злобы и собрания поговорок и изречений, достойных Санчо Пансы»[100].
А как же «мещанская трагедия»? Попытка создания трагедии на базе коллизии гибели мещанства и ущемления его прав историческим развитием – такая же искусственная попытка и заблуждение XVIII века, как «Генриада» Вольтера и новый искусственный эпос. Вообще «трагедия» на почве буржуазного способа жизни и образа мыслей – это мелодрама или искусственная трагедия романтизма.
Коллизия рыцарского общества, употребляя известные слова Маркса, сказанные по другому поводу, «составляет не только арсенал, но и почву» классической западноевропейской трагедии. Не случайно в известной характеристике греческого эпоса Маркс дважды рядом с ним упоминает имя Шекспира. Ибо не только эпос связан у Маркса с известными ранними формами общественной жизни, и сам эпос взят как пример («некоторые виды искусства, как, например, эпос», – замечает Маркс).
Но и гибель старого феодального общества, согласно Марксу, не всегда трагична. «Трагической была история старого порядка, пока он был существующей испокон веку властью мира, свобода же, напротив, была идеей, осенявшей отдельных лиц[101], – другими словами, пока старый порядок сам верил, и должен был верить, в свою правомерность. Покуда ancien régime, как существующий миропорядок, боролся с миром, еще только нарождающимся, на стороне этого ancien régime стояло не личное, а всемирно-историческое заблуждение. Потому его гибель и была трагической.
Напротив… современный ancien régime – скорее лишь комедиант такого миропорядка, действительные герои которого уже умерли»[102].
Это, как нам кажется, основополагающее замечание для теории западноевропейской трагедии золотого века – и трагического у Шекспира как первой ее формы.
Здесь определено историческое место трагедии между тем состоянием общества, которое можно назвать эпическим, – и его «романическим» состоянием (эрой романа), когда «герои… заседают в коммерческих конторах» (Маркс).
Маркс отмечает, во-первых, связь трагедии с эпосом, ибо изначальный момент трагедийной коллизии еще эпический: «старый порядок» является еще «существующей испокон веку властью мира». Как «существующий миропорядок», он верит «и должен был верить в свою правомерность».
Во-вторых, – и это заключительный момент коллизии в трагедии – перед нами уже не собственно эпическое состояние общества. Мы присутствуем при «гибели» «действительных героев» старого миропорядка, который борется с миром нарождающимся. Его вера в свою справедливость – уже «заблуждение», хотя и «всемирно-историческое, не личное».
В-третьих, – и это специфично для трагедийной коллизии, в отличие от позднейшей драмы и романа, – само развитие трагического, его существо заключается в изображении рождения свободных страстей и поступков личности Нового времени (ренессансная основа трагедии). Но свобода в трагедии есть еще «идея, осеняющая отдельных лиц», и имеет оттенок личной прихоти («persönlicher Einfall»), нарушения извечной справедливости, которое приводит к трагическому преступлению.
В трагедии Шекспира наиболее классически выступают все эти три момента трагической коллизии.
II. Эпический момент
Изначальная связь трагического начала у Шекспира с эпическим состоянием общества, то, что в его трагедиях выступают еще «действительные герои» старого миропорядка, обнаруживается равно в материале драм, в их действии, в коллизии и, наконец, в характеристике героя.
1. Материал трагического. Предмет шекспировской трагедии это почти всегда история и легенда, точнее – история, ставшая легендой, народная история, как и в эпосе. Плутарх и Голиншед являются источниками его сюжета. В хрониках более тесное соприкосновение с историей приводит поэтому порой (как в «Генрихе VI») даже к своеобразному драматизированному эпосу, но отдельные хроники почти неотличимы от трагедий (ср. «Ричард III» – и «Макбет»).
Тенденция обращения к истории или к легенде, как известно, общая черта классической трагедии, английской, испанской и французской, а формально она сохраняется и позже, порождая в новой литературе историческую драму.
В традиции ранней французской трагедии Возрождения, сохраняющейся еще у Корнеля, издания пьес предваряются неизменным argument, где изложены свидетельства историка или легенды как «основание» фабулы. Трагические поэты не дозволяют себе «собственно художественного» (Маркс) вымысла в фабуле трагедии, в отличие от позднейшей драмы и романа. Вернее, у них, как и у эпических сказителей, нет вкуса к чистому вымыслу.
Но никто из трагиков не сравнился с Шекспиром по наивному чувству ответственности перед историческим свидетельством, ни у кого бессознательный историзм не приводит к такой эпической правдивости картины прошлого. Тогда как испанские драматурги, а среди французов в особенности Расин, романизируют историю, у Шекспира даже новеллистический сюжет в «Отелло»[103] обнаруживает черты эпичности введением сцен в венецианском сенате и на Кипре.
Показательно здесь различие акцента у Шекспира и позднейших трагиков. Материал Шекспира – это история в ее магистральной, национальной и всенародной линии, ее открытая, «публичная» сторона: столкновение героев как исторических деятелей, борьба лагерей в хрониках или «римских» трагедиях. Характерно в этом плане различие в разработке сюжета Юлия Цезаря у Шекспира и Вольтера. Вольтеру, автору «Смерти Цезаря», уже кажется недостаточным величественно простой сюжет о столкновении Цезаря с Брутом, как он дан в официальной истории, и Вольтер, усложняя интригу, вводит легенду о Бруте, якобы внебрачном сыне Цезаря, акцентируя интимные моменты сюжета.
В отличие от Шекспира, у французских драматургов возрастает роль вымышленных или неисторических лиц. Роль Сабины в «Горации» крайне велика. Эмилия является душой заговора в «Цинне». Неисторические моменты в жизни исторических деятелей – обычно любовь – выдвигаются в интриге на первый план. Отсюда роль Юнии в «Британике», наиболее политической по замыслу драме Расина, драме о рождении деспота и притом такого исторического, как Нерон. Там, где французы уже обнаруживают знаменательное тяготение к комнатной, «теневой» стороне истории, Шекспир еще предпочитает ее «солнечную» арену.
Подобно эпическому певцу, Шекспир исходит из материала сюжета и образа, который до открытия занавеса уже живет в представлении его аудитории, народа, человечества. Поэтому он предпочитает разрабатывать известные сюжеты или перерабатывать старые драмы. Минимум личного начала – собственно художественного, изобретательного – в материале придает сюжету шекспировской трагедии, как и в эпосе, характер драматизированной легенды. Наоборот, этой изобретательностью инвенций французские трагики, начиная с Корнеля, уже гордятся, как мастерством совершенствования исторического свидетельства, сознательно приобретающего у них – начиная с предисловий к трагедиям – все более техническую роль («правдоподобное» обоснование необычности героического поступка).
2. Действие трагедии. Стимулы, пружины («мотивы») действия в трагедиях Шекспира находятся в настоящем, в состоянии мира вокруг героя, а не в прошлом, не в его предыдущей личной жизни.
Как известно, это черта эпического творчества. Она характеризует равно «Песнь о Роланде» и вообще «джесту» (в отличие от позднейших романических поэм и романов о Роланде), «Песнь о моем Сиде» (но уже не вполне «Песнь о Нибелунгах», где мотивация слегка романизирована). Она присуща, кстати, «Слову о полку Игореве», поскольку оно эпично, и русским былинам. Личная предыстория героя для действия эпоса несущественна и поэтому обычно отсутствует или только слегка намечена. Классический эпос не знает биографической формы раннего романа. Эпический герой еще не имеет развитой личной жизни. Он вырастает из состояния общества, где личное и общественное даны синкретно.
Шекспировский герой – Кориолан и Макбет, Лир и Тимон – точно так же не имеет предыстории. Позднейшие драмы – начиная с «Перикла», и в особенности «Буря», – явно отличаются от высокой трагедии, образуя особый этап эволюции шекспировской трагедии и особый тип драмы.
Действие у Шекспира в этом смысле резко отличается от действия во французской трагедии, которая чем дальше, тем больше становится как бы развязкой клубка интриги, сплетенного до открытия занавеса. Насколько не определяющим, но скорее производным обстоятельством здесь выступает требование единства времени – вопреки традиционному объяснению, – видно из практики испанской трагедии, свободной от единств, но где все же предыстория играет уже большую роль (отсюда вставленный в действие традиционный рассказ, столь же характерный для испанской, как и для французской традиции).
Действие в испанской и особенно во французской трагедии корнями в значительной степени уже уходит в прошлую судьбу героев, в их частную судьбу и даже в их сокровенную, скрытую от мира интимную жизнь (классический образец – «Федра» Расина). Корнель в «Сиде» (1636) и «Горации» (1640) еще близок к Шекспиру простой мотивацией действия в настоящем и в социальном. Но уже начиная с «Полиевкта» (1643) и особенно в «Родогюне» (1644), «Ираклии» (1647) и «Доне Санчо» (1650) действие драмы становится разрешением давно назревших ситуаций, – форма, доведенная до совершенства Расином.
Это отличие весьма важно для постижения природы трагического у Шекспира.
Ясно отсюда, что метод «вживания» в прошлую личную историю героя (оправданный для театра Чехова) для этой трагедии – метод неуместный и беспочвенный и является модернизацией Шекспира в духе новейшей драмы эпохи романа. Даже в отношении Яго или Эдмунда – носителей «личного интереса» – праздным будет вопрос об их предыдущей жизни, тем более он празден применительно к Отелло. Мы никогда не узнаем ничего из его увлекательных рассказов Брабанцио и Дездемоне о своем прошлом, но все, что нужно для понимания Отелло, перед нами на сцене.
Точно так же в нашем шекспироведении и театральной практике крайне преувеличено значение виттенбергского периода жизни Гамлета для действия трагедии: реплики об этом периоде – несколько малозначительных слов. История в «Гамлете» не опосредствована в такой мере частной жизнью, как в драме или романе XIX века. Подлинная «предыстория» умонастроения Гамлета, экспозиция действия – это первая сцена первого акта и слова Франциско: «Холод резкий, и мне не по себе». Этот холод террасы перед замком в сцене часовых переходит в официальный торжественный зал, где во второй сцене заканчивается мрачный для героя пир. Атмосфера настороженности Гамлета и недоверия к любезным словам короля та же, что и в следующей, третьей, сцене, где Лаэрт советует сестре не доверять любви принца.
…И если Тебе он говорит слова любви, Ты будь умна и верь им лишь настолько, Насколько он в своем высоком сане Их может оправдать.Четвертая картина открывается теми же словами о царящем пронзительном холоде.
Как воздух щиплется: большой мороз. … Жестокой и кусающийся воздух.И в этой картине появится призрак, чтобы в следующей сцене поразить Гамлета рассказом о коварном убийстве.
Подлинная предыстория «Гамлета» не чисто личная. Она в рассказах часовых о
Вербовке плотников, чей тяжкий труд Не различает праздников от будней… (I, 1)С первой сцены первого акта звучит мотив о времени, которое вышло из колеи, и о том, что «Дания – тюрьма».
Основание действия, как в эпосе, непосредственно в состоянии мира вокруг героя. Но в сжатой форме драмы это состояние изображается иногда только символически – «атмосферой» действия.
Способ мотивации в трагедиях Шекспира вызывает и пресловутое «разнообразие действия». До сих пор еще достаточно распространено тривиальное представление об абсолютном отсутствии единства действия в «свободной» композиции шекспировских драм. Обычно из монографий о Шекспире или из вступительных статей к его драмам читатель узнает о том, как Шекспир для разнообразия действия переплетает два-три различных и независимых источника в комедию или трагедию. Шекспир был бы при этом не больше как ловким «переплетчиком», но весьма неискусным драматургом. Не слишком много проницательности требовалось для критики во все времена, чтобы разгадать большую или меньшую внутреннюю связь различных линий в «Гамлете», в «Короле Лире» или «Тимоне Афинском» и установить таким образом «единство в разнообразии» шекспировской композиции. При этом, однако, роль побочных линий понималась обычно слишком «технически», в плане психологического параллелизма – по сходству или контрасту с характером героя. Значение тем Фортинбраса, Лаэрта и Пирра, как мстителей за отца, сводилось к оттенению «мстителя за отца» Гамлета, его особого характера и поведения, к выделению и обособлению судьбы протагониста[104].
Между тем разнообразие побочных линий скорее генерализирует судьбу героя и переносит акцент в мотивации на объективное состояние общества. Без линии Алквиада мы, быть может, склонны были бы переоценивать значение щедрости и расточительности как личных качеств Тимона (по этому пути и идет, как известно, морализующая критика). Но судьба политического деятеля Алквиада, который по личным качествам столь отличен от мирного горожанина Тимона, но также вынужден покинуть Афины, сразу переводит ситуацию из домашней обстановки на форум и, лишая ее оттенка исключительности и анекдотичности, придает судьбе Тимона, его уходу из Афин принципиальный, общенародный и трагический характер. Благодаря линии Алквиада история Тимона звучит отчетливее, как история Тимона Афинского.
В «Короле Лире» легко переоценить значение некоторых особых черт характера и положения Лира – его гордыни и королевского сана – и, отправляясь от сцены завязки, пойти по ложному следу. Весь дальнейший ход действия и судьба героя предстанет тогда как справедливое наказание самодура отца или феодала короля, который «дроблением» государства вызывает в стране смуту (иногда извлекали и такой «урок» из этой трагедии). Но побочная линия другого отца – не королевского сана и не самодура – отдавшего все свое состояние одному сыну и, однако, испытывающего подобную судьбу, акцентирует как главное основание действия и основной мотив всей драмы собственническое состояние общества, которое прозревает слепой Глостер и постигает безумный Лир.
Можно сказать поэтому, что, в отличие от «безобразного», логического единства действия в композиции французской трагедии, шекспировское единство действия построено как развернутое сравнение, где вспомогательное действие поясняет основное. Французский тип действия относится к английскому, в известном смысле, как художественно-логический тип мышления к образно-поэтическому.
В наиболее характерной форме этот метод ведения действия выдержан в хрониках, и в особенности в «Генрихе IV», где закономерность гибели рыцарской вольницы в общественных верхах (социально-политическая тема Готспура) обоснована распадом и перерождением этой же вольницы в низах (социально-бытовая тема Фальстафа). Здесь наиболее ощутительна родственность полифонии шекспировского действия свободному строю героического эпоса, его «эпическому раздолью», в основе которого лежит то же изображение состояния мира.
3. Коллизия в трагедии Шекспира также еще близка эпосу.
Как известно, коллизия (или конфликт) эпоса, классически повествовательного искусства, вся в действии. Перед нами объективное, пластическое противопоставление – два противостоящих героя, например Ахиллес и Гектор на поле брани, или два стана, два коллектива. В драме же коллизия дана в поступках, вытекающих из страстей и характеров. Собственно драматический (но не более трагедийный, чем у Шекспира) тип коллизии присущ испанской и в особенности французской трагедии, которые строятся на борьбе в душе героя двух противоположных начал (обычно долга и страсти). В испанской и отчасти французской трагедии раннего классицизма, школы Корнеля, такая коллизия противоборствующих душевных начал – важнейший момент основных сцен, разрешаемый в конце сцены и возобновляющийся в дальнейшем ходе действия. В зрелой трагедии французского классицизма (особенно начиная с Расина) это длящаяся, нарастающая, единая коллизия, проходящая через всю трагедию. В испанском и французском театре XVII века это еще классически чистый общественный долг перед родом, государством, обществом в официальном смысле – долг, который в романе и высокой драме буржуазной литературы представлялся бы искусственным. По именно поэтому в трагедии XVII века наряду с долгом выступает уже личная страсть, свидетельствуя о достаточно развитой частной жизни в абсолютистском государстве, как первом политическом образовании Нового времени, где уже возникает дуализм: «абстракция государства как такового» и «абстракция частной жизни»[105].
У Шекспира же, как и в эпосе, нет еще коллизии, исходящей из рождения подобной «абстрактной, рефлектированной противоположности»[106]. Ярче всего это отличие трагической коллизии у Шекспира выступает в «Антонии и Клеопатре».
Нигде по материалу Шекспир не подошел так близко к излюбленной в классицизме коллизии, как здесь, но именно в «Антонии и Клеопатре» особенно рельефно выступает интересующее нас отличие его трагического начала.
«Эта трагедия, – замечает Гёте, – тысячей языков говорит о том, что наслаждение и дело несовместимы»[107]. Личное и государственное здесь в непримиримом конфликте (Рим – и любовь, власть – и наслаждение, полководец – и женщина, Антоний – и Клеопатра).
Но как мы здесь далеки от обычной классицистской коллизии, которую герой русской трагедии XVIII века выражает восклицанием:
О, должность! о, любовь!Прежде всего «должность» в драме Шекспира личная, честолюбивая (не долг в обычном смысле!), а затем и сама любовь в лице царицы Клеопатры на фоне Египта, страсть в демонической своей силе для Антония равна Риму и не воспринимается им как низшее начало. В душе Антония ни на одну минуту не возникает отмеченная выше борьба, и трагедия являет только ряд переходов от Клеопатры к Риму и наоборот, ряд «уходов», ряд объективных событий-поступков.
Поразительно это эпическое отсутствие у Шекспира интереса к изображению душевного раздвоения, борьбы между «личным» и «гражданским». Во второй сцене второго акта Антоний для успокоения Августа просит руки его сестры. Цезарь ему напоминает об оставленной в Александрии Клеопатре. Сам Антоний сейчас о ней не думает. Но вот прорицатель в следующей сцене предсказывает ему, что в столкновении с Цезарем он всегда будет побежден, – и Антоний, только что женившись на Октавии, решает:
Кудесник прав… вернусь в Египет. Спокойствие купил я этим браком, Но на Востоке радости мои.Еще поразительнее, что важнейший момент действия, сыгравший катастрофическую роль в судьбе героя, – его бегство за Клеопатрой в битве при Акциуме, – совсем не показан. Зритель об этом узнает из краткого сообщения эпизодического лица. Представим себе подобную ситуацию в драме Лопе или Корнеля: она стала бы центральной сценой борьбы чести и влечения во всем ходе действия, кульминационной точкой коллизии. Здесь же этот эпизод опущен, ибо показывать Шекспиру нечего. Душевной коллизии Антоний в этот момент не знал, как он сам же объясняет Клеопатре в следующей сцене. Бегство при Акциуме, пожалуй, ближе к эпическому событию, чем к драматически мотивированному поступку.
Знаменательно также, что сцена отчаяния Антония, у которого почва уходит из-под ног, дана не до решающего поступка, когда герой поставлен перед трагической дилеммой (как в стансах Сида у Гильена де Кастро или Корнеля), а после поступка. Антоний проклинает судьбу, но судьба эта, как в античном театре, еще «пластична». Она в объективном мире, а не в душе героя.
Такова же коллизия в «Юлии Цезаре» и в «Короле Лире», в «Макбете» и в «Тимоне Афинском».
В «Кориолане» борьба возникает в душе героя лишь в конце трагедии, в третьей сцене последнего акта, когда мать, жена и ребенок выходят к Кориолану, стоящему под стенами Рима. «Честь и сострадание в тебе столкнулись», – замечает Авфидий. Но к этому моменту судьба героя уже фактически свершилась. Душевная коллизия возникает тогда, когда герой уже обречен, и она только ускоряет его гибель. Наоборот, с нее начинается французская трагедия, и она составляет средоточие трагедии испанской.
Когда Дездемона, отвечая перед сенатом отцу, говорит, что «надвое распался долг ее» перед отцом и мужем, мы не предполагаем здесь никакой настоящей драматической борьбы. Героиня поступает, по ее словам, «как мать моя, с своим отцом расставшись», – повинуясь природе и обычаю со времен Адама и Евы. У других героев Шекспира душевной борьбы перед поступком не больше, чем у Дездемоны перед роковым ее решением бежать из дома отца.
В «Гамлете», который представляется с первого взгляда исключением из этого общего правила, по сути тот же тип цельного героического сознания. Ибо действие в этой трагедии строится не на коллизии «мстить или не мстить», но «быть или не быть», то есть на том, что стоит, казалось бы, в стороне от сюжетной линии и в стороне от возложенной тенью старого короля задачи, составляющей магистраль действия.
Подобно Отелло, Кориолану или Тимону, Гамлет – цельная, действенная натура. Шекспировский герой еще не знает позднейшего раздвоения между личным влечением и абстрактным долгом. Ему чужда поэтому и рефлектирующая нравственная борьба. Но протагонистам других трагедий Шекспира еще нужно узнать подлинное лицо мира, в котором они живут, им нужно узнать, что истинно и достойно. Это и страсть героя, и его долг одновременно. И так как мир вокруг трагического героя сложнее и противоречивее, чем в эпосе, он заблуждается, он ошибается. На трагическом заблуждении и основаны поступки героя, как и действие драмы, к концу которого герой прозревает; это прозрение совпадает с моментом его гибели.
Гамлет же единственный из героев шекспировских трагедий, кто не в состоянии совершить ошибку, потому что он ясновидящий: покров мира сорван перед его взором, и он с первого акта уже знает то, что Отелло, Лиру, Тимону открывается только в ходе и исходе действия через их поступки и заблуждения. Он знает, что Дания – тюрьма и весь мир тюрьма, а тюрьма достойна своего тюремщика.
Поэтому вопрос о достойном поступке есть уже
Быть или не быть – таков вопрос, Что благороднее…Таким образом, центр коллизии в «Гамлете» смещен с частного и конкретного поступка мести в план философский, жизнеоценивающий и выходит за пределы фабулы. Этим смещением коллизии, своего рода «аберрацией», и объясняется пресловутая неясность, «загадочность» трагедии «Гамлет».
Образ Гамлета – героя хронологически первой из трагедий страстей Шекспира – еще в недифференцированной форме включает оба антагонистических начала коллизии последующих драм. Гамлет обладает благородством Отелло и Лира и знанием жизни Яго п Эдмунда. Противоборствующие начала коллизии, свойственные действию других трагедий, выступают еще в сознании размышляющего Гамлета. Синкретность коллизии рождает поэтому первую и единственную (не считая «Бури», драмы особого типа) трагедию рефлектирующего героя.
Поэтому действие в «Гамлете» (месть), в отличие от более драматического «Отелло» или «Лира», сведено к примеру и иллюстрации, раскрывающей правоту сомнений и разочарования Гамлета. Но никакой пример, никакая иллюстрация не может быть вполне адекватна мысли. Подлинный образ Гамлета выражен адекватно поэтому только лирически – в монологах и сентенциях. Коллизия «Гамлета» вырастает из общей почвы шекспировских трагедий, но перерастает рамки драматической формы.
Таким образом, популярное в теории трагедии, начиная с романтической критики, положение о том, что Шекспир, в противоположность античной трагедии, перенес судьбу в душу героя, далеко не точно и верно лишь наполовину. Шекспировская коллизия еще близка объективной, пластической борьбе у греков. Маркс имел основание поэтому в знаменитой характеристике античного искусства поставить в известном смысле рядом с ним искусство Шекспира.
Показательно, что и современная Шекспиру гуманистическая трагедия во Франции (Жодель, Гарнье, Монкретьен) также не знает драмы душевной коллизии, в отличие от позднейшей трагедии классицизма в той же Франции. При сжатой форме трагедии круга Гарнье (крайняя бедность действия, строгое соблюдение «единств», отсутствие социального фона), столь отличающей ее от трагедии елизаветинцев, это отсутствие внутреннего движения придает ситуации французской трагедии XVI века односторонне пластический и статичный характер. Драма Гарнье – это ряд красноречивых картин, где демонстративная и живописная сторона театрального зрелища подавляет собственно драматическое начало, которое может быть выражено здесь только в словесных тирадах, то есть риторически и лирически.
Подлинное основание коллизии в обоих столь различных театрах английского и французского Возрождения – в этом общем для них моменте – очевидно, не столько национального, сколько исторического характера.
Жизненным прототипом для образов ренессансной драмы обоих вариантов – «ученого» театра Гарнье и «народного» театра Шекспира – служили цельные и героические натуры века Возрождения (например, кондотьеры и конквистадоры, как жизненные модели для образов Отелло, Антония или Кориолана). И Энгельс, как известно, объясняет «полноту и силу характера» человеческого типа этой эпохи тем, что «люди того времени не стали еще рабами разделения труда», в отличие от их «преемников» в развитом буржуазном обществе.
Цельность ренессансного героического образа исторически связана еще с народным и рыцарским сознанием доабсолютистской и даже добуржуазной Европы, с не исчезнувшими еще элементами «эпического» состояния общества. Корнелевский рефлектирующий герой в этом отношении гораздо ближе позднейшему раздвоенному сознанию, отделяющему личное от общественного; он гораздо более буржуазен.
Мы подошли тем самым к общей характеристике героя.
4. Характеристика героя. Изначальный отправной момент в развитии образа обнаруживает удивительную родственность всех героев шекспировских трагедий. Можно говорить о единой отправной точке характеристики столь различных натур, как Брут и Отелло, Лир и Антоний, Кориолан и Тимон. Всех их отличает правдивость, нелюбовь к лести и прямота до резкости или грубости. Им всем свойственна доверчивость, наивность до ослепления и вера в свои силы. Их поведение обнаруживает целеустремленность, храбрость и щедрость героически широких натур.
По существу те же черты присущи и Гамлету, кроме доверчивости и наивности, которые по содержанию этой трагедии ему, так сказать, «противопоказаны». В известном смысле он уже осознал природу мира трагедии, все передумал за всех последующих героев и не может быть поэтому наивным. Но образ Гамлета вырастает из этого же комплекса черт, хотя и перерастает рамки нормальной для шекспировского протагониста характеристики.
Нетрудно заметить, что это комплекс черт эпического героя у различных народов.
Гомеровский Ахиллес и библейский Самсон, древнеиндийский Юдхиштхира и иранский Рустем, Роланд и Зигфрид, Марко-королевич и Илья Муромец равно обладают им. Это общечеловеческий образ богатыря (при различных племенных и исторических вариантах), из которого исходит Шекспир в характеристике своих героев. В зачине трагедии еще отсутствует одна какая-либо преобладающая черта, страсть, которая стояла бы над героем и была бы задана в трагедии с самого начала. Это и есть та многогранность шекспировских образов, которую обычно имеют в виду, противопоставляя Шекспира драматургам XVII века. Но в испанской и французской трагедии (причем у Корнеля явственнее, чем у Расина) богатая героическая характеристика по существу только сжата до чувства чести или долга, сведена к тому, что действительно является основой эпического образа героя. Честь здесь обнажена поэтому как императив, стоящий над героем, и образует тем самым резкую и определенную драматургическую характеристику, выступающую у испанцев и французов с самого начала действия.
Шекспир же начинает с универсальной и синкретической (для драмы еще слишком аморфной и невыразительной) эпической характеристики. Основой ее всесторонности является непосредственная связь с народным коллективом, который создает в эпическом герое идеал человека. Известная даже бесстрастность (отсутствие аффекта) показывает его гармонию с миром и человеческой средой.
Стало поэтому обычным утверждение, что Отелло не ревнив, не подозрителен, а скорее доверчив. Но в такой же мере можно сказать о Кориолане, что он не горд, не тщеславен, а скорее поразительно скромен по натуре. Об этом свидетельствует его друг Менений, и это подтверждается поведением Кориолана в сцене чествования его как триумфатора. Макбет до сцены с ведьмами всегда был верным вассалом, а Тимон в первой половине трагедии не мизантроп, но крайний филантроп (знаменательно, что гармонический Тимон первых двух актов целиком принадлежит трагедии и не обязан Плутарху и Лукиану, источникам сюжета).
В отправной точке шекспировской характеристики, таким образом, еще нет личной черты как доминанты. Ведь даже расточительная щедрость Тимона, раздающего свое состояние друзьям, – только гротескный вариант доверчивости и «жертвенности» эпического героя, жизнь которого принадлежит народу. Ибо перед нами «герой» в народном, жизненном, а не условном, «литературном» смысле слова («герой произведения»).
Отвлекаясь от этого, нельзя понять того интереса, который вызывает протагонист у окружающих, как и психологию чувства в трагедии. Отелло, например, еще не герой страсти как таковой. Чувство Дездемоны не является просто ответным чувством; как видно из ее слов перед сенатом, она полюбила Отелло за героическую жизнь. Героиня трагедии – и это закон равно для английской, испанской и французской трагедии, в особенности Корнеля, – любит только достойных, ее чувство возрастает в меру достоинства героя (классический пример – «Сид» Корнеля). Чувство в трагедии носит объективный и, так сказать, общезначимо рациональный, а не интимный, алогичный, прихотливый характер. Последний присущ лишь чувству комедии (например, «Сон в летнюю ночь»), Дездемону (как и зрителей) увлекает весь героический облик Отелло.
С другой стороны, почему аудитория вместе с Дездемоной презирает чувство Родриго? К этому персонажу критика обычно слишком строга и даже несправедлива. Ему отказывают в силе чувства и даже просто в чувстве. «О любви своей к Дездемоне, – читаем мы в одной монографии о Шекспире, – он, Родриго, не может связно сказать двух слов, потому что любви никакой он не испытывает». Странная аргументация для этой трагедии, где и Отелло не претендует на красноречие и – если верить ему – груб в словах и т. д. «Родриго, – читаем мы дальше, – вбил себе в голову свое страстное увлечение, по существу же ему просто хочется щегольнуть перед собой и перед другими ожидаемой победой». Критик здесь заходит дальше «критического» Яго, который оценивает чувства Родриго, как «похоть крови». Но ведь это подход Яго, который и Отелло называет «хвастуном», а Дездемону «распутницей», Яго, который «только и умеет что осуждать», и особенно беззаветно искреннее чувство.
А именно таково чувство Родриго, своеобразного Ромео пошлости, если быть к нему справедливым. Родриго мог бы стать героем позднейшего любовного романа или драмы, и впоследствии Флобер обнаруживает интерес к чувству сентиментальных мономанов и банальных Ромео типа Фредерика Моро из «Воспитания чувств». Психологический интерес флоберовской Джульетты – Эммы Бовари – в том, что она любит пошлого Родольфа и банального Леона, но основа трагической характеристики не мирится с релятивистской психологией чувства как такового. Трагедийная героиня Дездемона поэтому просто не замечает чувства Родриго… Интерес в трагедии вызывает только объективно достойный и, независимо от особой страсти, непосредственно значительный человеческий материал того качества,
Что миру возвестить сама природа, Восстав, могла б: «Вот это – человек!» («Юлий Цезарь», V, 5)Различие между трагедийной характеристикой и буржуазно-драматической (эпохи расцвета романа), таким образом, в том, что в трагедии носитель страсти еще не нивелирован по моральному и эстетическому уровню: качество и высота индивидуальности героя существенны. Вот почему трагик Шекспир не питает интереса к изображению чувства Родриго, хотя это страсть напряженная, непреодолимая («мне самому стыдно, да нет сил преодолеть это», – искренне признается он Яго) и, как известно, роковая для его кармана и даже жизни. Но это чувство посредственности, прибегающей к помощи со стороны, контрастирует своей беспомощностью и ничтожеством с деятельной и самостоятельной натурой героя.
Другой, не менее показательный пример. «Отца Горио» не раз уже сопоставляли с «Королем Лиром» в плане темы отвергнутого отцовского чувства. Но серый купец французского романа уже тем отличается от героя английской трагедии, что в нем отсутствует с самого начала эпическая полнота характера и заданная страсть образует яркую доминанту маниакального образа на нивелированном фоне характеристики. Это различие трагедии и романа начинается в данном случае с заголовков. Перенесенная на театральные подмостки напряженная и глубокая страсть «Отца Горио» образует не трагедию, а мелодраму, то есть tragédie domestique, трагедию буржуазной жизни, «домашнюю трагедию».
Изначальное богатство основы трагического характера у Шекспира давало повод пересматривать традиционный взгляд на драмы среднего периода от «Гамлета» до «Тимона», как трагедии «страстей». С этой стороны определяя их, можно было бы сказать, что Шекспир не писал трагедий ревности, гордости, чадолюбия и честолюбия, как не существует эпоса ревности, гордости и т. д. Но это верно только наполовину.
Из эпического отправного момента характеристики рождается резкий, определенный трагический характер, со своим особым пафосом свободной личности; трагедия возникает лишь с того момента, когда ренессансный герой выведен из инерции эпического равновесия, которая для трагедии уже является уходящим прошлым и старым порядком. Другую сторону трагической коллизии образует «мир нарождающийся» буржуазного общества. При столкновении с ним и под влиянием его воздействия и рождается трагическая страсть, губящая героя, на основании которой мы с известным правом говорим об «Отелло» как трагедии ревности, о «Кориолане» как трагедии гордости, и т. п.
III. Гибель героического
Трагическое у Шекспира вырисовывается лишь в тот момент, когда намечается необходимость гибели героя или, точнее, гибели героического.
Гибель героического – это вообще черта трагедии, в отличие от эпоса, но в особенности – трагедии Шекспира. В эпосе герой может победить, как в «Махабхарате», «Одиссее» или «Поэме о Сиде», может погибнуть, как Рустем, Роланд или Зигфрид (оказываясь обычно жертвой коварства), но в последнем случае нет ощущения исторической гибели героического. Для трагедии же существенно именно ощущение конца большой полосы в движении общества, в развитии человечества.
Ибо перед нами уже не эпическое состояние, с которым, как мы видели, еще наполовину связан герой трагедии, не «детство человечества», не патриархально цельное племя, народ или город на его ранней фазе. Наоборот, историческая основа трагедии – это уже состояние кризисное, переходное – рождение зрелого мира антагонистических отношений; для трагедии Шекспира – возникновение буржуазного общества: мир Яго, Эдмунда и друзей Тимона Афинского, в котором живут протагонисты трагедий. В эпосе поэтому естественно изображение совпадения жизни героя с интересами коллектива, сила и устремления которого идеализированы в нем. В трагедии же, где распадается органичность социальной основы, такое совпадение уже невозможно, а изображение – неуместно, как показывают опыты художественного эпоса Нового времени (одновременные с расцветом европейской трагедии), где эпическая ситуация отмечена известной искусственностью. Неразвитому тождеству героя с обществом эпической ситуации соответствует трагедийная коллизия и заблуждение героя. Вера в правомерность этого мира есть заблуждение, хотя и всемирно-историческое (Маркс).
1. Неэпическое состояние общества. Мир шекспировской трагедии, его настоящее время, в котором рождается уже будущее общество, с достаточной четкостью показан еще в «Юлии Цезаре», связующем звене между хрониками, где акцент поставлен на исторической картине, и трагедиями, где он перенесен на судьбу героя и изображение трагической страсти. Уже в «Юлии Цезаре» один лишь Брут, как последний республиканец, сохраняет иллюзию цельного Рима. Но эта res publica, общее дело, общий интерес – фактически патрицианский Рим богатых. К судьбе этого Рима, где низы не обеспечены хлебом, народ безразличен. Республика, как реальное народовластие, живет только в представлении заблуждающегося Брута. Между ним и народом, трезво отдающим себе отчет в существующей обстановке, возникает уже коллизия. Знаменитая форма одобрения народом Брута: «Пусть Цезарем теперь он будет» – звучит поэтому невольно саркастически, как выражение этого трагического противоречия. Вопрос этот, применительно к «Юлию Цезарю», у нас достаточно выяснен.
Ярче и в более драматической форме это противоречие между героем и обществом выступает в «Кориолане», где оно дано в форме трагической страсти героя («Юлий Цезарь» в этом смысле еще завершение и синтез хроник).
Ни одна трагедия, как известно, не давала так часто повода для искаженного толкования Шекспира, как «Кориолан». Начиная с Брандеса, стали излюбленными в кругах либерально-буржуазного литературоведения рассуждения об «аристократизме» и «демофобстве» автора «Кориолана», которые так пришлись по вкусу реакционной критике. Но как мог автор глубоко демократического по выводам «Короля Лира» написать через два года «Кориолана» – остается неразрешимой «творческой» загадкой при такой интерпретации трагедии Шекспира.
В «Кориолане» с наибольшей силой выступает всемирно-историческое «заблуждение старого миропорядка» как основа трагического у Шекспира. Кориолан служит Риму с беззаветной жертвенностью подлинного народного героя. Интересы родного города заполняют все его существо, как главного защитника Рима. Здесь даже нет аскетического подавления личного, – и это очень характерно для героя Шекспира, в отличие от испанской и французской трагедии. Личное для Кориолана – это Рим. Служение Риму – нормальная стихия Кориолана, стихия всей его натуры. Оно идет от «инстинкта» народного героя, а не от рефлексии. В нем нет честолюбия. Звуки труб победы в его честь, когда он возвращается триумфатором из Кориоли, его коробят. Его «тошнит» от похвал и «лести придворной» – как и героев других трагедий Шекспира. Ведь это все равно что чествовать его за то, что он ест, пьет, дышит. Мы ни разу не видим его наедине с семьей, матерью и женой. Его жизнь вся на форуме и на поле битвы. Само его прозвище Кориолан – эпизод из истории Рима. Он – еще сознание наполовину родовое, для которого город Рим – это мир, причем город как единый организм, единый полис.
Но это единство полиса – заблуждение Кориолана. И уже в начальной сцене трагедии мы видим, как народ бежит по улицам Рима со словами «убьем Кориолана, первого супостата народу», ибо патриции сыты, народ умирает с голоду, а Кориолан против выдачи хлеба народу. Рим трагедии «Кориолан» разъедаем классовыми противоречиями. И народ это хорошо сознает. Он голодом дошел до понимания того, что нет единого города. Рим – это не мир. Единый город и наличный Рим ничего общего по существу не имеют. Народ не хочет умирать под стенами Кориоли за патрицианский Рим и оставляет Кая Марция одного; пускай «лезет, как безумный», умирать за свою фикцию.
Кориолан поэтому полон презрения и к народу, который набивает мешки награбленным, когда нужно гнать врагов Рима, и к сенаторам, заигрывающим в своих интересах с народом. Это презрение к классовому Риму и к классовым компромиссам, необходимым для его сохранения. Сам Кориолан руководил бы народом иначе. Для него нет богатых и бедных, но есть достойные и недостойные граждане, и он не признает никаких прав за чернью. Кориолан искренне верит в басню о членах тела, которую его лицемерный друг Менений Агриппа дипломатически рассказывает народу. Эта басня – миф органического полиса, в ней его архаическая политика. «Велики ли права у пальца от ноги?» – спрашивает Менений. В духе этого мифа Кориолан не признает за паразитарными членами городского тела каких бы то ни было прав. Кориолан плохой государственный ум. Этот апологет единого полиса – плохой «политик» (вспомним, что во времена Шекспира «политиками» называли во Франции периода гражданских войн партию компромисса, партию Генриха IV). Шекспир осуждает политику Кориолана, его разум, его философию. Эта героическая натура ведет себя в государственных делах, как Дон Кихот. Шекспир с большой силой показывает истину народа и его попранные права. Ибо экономические интересы народа и политика патрицианского Рима стоят друг против друга. И Маркс применительно к более развитому обществу и антагонистическому укладу называет басню Менения «пошлой»[108]. Народ и этот Рим не совпадают. Народ отказывается признать в этом Риме свое отечество, и за четыре года до изгнания Кориолана он уже уходил на Святую гору (495 до н. э.), чтобы основать новый город, ибо «есть мир и кроме Рима».
Кориолан, остающийся в этом Риме и служащий ему не за страх, а за совесть, тем самым защищает классовые интересы патрициев и становится демофобом. Но и в Риме ему уже нет места. Органический полис, которым он живет, и реальный Рим сталкиваются в его судьбе – и Кориолан уходит в изгнание и становится предателем отечества. Теперь уже не народ, а Кориолан доходит до понимания того, что «есть мир и кроме Рима». Перелом в трагедии – от Кориолана, беззаветного защитника Рима, к Кориолану-изменнику – такой же, как переход Тимона-филантропа к мизантропии, доверчивого Отелло к ревности и т. д. Лишь теперь Кориолана обуяла гордость. Свобода героя в трагедии неизбежно приводит к его отпадению от «существующего миропорядка». Рождение страсти, аффекта влечет за собой и преступление героя и его справедливую, хотя и трагическую, гибель.
Разрыв Кориолана с Римом – не только заблуждение, но и преступление. Ибо всегда, даже в классовом обществе, есть отечество. Есть государственный интерес, как относительный народный интерес, даже в классово-антагонистическом обществе, например перед лицом внешнего врага, который несет народу рабство. Перед войсками, наступающими на Рим, объединяется весь город как одно существо, возрождается цельность полиса. И Кориолан оказывается перед лицом этого единого Рима изменником, от которого отворачивается родная мать. Патриот Шекспир осуждает Кориолана на гибель. Но ситуация народного героя, который становится врагом народу, – тот факт, что победитель Кориоли переходит на сторону Кориоли, и само прозвище «Кориолан» становится для него двусмысленным и роковым, – окрашена в трагические тона.
Значительность судьбы Кориолана и его заблуждения выясняются при сопоставлении с поведением народа, с которым герой соотнесен. Каковы позиции народа по отношению к Кориолану?
Народ, в отличие от враждебных Кориолану трибунов Брута и Сициния, носителей экономического интереса, ценит и уважает Кориолана. Ибо народ, как и Кориолан, всегда инстинктивно уважает достойное. «Если бы Кориолан больше любил народ, на свете не было бы человека достойнее его», – говорят горожане (II, 3).
Но вместе с тем уже с первой картины народ ненавидит Кориолана за его «хлебную» политику. Удивительно глубоко у Шекспира проникновение в экономику рождающегося общества и смелое погружение в сферу материальных интересов («Юлий Цезарь», «Отелло», «Король Лир» и «Тимон Афинский» этим особенно отмечены). Это преимущество английского гуманизма, начиная с Томаса Мора, его национальная черта в стране классического аграрного, а впоследствии промышленного переворота, классического развития капиталистического общества. Это преимущество реализма «шекспиризирования», сравнительно с испанской и французской трагедией: мы отчетливо видим у Шекспира реальный, материальный фундамент трагического.
Народ у Шекспира наивен – и мудр, несправедлив – и прав, изменчив – и постоянен. Он изменчив – не только по отношению к Кориолану, но и к трибунам, которых волокут по городу, когда вольски стоят под стенами Рима, оставшегося без Кориолана, без лучшего своего полководца. Он постоянен, проницателен и великодушен, он ценит Кориолана как воина и как человека. Он воздает должное его правдивости, честности и прямоте. Он наказывает поэтому недальновидных трибунов, врагов Кориолана: для каждого приходит свое время.
Но мудрость народа скрыта до поры до времени. Сам народ, как и народный герой Кориолан, в противоречивом единстве с Римом. Народ часто деморализован патрицианской политикой и тогда он люмпен-пролетариат античного полиса. Он выступает поэтому то как «глас черни, глас осла», то как «глас народа, глас Божий». Его видимость, как и у Кориолана, не совпадает с его существом. В первом случае он в трагедии часто чернь, и с ней соотнесена «хлебная» политика Кориолана. Дурная политика! Ибо по существу лишь народ – настоящая основа города, его сила («Что такое город? Народ есть город», III, 1), с которой внутренне связана героическая натура Кориолана.
Кориолан в эпическом единстве с городом, но он же становится демофобом. Он любит народ, но в Риме видит лишь чернь.
Это противоречие хорошо подмечено проницательным Менением: «Он любит ваш народ. Не требуй же, чтоб в одной постели с ним спал». Это, таким образом, любовь «платоническая» и далекая от реальной жизни. Именно потому, что она слишком идеальна, она переходит в грубую брань по отношению к «стаду» и «вонючей черни», как иногда Кориолан честит народ.
Герой поэтому в трагедии Шекспира внешне – по положению – одинок (не только Кориолан, но и Гамлет, Отелло и другие, вплоть до Тимона). И глубоко символична сцена, когда за ворвавшимся в Кориоли героем запираются ворота, отделяя его от своих, – и он один три часа отстаивает Рим во враждебном городе. Это душа органического полиса – Кориолан, его трагический Дон Кихот – отделяется от его реального народного тела. Смысл этой сцены в надменных словах уходящего в изгнание Кориолана: «Я изгоняю вас. Живите здесь».
Соотношение героического (общенародного) и личного в трагедии тем самым иное, чем в эпосе. Тогда как в эпосе эти начала переходят друг в друга и даже тождественны, в трагедии они вступают в драматическое противоречие, ибо исчезает жизненная основа для их гармонического единства.
2. Народность трагического героя. Более развернутый анализ такой спорной трагедии, как «Кориолан», был необходим для того, чтобы уяснить существо героического – а значит, и трагического – начала у Шекспира и, в частности, характер народности героя (вспомним пушкинское: «Что развивается в трагедии? Какая цель ее? Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная»). Здесь необходимо освободиться и от искусственных «народолюбских» натяжек, и от реакционных «аристократических» фальсификаций Шекспира (последние, как уже отмечено, обычны особенно в связи с «Кориоланом»). И то и другое – модернизация шекспировского героя и всей коллизии, а также и мысли самого Шекспира. Между тем народность, как и всякое большое идейное начало, не есть мертвая данность, но имеет свою историю, свое развитие и далеко не однозначна в применении к различным эпохам мировой литературы[109]. Народность шекспировского героя не выступает еще как преклонение перед народом или прямая защита интересов угнетенных классов. Последнее – завоевание демократического сознания более позднего времени и не применимо не только к «Кориолану», где это резко бросается в глаза, но и к «Гамлету», «Отелло», «Антонию и Клеопатре», «Тимону Афинскому» и даже – в целом – к «Королю Лиру».
Народность шекспировского протагониста не в уравнительски-демократических выводах, к которым приходит Лир в степи. Они в «Лире» – частное производное более общей для героя ренессансной трагедии и специфичной для Шекспира формы народности. Все эти короли, полководцы или богатые горожане еще слишком мало озабочены положением «младшей братии», и сам Лир удивляется в степи, как мало он до сих пор думал о ней.
Сама поляризация, то есть крайнее и резкое противостояние культурного и народного сознания как следствие национального богатства при народной нищете, – черта уже позднейшего развитого классового общества. Она порождает сознательный демократизм, проникающий даже в ряды лучших людей господствующего класса.
Народность шекспировских героев иная и обусловлена еще известной неразвитостью общественной структуры. Эта народность старого типа сродни эпической. Она скорее черта натуры, чем сознания. Белинский поэтому объясняет трагическое впечатление от «Макбета» тем, что герой «злодей, но с душою… могучей». Народность этого типа в том, что она не мирится с партикуляризмом интересов и существования – рамками позднейшего буржуазного романа и драмы. Она дана в замечании Энгельса о людях Возрождения: «Они почти все живут всеми интересами своего времени, принимают участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии», в противоположность позднейшим «рабам разделения труда»[110]. Этого типа народность роднит «демократа» Лира и «супостата» Кориолана; Отелло, который верно служит Венеции, и Тимона Афинского, который готов разрушить Афины; республиканца Брута и цезарианца Антония (как героя «Антония и Клеопатры»); принца Гарри и Перси Готспура (в «Генрихе IV»), образ которого также окрашен в трагические тона.
Героизм этого типа, как мы видим, по Энгельсу, даже не в принадлежности к тому, а не другому политическому лагерю. Известная сцена о Фаринате дельи Уберти из «Ада» Данте может послужить здесь примером народности архаического типа. Величие образа несгибаемого старого гибеллина (в судьбе которого много сходства с Кориоланом) в том, что и в аду он продолжает жить интересами родной Флоренции. Только об этом он и расспрашивает Данте, «самый ад не ставя ни во что». Судьба города и дело его партии есть непосредственно личное дело Фаринаты – этого эпического образа партийного борца на «городской» лад.
Личность самого Данте может послужить жизненным примером этой народности, ее объективных оснований в самой жизни. Политический путь Данте родствен пути Кориолана, как он представлен историей и изображен у Шекспира. Оба они питомцы городской культуры (Рим, Флоренция), с которой их судьба тесно связана. Данте избран приором, как и Кориолан в свое время консулом. Оба были изгнаны из родного города в ходе политической жизни и партийной борьбы. Оба в эмиграции логикой партийной борьбы пришли к вооруженному походу против родного города: Кориолан его возглавил, а Данте приветствовал поход германского императора против свободных итальянских коммун. Это их политическое заблуждение, которое принадлежит прошлому, как и партийные интересы гвельфов и гибеллинов, «белых» и «черных». Но в веках живет образ Данте и его «общий девиз», которому отдана вся его личная жизнь. Это идеал того же органического полиса, с которым связана натура Кориолана, и Данте дал его картину в образе архаической Флоренции века его предка Каччьягвиды.
«Общий девиз» Данте стал знаменем национально-освободительного движения в Италии и борьбы за ее объединение, несмотря на то что он выступал в реакционной форме идеализации Священной Римской империи. Данте – первый патриот Италии. Народность шекспировских героев питала буржуазно-демократическую мысль последующих веков. Ибо прогрессивно-освободительная борьба в Новое время, как и во всей истории, была, хотя и в противоречивом виде, борьбой за более органические и народные формы жизни, за демократию на более широкой основе[111]. Эта борьба завершается, однако, только в социалистическом обществе, как первой подлинной форме органической всенародной жизни.
Народность, которая у художников развитого буржуазного общества является сознательной, идейной тенденцией демократического героя, у героя шекспировской трагедии, связанного наполовину с патриархальной корпоративной Европой, есть еще черта натуры, определяющая реализм героического у Шекспира.
В этом смысле классики марксизма противопоставляли реализм метода Шекспира сознательному идейному содержанию метода Шиллера, завоеванию буржуазно-демократической мысли. Это различение и двух типов народности, слияние которых возможно, по Энгельсу, лишь в драме будущего, то есть социалистического общества[112].
Своеобразие шекспировской народности обнаруживается в отношении между героем и народным фоном. В трагедии Шекспира, в отличие от автора «Разбойников» и «Вильгельма Телля», мы никогда не находим ситуации героя, возглавляющего народное движение (ситуация одного эпизода в комедии «Два веронца», близкая к «Разбойникам», остается неразвернутой и побочной). Изображение восстания Кеда в «Генрихе VI» дано в целом в отрицательном и гротескном свете. Сознательно демократическое, отрешенное от личного прямое служение угнетенному народу – не тема Шекспира, как и всей литературы Возрождения. В этом плане знаменательно, что автор «Генриха VI» остался равнодушным к героическому образу Жанны д'Арк, реабилитированному впоследствии Шиллером в его замечательной драме.
Но именно поэтому между рефлектирующим, благородным героем Шиллера и близким ему по действию культурно отсталым народным фоном возникает такая зияющая пропасть, как в «Разбойниках» или в «Орлеанской деве» (героиня – и ее отсталая семья). Такой дистанции не знает Шекспир даже в «Кориолане», где народ понимает героя, даже осуждая его. Гамлет, Лир, Отелло и Тимон понятны народу, с которым они стихийно связаны и даже тождественны общими представлениями о достойной, хорошей жизни. Народный фон поэтому созвучен трагическим героям: могильщики в «Гамлете», шут в «Лире», который понимает старого короля лучше его самого, и другие. Даже простая женщина Эмилия обнаруживает большую проницательность, чем Отелло. В силу конгениальности героя и народа и возможен «активный фон», «живость и богатство действия», как реалистические и народные черты трагедии Шекспира, Это фон «доброй старой Англии», уходящей, патриархальной Европы, с которой наполовину еще связана переходная культура Ренессанса.
3. Гибель героев. В комедиях Шекспира герой еще окружен созвучным ему миром «доброй старой Англии» и побеждает одиноких в комедии представителей враждебного капиталистического мира (Шейлок, Мальволио и другие). В трагедии он уже сам одинок или почти одинок. В первых великих трагедиях Шекспир еще прибегает к особым приемам оттенения этого одиночества. В «Гамлете» герой внезапно перенесен из Виттенберга в чуждый ему по духу датский двор. В «Отелло» герой – черный мавр среди белых европейцев (оттенение здесь, так сказать, буквальное). В дальнейшем этот внешний прием менее ощутителен (удаление Антония из Рима), и он совсем отсутствует в первых актах «Кориолана» и «Тимона Афинского», где герои в родном городе среди своих, но именно здесь, в заключительных актах изгнания героев обнаруживается, что они – «на нашей, не своей земле».
Гибель героев трагедии – или, вернее, гибель героического – это исчезновение того патриархального типа народного сознания, о котором речь шла выше. Это его несовместимость с более развитым (абсолютистским или буржуазным) строем жизни, с «разложением человечества на массу изолированных, взаимно отталкивающихся атомов»[113] и уничтожением всех патриархально-коллективных форм связей в обществе.
Возвращаясь к противопоставлению трагедии Шекспира эпосу, можно заметить, что в эпосе нет ощущения несовместимости сознания героя с состоянием общества. Поэтому – оставляя в стороне счастливые исходы – смерть героя есть только его жертва для общественного блага. В фабуле трагедии нет такой жертвы. Герой здесь заблуждается и искупает свое заблуждение смертью.
Иначе говоря, трагедии Шекспира всегда присуще стихийное, а порой и сознательное, историческое мышление. В эпосе история дана статически, как материал, в трагедии она динамична (мы видим движение истории) и освещает ход событий. «Время вышло из своей колеи» («Гамлет»), «отжили мы лучшие времена» («Король Лир»). Сама тема трагического заблуждения предполагает историческое раздорожье.
Гибель героев дана в трагедиях Шекспира в двух вариантах.
Преимущественно в хрониках и в «римской трилогии» (как хрониках римской истории) герои сталкиваются с абсолютистским деспотизмом. В «Кориолане» это республика, но для шекспировского героя в целом это несущественное различие. Важно, что это формальный и лицемерный порядок «политиков» нового строя, которым противостоит свободная, деятельная и прямая натура Перси Готспура, Брута, Антония и Кориолана. Герой в этих драмах противопоставлен системе бюрократически-полицейского государства Нового времени, его аппарату и механике, его политической надстройке.
Трагедия «Гамлет», где герой враждебен центру этой культуры в XVII веке – двору, относится отчасти к этой же группе трагедий. Принц датский здесь гибнет в столкновении с двором и дворянством, которое «примирилось со своим историческим призванием – раболепством»[114].
В контрасте правителей – богатыря старого Гамлета, который единоборством решает исход войны, и интригана «пигмея» Клавдия – дано движение истории и «время» в «Гамлете». Но это то же соотношение, что между Антонием и Октавианом, который -
…действовал всегда через своих Помощников, не смысля в деле ратном. (III, 9)И Октавиан поэтому отказывается от поединка с Антонием. В «Кориолане» герой равно противопоставлен хитрым сенаторам и трибунам Рима.
Второй вариант гибели героя выступает в «Отелло», «Короле Лире», «Тимоне Афинском», но он звучит и в других трагедиях «страстей» и связан с экономическим фундаментом возникающего буржуазного общества и его этикой. Коллизия здесь основана на доверчивости героя к обществу (и вере в свои силы), на иллюзии естественных гармоничных человеческих отношений там, где царит война всех против всех. Доверчивость порождает великое заблуждение героя и его трагическое преступление.
Прозаический формализм и лицемерие «твердого» порядка в политике – и животно-эгоистические инстинкты, эгоизм в семейных и общественных отношениях в быту, а главное, нивелирование человеческого достоинства равно в верхах, как и в низах общества, – такова картина складывающейся абсолютистской и буржуазной культуры в трагедиях Шекспира.
Сатирическая сторона трагической коллизии (образы Яго, Эдмунда, Гонерильи и т. д., но в особенности друзей Тимона Афинского, которые уже лишены демонизма отрицательных образов предыдущих трагедий) несколько приближается к коллизии романа, в особенности раннего буржуазно-сатирического, типа плутовского, с его открыто аморальными персонажами. Если условно назвать ее «романическим» моментом трагедии, то окажется, что отправной «эпический» момент и «романический» сходятся в судьбе героя трагедии, определяя его гибель. Осуществляется это, однако, через возникновение и развитие трагической страсти, средоточия трагического начала.
IV. Развитие трагического. Рождение страсти
Переход от эпического к более интенсивному и внутреннему героико-драматическому (трагическому) началу связан с тем, что герой осознает в ходе действия истинное лицо общества и свое одиночество. Тогда рождается трагическая страсть.
Характеристика героя в отправном моменте действия еще не является его трагическим характером, присущим ему в данной трагедии. Она может создать даже ложное представление о нем, которое не вяжется с первого взгляда с его образом мыслей, поведением и речами в основных сценах и в трагедии в целом. Разительный пример – завязка в «Короле Лире», которая часто вызывает недоумение. Но до некоторой степени это применимо и к другим трагедиям, в особенности к «Тимону Афинскому», где первый акт создает иллюзию бесстрастного, терпимого, снисходительного к чужим мнениям, поверхностного, непроницательного героя.
В целом характеристика героя пока еще лишена акцента и своего «пафоса». Ибо герой объективно или субъективно (в собственном сознании) еще не отделен от мира и не «вышел из колеи». Герой ведет себя достойно, как должно, то есть так, «как все» (в идеальном смысле). Отелло на службе Венеции. Макбет – достойный полководец типа Банко, с которым он сражается бок о бок. Тимон уверен, что все друзья поступают так же, как и он. Кориолан – опора Рима; но
Я сделал то, что сделали вы все, Что мог я сделать. Родине своей Равно мы служим; тот меня славнее, Кто послужил ей так, как бы желал.Характеристика поэтому разнообразна, но синкретна, как многообещающее детство характера.
Наиболее классический пример – Отелло первых актов. Он еще не любящий муж по преимуществу, см. действие I акт 2: Отелло – Яго («не променял бы…»). С удивительной мерой изображено его чувство к Дездемоне. Нет еще ни одной интимной сцены (они появляются лишь с третьего акта). Его чувства драматически раскрыты перед «обществом»: сцена сената и встреча в Фамагусте. Здесь та стыдливость истинной трагедии в изображении интимного, которая уже исчезает во французском театре (сохраняющем, однако, наперсниц, как отзвук античного хора на придворной сцене). Ибо Отелло еще и муж, и генерал, и друг, и гражданин Венеции. Он поэтому «бесстрастен» в столкновениях с Брабанцио, в обеих сценах: на улице и перед сенатом. Он близок Ахиллесу, любящему Брисеиду, – мы, как и Брабанцио, еще не видим его уязвимого места. Ведь он не подозревает еще ничего дурного кругом: «Заслуги, сан и совесть без упрека» – оправдают его перед сенатом. Это эпически уравновешенная натура, для драматического конфликта не созревшая.
В «Антонии и Клеопатре» герой вначале еще не любовник Клеопатры по преимуществу. Вскоре мы его увидим в Риме, обручающимся из политических соображений с Октавией. Пока Клеопатра играет в его жизни такую же роль, как Калипсо для Одиссея.
В завязке «Короля Лира» еще нет аффекта отцовского чувства. Это еще король Лир. Разве отец мог бы так поступить, как Лир с Корделией? Отцом Лиром, подобным герою Бальзака, которому безразлично все на свете, кроме дочерей, он окажется только в ходе действия.
Таков же и Кориолан вначале, как полководец, сын, муж, друг Менения в первом акте, где эти начала не исключают друг друга и где поэтому нет гордости полководца.
Даже в Тимоне первого акта нет аффекта дружбы. Тимон – воплощение спокойствия и благорасположенности к миру. Его вера в себя и в людей, правда, принимает уже законченно гротескный характер, но Тимон здесь близок Лиру первой сцены первого акта, где эта вера еще только подходит к гротеску и кажется поэтому причудой старого короля. А она лишь дальнейшее развитие наивной веры Отелло. Тимон первых актов обнажает чувство жизни всех шекспировских героев в исходном моменте действия.
Только в «Гамлете», не самой совершенной, хотя по содержанию центральной драме Шекспира, тема перерастает, как уже отмечено, рамки драматического воплощения. В силу характера самой темы – исключительной для театра Шекспира в целом – изначальный момент духовного развития героя не находит драматического выражения в действии. О прежнем мироощущении Гамлета мы узнаем только из его беседы с Розенкранцем и Гильденстерном во второй сцене второго акта, когда он замечает, что «утратил прежнюю веселость и оставил обычные занятия». Некогда человек ему представлялся как образцовое создание, с благородным разумом, с безграничными способностями и т. д. Но все в прошлом. И уже в первом монологе мир для него «опустелый сад».
Первоначальное гармоническое состояние оказывается призрачно недолговечным и, обычно в третьем акте, – в столкновении с миром – рождается аффект во всей силе.
Поразительна в трагедии прежде всего быстрота перехода к аффекту, трагически стремительный ход развития чувства. В «Отелло», быть может наиболее законченной по развитию страсти трагедии Шекспира, это развитие – от рождения до зрелости – происходит на протяжении одной третьей сцены третьего акта. В начале сцены герой еще ничего не подозревает, да и у Яго еще нет плана действия. К концу сцены Отелло уже трогательно прощается со своим прошлым.
Прости, покой, прости, мое довольство, Простите вы, пернатые войска, И гордые сражения, в которых Считается за доблесть честолюбье… Все, все прости! Прости, мой ржущий конь, И звук трубы, и грохот барабана, И флейты свист, и царственное знамя, Все почести, вся слава и величье И бурные тревоги славных войн! Простите вы, смертельные орудья, Которых гул несется по земле, Как грозный гром бессмертного Зевеса, Все, все прости! Свершился путь Отелло.Эпическое детство героя кончилось, начинается трагическая зрелость. Уже в этой сцене он поручает Яго расправиться с Кассио и принимает твердое решение убить Дездемону.
Можно ли в таком случае согласиться с распространенным в критике мнением, будто в развитии трагической страсти Тимона Афинского, в его резком переходе от покоя к аффекту на протяжении нескольких сцен того же третьего акта, не узнать художественного метода автора «Отелло», его искусства в развитии характера?
Это значит считать, что только Яго создает Отелло, как трагического героя, и порождает его страсть. Но это верно лишь по отношению к честному мавру из новеллы Чинтио. Тем самым слишком высоко оценивается роль Яго как личности в поведении Отелло. Но и в «Тимоне» есть свой Яго, роль которого играют друзья Тимона, те же «дорогие мерзавцы». Яго в «Тимоне Афинском» разменен мелкой монетой, а Дездемоной для Тимона является человеческое общество, Афины и те же друзья героя. Яго в «Тимоне» не отделен от Дездемоны и поэтому не так заметен.
Это значит подменить «Отелло» «домашней трагедией» о добром, хорошем муже, которого сбил с толку негодяй, друг дома, оклеветав его жену. Именно такой слабохарактерный герой мещанских трагедий XVIII века – «Лондонского купца», «Игрока» или «Сарры Сампсон» – попадает в сети коварного «злодея» или дурной женщины, которые по сути целиком отвечают за его преступления. Еще Геттнер выводил драму Лилло из «Отелло» и «Тимона Афинского», а среди старых шекспироведов Ульрици и Брандес придерживались взгляда на «Отелло» как «семейную драму». Но Отелло, в отличие от приказчика Джорджа Барнвелля, игрока Беверлея и Меллефонта, морально и эстетически вполне вменяем.
Иначе говоря, это значит обеднить и образ Яго, который возглавляет и символизирует социальный антагонистический мир драмы, образ, стоящий на грани фантастического (ведь сам Отелло, не только некоторые критики, подозревает в нем переодетого средневекового «черта», а в коллизии «Макбета» ему вполне соответствуют ведьмы), – и свести этот образ к позднейшим абстрактным «романтическим злодеям». Тем самым сцена, раздвинутая в мир, основание которой, как всегда в трагедии Шекспира, стихийно историческое, подменяется в «Отелло» абстрактными и тесными стенками «домашней трагедии». Но тогда не «Тимон Афинский», а «Отелло» – исключение по узости своей площадки для театра Шекспира.
Однако как раз для реалистической семейной драмы такая быстрая воспламеняемость шекспировского героя и непосредственный переход от сомнения к решимости («у меня сомнение нераздельно с решимостью», – говорит Отелло) были бы психологически исключительны и недостаточно мотивированны. Ведь в третьей сцене третьего акта, где уже решена судьба Дездемоны, Отелло даже еще не видел платка у Кассио. Есть только «слова, слова и слова»… Яго. В кульминации всех трагедий протагонисту Шекспира, переживающему апогей аффекта, небо кажется с овчинку (примеры: Лир, Макбет, Антоний, Кориалан, Тимон).
Этот трагический динамизм и свобода, а с нею в ослеплении, заблуждении, в развитии страсти составляет закон трагедии Шекспира. Например, в эволюции драм, изображающих ревность, он обнаруживается чем дальше, тем резче (ср. «Много шума из ничего» (1598), «Отелло» (1604), «Цимбелин» (1609) и «Зимнюю сказку» (1610). Такое развитие страсти, психологически неправдоподобное для буржуазной драмы, уже не раз ставило в тупик критику, подходящую к трагедии Шекспира с психологическими нормами позднейшей литературы.
Этот темп развития уже сам по себе придает страсти в трагедии демонический оттенок.
Показательно, что в гораздо более рефлектированной французской трагедии, особенно у Расина, где перед поступком дана целая полоса резонов и душевной борьбы, мы намного ближе к «основательности» и психологической правде позднейшей драмы, хотя сжатое действие театра классицизма – не забудем о «единстве времени» – это еще отзвук трагического темпа развития страсти.
Высшая трагическая правда этой резкости перехода к аффекту у Отелло, Кориолана, Тимона заключается в героическом сознании своего права на суд, на самостоятельный свободный акт. Там, где цивилизованный герой французской трагедии ищет для поступка достаточно объективных оснований в «разуме», в общепринятых нормах поведения, шекспировский герой, ближе стоящий к наивному состоянию, не размышляя находит их в самом себе. Его народная цельность обнаруживается в этой вере в себя и в свою безошибочность.
И вот почему личные качества Яго, как ловкого интригана, только предпосылка поведения Отелло.
Трагическая страсть начинается тогда, когда герой осознает, что он предоставлен самому себе в неправом мире. Его право и одновременно его долг героя – одному
…восстать На море бед и кончить их борьбою. («Гамлет», III, 1)В то же время это его право, его право как долг – долг Отелло, Лира, Кориолана, Тимона, отстоять свое личное право мужа, отца, заслуженного полководца, друга, – в зависимости от сюжета и темы пьесы. Это уже права свободной личности в ренессансном смысле. Так рождаются – в трагедийно героической форме – страсти ревности, гордости, отцовского чувства, мизантропии как явления индивидуализированного сознания героя литературы Нового времени.
Так происходит развитие трагического, как переход от эпически-синкретной характеристики к трагически определенному характеру. Здесь важно отметить два момента.
Во-первых, колоритность, богатство оттенков и общечеловеческое содержание шекспировского чувства – именно в этом переходе многообразного зачина в определенную страсть. «Отелло» – не драма ревнивца, но трагедия о человеке, который стал ревновать. В «Антонии и Клеопатре» герой, отнюдь не напоминающий изнеженного Фоблаза, поставил, однако, все на карту любви. Кориолана обуяла непомерная гордыня. В «Тимоне» мы видим, как можно стать ожесточенным человеконенавистником, и как раз тогда, когда человек полон любви к людям.
Преимущество шекспировской почвы трагического в том, что он, в отличие от писателей более зрелого буржуазного общества, еще в состоянии показать, как из полноты наивного человеческого сознания вырастает та или иная страсть в определенных условиях, и при этом, как нормально человеческая, общечеловеческая страсть. Ренессансный образ Отелло поэтому, в отличие от ревнивцев барочного испанского театра (типа дона Гутьере из «Врача своей чести»), говорит гораздо непосредственнее чувству каждого человека – и ревнивцу и тому, кто никогда не знал ревности. Потенциальная энергия естественной человеческой натуры становится в «Отелло» кинетической энергией аффекта.
Гёте поэтому противопоставляет Шекспира Кальдерону, как «виноград» – «спирту». «Шекспир подносит нам спелые гроздья винограда прямо с лозы; мы можем лакомиться по ягодке, можем его выжимать в давильном чане, отведать или пить его в виде виноградного сока или в виде перебродившего вина – он во всяком случае освежает нас; у Кальдерона, напротив, зрителю, его выбору и воле не предоставляется ровно ничего; ему дают выделанный, уже перегнанный винный спирт, приправленный специями и подслащенный. Надо выпить его, как он есть, как вкусное, раздражающее средство – или совсем от него отказаться» (статья «Дочь воздуха» Кальдерона). Разумеется, образное сравнение Гёте относится не только к идейному отличию объективного Шекспира от тенденциозного Кальдерона, но и к психологическому содержанию характеров у обоих драматургов.
Таким образом, в пресловутом вопросе – является ли «Отелло» трагедией ревности – правильны и недостаточны обе точки зрения. Трагедия Шекспира одновременно идейно-историческая картина и захватывающая психологическая картина рождения и развития страсти в ее первоначальной свежести.
Во-вторых, свободная, раскованная страсть героя, имеющего мир, общество, не за собой, как в эпосе, а против себя – это уже начало губительное и для героя и для среды. Эпическая сила и цельность его натуры, его вера в себя и сознание своего права, в условиях мира трагедии становится поэтому опустошающей, разрушительной силой. Шекспировский протагонист находится в коллизии, родственной Дон Кихоту (в особенности это обнажено в «Тимоне Афинском»), но он поражает отнюдь не стадо баранов.
По своему положению, как отец, муж, гражданин, герой Шекспира уже фактически член этого мира, который вышел из старой колеи. А его ослепление (наивное представление об окружающем мире) делает его орудием интриг и эгоистических интересов буржуазного общества. Это отчетливо выступает в «Отелло», «Короле Лире» и «Тимоне Афинском», отнесенных выше к драмам, обнажающим этико-экономический фундамент новой культуры.
Эпическая индивидуальность героя, как последнего могикана добуржуазного общества, становится в ренессансной трагедии формой рождения индивидуалистического сознания капиталистической эры. В основе этого изображения лежит диалектика самой жизни в эпоху Ренессанса. Выше уже отмечалось, что прототипами Отелло, Антония, Кориолана или Макбета мог быть хотя бы такой характерный социальный тип эпохи, как кондотьер, герой изобразительного искусства итальянского Возрождения. Кондотьер, с одной стороны, потомок средневекового рыцаря. Его служба – это еще не воинская повинность для человека Нового времени, не временное исполнение гражданского долга перед отечеством. Война для него, как и для рыцаря, нормальное состояние. Но, с другой стороны, он уже выключен из вассально-сеньоральных связей сословного общества. Он не имеет лена и является свободным наемным воином. Исторически он уже предшественник военспеца буржуазной армии. Он еще рыцарь сравнительно с позднейшим солдатом, он уже солдат сравнительно со средневековым рыцарем. Таково же ренессансное свободное сознание Тимона сравнительно с типом патриархального бюргера – и позднейшего буржуа.
Формально свободное существование члена буржуазного общества и соответствующее ему индивидуалистическое сознание родились из распада и разложения более органических форм старого порядка. Мрачный отблеск преступности ложится поэтому и на героев трагедии как носителей этого двойственного процесса.
Так, в «Отелло» вокруг героя и героини выведен целый мир антагонистических личных интересов Яго, Кассио, Родриго, Бьянки. Душою этого мира является циник Яго, не испытывающий никакого уважения к традиционным отношениям между людьми на службе, в семье и т. д. Он разлагает все, к чему прикасается своей философией открытого эгоизма. И чистое чувство Отелло и Дездемоны не может быть выключено целиком из этого мира. Оно запутывается в клубке противостоящих частных интересов, вызывающих необходимость настороженности к людям и исключающих доверие к ним. Героическая вера мавра в людей, которая лежит в основе его чувства к Дездемоне и отношения к самому Яго, переходит при соприкосновении с миром Яго в подозрительность и аффект, губящий Дездемону. Начало Яго входит в душу Отелло.
Героическая свобода поэтому неизбежно приводит в мире трагедии к преступному, аморальному поступку, к нарушению извечного миропорядка, у которого еще были основания верить в свою правомерность и усматривать в нарождающемся независимом поведении всего лишь разрушительную антисоциальную мораль.
Действительно, общей чертой классической трагедии является демонический оттенок, который присущ своевольно-личному свободному началу. Это верно для античной трагедии от «Орестеи» до «Медеи», как и для европейской трагедии от хроник Шекспира и его трагедий через испанскую трагедию, в центре которой «Жизнь есть сон» Кальдерона, до «Федры» Расина, венчающей трагедию французскую. Сама тема подавления личной страсти во имя общего долга в трагедии классицизма связана еще с этим недоверием к свободному личному началу (ср., наоборот, «Робинзон Крузо», как первый европейский буржуазный роман, проникнутый безусловным доверием к свободной инициативе). Даже в «Гамлете» высокое сознание героя, его ум и свободное от норм окружающего общества понимание жизни воспринимаются героем как сила, отравляющая ему существование. Отсюда искренняя зависть Гамлета к счастливому Фортинбрасу. Вторичный, подчиненный мотив «Гамлета» – это «горе от ума».
Демонизм проявления свободы в рождающейся капиталистической культуре, которую Шекспир изображает как распад патриархально-естественных связей между людьми, и составляет лейтмотив гуманистической трагедии Шекспира.
Эта свобода, как известно, выступает в трагедиях в двух вариантах образов: отрицательный, собственно демонический – Яго, Эдмунд, Гонерилья и т. д., прямые предшественники позднейших рыцарей наживы и обмана, и положительный – в образах Отелло, Дездемоны, Лира, Корделии и других, в которых опоэтизировано и прославлено то новое, что дал ренессансный переворот и принесло рождение капиталистическою общества.
Подлинный трагизм, однако, заключается в исторической связи этих двух вариантов, в том, что Отелло становится орудием Яго, Лир возвышает Гонерилью и Регану, Тимон злорадно ссужает средствами разбойников и т. д. Иногда эти два варианта уже почти неразличимы, как, например, в образе Макбета. Благородная и свободная натура героя приводит его в бесчеловечном обществе к заблуждению и отпадению от людей, к нарушению морали: Отелло убивает невинную жену, Тимон становится ожесточенным врагом родного города и т. д.
Трагическая объективность Шекспира в изображении чувства далека, с одной стороны, от средневеково-эпического осуждения свободных страстей (которое наполовину присуще еще Данте), и уж конечно Шекспир ничего общего не имеет с морализирующей критикой, которая осуждает расточительность Тимона и видит в этом «идею» трагедии, стараясь извлечь из драмы Шекспира мораль филистерского благоразумия. С другой стороны, трагедия Шекспира равно далека от либерально-буржуазной апологетики «прав свободной личности», являющейся лицемерной защитой состояния «войны всех против всех» и буржуазного соревнования страстей в борьбе за существование. Объективность Шекспира-трагика, не имеющая ничего общего с безличным объективизмом, заключается в изображении противоречий рождающейся буржуазной культуры с гуманистических позиций передовой мысли его времени. Поэзия свободного поведения, расцвет человеческой природы, обаяние человеческих устремлений и чувств и гибельность их проявлений в известных социальных условиях – таково содержание трагедии.
Насколько отличен дух трагедии от норм средневекового и эпического мира – может показать образ Дездемоны. Данте еще поместил бы ее во второй круг «Ада» вместе с Франческой, хотя и сокрушаясь о ее судьбе. Как-никак Дездемона была непослушной дочерью, ее бегство вызвало смерть отца. Немецкая критика XIX века осуждала поэтому поведение Дездемоны и видела в ее судьбе проявление высшей справедливости в трагедии.
В гибели Дездемоны действительно существенно ее свободное решение, ее разрыв с отцом. Недаром трижды в трагедии свободный поступок ренессансной женщины ей инкриминирован врагами (Брабанцио на суде, I, 3; Яго – Родриго II, 1; и Яго – Отелло III, 3), причем дважды перед Отелло, на которого этот довод действует. «Ведь обмануть сумела она отца», – доказывает Яго. И Отелло, пораженный этим замечанием, отвечает: «Да, да! Ты прав!». Важный довод Яго против героини – это свободное «я» Дездемоны, то, что она уже личность, то, что она отказала всем женихам, выбрала мавра без согласия отца и бежала с ним. И Брабанцио предсказывает Отелло, что она предаст мужа, как предала отца.
Дездемона тоже «вышла из старой колеи», а это и есть «распутство» по нормам этики старого общества. Ибо для него постоянство, верность и добродетель совпадают с традицией, долгом и связью с родом, свобода же есть «личная прихоть». Точка зрения Брабанцио, Яго (играющего роль «верного Яго» доброго старого времени) и Отелло, на которого действуют эти доводы – хотя сам он поступает уже свободно, – есть то, что Маркс называет «всемирно-историческим заблуждением старого мира».
Шекспир, однако, далек от старого Брабанцио во взгляде на поступок его дочери. Он опоэтизировал свободное чувство Дездемоны к Отелло. И героиня гибнет в трагедии как благородная жертва звериного мира Яго.
Ренессансная трагедия Шекспира отличается тем самым от трагедии барокко и классицизма не только в методе изображения чувства, как мы видели выше, но также идейными выводами и этикой. Трагедия Шекспира отказывается от умаления прав человеческой личности и подавления свободного чувства. Тогда как у испанцев, и особенности у Кальдерона, естественное чувство обычно алогичное и хаотическое, хотя и заманчивое начало, а у Корнеля природное влечение должно занять низшее место в иерархии душевной жизни героя, – трагедия Шекспира подымает личную естественную страсть героя до высот его собственного долга. В отличие от театра эпохи расцвета абсолютизма, Шекспир во всей полноте изображает рождение нового человека из недр средневекового общества, его непримиримую борьбу за свободную, достойную человека жизнь и реальные противоречия этой борьбы.
Поэтому именно Шекспир – более архаичный и близкий эпосу трагик – оказался конгениальным прогрессивно-освободительным течениям нового времени. Он был им близок своим сочувствием рождающемуся свободному сознанию новой эры и непревзойденно героическим его изображением. Более всех других трагиков творчество Шекспира питает демократическую мысль до наших дней.
Почва трагического начала у Шекспира – самый переход от старого миропорядка к Новому времени, точнее, от полупатриархального средневекового общества к наиболее антагонистической классовой формации. Своеобразие его исторической почвы – культуры Ренессанса – в истории классового общества не повторенное, определило реализм изображения героического сознания, как и ситуации гибели героического – оба момента трагического начала. Героическая поступь истории, столкновение эр, придает его драме всемирно-историческое звучание.
Среди бесчисленных поклонников Шекспира Драйден, один из наиболее умеренных, выразил, быть может, наиболее удачно, в немногих словах характер гения Шекспира, в особенности как поэта трагического. «Не могу сказать, чтоб он был всегда ровен. Будь он всегда ровен, я, ставя его рядом с величайшими писателями человечества, лишь нанес бы ему оскорбление. Он часто бывает плоским, безвкусным; его комизм опускается тогда до искусственности, а серьезное переходит в напыщенность. Но он всегда велик, когда перед ним стоит великий предмет. Всякий скажет, что, найдя предмет под стать своему гению, он настолько же возвышается над всеми остальными поэтами, как высокий кипарис над кустарниками»[115]. Великое, таким образом, Шекспиру по плечу. (По Драйдену, даже только великое.) Всемирно-историческое – его стихия, как первого среди трагиков.
Сюжет «Дон Кихота» и конец реализма Возрождения
I. Сюжет-фабула и сюжет-ситуация
В ряду творцов так называемых «вечных образов» автор «Дон Кихота» занимает совершенно особое место.
Задолго до Эсхила у греков, а также у других народов, бытовали сказания о титане, противнике богов, похитителе огня, терпящем муки за свой проступок, – основные фабульные мотивы мифа, герой которого благодаря гениальному художественному истолкованию Эсхила стал для потомства символом тираноборческого, свободолюбивого духа, символом человеческого прогресса. Тема рыцаря-соблазнителя и его похождений, как и мотив дерзкого приглашения мертвеца (или статуи) на ужин, были широко известны в средневековом театре и поэзии еще до того, как они слились в испанской легенде о доне Хуане де Тенорио, послужившей источником для «Севильского озорника» Тирсо де Молины, первой литературной обработки знаменитого сюжета о Дон Жуане. Творцы образа Фауста также исходят из уже известной истории, зафиксированной в народной книге (а с XVII века и в ярмарочном театре), из анонимного, ничейного, «всеобщего» сюжета, где художнику принадлежит только трактовка центрального образа и вспомогательные мотивы, а не основа фабулы.
Сервантесу, напротив, всецело принадлежит сама фабула его произведения, как и связанная с ней тема. Трагикомическая история бедного идальго, возомнившего, что он – герой, призванный возродить странствующее рыцарство, дабы помогать беззащитным, мстить за обиженных и карать вероломных, не имеет ни фольклорных, ни книжных источников. После множества исследований удалось найти всего лишь два незначительных произведения, внешне напоминающих фабулу «Дон Кихота». В одной анонимной интермедии, напечатанной при жизни Сервантеса, выведен молодой крестьянин Бартоло, рехнувшийся от чтения романсов; вообразив себя героем одного из них, он отправляется совершать подвиги и по пути ввязывается в драку с пастухом, которого принимает за похитителя красавиц. Избитый пастухом, он, подобно Дон Кихоту, винит во всем свою лошадь и продолжает бредить стихами из романсов. Родственники увозят Бартоло домой, а его сосед, подобно ключнице Дон Кихота, проклинает все романсы на свете. Затем, в шестьдесят четвертой новелле Ф. Саккетти рассказывается о флорентийском ткаче, старом Аньоло, который, сопровождая горожан на турнир, решил там блеснуть своим искусством на тощей кляче, «сущем олицетворении голода», нанятой им у красильщика. Друзья, при которых он играет роль шута, надели ему на голову шлем, дали в руки копье, а лошади засунули под хвост чертополох, и та, взбесившись, сбросила седока в грязь. Доставленный домой Аньоло вступает в перебранку с женой, которая ему доказывает, что ткачу подобает знать свою шерсть, а не думать о турнирах. Мораль новеллы – жены часто бывают умнее своих мужей.
Была ли Сервантесу известна новелла Саккетти? Датировка интермедии также неясна. Она помещена среди других пьес в одном сборнике 1611 или 1612 года, а первая часть «Дон Кихота» напечатана еще в 1605 году. Если даже допустить, вместе с известным историком испанской литературы Р. Менендесом Пидалем, что «Интермедия о романсах» относится к 90-м годам XVI века и сыграла роль в замысле «Дон Кихота»[116], ясно, что она, самое большее, может быть соотнесена с начальными пятью главами романа (первый выезд героя без Санчо Пансы), которые, взятые вне целого, еще в основном не выходят за пределы насмешки над увлечением рыцарскими романами. Новелла Саккетти напоминает семьдесят первую главу второй части романа Сервантеса – проделку мальчишек над Росинантом и ослом Санчо при въезде героев в Барселону. Но в обоих случаях образ ламанчского рыцаря не имеет ничего общего с «прототипами», выдвинутыми новейшей критикой. Характер Дон Кихота сказывается прежде всего в том, что он неизменно верен своей мании, несмотря на многократные поражения, тогда как для тех рыцарство – всего лишь временная блажь. Без серии приключений, без «многочленной» композиции романа еще нет фабулы о герое-энтузиасте, упорно игнорирующем опыт жизни, – в авантюрном построении «Дон Кихота» отражается масштаб героического характера, как и существо донкихотской темы.
Сравнивая генезис образа Дон Кихота с другими «вечными» образами, важно установить, что фабула Сервантеса не опирается на какой-либо широко известный мотив, вошедший в религиозное, моральное или художественное сознание аудитории. Случайный, вряд ли запомнившийся анекдот Саккетти или автора интермедии никак не может умалить роль Сервантеса как творца своей фабулы.
Еще показательнее это различие при сравнении дальнейшей судьбы уже введенных в литературный обиход «вечных» тем. В последующих разработках сюжетов Прометея, Дон Жуана или Фауста творческая самостоятельность художника сказывается в предпочтении, отдаваемом отдельным мотивам легенды, в новых эпизодах и самостоятельных истолкованиях всего сюжета, но «фактическая» основа остается неизменной, сохраняя при всех вариациях известную связь с первоначальной версией и ее специфическими мотивами (похищение огня, вызов статуи мужа, договор с бесом). Любопытно, что Байрон, у которого от легенды об испанском соблазнителе осталась лишь тень, еще допускал – в шутку – возможность «ада» как развязки для оставшейся незаконченной поэмы. Связь с первоосновой фабулы в различных «Прометеях», «Дон Жуанах», «Фаустах» внешне обнаруживается и в обязательном сохранении имени центрального героя, а также, хотя и не столь строго, других персонажей сказания.
Напротив, ни в одном из романов, родственных по духу «Дон Кихоту», не повторяются его фабульные мотивы. Ни один из последующих донкихотов не зачитывается до безумия рыцарскими романами, не принимает ветряных мельниц за великанов и не поражает стадо баранов – вообще не повторяет ни один из подвигов рыцаря Печального образа. Новые донкихоты не отождествляются в сознании читателя с идальго из Ламанчи и не носят поэтому его имени. Они лишь соотнесены с персонажем знаменитого романа, как с нормой «донкихотства», и в силу этого герой Сервантеса стал нарицательным образом именно как герой одного определенного романа. После всех бесчисленных Прометеев, Дон Жуанов, Фаустов и столь разнообразных интерпретаций этих сюжетов они уже не связываются в нашем представлении с каким-либо одним художественным памятником (хотя Мольер, Моцарт и Гёте затмили своих предшественников). Но – ограничиваясь примерами из английского романа XVIII века – пастор Адамс у Филдинга и пастор Примроз у Гольдсмита, коммодор Траньон у Смоллетта и дядя Тоби у Стерна имеют вполне определенный литературный адрес. Ассоциация у читателя здесь вполне четкая, так же как в обиходной речи при употреблении слова «донкихот».
Сюжет Прометея завещан античностью. Сюжеты Фауста и Дон Жуана, подготовленные Средними веками, возникают в конце XVI – начале XVII века, одновременно с «Дон Кихотом». Марло и Тирсо де Молина являются современниками Сервантеса. Но различие в генезисе «Трагической истории доктора Фауста» Марло и «Севильского озорника» Тирсо, с одной стороны, и «Дон Кихота Ламанчского» – с другой, связано с двумя фазами в истории развития европейской сюжетики. Это различие по-своему обнажает новаторскую роль Сервантеса как родоначальника романа Нового времени.
В сюжете, идущем от Эсхила, как и в тех, которые ввели в литературу Марло и Тирсо, мы пребываем на почве устной легенды или книжного предания, на почве реального «факта» или условно наивного его восприятия как реального – в силу длительной художественной традиции, придавшей сюжету характер доподлинной «истории», а герою – достоверность невымышленного лица. Это сказание, противоречивое и загадочное, как бы не досказанное до конца, поражает воображение и манит творческую мысль. Каждый новый художник, отправляясь от одной и той же фабулы, но вводя новые сюжетные детали и психологические мотивы, достигает нового – в соответствии со своим временем и своими идейными позициями – освещения старой «истории». Мысль здесь непосредственно переходит от единичного к общечеловеческому, от факта к проблеме; основанием для обобщения при этом служит «классический», освященный традицией «реальный» (как в истории) характер факта.
Сюжеты Прометея, Дон Жуана и Фауста в этом смысле еще близки к сюжетам Софонисбы, Клеопатры, Медеи, Федры, Эдипа, Электры, Ифигении и т. п., необычайно популярным в драматургии XVI–XVIII веков. Художественное мышление здесь по методу родственно научному мышлению моралистов и философов этого времени, которые строят обобщения и устанавливают законы для «человеческой природы» и для развития общества на классических «случаях», заимствованных у Плутарха или Плиния, либо на единичных примерах из современной истории. При замечательной живости, глубине и остроумии мысли в целом (вспомним хотя бы «Опыты» Монтеня) подобный метод аргументации всегда имеет оттенок академизма и наивной книжности из-за переоценки значения отдельного факта (к тому же обычно некритически воспринятого из «авторитетного» источника). Примеры заимствуются также из Библии или из античной мифологии, условно приравненной к античной истории. Можно подумать, что скептические моралисты и трезвые историки вроде Монтеня или Макиавелли верят в эти «истории» не меньше, чем Дон Кихот в фантастические вымыслы рыцарских романов.
В основе цикла произведений прометеевской темы или других классических тем лежит сюжет-фабула. В основе произведений, соотносимых с «Дон Кихотом», лежит сюжет-ситуация. Здесь уже нет тождества героя и фактов его истории, за которой стоит легенда; каждый из последующих донкихотов отличается от героя Сервантеса и по интересам, и по характеру, и по судьбе. Фабула и ее герой – всецело создания художественного вымысла. Неотделимые от данного произведения, от неповторимой концепции писателя, они составляют неотчуждаемую авторскую «собственность» («Для меня одного родился Дон Кихот», – заявляет Сервантес). Но при всем своеобразии фабульной стороны этих произведений, так же как героев и идей автора, ощущается родственность изображаемого положения – «донкихотского» отношения героя к действительности.
В силу этого и сама фабула отходит на второй план, становясь как бы примером, иллюстрацией, одним из возможных вариантов возрождающегося и повторяющегося «донкихотского положения». Уже в романе Сервантеса среди многочисленных подвигов героя нет ни одного, с которым, предпочтительно перед остальными, безусловно связывался бы его образ у всех читателей. На вопрос самого Дон Кихота во второй части, «какие из подвигов моих наипаче восславляются», бакалавр Самсон Караско отвечает, что существуют разные мнения: одни предпочитают приключение с ветряными мельницами, другие – с сукновальнями, третьи – со стадами баранов, четвертые – освобождение каторжников и т. д. – «ибо разные у людей вкусы» (II, 3)[117].
Ситуация здесь стоит как основное за различными донкихотскими «историями» и даже за всей историей Дон Кихота в целом, которая открыла серию аналогичных образов в европейской литературе.
В этом смысле «Дон Кихот» Сервантеса возвещает художественный метод Нового времени. «Образовательный роман», «роман карьеры», «роман о художнике», «роман о лишнем человеке» и т, д. также строятся на особой в каждом произведении фабуле, с особыми героями, развивая некий общий сюжет-ситуацию. Среди знаменитых образов реализма Возрождения по характеру литературных откликов и внелитературной славы к «Дон Кихоту» близок шекспировский «Гамлет». Для «гамлетовской» ситуации также не требуется ни придворной среды, ни мести за отца или другого повторения мотивов трагедии Шекспира (ср. «Гамлет Щигровского уезда» Тургенева).
Сюжет-фабула господствует в средневековой литературе. В основе эпического памятника лежит действительный исторический факт или легенда, точнее – исторический факт в легендарном преломлении. Средневековая летопись, насыщенная легендой, и средневековая поэзия равно пользуются «достоверным» материалом (например, «История Карла Великого и Роланда» Псевдо-Тюрпина и поэмы о Роланде). Правда, образованный средневековый читатель различает между историко-эпическими сюжетами каролингского цикла и сказочно-романическими бретонского (первые– «правдивы и важны», вторые– «лживы, но приятны»), но и рыцарский роман опирается на показания «историков» и «очевидцев». Латинская «История королей Британии» Гальфрида Монмута послужила источником для романов Круглого Стола; жизнеописание Александра, якобы составленное его другом Каллисфеном, и свидетельство «троянца» Дарета, «участника троянской войны» – а потому «более достоверного» источника, чем Гомер, – для романов античного цикла. В дальнейшем по мере романизации эпических сюжетов стирается грань между «материей» каролингской и бретонской. Многочисленные версии и переработки (а иногда всего лишь переложения и переводы с других языков) сюжетов о Роланде или Гильоме д'Оранж, о Зигфриде или Дитрихе Бернском, о Сиде или Семи Инфантах Лары, о Ланселоте или Тристане, расходясь в отдельных мотивах и в трактовке целого, оставляют неизменными имена героев и ядро фабулы, благодаря чему сюжет сохраняет подобие действительной «истории». Здесь тот же метод, что и в мистериях, мираклях или живописи на священные сюжеты, где творческий домысел, художественная фикция касаются лишь деталей – хотя тем самым часто тона и даже существа ситуации! – но не основы события, за которым стоит библейский источник или легенда. С другой стороны, позднейшее стремление к циклизации эпических и куртуазных сюжетов, к их упорядочению и устранению возникших противоречий, показывает, что наивно-реалистическое восприятие фабулы в большой мере сохраняется даже тогда, когда уже пошатнулась «вера к вымыслам чудесным».
Переходный – и завершающий и основополагающий – характер литературы Возрождения обнаруживается также в природе ее сюжетики, особенно в произведениях высокого повествовательного жанра. Одной из центральных проблем в эстетике Ренессанса, когда рождается роман как «буржуазная эпопея» и «эпос частной жизни» с вымышленной фабулой и неисторическими героями, является проблема сюжета эпопеи. Трудность здесь заключается, согласно итальянским теоретикам XVI века, в том, что эпический сюжет должен сочетать правдивость действительных событий с художественным вымыслом: читатель должен «верить» плоду поэтической фантазии. Без наивной читательской веры в фактическую основу повествования нет эпической серьезности тона и значительности материала, остается только приятная сказка; но без поэтического вымысла, без чудесного и удивительного сюжет переходит в сухой исторический рассказ, который ничего не говорит воображению и оставляет читателя холодным. Эту антиномию (по существу неразрешимую после исчезновения классического эпоса) ясно формулирует молодой Т. Тассо в «Рассуждениях о поэтическом искусстве, в особенности о героической поэзии». Характерно, что теория тем самым еще исходит из сюжета-фабулы, так же как и художественная практика.
Многочисленные в это время и в различных направлениях ведущиеся опыты возрождения эпопеи отмечены прежде всего поисками благоприятной «материи». Поэты обращаются к сюжету мифологическому («Геркулес» Джиральди), легендарному («Амадис» Б. Тассо, «Франсиада» Ронсара, «Королева фей» Спенсера), историческому («Италия, освобожденная от готов» Триссино), религиозно-историческому («Освобожденный Иерусалим» Т. Тассо). Даже наиболее новаторская «конквистадорская» поэма Камоэнса и Эрсильи все еще не в силах порвать с традиционным представлением, что основой эпического повествования должны быть реальные события. Соревнуясь с прославленными историями поэтов прошлого, она лишь противопоставляет им актуальный героический сюжет из современной эпохи, украшенный мифологическими аллегориями. «Незачем ныне прославлять путешествия хитроумного грека или доблестного троянца, воспетые в бессмертных песнях Гомера и Вергилия… Перед нами предмет более достойный поэта – пою племя Луза, покорившее Марса и Нептуна» (Камоэнс, «Лузиады», песнь I).
На почве легендарной истории и персонажей, с которыми поэтическое воображение читателей давно сжилось, создаются поэмы Пульчи, Боярдо и Ариосто. В обращении со старинным материалом итальянские мастера, следуя традиции народных певцов, разрешают себе любые вольности. Они коренным образом меняют ситуацию и под именами суровых паладинов Карла выводят куртуазных рыцарей короля Артура, которых к тому же наделяют современным образом мыслей и чувств. Трактуя средневековую материю в духе ренессансных идей, вливая новое вино в старые мехи, они, однако, не выходят за пределы норм сюжета-фабулы. Даже авторы пародийных поэм (Т. Фоленго «Бальдус», «Орландино», П. Аретино «Орландино», «Марфиса»), ставя себе целью борьбу с модными новорыцарскими романами и поэмами, пользуются только приемом травестии («переодевания») старых сюжетов и героев, снижением и карикатурой. Эта традиция «переодевания» переходит к антигероическим бурлескным произведениям XVII–XVIII веков типа тpaвестированных «Энеид» – от Скаррона во французской литературе до Осипова в русской. По существу характер фабулы здесь скорее противоположен «Дон Кихоту» Сервантеса, даже в плане пародии на рыцарский роман.
Но литература XVI века отмечена уже и первыми опытами сюжета-ситуации. Переходом к нему является пасторальный роман, которому отдал дань и Сервантес как автор «Галатеи» и пасторальных эпизодов «Дон Кихота». Этому любимому в эпоху позднего Возрождения жанру, условному начиная с заглавия (традиционные «Аркадии» и «Дианы»), присуща травестия иного рода; фабула и персонажи здесь уже плоды художественной фикции, а предмет изображения – искусственная идеальная жизнь пастушков, переряженных на «поэтический» лад. Жизнь в пасторальном романе показана как бы в донкихотском утопическом сне, и через все произведение проходит мотив томления по ушедшему «золотому веку». В отличие от этой искусственной ситуации, плутовской роман, зарождающийся в испанской литературе эпохи Сервантеса, впервые вводит реалистический сюжет-ситуацию с вымышленными персонажами и происшествиями. Типическая достоверная правда современной жизни здесь противостоит выдохшейся «правде» старых рыцарско-эпических сюжетов, превратившихся в неправдоподобную сказку. Уже в первом плутовском романе о некоем безвестном Ласаро, которого мать родила на реке Тормес, символически раскрывается ситуация всего жанра. В дальнейшем авторы плутовского романа в XVII и XVIII веках развивают не фабулу анонимного «Ласарильо», но лишь эту ситуацию героя, которого «река» жизни бросает, как щепку, во все стороны, определяя его изменчивую, авантюрную, но отнюдь не в рыцарском смысле, судьбу.
Старый сюжет-фабула был «героической» материей. Гарантией правды исключительных характеров и событий, на которую опиралось искусство художника, придавая образам общечеловеческий интерес, были свидетельства легенды и истории. Вымышленная фабула о безвестном персонаже и обстоятельствах его судьбы, затерявшихся в закоулках частного быта, не может иметь такой гарантии. Залогом правдивости рассказа служит теперь его «типичность» – правдивость изображения обстоятельств жизни одного из многих. Акцент переносится поэтому на картину общественной жизни. Известно, какую роль сыграл пикарескный жанр в становлении реалистического романа новоевропейской литературы. Характер человека и его поведение здесь впервые поставлены в зависимость от общественных условий. В противоположность героическому сюжету-фабуле, где основные мотивы связаны традицией с определенным лицом, носителем известных страстей и героем известных событий, здесь социальные обстоятельства впервые выступают во всем своем могуществе. Обстоятельства порождают и характер героя, и его страсти, и его поступки, а значит, и фабулу. Плутовской роман поэтому первая широкая реалистическая картина формирующейся национальной жизни, универсальная панорама ее пестрого быта, через которую проведен герой ходом беспокойной своей жизни.
Тем самым выступает и другое отличие сюжета-фабулы от сюжета-ситуации. В произведениях на сюжет Дон Жуана или Фауста, Электры или Ифигении, мы всегда в обстановке, фиксированной во времени и месте, хотя бы и легендарных, однако их колорит отвлеченный и условный. Наше воображение в силу легендарности и «проблемности» сюжета витает между историческим временем действия – и вневременным, между национально и социально конкретным – и общечеловеческим. Напротив, сюжет романа о плуте, сюжет «воспитательного романа» или романа о «молодом человеке, вступающем в жизнь», не фиксирован во времени и месте, если рассматривать сюжет-ситуацию в целом, но зато в каждом произведении уже неотделим от изображенных в нем своеобразных национально-исторических условий. В «Дон Кихоте» Сервантеса исторический момент и национальная почва лежат даже в основе самой схемы фабулы. Это рассказ об одном идальго, который, живя в то время, когда рыцарство уже исчезло, но все в Испании увлекались рыцарскими романами, отправился, по примеру героев любимых книг, защищать справедливость. В этом смысле Белинский отмечает, что «Сервантес задолго до Вальтера Скотта написал истинный исторический роман»[118].
Тема «Дон Кихота» по своему характеру, однако, резко отличается от той, которой положил начало «Ласарильо с Тормеса», первый образец пикарескной ситуации. Часто встречающееся в критике утверждение, будто роман Сервантеса является синтезом трех жанров испанского романа XVI века – рыцарского, пасторального и плутовского, – основано на второстепенных эпизодах «Дон Кихота» или на некоторых чертах внешнего сходства и мало что объясняет в существе донкихотской коллизии. Пасторальные и близкие к ним любовные истории в «Дон Кихоте» (история Хризостома и Марселы, Карденио и Люсинды, Фернандо и Доротеи) – наиболее условные и искусственные главы романа и, как вставки, легко, без большого ущерба для целого, отделяются от основного действия. Они занимают большое место в первой части, где вся значительность донкихотской ситуации лишь постепенно осознается самим автором, который стремится повысить интерес читателя вставными рассказами, хотя из-за этого мы часто теряем из виду главных героев. Безумие влюбленных Хризостома и Карденио перекликается с одержимостью Дон Кихота, как заметил еще Гегель, но лишь Дон Кихота, томящегося по Дульцинее Тобосской. «Невысокий потолок» интересов этих персонажей, поглощенных личным чувством, контрастируя с величием цели самоотверженного Дон Кихота, показан в невыгодном для них свете. Во второй части, где «мудрость безумия» ламанчского идальго выясняется в полном объеме, пасторальное начало звучит уже иронически. И Сервантес обнаружил замечательный художественный такт, не изобразив Дон Кихота, мечтающего после поражения в поединке с рыцарем Белой Луны стать влюбленным пастушком, в этой роли, которая явно не подходит его героически деятельной натуре.
Не больше общего в ситуации романа Сервантеса и с плутовским романом. Сатирическая тенденция, господствующая в пикарескном жанре, выходит за пределы изображения общества и обстоятельств жизни пикаро, захватывая и образ самого пикаро как воплощения «человеческой природы». Герой этого жанра, в начале повествования часто наивный простачок вроде Ласарильо (Гриммельсгаузен впоследствии назовет его Симплициссимус – «Простодушнейший»), в ходе своего «развития» под влиянием дурной жизни и царящего в мире зла постепенно становится «величайшим пройдохой, образцовым бродягой и зерцалом для всех мошенников» (название романа Кеведо). Плутовской роман рождается в атмосфере кризиса гуманизма, и в лице наиболее выдающихся своих мастеров в испанской литературе XVII века (Алеман, Кеведо) отказывается от идеализации человека, свойственной эпохе Возрождения. Первое осознание человека как механического «продукта условий» проникнуто у писателей XVII века, особенно испанских и немецких – в отличие от писателей Просвещения, – глубоким пессимизмом. Он вызван распадом патриархальных связей и всеобщей деморализацией, которую принесло рождение буржуазного общества более всего Испании XVII века и Германии эпохи Тридцатилетней войны, тех стран, где этот процесс, кроме того, связан с глубокой политической деградацией. В противоположность реалистическому роману Просвещения пикарескный жанр эпохи барокко – своего рода «воспитательный роман со знаком минус», воспитание человека обществом как его развращение. Пикаро при всей своей предприимчивости и изобретательности морально пассивен. Это беспринципный «приспособленец», человеческая природа, вбирающая в себя, как губка, пороки окружающей жизни. Но именно от плутовского романа последующий буржуазный реализм унаследовал искусство изображения общественной среды и колорит социальной сатиры.
Подобно плутовскому роману, «Дон Кихот» дает широкую картину национальной жизни, быта различных слоев общества, реалистическое изображение обстоятельств вокруг героя. Но интерес здесь сосредоточен преимущественно на изображении двух характеров, противопоставленных окружающему миру. Существо донкихотской ситуации – в изображении активной натуры, которая не мирится с убожеством жизненных условий и протестует против них, воодушевленная представлением о жизни, достойной человека, о его высоком призвании. Устремления героической личности, сознающей, как в этике Возрождения, что она рождена для великих дел, и отвергающей подчинение объективным обстоятельствам вплоть до комического игнорирования их – основа гуманистического юмора Сервантеса. «Безумие» «хитроумного идальго»[119] противоположно практичности хитроумного пикаро. В этом смысле оно понято уже в XVIII веке начиная с Филдинга, который, преодолевая чисто сатирическое освещение человеческой натуры в плутовской традиции, создает свои романы «в подражание манере Сервантеса, автора Дон Кихота» (как указано в подзаголовке к «Джозефу Эндрюсу»). Более богатая и разносторонняя ситуация, созданная Сервантесом, стала отправным пунктом для художников зрелого буржуазного реализма, когда они изображают отношение человека к обществу как протест чудака, мечтателя или непримиримого, но непрактичного сознания.
Сюжет-ситуация, основанный всецело на авторском вымысле, несомненно был для современников Сервантеса смелым новшеством, требующим особого обоснования. Одним из технических приемов, создающих впечатление правдивости рассказа, является у мастеров плутовского романа «документальная» форма автобиографии, ставшая каноном для жанра, вплоть до Лесажа и Дефо (как автора «Молль Флендерс»). Сюда же относится не менее каноничная для испанских писателей незаконченность рассказа, мотивированная тем, что «автор-герой» мемуарного романа «еще жив». В эпизоде с каторжниками плут Хинес сообщает Дон Кихоту, что он издал свою биографию «Жизнь Хинеса де Пасамонте», «по сравнению с которой Ласарильо с берегов Тормеса и другие книги, которые в этом роде были или еще когда-либо будут написаны, ни черта не стоят». «Все в ней правда, но до того увлекательная и забавная, что никакой выдумке за ней не угнаться». На вопрос Дон Кихота, закончена ли она, Хинес отвечает: «Как же она может быть закончена, коли еще не кончена моя жизнь? Я начал прямо со дня рождения и успел довести мои записки до той самой минуты, когда меня последний раз отправили на галеры» (I, 22).
Сервантес пренебрегает этим приемом раннего реалистического романа, который еще наивно подделывается под фактографическое обоснование сюжета-фабулы. В «Дон Кихоте» он, как впоследствии Фильдинг, продолжает эпическую, не мемуарную, форму повествования в третьем лице, унаследованную от рыцарских романов. С изумительной смелостью Сервантес сразу вводит читателя в гущу тех типичных будничных обстоятельств, которые порождают ситуацию нового романа. «В некоем селе ламанчском, которого название у меня нет охоты припоминать, не так давно жил-был один из тех идальго, чье имущество заключается в фамильном копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке». Авторы плутовских романов, подражая традиции, ради вящей убедительности начинают повествование с точного указания предков героя и места его рождения. Герой Сервантеса не имеет предков, мы не знаем точно его местожительства («в некоем селе ламанчском» – шуточный запев из популярного романса), ни даже настоящего имени («иные утверждают, что он носил фамилию Кихада, иные – Кесада… однако ж у нас есть все основания полагать, что фамилия его была Кехана… Для нашего рассказа это не имеет существенного значения, важно, что, повествуя о нем, мы ни на шаг не отступали от истины»). «Истина» же в том новом смысле, который Сервантес вкладывает в это слово, заключается уже не в единичном, реальном факте, а в описании того, что ел его герой («олья, чаще с говядиной, нежели с бараниной, винегрет, почти всегда заменявший ему ужин, яичница с салом по субботам, чечевица по пятницам, голубь в виде добавочного блюда по воскресеньям»), сопровождаемом указанием, что «все это поглощало три четверти его доходов»; в выразительном перечне его гардероба, праздничного и будничного, его типичной для пожилого идальго семьи и челяди в лице одного «слуги для домашних дел и полевых работ» и т. д.; в характерном портрете героя: «был он крепкого сложения, телом сухопар, лицом худощав, любитель вставать спозаранку и заядлый охотник».
Развернутые описания сказочных стран, рыцарского убранства, роскоши пиров или турниров занимали большое место уже в куртуазном романе – в противоположность строго повествовательному стилю эпоса, но там они играли орнаментальную, самодовлеющую роль, поражая воображение наряду с необычайными деяниями героя. Более скупые, но выразительные описания обстоятельств в «Дон Кихоте» выполняют конструктивную функцию, обосновывая характер героя и сюжет. В них нет ничего необычайного, исключительного. Это обстоятельства всякого бедного идальго, а через него и в какой-то мере «всякого человека», но уже не в виде аллегорической фигуры средневековых моралите, а как живого художественного образа. Из этих же обстоятельств вырастает донкихотская мечта, стремление выйти за пределы условий, которыми ограничен человек. Нет нужды знать родословную героя, так как страсть к чтению рыцарских романов порождена его типичным прозаическим бытием, равно как и дерзкое желание осуществить свою мечту, «для собственной славы, так и для пользы отечества сделаться странствующим рыцарем… и в борении со всевозможными случайностями и опасностями стяжать себе бессмертное имя и почет». Мечта о славе здесь не мотивирована благородным происхождением. Этот идальго, «сын кого-то», не имеет генеалогии, его породила сама испанская жизнь его времени.
Мы не знаем прошлой жизни Дон Кихота, он предстает перед нами в возрасте около пятидесяти лет, в отличие от пикаро, знакомого нам со дня его рождения. Ибо ситуация в «Дон Кихоте» более универсальная, чем в плутовском романе, а характер и поведение героя не являются пассивным производным от частных изменчивых условий. Возвышаясь над всем романом XVII–XVIII веков, его биографической или семейно-бытовой формой, «Дон Кихот», первый монументальный «эпос частной жизни», достигает той значительности художественного обобщения, той эпичности ситуации, к которой тяготеет зрелый европейский роман начиная с Бальзака.
Подобная правда типического сюжета-ситуации не нуждается в летописце для своего обоснования. Ссылки Сервантеса на источники его «истории» иронически противоречивы. Они появляются уже в начале первой главы, где мы узнаем, что авторы, писавшие о Дон Кихоте, «расходятся» по вопросу о его фамилии, причем у Сервантеса свое особое мнение. С 9-й главы Сервантес вводит в повествование арабского историка Сида Ахмета Бенинхали, рукопись которого, некогда написанная, только что попала ему в руки, так что теперь он, Сервантес, подобно авторам рыцарских романов, часто ссылающихся на мавританские источники, может спокойно продолжать свой «достоверный» рассказ. К концу повествования, однако, он явно впадает в противоречие с хронологией «истории не весьма древней», но которой «коварное время» уже грозит истреблением: в последних главах опубликованной в 1615 году второй части Дон Кихот и Санчо обсуждают вышедший в 1614 году «подложный» роман Авельянеды. Правда художественного вымысла для Сервантеса более емка, чем «летописная» правда рыцарских историй, она не прикреплена ни к реально существовавшему лицу, ни к времени и месту в узком смысле слова. Это правда художественно типическая. Пресловутая небрежность Сервантеса в фактических деталях, возможно, вполне сознательна и направлена против наивного реализма вкусов его аудитории, придавая типичности рассказа более широкое, не фактографическое значение. В эпизоде «ревунов», когда у читателя, как и у Дон Кихота, возникает неясность, кто ревел ослом, два рехидора или два алькальда, Санчо Панса вполне резонно отвечает, что «этому не следует придавать особое значение… достоверность этой истории не зависит от того, кто именно ревел: алькальды или же рехидоры, – важно, что кто-то из них в самом деле ревел, а зареветь ослом что алькальду, что рехидору всегда есть от чего» (II, 27).
Священник и другие образованные люди в романе уже отдают себе отчет в природе художественного вымысла, по простые люди, вроде трактирщика Хуана Паломеке и его семьи или Санчо Пансы, верят в историческую реальность популярных сюжетов: ведь рыцарские романы, замечает трактирщик, «отпечатаны с дозволения сеньоров из государственного совета, а они никому не дозволят обманывать честных людей». Впрочем, Хуан Паломеке, в отличие от Дон Кихота, понимает, что «теперь уже не те времена, когда странствовали по свету прославленные эти рыцари» (I, 32).
Извлекая единственный в своем роде эффект из наивно эпического восприятия фабулы, Сервантес в начале второй части сводит своего героя с читателями, которые обсуждают его деяния, описанные в первой части. К концу повествования Дон Кихот встречается также с читателями «подложного» романа Авельянеды и, более того, даже с персонажем этой «лживой истории», доном Альваро Тарфе, который тем самым также оказывается вполне «реальным» лицом. Впоследствии немецкие романтики (Тик, Гофман) подражали этому комическому приему, но в романе Сервантеса он более оправдан и выполняет существенную для коллизия двойную функцию: во-первых, оттеняет единство героя с народным фоном, а во-вторых, высмеивая увлечение рыцарскими романами, обнажает наивность отождествления художественной правды с обыденной. Прием, основанный на смешении действительности искусства с действительностью жизни, как нельзя более органичен в романе, где герой принимает поэтический вымысел за реальный факт.
Впрочем, в эпоху Сервантеса вряд ли кто-либо вполне сознавал новаторское значение его романа как первого великого сюжета-ситуации. Даже образованный автор поддельного «Дон Кихота», скрывший себя под именем Авельянеды, защищаясь в предисловии к роману от возможных обвинений в плагиате, ссылается на весьма распространенный обычай продолжения чужого сюжета:
«Пусть никто не удивляется, что эта „Вторая часть“ исходит от другого автора, ибо не ново, что одну и ту же историю продолжают различные лица. Сколько писателей рассказывали о любовных приключениях Анджелики! „Аркадий“ также сочинено множество. „Диана“ написана не одним автором»[120]. Таким образом, Авельянеда усматривает в «Дон Кихоте» всего лишь новую фабулу, вроде истории Анджелики (которую продолжали разрабатывать после Ариосто), сюжета Дианы (созданного Монтемайором), которые можно продолжать и варьировать на все лады, как фабулы новелл, часто используемых драматургами и поэтами Возрождения.
Не касаясь здесь особых идейных тенденций Авельянеды, отличных от целей Сервантеса[121], отметим только, что Авельянеда, первый «продолжатель» донкихотской темы, явно не понял существа сервантесовского сюжета, вырастающего из ситуации, без которой сюжет лишен души, – то, что становится ясным для всех последующих продолжателей, начиная, пожалуй, с Сореля в XVII веке как автора «Экстравагантного пастуха», осмеивающего увлечение пасторальными романами. Отсюда презрительное замечание Сервантеса по адресу Авельянеды, что тот не понял его замысла: «Для меня одного родился Дон Кихот, а я родился для него. Ему суждено было действовать, мне описывать; мы с ним составляем чрезвычайно дружную пару-назло и на зависть… лживому тордесильяскому писаке… ибо этот труд ему не по плечу и не его окоченевшего ума это дело» (курсив мой. – Л. П.).
Однако качественно иной характер истории ламанчского героя, сравнительно с предшествующими историями, раскрывался постепенно только в веках, и ее автор, вероятно, как и Колумб, не сознавал до конца всего значения своего открытия.
II. Раскрытие донкихотской ситуации в веках
Впоследствии французский критик Сент-Бёв (как и некоторые другие историки литературы) находил, что Сервантес в «Дон Кихоте» ставил себе только ограниченную задачу – высмеять модное увлечение рыцарскими романами – и что позднейшие читатели «приписывают» ему более высокие идеи, вкладывая в его сюжет «все возрастающую прибавочную ценность». Что касается всемирного резонанса «Дон Кихота», то, по мнению Сент-Бёва, его можно объяснить только «счастливой звездой»[122].
Вряд ли объяснение представляется убедительным, но «зерно истины» тезиса об «ограниченной задаче» – в творческой истории сюжета о Дон Кихоте. Центральный образ «явился» перед Сервантесом в начале создания романа, как и образы Татьяны и Онегина перед Пушкиным «в смутном сне», и значение своего сюжета Сервантес, как и Пушкин, тогда «еще неясно различал». Томас Манн по этому поводу замечает, что «как общее правило, великие произведения вырастали из скромных замыслов», ибо «честолюбию не место в начале работы, оно должно расти с творением, а не с личностью художника должно быть связано»[123].
Применительно к автору, положившему начало новому типу романа, это замечание вдвойне оправданно. Три выезда Дон Кихота – первый выезд без оруженосца, второй, где ситуация проясняется благодаря народному peaлистическому «аккомпанементу» Санчо, и третий, где оба героя вступают в большой мир политики, религии и искусства, – это как бы три этапа постепенно углубляющегося идейного замысла. Читая произведение, мы словно присутствуем при становлении творческой концепции. Но больше того, весь смысл ситуации постигается не только автором и отдельным читателем, но и всем потомством лишь постепенно, в ходе собственного развития. Содержание «вечного» образа и ситуации, «в которой отразился век», раскрывается в ходе веков, а не «приписывается» автору, не «вкладывается» в роман. Аудитория «Дон Кихота» в столетиях, как и сам Сервантес, отправляясь от внешнего плана, от осмеяния модного увлечения, постепенно приходит к постижению более серьезного, внутреннего смысла, к благородному юмору романа, и даже к оценке героя как «самого честного и высокого», о чем «люди мечтали на протяжении многих веков», но «что оказалось смешным» (М. Горький), Путь человечества («рода») в известной степени здесь повторяет творческий путь самого автора («особи»), как бы по своеобразному биогенетическому закону.
XVII век преимущественно улавливает в ситуации Сервантеса комический и отрицательный план героя-маньяка. Насколько слияние безумия с благородством и мудростью Дон Кихота еще в это время не оценивалось по достоинству, видно из того, что Ш. Сорель считает такое слияние непоследовательностью Сервантеса и нарушением правдоподобия образа, чего сам он, Сорель, счастливо избег. Герой его «Экстравагантного пастуха» парижский буржуа Лизис, сошедший с ума от чтения пасторальных романов, обрисован только как книжник и маньяк, лишенный чувства жизни. У английского сатирика XVII века С. Бетлера, автора «Гудибраса», в донкихотской ситуации, направленной против пуританства, выведены рыцарь Гудибрас, своекорыстный и лицемерный просвитерианин, и его хитроумный сподвижник Ральф, индепендент, выступившие в поход против «дьявольских» народных игрищ и посрамленные в этой борьбе. Здесь – единственный раз в литературе – донкихотские образы даже наделены отталкивающими чертами. За их «книжным» доктринерским безумием скрываются эгоистические и антинародные интересы: для понимания донкихотства в XVII веке моральные цели героя еще не имеют значения. Но при всей односторонности понимания темы Сервантеса этот век уже зафиксировал ту основу ситуации, которая – вплоть до наших дней – определила упрощенное понимание «донкихотства» в обиходной речи и в литературной полемике.
Чисто комическая трактовка сюжета сохраняется еще в XVIII веке. Она сквозит в известном замечании Монтескье, что единственная хорошая книга испанской литературы «была написана для того, чтобы показать нелепость всех остальных книг» («Персидские письма»). Но многим, в особенности в Англии, передовой капиталистической стране, уже ясен положительный и социальный смысл ситуации. Для писателей английского Просвещения, начиная с П. Мотте, переводчика «Дон Кихота», и до известного критика С. Джонсона, уже очевидно, что «в нраве каждого человека есть что-то от Дон Кихота и у каждого – своя дорогая сердцу Дульцинея, нередко вдохновляющая его на безумные приключения» (П. Мотте, предисловие к переводу «Дон Кихота», 1700). У английских романистов, последователей Сервантеса, на смену буффонному смеху приходит юмор в изображении непрактичных чудаков; за нелепостью их поступков скрывается человечность благородного сердца, которое не мирится с царящим в обществе эгоизмом и делячеством. Но героическая принципиальность испанского идальго разменена в этих английских чудаках на случайные, хотя средой обусловленные, причуды. В героях Стерна с их «коньками» («пустячками», как объясняет автор, «за которые хватается человек, отстраняясь от обычного течения жизни, чтоб улететь на часок от житейских тревог и забот») понимание донкихотской ситуации уже близко романтическому.
Новый этап в трактовке романа Сервантеса связан с немецкими романтиками. Братья Шлегели, Новалис и Шеллинг открывают в донкихотской ситуации воплощение вечной противоположности между мечтой и действительностью, поэзией и прозой, идеальным и реальным (причем образ Санчо Пансы отождествляется с фоном, контрастирующим герою). Несмотря на модернизацию мысли Сервантеса, сближенной с романтическим мироощущением, на метафизическое увековечение того разлада между человеком и жизнью, который у Сервантеса имеет более определенный смысл, на чрезмерное противопоставление главных героев, романтики в идеалистической форме уловили связь донкихотского сюжета с дисгармонией буржуазной культуры и впервые установили значительность ситуации. Отсюда общеевропейское признание, которое нашла эта концепция в XIX–XX веках, несмотря на противодействие буржуазной либеральной критики (главным образом, историков литературы), отстаивавшей старое литературно-пародийное и чисто комическое понимание романа.
В романтической концепции, однако, наметилась позднее и другая точка зрения, выдвинувшая социальную активность Дон Кихота – воплощения «человеческой восторженности» (Гейне) и «высокого начала самопожертвования» (Тургенев). Здесь оттеняется внутренняя связь двух главных персонажей при всей их противоположности (герой и масса) и всенародное значение ситуации как символа человеческого прогресса. И все же для романтической концепции в целом характерен апофеоз благородного безумия Дон Кихота как высшей мудрости жизни, трагико-юмористическая или даже чисто трагическая трактовка образа, «освещенного комическим светом – чтоб гусей не раздразнить» (Тургенев).
Синтетическое понимание сюжета Сервантеса обнаруживает в XIX веке революционно-демократическая критика в лице Белинского. В испанском романе Белинский видит «слияние серьезного и смешного, трагического и комического, ничтожности и пошлости жизни со всем, что есть в ней великого и прекрасного»[124], а в Дон Кихоте – человека «с пламенным воображением, любящею душою, благородным сердцем, даже с сильною волею и с умом, но без рассудка и такта действительности»[125]. Классическая русская критика всегда различала между реалистическим сознанием Сервантеса и его фантазирующим героем, «идея» которого «противоположна требованиям времени» и «не может быть осуществлена в действии, приложена к делу»[126].
В неоромантических трактовках XX века апофеоз Дон Кихота приобретает все более субъективный и часто реакционный характер. «Безумие» ламанчского идальго толкуется как воплощение средневековой веры, чуждой критицизма Нового времени, и герой Сервантеса порой сближается с Христом и со святыми католической реакции, вроде И. Лойолы и Тересы Хесус. Если известный испанский писатель и критик Унамуно, защищая «кихотизм» против «сервантизма», открыто признавал, что его трактовка расходится с отношением самого автора к герою, то нынешние «кихотисты», при меньшей научной щепетильности, превращают и Сервантеса в защитника слепой веры и «раскрывают» философию романа как проповедь христианства, ибо Дон Кихот – это «сам Христос». «Мир в наши дни нуждается, как никогда, в Дон Кихоте», – заявляет один из них, Х. Фигероа, поэтому надо не рассуждать о Дон Кихоте, но «сродниться с Дон Кихотом». Что означает это требование, выясняется, когда критик переходит к «вине» героя, который, оказывается, согрешил тем, что взял на себя функцию судьи мира, забыв о христианском смирении, и лишь смертью искупил эту «вину»[127]. Прежние читатели полагали вместе с Герценом, что «Дон Кихот, мешающийся не в свои дела, в тысячу раз больше человек, чем какой-нибудь лавочник, которому ни до чего нет дела, кроме до чужих денег»[128]. Нынешний «кихотист» во франкистской Испании желал бы низвести героического идальго до одного из баранов, с которыми тот сражался.
Апофеоз донкихотства, хотя в противоположном, «активном» смысле, иногда встречается и у современных прогрессивных писателей Запада, примыкающих к тургеневской концепции Дон Кихота, как воплощения прогресса. В статье «Актуальность „Дон Кихота“ Жан-Ришар Блок в свое время писал, что „Дон Кихот“ „служит как бы интеллектуальной программой, обладает авторитетом третейского суда и играет в умственной жизни современного Запада роль пробного камня“. „Недаром весь мир снова с любопытством и вниманием обращается к произведению, в котором все для нас поучение, символ, аналогия, предостережение. Дон Кихот и Санчо Панса больше, чем когда-либо, наши братья по оружию, по скорби, по смеху“»[129]. Это было сказано в годы гражданской войны в Испании.
Иронией судьбы эти слова действительно превратились в «поучение и предостережение» против утраты чувства комического при восприятии образов Сервантеса.
Еще со второй половины XIX века в работах культурно-исторической школы философско-психологическое истолкование «Дон Кихота» сменяется стремлением определить историческую основу романа, его связь с испанской общественной жизнью XVI–XVII веков. В свое время французский переводчик «Дон Кихота» Л. Виардо выдвинул положение о «слишком смелых и насмешливых мыслях» автора, выраженных из-за страха перед инквизицией в «намеках», которые от нас часто ускользают и, как заметил В. Гюго, «нуждаются в ключе». Несколько позднее исследователь Э. Шаль полагал, что «Дон Кихот» направлен не столько против рыцарских романов, сколько «против чудес как лжи, против платонической любви как лицемерия, против феодальной гордости и рыцарства как анахронизма». В самой Испании смысл донкихотской пары усматривается в сатирическом изображении дворянства и простого народа, которым противопоставляется «трезвость и рассудительность среднего класса общества» (А. Дуран). Либеральные испанисты-«социологи» сводят значение «Дон Кихота» к критике идальгизма[130].
Борьба вокруг наследия Сервантеса, обострившаяся в XX веке, побудила исследователей обратиться к теоретическим истокам мысли Сервантеса, чтобы решить вопрос о тенденции романа и позициях автора. В противовес тем, кто видит в «Дон Кихоте» «продукт католической реакции», «самое значительное порождение контрреформации» (Д. Тоффанин, Ч. Лоллис), прогрессивная критика показала критический рационализм Сервантеса и то, чем он обязан европейскому гуманизму и испанским последователям Эразма. Старое представление о Сервантесе, «наивном» художнике, который создал великое произведение, «сам того не сознавая», уже представляется недостаточным после того, как продемонстрированы связи идей «Дон Кихота» с философскими, эстетическими и научными теориями его времени[131].
Однако нельзя не заметить, что интерес к гуманистической тенденции Сервантеса все больше отвлекает внимание исследователей от объективного содержания образов, а тем самым от ренессансного реализма романа. Так, например, Л. Ф. Мэ в работе «Сервантес, родоначальник свободомыслия» рассматривает его роман как своеобразный антирелигиозный «шифр», где Дон Кихот воплощает схоластику, символизм и набожность Средних веков, а Санчо Панса – опытное знание, рационализм и вольномыслие Нового времени[132]. Даже вставная новелла «О безрассудно-любопытном» направлена, оказывается, против онтологического доказательства существования Бога, выдвинутого Ансельмом Кентерберийским (отсюда и имя героя новеллы Ансельм!). Искусственность аллегорического восприятия реалистического произведения приводит к тому, что сюжет «Дон Кихота» становится всего лишь техническим приемом для выражения авторской тенденции.
Отсюда уже один шаг до прямого отрицания самой донкихотской ситуации – безумие героя будто бы вызвано цензурными соображениями. «Мнимое безумие Дон Кихота – это уловка, придуманная фантазией Сервантеса, дабы осуществить поэтический замысел, проникнутый глубоким критическим чувством по отношению к общественной жизни его эпохи»[133]. Другие критики воскрешают старое «клиническое» толкование этого безумия[134] либо оценивают его как сознательную «актерскую» игру «вполне нормального человека»[135].
о значительной жизненной ситуации при таком подходе к сюжету «Дон Кихота» не может быть и речи.
Советские исследователи Сервантеса всегда исходили из органической связи творца «Дон Кихота» с культурой Ренессанса и с гуманизмом, усматривая вслед за Марксом в ситуации романа коллизию огромного исторического значения. Отбрасывая литературно-пародийное ограничение «Дон Кихота» у либеральных историков литературы (Стороженко, Шепелевич), а также декадентские превознесения донкихотства у эпигонов романтического истолкования (Мережковский, Сологуб), наша критика в 30-х годах преодолевает и вульгарно-социологическую трактовку романа. Заслугой советского испаниста Б. А. Кржевского является то, что в анализе «Дон Кихота» как памятника испанской жизни XVI–XVII веков он отметил связь антикапиталистической мысли Сервантеса с брожением в общественных низах Испании. Этим исследователь объясняет значение творца донкихотской ситуации как «народного писателя, которого ищут и открывают эпохи, видящие исторический выход в ставке на широкую демократию»[136]. Понимание Сервантеса как гуманиста и народного писателя нашло себе всеобщее признание в советских работах последующих десятилетий. Оно легло в основу недавней большой монографии К. H. Державина и применено здесь к анализу не только главного произведения, но и всего творческого пути автора «Дон Кихота».
Будучи, по справедливой оценке редакторов, «как бы сводкой важнейших достижений мировой науки в деле изучения творческого наследия Сервантеса», эта книга является вместе с тем плодом «самостоятельной концепции творчества испанского писателя»[137]. Из ее «спорных выводов, положений, формулировок» мы отметим лишь те, которые связаны с темой настоящего очерка.
Характеризуя многогранный образ Дон Кихота, К. Н. Державин различает следующие основные аспекты, хотя «не всегда возможным… оказывается точное разграничение» их. Это «обедневший сельский идальго, пародийная фигура „книжного“ рыцаря, бедный странствующий рыцарь-воин и, наконец, глашатай высокой гуманистической морали» (496). В первом из этих аспектов Алонсо Кихада «отвечает основным чертам социального бытия того слоя дворянства, к которому он принадлежал» (226), так как «в Испании было много таких идальго, как Алонсо Кихада» (232). Дворянская праздность приводит к чтению рыцарских романов и к безумию, «превращающему мирного и досужего сельского обывателя в „книжную фигуру“ (232). Но „безумие Алонсо Кихады было тем гениальным измышлением (la invención) Сервантеса“, которое позволило ему осмеять рыцарский роман (233), поддерживавший „идальгизм“ как один из элементов идейной надстройки (182). В то же время „только „сословное безумие“ могло породить идею стать странствующим рыцарем“ (240). До конца романа „Дон Кихота не покидают ни его дворянское тщеславие, ни преувеличенное представление о своем сословном достоинстве, ни пренебрежительное отношение к простому люду“ (481). Во втором, сатирическом, аспекте „книжного“ рыцаря герой еще антипод ренессансного сознания Сервантеса, но в третьем аспекте, как бедный рыцарь-воин, он социально родствен автору. Безумный защитник странствующего рыцарства противопоставлен придворному рыцарству, чиновничеству, судьям-крючкотворам – реальной верхушке общества, хотя он выступает как маньяк. Здесь впервые в систему рыцарских воззрений Дон Кихота проникает гуманистическая мысль (244). Его безумием „Сервантес, как обычно в „Дон Кихоте“, маскирует свои воззрения, коль скоро они идут вразрез с установленным и господствующим порядком вещей“ (251). „Странствующее рыцарство в данном случае служило для Сервантеса все тем же прикрытием негодующих нападок на господствующий несправедливый режим“ (252). Но, сочувствуя судьбе „бедного солдата“, „Сервантес отбрасывает рыцарскую терминологию своего героя“ (250), ибо рыцарство-всего лишь маниакальная идея, которая „затопляет сознание Алонсо Кихады“, но чужда автору (251).
И лишь в четвертом плане Сервантес „вводит в образ Дон Кихота линию его развития, которая ближайшим образом соотносится с радикально-гуманистическими течениями общественной мысли XVI века“ и тем самым „подводит литературный итог испанскому гуманизму эпохи, делая роман крупнейшим художественным памятником эпохи“ (253). Теперь ламанчский идальго становится „выразителем высоких социально-этических концепций самого Сервантеса“ (253). „Сервантес заставляет Дон Кихота забыть о своих галлюцинациях и заговорить языком гуманистической этики об обязанностях правителей и государей“ (489). От имени Дон Кихота говорит сам Сервантес (491). Например, речь Дон Кихота о свободе „вложена ему в уста Сервантесом для выражения одной из основных творческих идей великого писателя“ (494). Впрочем, иногда Сервантес, „умело обходя рифы возможных богословских придирок“, возвращает Дон Кихота „на стезю странствующего рыцарства“ и, на этот раз из цензурных соображений, маскируется своим образом, когда „влагает в его уста прославление миссии воина, причисляя к сословию странствующих рыцарей святых Георгия, Мартина, Диего и Павла“ (494). Как правило, гуманизм этого романа, согласно концепции К. Н. Державина, выступает либо в авторской речи, либо в словах, „вложенных в уста“ героя; временами „автор романа придает мыслям своего героя более значительный подтекст“, и тогда „ход истинной мысли Сервантеса умело и тонко сплетается с абсурдными домыслами Дон Кихота и его лишенными здравого смысла поступками“ (255) (например, в эпизоде освобождения каторжников). А в целом, „рыцарственная несуразность донкихотских авантюр и вздорность его „книжных“ измышлений – это тот мутный поток, который, пройдя сквозь фильтр авторской мысли, превращается в чистые струи сознания“ (481).
Вряд ли мыслимо при подобной трактовке Дон Кихота первое условие жизненности художественного образа – его внутренняя органичность. Каким путем антиренессансный, сатирический Дон Кихот, воплощение сословных предрассудков (равно в своем житейском облике идальго и в фантастическом виде странствующего рыцаря), может стать героем четвертого, „гуманистического“ аспекта – остается загадкой. Критик, правда, уверяет, что „цельности и жизненной убедительности образа своего героя Сервантес достигает тем, что в ходе повествования он последовательно раскрывает сложность и противоречивость облика Дон-Кихота“ (496). Но подобная „диалектика“– сомнительного качества. На деле сознание сатирически обрисованного идальго и гуманистическая мысль Сервантеса жизненно и художественно несовместимы.
Дон Кихот в монографии оказался простым „рупором“ идей времени – авторской тенденции. Но представим себе, что Гоголю вздумалось бы вложить свои критические или положительные идеи в уста Чичикова или Хлестакова… „Все лица его романа, – как замечает Белинский о Сервантесе, – лица конкретные и типические“[138]. Это не мешает Сервантесу быть „ярко выраженным тенденциозным поэтом“, по определению Энгельса, ибо его тенденция вытекает сама по себе „из положения и действия“[139]. Иное впечатление создается от образа Дон Кихота в трактовке К. Н. Державина. „Реализм „Дон Кихота“, – замечает исследователь, – заключается не только в живописной картине испанских нравов и в психологической правдивости образов действующих лиц. Он состоит прежде всего в воплощении существеннейших проблем современности с точки зрения одного из последних гуманистов эпохи“ (курсив мой. – Л. П.; 161). Художественный реализм „психологической правдивости образов“ и „существенные проблемы современности“ здесь, однако, исключают друг друга.
Монография К. Н. Державина – выдающаяся работа в советской испанистике и отличается богатством привлекаемого исторического и литературного материала. Анализ мысли Сервантеса в ней дан на фоне широкой характеристики национальной культуры. Автор исходит из верного положения, что „Дон Кихот“ писался в тот момент, когда испанский Ренессанс испытывал глубокий кризис» (260) и «ренессансный гуманизм доживал свои последние дни» (161). Но положение о кризисе ренессансного гуманизма развито автором крайне недостаточно и обычно сводится к тому, что «целостное движение ренессансной мысли разбилось на несколько течений» (260) или что ее «этическая система стала достоянием утопии» (161). Будто эти черты не достаточно обозначились и раньше – на этапе расцвета гуманизма! Более существенные для периода, когда создавался «Дон-Кихот», «глубокий кризис и парализованность общественной жизни… и отсутствие положительных исторических перспектив» (161) – особенности, определившие донкихотскую ситуацию, – лишь вскользь отмечены исследователем. Завершающая роль «Дон Кихота» для испанского и всего европейского гуманизма и место романа в истории ренессансного реализма остались вне поля зрения автора монографии.
Не случайна поэтому ошибка исследователя, когда он усматривает в «Дон Кихоте» прообраз того реализма, о котором Ф. Энгельс говорил, что он выполняет свое назначение, «правдиво изображая реальные отношения, разрывая господствующие условные иллюзии о природе этих отношений, расшатывая оптимизм буржуазного мира, вселяя сомнения по поводу неизменности существующего» (161). При всей своей критической силе ренессансный реализм Сервантеса качественно иной, чем реализм конца буржуазного общества. У Сервантеса – как у Шекспира и у любого другого художника Возрождения – иная историческая почва, иное идейное назначение, иное художественное содержание, чем в романе XIX века, иной реализм со своими достоинствами и границами. Странный, хотя, увы, нередкий – даже у историков литературы! – «анахронизм» в эстетических суждениях… В образе Дон Кихота К. Н. Державин не уловил его ренессансной природы, а в отношении к нему автора и потомства – того восхищения (в самом смехе) «человеческой восторженностью», которое так характерно для последнего художественного памятника Возрождения.
С другой стороны, в трактовке ренессансного гуманизма К. Н. Державин не пошел дальше критических и рационалистических черт. Существенная для мысли Возрождения фантастика во взглядах на человека и на мир осталась неотмеченной, хотя именно она лежит в основе «безумия» Дон Кихота и его отсутствия «такта действительности». Важнейший для понимания образа Дон Кихота вопрос – смысл удивительного слияния черт, достойных смеха и восхищения, наивных иллюзий и передовых идей его «мудрого безумия» – не разрешен в этой монографии, несмотря на все богатство привлеченного материала. Именно это поражает всех персонажей романа при встрече с Дон Кихотом, а недоумение персонажей Сервантеса (они же первые читатели первой части деяний героя) разделяют и читатели в потомстве. В наше время Томас Манн его сформулировал как «вопрос о том, не сбивается ли Сервантес с роли в тех гуманистических речах, которые нередко вкладывает в уста своего героя, не разрушает ли он этим цельность его характера, не возносит ли героя выше его уровня, не говорит ли, вопреки законам художества, только от своего имени и за себя»[140].
Для всякого исследователя «Дон Кихота» это центральный вопрос в анализе открытой Сервантесом ситуации.
III. Национально-историческая основа ситуации
Сюжет о Дон Кихоте – первый не фольклорный и не книжный сюжет в истории романа, хотя героем его является «книжный» рыцарь. Но это и не условный шифр, не остроумная уловка для выражения авторской тенденции. Этот сюжет подсказан самой жизнью – национальной почвой и историческим моментом.
Отрицательная сторона донкихотской ситуации – отсутствие «такта действительности» – внушена Сервантесу тем поразительным непониманием новых условий, той исторической слепотой, которую обнаружило испанское общество, и прежде всего его господствующие классы, при переходе к буржуазной эре. Сравнительно с прежними, рыцарскими и пасторальными, романами «Дон Кихот» – первое национальное произведение не только по широте и правдивости картины, но и по повторяющемуся от эпизода к эпизоду единому положению, освещающему трагикомедию испанской жизни.
Страны Пиренейского полуострова играли ведущую роль на раннем этапе первоначального накопления. Историческое место их экономики как стадии общеевропейского процесса отмечено Марксом в «Капитале»: «Различные моменты первоначального накопления распределяются между различными странами в известной исторической последовательности, а именно: между Испанией, Португалией, Голландией, Францией и Англией». «Открытие золотых и серебряных приисков в Америке, искоренение, порабощение и погребение заживо туземного населения в рудниках… такова была утренняя заря капиталистической эры производства»[141].
Испания, выдвинувшись в XVI веке в качестве первой по времени и по значению колониальной державы, не сумела, однако, пойти дальше ранних хищнических форм освоения недавно открытых богатств, тогда как в других странах «сокровища, добытые за пределами Европы посредством грабежа… притекали в метрополию и тут превращались в капитал»[142]. Богатства колоний доставались в Испании праздной знати, а королевский двор оплачивал ими свою химеру – всемирное католическое государство («Один король, одна монархия, одна шпага»). Авантюрная внешняя политика, основанная на непомерных претензиях и вмешательстве в чужие дела, привела к тому, что казна была пуста, несмотря на громадные доходы от «двух Индий» – бывают дни, когда у испанского короля нет денег на мелкие расходы. В год смерти Филиппа II – за шесть лет до опубликования первой части «Дон Кихота» – долг короля иностранным банкирам составлял сто миллионов дукатов, и комиссии из майордомов и дворян в сопровождении священника ходили по домам, собирая милостыню на поддержание двора. Экономическая политика была по-феодальному расточительной, Испания мало производила, но много ввозила, рассчитывая покрыть все возраставший дефицит колониальным золотом; страна превратилась в мост, по которому золото переправлялось в чужие страны. Земледелие, скотоводство и некогда цветущая промышленность приходили в упадок из-за безрассудной налогово-таможенной системы. Авантюрные способы обогащения разорили страну и развратили население, прививая ему лень и страсть к бродяжничеству (в годы, когда создавался «Дон Кихот», в Испании насчитывалось около 150 000 бродяг). И достаточно красноречива шестидесятая глава второй части романа, где герои, устраиваясь на ночлег, обнаруживают, что находятся под сенью деревьев, сплошь увешанных трупами. Это, как объясняет Дон Кихот перепуганному Санчо, трупы разбойников, которых обычно вешают по двадцать – тридцать человек сразу. «Из этого я заключаю, что мы недалеко от Барселоны».
А между тем земля остается невозделанной из-за нехватки рабочих рук, – население «настолько презирает труд, что полагает недостойным испанца работать и заботиться о будущем». «Они предпочитают, – по свидетельству иностранцев, – страдать от голода и других жизненных невзгод, чем заниматься ремеслом». «Если бы многие из нас, французов, не косили им траву, не убирали им хлеб и не делали им кирпичи, они рисковали бы умереть с голоду и жить под открытым небом». «Завоевывать новые земли, открывать золотые россыпи, обогащаться за счет чужого труда было более заманчиво и требовало меньше времени, чем зарабатывать на жизнь в Испании», – заключает историк[143].
Как не вспомнить тут заявления ламанчского идальго, что путь к славе через странствующее рыцарство – «самый короткий» и верный (II, 18). «Здравый смысл» этого общества гротескно воплощен Сервантесом в образе крестьянина, соблазненного мечтой о завоеванном острове, где он станет губернатором. Санчо и слушать не хочет советов ключницы Дон Кихота: «Иди управляй своим домом, паши свой клочок земли и забудь про все острова и чертоострова на свете» (II, 2). По выражению современника, испанцы XVI века вели себя в хозяйственной жизни как «зачарованные», «Дон Кихот» подводит итог столетию, которое открывается деятельностью конквистадоров: «Это было время, когда Васко Нуньес Бальбоа водрузил знамя Кастилии на берегах Дарьена, Кортес – в Мексике, Писарро – в Перу», «когда пылкое воображение иберийцев ослепляли блестящие видения Эльдорадо, рыцарских подвигов и всемирной монархии»[144]. К концу этой эпохи сказываются все последствия «переворота, происшедшего в экономике и иссушившего источники национальной деятельности»[145], и безумия правящих кругов, которое привело страну на край бездны.
Однако авантюризм и неприспособленность к новым условиям сами по себе составляют основу скорее пикарескной, чем донкихотской ситуации, жизненную почву для чисто сатирических образов нищих испанских идальго, вроде эскудеро в третьем эпизоде «Ласарильо» или дона Торибио Родригес Вальехо Гомеса де Ампуэро и Хордан в романе Кеведо. Вся слава и честь этих кичливых дворян ограничивается длинным и пышным титулом, который, «начинаясь на „дон“ и кончаясь на „дан“, звучит как перезвон колоколов в праздничный день». Смехотворно горестные фигуры тощих идальго, этой гвардии прошлого, которая умирает с голоду, но не сдастся, – показательная национальная параллель английскому образу жизнерадостного рыцаря Фальстафа, характерному для страны, где дворянство сумело перестроиться на капиталистический лад.
От сатирических сословных образов, воплощающих жалкое состояние и паразитизм идальгии, опоры испанского государства, явно отличается национальный образ Дон Кихота. Военно-феодальная держава, позднее представлявшаяся иностранцам безжизненным трупом, никогда не была тождественна с испанской нацией. Пресловутая легенда о монолитной культуре Испании «золотою века», поддерживаемая и в наше время реакционной критикой «черная легенда» о гармонии, будто бы царившей тогда между королевской властью, церковью и народом, далека от действительности. Как раз в силу того, что наиболее реакционный и бессильный в Европе испанский абсолютизм не желал и не мог взять на себя миссию организатора новых форм развития, социальная активность уходила в неофициальную народную жизнь. «Если испанское государство мертво, то испанское общество полно жизни, и в каждой его части бьют через край силы сопротивления»[146]. Художественным памятником этих активных сил являются в XVI–XVII веках испанские «драмы народной чести», – ни в одном европейском театре нельзя найти им равных по величию социального протеста и реалистической героике. В романе Сервантеса им созвучен эпизод пребывания Дон Кихота у благородного разбойника Роке Гинарта (реальная личность начала XVII века, подвизавшаяся в Каталонии). Показательно, что этот бунтарь, мстящий «за свои и чужие обиды», единственный из персонажей романа, кто не только относится к герою с глубоким сочувствием, но отзывается о нем как о «самом здравомыслящем человеке на свете» (II, 60)[147].
Оскудение и застой, «иссушение национальной энергии», черты, выступающие в описании быта сельского идальго Алонсо Кихады, сближают его по обстоятельствам жизни с идальго плутовских романов. Но реакция на эту жизнь (не дошедшую, заметим, в романе Сервантеса до такого распада, как у нищих дворян «Ласарильо» и особенно Кеведо) у Алонсо Кихады иная. Им овладевает идея странствующего рыцарства. Алонсо Кихада становится Дон Кихотом, рыцарем Печального образа, и в его облике постепенно обозначаются «черты старые, резкие, носящие на себе следы всех скорбей, всех печалей, идущих из общих начал и из веры в человечество и разум». Только поэтому донкихотский образ в жизни и искусстве – «один из высших, предельных типов»[148].
Но что представляет рыцарская мания Дон Кихота, его «мудрое безумие»?
Рыцарство явно понимается Сервантесом в более широком смысле, чем средневековый институт, который ко времени создания «Дон Кихота» везде в Европе сошел со сцены, – еще в XV веке его, по выражению Бальзака, «убили пушки и абсолютизм». В следующем столетии испанское государство уже обязано военным могуществом всецело своей первоклассной пехоте, которая вербовалась не только из дворян. Для всех персонажей «Дон Кихота», кроме героя, рыцарство является несуразным анахронизмом, и, какова бы ни была роль пережитков Средневековья в абсолютистской Испании начала XVII века, сам автор воевал бы с ветряными мельницами, если бы избрал предметом своей насмешки исчезнувший институт. Позднее утверждали, иногда с одобрением (Бернарден де Сен Пьер), иногда с осуждением (Байрон), что автор «Дон Кихота» убил рыцарство, но ему не было нужды хоронить то, что давно похоронила история, и не в этом жизненная основа ситуации романа.
Внешнюю форму для нее уже составляет увлечение рыцарскими романами, то есть рыцарством, живущим второй, посмертной жизнью в сознании потомства как идеализированный образец, как понятие, в которое другая эпоха вкладывает свое содержание, во многом отличное от действительных норм средневекового сословия. В этом смысле Энгельс отмечает «рыцарство» периода географических открытий, предшествовавшего «Дон Кихоту»: «то было для буржуазии время странствующего рыцарства; она переживала также свою романтику и свои любовные мечтания, но по-буржуазному преследуя в конечном счете буржуазные цели»[149]. Как известно, именно это новое рыцарство «героического века» капиталистической эры и вызвало второй расцвет рыцарского романа – эти циклы «Амадисов» и «Пальмеринов», которыми зачитываются все герои «Дон Кихота» и которые сводят с ума старого Алонсо Кихаду.
Спор между Дон Кихотом и благоразумными персонажами романа поэтому вращается не вокруг реальности рыцарства (сам Дон Кихот мечтает лишь «воскресить» славные дела рыцарей), а вокруг реальности совершенных литературных героев как жизненного «образца» и возможности следовать ему, вокруг «истинного рыцарства» благородных и самоотверженных дел, которое Дон Кихот настойчиво противопоставляет сановникам, придворным, – существующему, но не «истинному», изнеженному, выродившемуся рыцарству (I, 13; II, 6; II, 17; II, 32, и др.). Для оппонентов Дон Кихота рыцарские подвиги всего лишь сказка, трактирщик полагает, что ныне уж не те времена, тогда как герой считает такие суждения безумием: «истинное рыцарство» было и вечно будет, а «железный век», в котором он живет, больше, чем какой-либо другой, нуждается в странствующем рыцарстве, в защите справедливости и ни в чем он не нуждается в большей мере (I, 7; II, 18).
Спор о реальности идеальных героев означает, таким образом, различную оценку современного общества у мирных, довольных жизнью верноподданных абсолютистского строя – и у героя, который остро сознает неблагополучие жизни, требующее личного вмешательства для «искоренения кривды». Вся история Дон Кихота от первого его подвига, заступничества за мальчика Андреса, и кончая поединком за честь дочери дуэньи Родригес – в замке герцога, покровительствующего соблазнителю, – доказывает, что его идея защиты угнетенных не плод расстроенного воображения.
В рыцарской мании Дон Кихота выражается его отзывчивая, самодеятельная, общественная натура – благородная «мудрость» Дон Кихота. Его безумие – в непонимании новых форм жизни, в игнорировании обстоятельств своей деятельности, в отождествлении вечного «истинного рыцарства» человеческой натуры, ее общественной активности, с идеализированным и исчезнувшим средневековым институтом. «Дон Кихот должен был жестоко поплатиться за свою ошибку, когда вообразил, что странствующее рыцарство одинаково совместимо со всеми экономическими формами общества»[150].
Насколько это заблуждение не исключительно для эпохи Ренессанса, видно на примере Ульриха фон Гуттена, знаменитого немецкого гуманиста, усматривавшего в рыцарстве основную социальную силу для возрождения Германии. Ход мысли Гуттена в диалоге «Разбойники» совершенно аналогичен рассуждениям Дон Кихота: основа истинного благородства – доблесть; выше всего – воинская доблесть в сражениях за справедливость; и так как из князей мало кто думает об общественном благе, то рыцари имеют право самовольно, не дожидаясь их приказа, сражаться за правое дело. Ибо «устав благородства заключается в том, чтобы помогать угнетенным, оказывать поддержку несчастным, вступаться за обездоленных, заботиться о покинутых, мстить за несправедливо пострадавших, оказывать сопротивление негодяям, оборонять невинность от насилия, печься о вдовах и сиротах»[151].
Герой Сервантеса и знаменитый немецкий гуманист равно идеализируют рыцарство как основную прогрессивную силу нации, видят в рыцарской вольнице практическую основу для ренессансной защиты свободного развития личности и мечтают о слиянии передовых идей воинствующего гуманизма с боевой силой военного сословия – для борьбы с некультурностью и эгоизмом правящих верхов, равнодушных к интересам нации. В годы, когда в Германии Гуттен пытался осуществить свою утопию, в Испании вспыхнуло восстание коммун (война Священной Лиги), единственная испанская революция до XIX века, направленная против королевского деспотизма, в защиту исконных народных прав. К этой революции примкнули и лучшие представители рыцарства, хотя в основном дворянство поддержало короля. Но иллюзии Гуттена – почти за столетие до создания «Дон Кихота» и в Германии, где княжеский абсолютизм еще не восторжествовал, – имели под собой реальную почву. Маркс поэтому называет Гуттена «Дон Кихотом, хотя и имеющим историческое оправдание»[152].
Безумие героя Сервантеса отражает социальные брожения испанского Ренессанса; воспоминания о рыцарской вольнице здесь слились с новыми представлениями о человеке и его месте в жизни. Лишь при распаде сословного общества у бедного и худородного Алонсо Кихады могла возникнуть честолюбивая идея о славном призвании, и сложилась она не только под влиянием чтения рыцарских романов. «Боже ты мой, – восклицает его племянница, – вы так много знаете, дядюшка, и со всем тем слепота ваша столь велика, что вы уверены в своей удали, будучи на самом деле старым, в своей силе – будучи хилым, что вы выпрямляете кривду, меж тем как сами вы согнулись под бременем лет, а главное, в том, что вы рыцарь и кавальеро, на самом деле не будучи таковым, ибо хотя идальго и могут стать кавальеро, но ведь не бедные же!..» (II, 6). В ответ на это Дон Кихот – совершенно в духе гуманистических идей – доказывает примерами из истории, что человек сам, своими делами, кладет начало своему величию и знатности.
Странствующие рыцари для Дон Кихота – прообраз «истинного рыцарства» человеческой натуры. Он подражает Амадису, как «художник, жаждущий славы, старается подражать творениям единственных в своем роде художников – правило это распространяется на все занятия» (I, 25). Подражая, можно сравниться с образцами и превзойти их. Дон Кихот и художник Возрождения равно исходят из того, что идеальное совершенство – лишь высшее проявление типического в жизни, а значит, реально.
Став странствующим рыцарем, Дон Кихот, в отличие от Алонсо Кихады, уподобляется художнику, который, согласно эстетике Возрождения, «не связан с одной какой-либо частью материи», ибо ему «нужно быть универсальным» (Джордано Бруно). «Наука странствующего рыцарства», по Дон Кихоту (так же как «наука живописи», по Леонардо да Винчи), «включает в себя все или почти все науки на свете». Рыцарю надобно быть законоведом и врачом, астрологом и математиком, он должен уметь плавать, подковать коня, починить седло (II, 18). Маленький автономный кочевой мирок, он как бы само человечество в миниатюре, он везде и во всем должен уметь ориентироваться. Странствующий рыцарь Дон Кихот воплощает в романе идеал эпохи-«всесторонне развитого человека». Поэзия и театр, политические познания и теология, юриспруденция и педагогика, теория искусства и филологические сведения (которые Дон Кихот обнаруживает в рассуждении об испанских словах, заимствованных из арабского языка). Энциклопедизмом интересов и основательностью суждений Дон Кихот повергает в изумление не только наивного Санчо. Разумеется, эти знания вынесены не из чтения рыцарских романов, и автор, демонстрируя образованность героя, не считал себя связанным тем перечнем книг, который он дал в эпизоде разбора библиотеки Дон Кихота – тем более что этот разбор, как мы знаем, не был доведен до конца и вследствие нерадения учинивших осмотр, а также из-за поспешности ключницы, «вместе с грешниками пострадали и праведники» (I, 7)[153].
Но своеобразие Дон Кихота не столько в его гуманистических рассуждениях, сколько в удивительных поступках. «Книжный» рыцарь Сервантеса запомнился потомству, главным образом, своими деяниями, как цельная натура, у которой слово не расходится с делом. «Мудрым безумием» равно отмечены его речи и поступки. Правда, Санчо Пансе порой кажется, что его господину скорее пристало быть проповедником, чем рыцарем, но поучения Дон Кихота, его споры с противниками – часть его дел, обоснование поведения странствующего рыцаря, у которого «копье никогда не притупляло пера, а перо – копья» (I, 18). Век странствующего гуманизма, век Эразма, Вивеса и Сервета сливается в нем с веком Колумба, Гуттена и д'Обинье. Гуманистическая концепция Сервантеса раскрывается поэтому в художественных образах и жизненном положении, а не в авторских размышлениях, сопровождающих поступки героя, как в романе его современника Алемана «Гусман де Альфараче».
В основе поведения Дон Кихота лежит представление, что человек сам создает свою судьбу. В комически гипертрофированной степени герой Сервантеса исповедует убеждение, которое являлось в эпоху Ренессанса, начиная с итальянских гуманистов XV века, общим местом во всех рассуждениях о достоинстве человека: «Человек может извлечь из себя все, что захочет» (Л. Б. Альберти), так как «он не скован необходимостью, но сам по собственному желанию избирает место, дело и цель, какие свободно пожелает, и, не сдерживаемый никакой узостью границ, по своему произволу чертит границы своей природы» (Пико делла Мирандола).
Реалистическая, продиктованная потребностями новой эры «мудрость» этой идеи направлена против закрепощения человеческой инициативы в сословно-корпоративном строе. Но не менее характерна для гуманистов Возрождения (за некоторыми исключениями, вроде Томаса Мора и Кампанеллы) наивно-идеалистическая недооценка роли объективных условий для гармонического и всестороннего развития личности. «Отчуждение» от человека условий его существования, новые формы ограничения его деятельности и интересов – подлинный удел личности в капиталистическом обществе, открывавшийся лишь в веках, – еще не мог быть ясен эпохе Возрождения. В искусстве и в морали, в историографии и в теории государства, ренессансная мысль, освобождаясь от теологии, исходит из героической идеализации человека, его «ничем не ограниченного» разума и воли, противостоящей самой судьбе, – представления, гротескно воплощенного Сервантесом в рыцарской мании его героя.
Девиз Дон Кихота, много раз провозглашаемый в романе, – «каждый-сын своих дел». Спор о реальности идеальных героев переходит в оценку человеческой натуры, ее удела и внутренних возможностей. Еще не посвященный в рыцари Дон Кихот знает, что он «самый доблестный из всех рыцарей, какие когда-либо опоясывались мечом» (I, 3). И не потому, что он физически могуч – его без труда побеждают в драке и простой козопас, и крестьянин (I, 52), и собственный оруженосец. Но, как объясняет он впоследствии герцогине, древние рыцари часто были неуязвимы физически, он же неуязвим духовно и, как никто из них, непреклонен. После любого поражения, ниспосланного судьбой, он остается верным своей высокой цели. Только что побежденный пастухом, он бросается освобождать «принцессу», ибо опыт поражений его не должен остановить. Шествовать по крутизнам, возводящим доблестных к подножью бессмертья, нелегко, и туда ведет узкая тропа (I, 32), но «ничтожество да будет уделом того, кто за ничтожество себя почитает» (I, 21). В образе Дон Кихота, «старого старика» (Герцен), тощего, слабосильного, но несгибаемого духом, воплощен в последний раз и в наиболее резкой форме ренессансный идеал «доблести», юмористически схваченный с субъективной стороны.
В низовом испанском дворянстве, которое кичилось тем, что «идальго ниже только Господа Бога и не уступает ни в чем самому королю», реалист Сервантес находит героя для этики доблести. В Испании, где по закону любой солдат за военные заслуги освобождался вместе со своим потомством от податей и «рождался вновь», само слово «идальго» – «сын чего-то» – в XVI веке толковалось как «сын своих дел», и отсюда возникла, как свидетельствует испанский гуманист Уарте, популярная испанская поговорка «каждый сын своих дел». Порой идальго Дон Кихот еще разрешает себе высокомерное отношение к простым людям, но его страсть не может быть выведена из сословного положения. Это и не случайная, патологическая мания, как у героя новеллы Сервантеса «Лиценциат Видриера», который вообразил, что тело его из стекла. И уже потому не мания величия, что исходный ее пункт – человек, творец своей собственной судьбы, – распространяется и на окружающих. Не только на Дульцинею Тобосскую, которая тоже «дочь своих дел» и из рода, «хотя и не древнего, однако могущего положить достойное начало знатнейшим поколениям грядущих столетий» (I, 13), но и на простого крестьянина Альдудо в эпизоде заступничества за мальчика Андреса: «и Альдудо могут быть рыцарями», ибо «каждого человека должно судить по его делам» (I, 4). Оруженосец Дон Кихота крестьянин Санчо также полагает, что раз он человек, то может стать не только губернатором острова, но даже самим папой (I, 47).
В понятие «черни» ламанчский идальго в духе новых идей вкладывает не сословное, а культурное содержание: «всякий неуч, будь то сеньор или князь, может и должен быть сопричислен к черни» (II, 16). Когда Санчо удивляется, почему Дон Кихот выбрал себе в дамы простую крестьянку, рыцарь рассказывает ему веселую новеллу в духе «Декамерона» о молодой вдовушке, которая сумела доказать своему духовнику, что он отстал от века, упрекая ее за то, что она выбрала себе в любовники простого парня, послушника, а не какого-нибудь доктора богословия; «в том, что мне от него надобно, – замечает она, – он достаточно сведущ и самого Аристотеля за пояс заткнет»; в роли идеальной дамы Альдонса Лоренсо также не уступит никакой принцессе (I, 25).
Этика доблести аристократична только по форме. Странствующие рыцари – высшая и избранная порода людей, так как вся их жизнь посвящена служению обществу. Честолюбивый долг перед собою – самоотверженный долг перед другими. Дон Кихоту нельзя задержаться в пути, ибо это значит «лишить человеческий род и всех, кто в нем, Дон Кихоте, нуждается, защиты и покровительства» (I, 17). Странствующему рыцарю до всего есть дело, он за все отвечает («все его касается, всюду он сует свой нос», – замечает Санчо, I, 22) и творит суд над жизнью.
Энтузиазм веры в себя, в человека и критическое отношение к общественным учреждениям в Дон Кихоте сливаются. Свободное развитие личности как предпосылка разумного устройства общества вдохновляло творцов социальных утопий Возрождения, но только на исходе эпохи ренессансный идеал воплощен в образе свободного героя, вся жизнь которого, самодеятельная, отвергающая внешние ограничения, посвящена величайшей из «доблестей» – служению людям.
Дон Кихот поэтому уверен, что лишь невежды будут его порицать, а строгие судьи никогда не осудят (I, 20). Отношение к безумию героя действительно неодинаковое у персонажей романа. Если на одном полюсе общества, в сытом мире герцога, его мания служит предметом жестоких шуток, то на другом, среди людей из народа, он встречает инстинктивное уважение к его благородству (козопасы), искреннюю привязанность (Санчо) и сочувствие (Роке Гинарт). Культурные и проницательные люди, вроде священника или дона Лоренсо, оценивают, вместе с автором, манию Дон Кихота как мудрое безрассудство или как «безумие благородное» («глупее глупого было бы рассуждать иначе», – заключает дон Лоренсо, II, 18).
Но в романе Сервантеса – на исходе Возрождения – уже обнажается утопическая природа ренессансной этики доблести, порождения «утренней зари» капиталистической эры. Героически цельная натура Дон-Кихота, его стремление к «всечеловеческой» деятельности сталкиваются с утвердившимся бюрократически-полицейским порядком и с возникшим миром буржуазных отношений. В Испании, родине католической реакции и стране деспотии, близкой к азиатскому типу, ранее всего обнаруживается иллюзорность гуманистической концепции доблести. Ламанчский идальго находится в ситуации, подобной положению героев шекспировских трагедий – Брута, Отелло, Лира и особенно Тимона Афинского, – наивно-слепых в оценке жизни. Но в романе, где нет места событиям государственного значения и где жизнь изображена не с парадной стороны, в повествовании, развертывающемся на фоне повседневного частного быта, который втягивает в себя героя, его слепота уже комически разительна. Всем этим герцогам, купцам, монахам, актерам, помещикам, трактирщикам, мирным обывателям абсолютистского государства нет никакого дела до защиты угнетенных и до «истинного рыцарства».
Настоящим антиподом Дон Кихота является другой страстный любитель рыцарских романов, трактирщик Паломеке, который, сосчитав дневную выручку, любит вместе с домашними послушать про Фелисмарта Гирканского, как тот одним махом рассек пополам пятерых великанов. От громких дел века Кортеса (очищенных от хищничества реальных конквистадоров и приравненных легендой к античным подвигам), которые Дон Кихот ставит себе в пример (II, 8), осталась только страсть к золоту. Она проникла даже в романтическую пещеру Монтесинос, где томятся зачарованные Мерлином рыцари и дамы и где по поручению Дульцинеи Тобосской ее наперсница просит Дон Кихота одолжить даме сердца шесть реалов под залог канифасовой юбки (II, 23). «Титаны, остающиеся после борьбы, после поражения, при всех своих титанических стремлениях, представителями неудовлетворенных притязаний, делаются из великих людей печальными Дон Кихотами. История подымается и опускается между пророками и рыцарями печального образа»[154].
Всеобщий застой, который принесло Испании рождение капитализма, раскрывает перед Сервантесом прозаичность родившегося нового порядка. Девиз Дон Кихота и Возрождения «человек сын своих дел» это общество понимает по-своему – «каждый должен заниматься только тем делом, для которого он рожден», «всякая ярочка знай свою парочку» и «дальше постели ног не вытягивай» – дешевый урок, который выносит Санчо, покидая славный остров Баратарию («Дешевый»). Это общество возвращается к первоначальному значению слова «идальго» – «hijo de algo», «сын чего-то», «тот, у кого есть состояние», собственник. Изолированность интересов, социальный распад «атомистического» мира как бы подчеркивается механической структурой повествования, где только фигура странствующего рыцаря и его случайные встречи являются объединяющим стержнем. К этому миру «частнособственнического свинства» Дон Кихот не знает ходов. Реализованная метафора «истинного рыцарства» становится предметом глумления со стороны титулованных и нетитулованных обывателей. Дон Кихота топчут быки, по его телу проходит стадо свиней. Его терзает «мучительное сознание ненужной правоты своей» (Герцен). От этой мысли у него «тупеют резцы, слабеют коренные зубы, немеют руки, совершенно пропадает желание есть», и он «готов рухнуть под бременем своих дум» или «даже уморить себя голодом, то есть умереть самою жестокою из смертей» (II, 59).
Источник юмора Сервантеса, как и комизма Рабле, – объективное движение времени (история), но герой Сервантеса не понимает этого движения. Другой, субъективный, источник раблезианского комизма – невозмутимость духа, внутреннее «пантагрюэльское» спокойствие, способность возвыситься над условиями – выступает в ситуации Сервантеса не только как героическое мужество, но и как донкихотское игнорирование условий, превращающее деяние в испытание храбрости, а подвиг странствующего рыцаря – в бесплодное молодечество, в авантюру. «Истинное рыцарство» оказывается при этом в Дон Кихоте всего лишь субъективным героизмом: если бы вместо сукновальных молотов его ожидала действительная опасность или если бы вместо похоронной процессии на него напали «бесы из преисподней», он бы обнаружил не меньшее мужество (1,19; I, 20). Практический исход подвига не имеет для Дон Кихота значения: «хотя бы все обернулось по-другому, – замечает Дон Кихот своему оруженосцу, когда они садятся на деревянного коня, который должен перенести их по воздуху на другой конец света, – никакое коварство не сможет помрачить ту славу, которой мы себя покрываем, решаясь на этот подвиг» (II, 41).
Юмор Сервантеса, таким образом, обнажает недостаточность самой этики «доблестных дел». Объективные условия для этой этики – как и для ее политики, например у Макиавелли, когда он исходит из героической личности, создающей государство, – играют роль «судьбы», рокового стечения обстоятельств, которое может погубить дело героя и его самого, но не сломить его волю или умалить его славу. Разумеется, «доблесть» в любом деле – государственном, военном, художественном – предполагает опыт, ученье у образцовых мастеров, знание материала своего ремесла, знание жизни, условий деятельности. Сам Дон Кихот (и это, быть может, всего комичнее!) исходит из «опыта, который никогда не лжет и не обманывает» (II, 16), неопровержимо доказывая Санчо, что волшебники превратили его могучего противника, рыцаря Белой Луны, в простого бакалавра Самсона Карраско. Но что только не входит в полуфантастический «опыт» XVI века, отягощенный грузом средневековых представлений! И «стечение светил», и ведьмы, и духи, и многое другое, что «и не снилось нашей мудрости» и что нельзя предвидеть, о чем и тревожиться не должен доблестный герой.
На языке рыцарских романов и Дон Кихота независимая от героя жизнь часто, слишком часто, выступает в виде волшебников («рок или волшебники»), которые все время чинят ему козни и превращают великанов в ветряные мельницы, а грозные армии противника – в стадо баранов. Эти волшебники «вольны обрекать меня на неудачи, но сломить мое упорство и мужество они не властны». Все дело, таким образом, в упорной человеческой воле. Ирония Сервантеса, таким образом, двойственна. Ее предмет – не только жалкие общественные условия, в которых действует герой, но и игнорирование условий, превращение доблести в самоцель. На беспредельное мужество и самоотверженность героя жизнь реагирует, как вызванный Дон Кихотом на единоборство лев, который, «не обращая внимания на Дон-Кихотово ребячество и молодечество, повернулся и, показав Дон Кихоту зад, прехладнокровно и не торопясь снова вытянулся в клетке» (II,17).
В XIX–XX веках часто удивлялись «неистовой жестокости» автора к благородному герою, которого он на протяжении всего рассказа подвергает величайшим унижениям, более горестным для Дон Кихота, чем все поражения. Но великий реалист Сервантес исходит из подлинно народной, не сентиментальной точки зрения в оценке субъективной доблести Дон Кихота, который «стоит на одном месте, обойденный реакцией и народною мыслью»[155]. И сам Дон Кихот под конец своей истории выказывает больше здравого смысла и новую, необычную для него форму героического мужества, когда уже не сваливает вину за свое поражение на волшебников, но берет ее всецело на себя: «я также был кузнецом своего счастья, но я не выказал должного благоразумия, меня погубила моя самонадеянность» (II, 66). Правда, речь идет всего лишь о том, что он не учел возможностей тощего Росинанта в поединке с могучим конем рыцаря Белой Луны…
Смысл донкихотской ситуации, ее значение для судьбы ренессансных идей вырисовывается перед читателем и осознается самим автором лишь постепенно. В первой части Дон Кихот бредит рыцарскими романами и кажется просто сумасшедшим, хотя уже в эпизодах освобождения мальчика и каторжников выступает благородная его цель и характер безумия как наивной идеализации человека и мира. Во второй части о клиническом помешательстве не может быть и речи. Дон Кихот здесь обнаруживает больше здравомыслия, он не принимает всех встречных за рыцарей и великанов, изменяет «своему обыкновению называть все постоялые дворы замками» (II, 59) и даже считает, что «отступление не есть бегство», а «храбрость отличается от безрассудства» (II, 28). Но как раз в этой части резче всего проявляются его «разумные безумства», в особенности во время пребывания у герцога.
Главы о советах Дон Кихота Санчо Пансе, вступающему в должность губернатора, могут послужить здесь примером. Сервантес находит, что на сей раз его герой «и в рассудительности своей и в своем помешательстве дошел до наивысшей точки». Ибо, как и на протяжении всей истории, «он начинал нести околесную только тогда, когда речь заходила о рыцарстве, рассуждая же о любом другом предмете, выказывал ум ясный и обширный, так что поступки его неизменно расходились с его суждениями, а суждения с поступками» (II, 43). Однако в своих советах Санчо Пансе Дон Кихот ни разу не заводит речь о рыцарстве! Все его советы гуманистически «мудрые». В чем же «наивысшая точка помешательства»?
Очевидно, лишь в том, что суждения сами по себе правильные, обнаруживающие «ум ясный и обширный», безумны как совершаемые в отрыве от обстоятельств поступки. Даже Санчо видит их неуместность: «Я отлично понимаю, что ваша милость учит меня вещам благим, святым и полезным, но могут ли они мне пригодиться, раз я их все до одной позабуду?». Единственное, что новый губернатор способен запомнить, это советы не отращивать ногтей и жениться вторично, коли представится случай. Простодушие Дон Кихота в том, что он эти советы записывает для неграмотного Санчо (который тут же теряет бумажку). Безрассудна его вера в реальность губернаторства Санчо, в то, что все теперь зависит от самого Санчо («ты должен поставить себе за правило и твердо наметить цель – добиваться своего в любом деле, а небо всегда споспешествует благим желаниям»). Безумна здесь идея, что в Испании XVII века «каждый – сын своих дел» и «наша судьба в наших руках», – игнорирование обстоятельств герцогского «острова». Помешательство героя – прекраснодушная «рыцарская» форма его гуманизма. Ренессансная утопическая вера Дон Кихота в личность, так же как и наивный народный гуманизм Санчо («не боги горшки обжигают»), в конечном счете разумны, но в них нет такта действительности, здесь сказывается испанский и исторический колорит ситуации.
В устах «книжного» рыцаря гуманистические идеи также приобретают книжный и резонерский оттенок. Речь о «золотом веке», когда «не знали двух слов: твое и мое» (любимая тема гуманистов), Дон Кихот произносит в кругу гостеприимных козопасов, и автор сопровождает ее ироническим замечанием, что Дон Кихот с таким же успехом мог бы и вовсе ее не произносить. Просто, взглянув на желуди, «он вспомнил о золотом веке, и ему захотелось поделиться своими размышлениями с козопасами» (I, 11). Рассуждение о великом искусстве поэзии, о том, что короли и вельможи чтят поэтов (любимый мотив художников Возрождения) и награждают их по заслугам (II, 16), звучит, если вспомнить судьбу самого Сервантеса, как донкихотское комическое смешение реального с должным. Сама «универсальность» героя преподносится автором иногда в буффонном свете. Если бы не помыслы о рыцарстве, то не было бы такой вещи, чего бы Дон Кихот не мог сделать, «как, например, клетки для птиц или зубочистки» (II, 6) (единственные изделия, производство которых дозволялось законом в Испании для дворянина и не считалось зазорным).
В «Дон Кихоте», по словам Лафарга, Маркс видел «эпос вымиравшего рыцарства, добродетели которого в только что народившемся мире буржуазии стали чудачествами и вызывали насмешки»[156]. Сервантес при этом явно сближает добродетели вымершего рыцарства с идеалом универсальной личности, с этикой доблестных дел завершающегося века Возрождения, обнажившей свой утопический характер. В этом жизненное основание национально-испанского сюжета о странствующем рыцаре Дон Кихоте и всеевропейское его значение.
Отражение в донкихотской ситуации кризисной фазы развития освободительных идей с замечательной тонкостью подметил Герцен в статьях и письмах 50–60-х годов. Герцен тогда переживал духовный кризис, который, по словам Ленина, был следствием поражения буржуазных иллюзий в социализме после 1848 года, «порождением и отражением той всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела»[157]. Деятелей буржуазной революции, переживших период революционности буржуазии и не понимавших новых исторических задач, Герцен сближает с героем Сервантеса, замечая, что «Дон-Кихот революционных кругов стоит своего рыцарственного предшественника»[158]. Во французском обществе после 1848 года Герцен наблюдает тип «старика 89 года, доживающего свой век на хлебах своих внучат, разбогатевших французских мещан»[159]. «Это вершины гор, которыми заключается хребет XVIII столетия… Дальше этим вулканическим напором идти нельзя»[160].
Герцен мечтал о художнике, который бы воплотил современный ему тип Дон Кихота революции «в черную, страшную поэму», о «надгробном лауреате этого мира». Однако крупнейший художник Франции этих лет, Флобер, предпочел иной вариант донкихотской темы. Его г-жа Бовари, антиромантический образ, подобно герою Сервантеса, видит мир через книги, но интересы «прекраснодушной» героини весьма далеки от пафоса служения угнетенным, и уже ничего общего с Дон Кихотом не имеет претендующий на гражданскую доблесть «борец за принципы 93 года», лицемерный и преуспевающий болтун, аптекарь Омэ.
«Рыцарский предшественник» эпигонов буржуазной революции не революционер, но воплощает в период реакции устремления великой революционной эпохи. Если Белинский определил социально-психологическую сущность типа Дон Кихота, то Герцен, характеризуя современных ему донкихотов революции, вместе с тем раскрыл историческую основу сюжета Сервантеса и его героя, как человека, «пережившего свой идеал», одного из «людей последнего прилива, оставленных отливом в тине и слякоти»[161].
IV. Донкихотская пара и типическое в реализме Возрождения
«Мы с ним составляем чрезвычайно дружную пару – ему суждено было действовать, мне описывать» – заключительные слова о Дон Кихоте премудрого Сида Ахмета в обращении к своему перу не только ироничны. Коллизия, порожденная уходом века Возрождения, нашла в Сервантесе художника, который увековечил ее своим юмором, а герой из Ламанчи – летописца, о котором мечтал, отправляясь на подвиги. Художник-реалист и герой-фантаст в этом романе сходятся в оценке родившейся новой культуры и дополняют друг друга. Описывая деяния своего героя, Сервантес намечает новый, отличный от сословно-рыцарского тип романа – энциклопедии национальной жизни. Его роман, пользуясь образом великого реалиста XIX века, – зеркало, проносимое по большой дороге, которое, все отражая, над всем творит суд. Но художник этого достигает лишь потому, что «всестороннему» герою, странствующему по дорогам Испании, также «до всего есть дело», и он сознает свое человеческое право творить суд над жизнью. Рыцарский гуманизм Дон Кихота и ренессансный критицизм Сервантеса (национальный герой и национальный писатель) составляют единое целое. Универсальная картина общества дана через деяния универсального человека.
Образ самого Сервантеса, идальго по происхождению, внутренне родствен, особенно в молодости, ламанчскому идальго. Год битвы при Лепанто был знаменательной вехой и в истории Испании, и в биографии ее национального гения. Военное могущество испанской державы в 1571 году достигло зенита, а для Сервантеса начинался героический период его жизни: подвиги воина, алжирский плен, четыре попытки к бегству, с каждым разом все более дерзкие и фантастические, так что «однорукий испанец» становится угрозой спокойствию всего Алжира. Его в молодости воодушевляет девиз эпохи: «стоять на своем до самой смерти», идея Ренессанса – «каждый-сын своих дел». Но обстоятельства ему враждебны, и дела доблести плохо вознаграждаются. На родине о его заслугах уже забыли, и по возвращении из плена он попадает в ряды докучливых идальго, которые осаждают двор, показывая рубцы от ран. Затем – неудачная служба в интендантстве, двукратная долговая тюрьма из-за чужого банкротства, безысходная нищета, даже когда на старости лет «Дон Кихот» принес ему европейскую славу. Образ Сервантеса у читателей XIX–XX веков иногда сливался с его героем, и немало написано биографических и исторических романов на тему о «хитроумном идальго Мигеле Сервантесе де Сааведра».
Своим юмором Сервантес возвышается и над «безумной» формой рыцарства Дон Кихота и над трагическим надрывом героя в конце романа, над отречением от рыцарства Алонсо Доброго. И все же показательно для эстетического идеала Сервантеса, что одновременно с «Дон Кихотом» он создает «образцовый» рыцарский роман «Странствия Персилеса и Сихизмунды» и именно его считает своим лучшим произведением. Он всегда с гордостью вспоминает о героическом годе Лепанто, когда лишился левой руки «к вящей славе правой», и о мужестве, проявленном в Алжире.
Отношение Сервантеса к Дон Кихоту и Санчо Пансе поэтому явно отличается от того, какое они встречают со стороны верноподданных обывателей, для которых не только средства, но и интересы и цели Дон Кихота несуразны. Ирония герцогини по адресу ее «забавных» гостей («Честь и хвала такому сеньору и такому слуге, ибо один – путеводная звезда для всего странствующего рыцарства, а другой-светоч для всех верных оруженосцев»), так же как во вступительных сонетах ирония Амадиса Галльского над Дон Кихотом, его оруженосца Гандалина – над Санчо Пансой, а его дамы Орианы – над Дульцинеей Тобосской, оборачивается против них самих. Самоотверженность Дон Кихота действительно затмила в веках имена всех его книжных образцов, верность Санчо – всех знаменитых оруженосцев, а слава рыцарских романов доходит до потомства лишь через роман Сервантеса. В двух его героях наиболее убедительно, реалистически, изображено «истинное рыцарство» человеческой натуры. Один служит человечеству, другой – человеку, один – идее, другой – ее олицетворению, а образ, вдохновляющий на подвиги, настолько идеален, что ему место только в идеальном мире представлений[162]. Лишь благодаря слиянию с идеями прогрессивной эпохи добродетели старого мира обрели более широкий, не узкосословный смысл и общечеловеческое, обращенное к будущему содержание, а столкновению с «прозаическим» обществом они обязаны комической, донкихотской формой. Пародия на рыцарский роман переросла в последний и самый великий рыцарский роман, а эпос вымершего рыцарства – в памятник гуманизма и в первый роман Нового времени.
Но характер единства художника и его героя в конце Возрождения уже иной, чем у его предшественников – новеллистов, эпиков, драматургов. Между героями Рабле и автором нет различия во взгляде на жизнь. Летописец деяний Пантагрюэля Алькофрибас Назье – один из пантагрюэльцев и вместе с ними считает, что для них все возможно и человеку все дано. Напротив, Сервантес – не «кихотист» и возвышается над своими героями (как обычно романист Нового времени в отличие от рапсода и эпика). Его точка зрения не совпадает ни с донкихотским идеализмом, ни с санчо-пансовским «прозаизмом», но обнаруживается, когда одна из сторон раскрывает ограниченность другой. В обоих романах звучит характерный для этой переходной эпохи мотив «жизнь – театр» (II, 12), но у Рабле это положение имеет более абсолютный смысл: ход времени превращает все – в том числе и обстоятельства жизни, условия деятельности – в условность и роль. У Сервантеса лишь безумный герой превращает реальный мир в фантастическую сказку и театр своих деяний, но объективная жизнь достаточно сильна, чтобы опрокинуть декорации вместе с постановщиком. Двупланное видение жизни у Сервантеса – в донкихотском, «поэтическом» аспекте и санчо-пансовском, «прозаическом», – впоследствии было истолковано немецкими романтиками как «универсальная ирония». Но ирония Сервантеса реалистична, конкретна, и мы ни на минуту не сомневаемся, что шлем Мамбрина – всего лишь тазик для бритья.
Роль объективных условий в романе Сервантеса поэтому значительнее, чем в комическом эпосе Рабле. Различия вариантов «человеческой натуры» здесь более ощутимо определяются положением человека в обществе. Социальные различия для характеров главных героев в более установившемся мире Сервантеса существеннее, чем для психологических контрастов в динамичном и условном пантагрюэльском мире. Противоположность фантаста Дон Кихота и «реалиста» Санчо проходит через все повествование, как отличие идальго от крестьянина, трудовых кругов общества от нетрудовых. Экономическую основу этого контраста объясняет сам Дон Кихот в эпизоде с сукновальными молотами, шум которых ламанчский герой принял за призыв к очередному доблестному приключению: «разве я, рыцарь, обязан знать и различать звуки и угадывать, молоты это или не молоты? А что, если я в жизнь свою их не видел? Это вы, скверный мужик, среди них родились и выросли» (I, 20). В спорах рыцаря с оруженосцем возражения крестьянина Санчо – нередко голос самой действительности и объективных условий, которых не знает или не хочет знать книжный идальго. В зачаточном виде здесь уже намечается донкихотская ситуация, и не случайно идея обзавестись оруженосцем возникает у Дон Кихота только после первого выезда под влиянием практичных советов трактирщика, посвятившего его в рыцари. «Реалистический» Санчо поэтому часто играет роль посредствующего звена между героем и противостоящим ему реальным фоном. Вместе с другими здравомыслящими персонажами оруженосец указывает рыцарю на безумие его дел и даже иногда убеждает вернуться домой.
Однако не следует преувеличивать противоположность между основными героями. Здравый смысл Санчо не выходит за пределы круга предметов его родного села. За околицей, на большой дороге жизни, Санчо не доверяет собственным глазам. Здесь для него, как и для его хозяина, начинается царство чудес, волшебников, завоеванных земель и обещанных островов. Здесь уже «один Бог знает, где тут правда» (II, 16). В материальных расчетах Санчо не больше практичности, чем в героических замыслах Дон Кихота. Губернаторство на «острове» стоит побед над великанами. Дон Кихот лишь один раз обнаружил практическую смекалку, – когда выбрал себе товарищем Санчо: не было и не могло быть у Дон Кихота лучшего слушателя его сказок. Все окружающие поэтому находят, что господин и слуга стоят друг друга: «таких двух сумасшедших… еще не видывал свет» (II, 7), «их обоих словно отлили в одной и той же форме» (II, 1). На фоне родившегося нового мира оба они слишком патриархальны и чужды житейской хитрости, оба простодушны в своем незнании действительности. «И вот за это простодушие я и люблю его больше жизни», – замечает Санчо о Дон Кихоте (II, 13).
Историческая связь между основными образами романа не менее очевидна, чем социальные и культурно-психологические различия. «Такая уж, видно, моя судьба и горькая доля, иначе не могу, должен я его сопровождать, – объясняет Санчо герцогине, – мы с ним из одного села, он меня кормил, я его люблю, он это ценит, даже ослят мне подарил, а главное, я человек верный, так что, кроме могилы, никто нас с ним разлучить не может» (II, 33).
Романтики усматривали в центральной паре некий символ человеческого прогресса, ибо «положительный ум со всеми его общеполезными пословицами и поговорками вынужден все-таки тащиться на смиренном осле за энтузиазмом, который ведет его вперед» (Гейне), поэтому «никогда поэзия не изображала ничего более мудрого» (А. В. Шлегель). Но в этом контрасте заметно преувеличены – вразрез с мыслью Сервантеса – как деловитость ума Санчо, так и способность донкихотского энтузиазма вести человечество вперед.
«Положительный ум» Санчо – в его пословицах и поговорках («Ведь никакого другого капитала у меня нет, как только пословицы да еще раз пословицы», II, 43), в вековой народной мудрости, однако слишком общей, применяемой Санчо кстати и некстати, без учета обстоятельств. Этими пословицами он выводит из себя даже терпеливого и учтивого Дон Кихота, который предупреждает его, что когда-нибудь они доведут его до виселицы, из-за них низложат губернатора вассалы его острова (II, 43). Устная народная мудрость, щедро расточаемая Санчо, так же оторвана от жизни, так же комична, как и рыцарская книжная мудрость Дон Кихота. Она превратилась в «собрание поговорок и изречений, достойных Санчо Пансы»[163], которыми патриархальное «мещанство», ориентируясь в непонятной жизни, реагирует на исторический процесс.
Основные два характера настолько взаимосвязаны, что как бы сливаются в «двуединый» образ «подлинного героя романа» (Гейне). Достоинства и недостатки каждого члена этой пары соответствуют другому, образуя небо и землю единого донкихотского сознания: утопическая мудрость одного – и простоватый здравый смысл другого, бескорыстная самоотверженность – и трогательная преданность, изобретательное воображение хитроумного идальго – и наивная плутоватость добродушного оруженосца («хоть я и плутоват, да зато простоват, и простота моя – от природы», II, 8). Мудрости одного не хватает почвы, а здравому смыслу другого – горизонта. Один безрассудно действует, другой бестолково болтает, но оба лишены такта действительности. Иногда они меняются местами: здравый смысл оказывается на стороне Дон Кихота, а Санчо Панса полон фантастических суеверий. Временами Дон Кихот начинает сыпать пословицами, вызывая удивление даже у своего оруженосца (II, 68), а Санчо под влиянием хозяина – бредить рыцарскими романами. Оба, пролагая себе путь к достойной жизни, «донкихотствуют», каждый на свой лад. Основная ситуация романа – не в противопоставлении героев друг другу, но обоих – времени и обществу.
В донкихотской паре сошлись два общечеловеческих образа литературной и фольклорной традиции многих народов, олицетворяющие идею социальной справедливости. В Дон Кихоте, пройдя через рыцарскую литературу, завершается образ богатыря из героического эпоса. Санчо, введенный в повествование как бедный и многодетный крестьянин, у которого «мозги были сильно набекрень» (I, 7), восходит (через bobo испанского театра XVI века) к «дурачку» из народной сказки. Эпический герой – защитник правого дела и действует в сфере родовой и общественно-государственной, а «дурачок», представитель социально обездоленных, своими неожиданными удачами, сравнительно с более практичными родственниками и соседями, воплощает народную мечту о справедливости, подвизаясь в сфере семейно-бытовой[164]. О своем муже Тереса Панса докладывает герцогине, что в селе «все почитают его за дуралея» (II, 52), но, ко всеобщему удивлению, недалекий Санчо после каждого из своих диковинных странствований возвращается к семье – почти как в сказке! – с прибылью. Бескорыстное, благородное, «высокое» сознание рыцаря – и корыстное, практическое, «низкое» сознание крестьянина не случайно встретились в романе Сервантеса, образуя юмористически окрашенную, неразрывную пару, проникнутую верой в себя и в жизнь.
Но более близко донкихотская пара соотнесена с другими парами литературы Возрождения, где герои морально связаны, хотя находятся на разных ступенях общественной лестницы. Образ героя в литературе Возрождения часто окружен народными персонажами, обычно шутами или играющими роль шутов. Если в раннеренессансной новелле (например, у Боккаччо или в приведенном выше рассказе Саккетти) глупый буффон – пассивный объект забавных проделок умных героев, то в фацетиях и новеллах зрелого Возрождения, в комической поэме, в произведении Рабле и в английском театре шут забавляет здравым смыслом, переводя ситуацию в «низкий» план своими комментариями. Не меньше, чем герой, он конгениален автору («Нужен ум, чтоб создать дурака», – замечает Сервантес). Шут внутренне все более сближается с героем, и они вместе, образуя пару, противостоят окружающему миру. Зрелый и поздний гуманизм (Эразм, Монтень) приходит к выводу, что высшая мудрость и естественная народная точка зрения соприкасаются, а ошибаются только межеумки.
Роль шута при герое играет и Санчо, чьи остроты «способны развеселить самого мрачного меланхолика» (II, 65). Санчо Панса первый по славе «шут» в литературе Возрождения, как Дон Кихот – наиболее знаменитый из ее героев. Двуединство человеческой натуры в обоих вариантах: героическом, просвещенном, всесторонне развитом и комическом, народном, безыскусственном, – достигает кульминационной точки лишь к концу реализма Возрождения. Но на почве Испании и при сопоставлении с новой буржуазной этикой – в донкихотски непрактичной форме (такова же эволюция героя и шута от ранних шекспировских комедий до «Короля Лира»).
Место Сервантеса в истории реализма Возрождения яснее всего видно при сравнении его образов с центральной парой произведения Рабле. Не только гуманистические герои обоих писателей (Дон Кихот, Пантагрюэль – начало «знания»), но и народные партнеры (Санчо, Панург – начало «природы») родственны по характеру. Однако, помимо уже отмеченного различия в отношении автора к герою, сказывается также иная форма типизации. По сравнению с Панургом, который представляет «вкратце все человечество», образ Санчо более народен и патриархален. Типы Сервантеса богаче оттенками, конкретнее и поэтичнее. В испанском крестьянине и идальго более ощутима своеобразная социальная и национальная основа характеристики.
Во французской комической эпопее, памятнике расцвета ренессансной культуры, раскаты смеха Рабле сопровождают уходящий старый мир, и автор Телемского аббатства, путешествуя вместе со своими героями к оракулу будущего, полон безусловного доверия к историческому ходу вещей. В позднегуманистическом испанском романе старомодная «активность» культурного и народного героев обращена преимущественно против абсолютистского строя и буржуазного быта, и эти последние представители патриархального сознания – вместе с тем первые, наряду с героями трагедий Шекспира, наивные критики нового общества. Поэтому только великий испанский писатель создал ситуацию, ставшую образцом для реализма буржуазного общества начиная с века Просвещения, и именно его роман, несмотря на специфические национальные черты, а не произведение Рабле, положил начало новому европейскому роману, как театр Шекспира – новой драме.
Донкихотская пара идейно близка автору – не только ренессансная мудрость Дон Кихота, но и стихийный народный гуманизм его оруженосца. В спорах «героя» с противниками, когда он обосновывает цели «истинного рыцарства», и в комментариях «шута» слышится также голос самого автора. Судьба Дон Кихота, по мере того как он осознает удел «рыцарства» в этом обществе, оказывается и судьбой ренессансного гуманизма, и вывод, к которому он приходит после символического «свинского» приключения, звучит горестно: «справедливая кара небес, постигающая побежденного странствующего рыцаря, в том, что его грызут шакалы, жалят осы и топчут свиньи» (II, 68).
Оружие смеха у Сервантеса обоюдоостро: юмор по отношению к герою, игнорирующему условия, и сатира по отношению к самим социальным условиям. Для ренессансного романа Сервантеса показательно преобладание горькой иронии, смешанной с любовью и восхищением, над отрицательно комическим. «Дон Кихот» остался недостижимым образцом для юмористического положения, открытого Сервантесом, потому, что объект смеха здесь – несравненно чаще герой ситуации – то, без чего нет самой ситуации, – чем объективные обстоятельства, нравы или учреждения, которые могут быть изображены иным способом. Сатира дана в романе, как правило, в скрытой форме и косвенно – через сентенции главных персонажей, безумца и шута, и уже поэтому звучит двусмысленно, тогда как юмор выступает в повествовании, в действиях, поступках и образах.
Нельзя это объяснить только цензурными соображениями, хотя роман и создавался в период деспотического надзора со стороны инквизиции. Испанская литература той эпохи, более чем какой-либо иной, богата смелыми разоблачительными произведениями, начиная с «Селестины» и кончая творчеством Кеведо, младшего современника Сервантеса и величайшего сатирика Испании, подвергавшегося преследованиям, изгнанию, заточению в тюрьму. Надо ли предполагать, что герой Лепанто оказался (как) писатель менее мужественным, чем многие его современники? И следует ли одно шуточное заявление Сервантеса толковать в недостойном автора смысле?[165] В осуществлении великого художественного замысла, в акцентах, важных для созданной Сервантесом ситуации, отцы инквизиторы не были и не могли быть его консультантами.
В «Дон Кихоте» насчитывается 669 действующих лиц. Идальго и крестьяне, священники и монахи, герцоги и дуэньи, купцы и ремесленники, коррехидоры и полицейские, актеры и студенты – все общественные «обстоятельства» для героя, выступившего в защиту справедливости. Но запоминается из этого множества лиц не так много. Огромному большинству образов не хватает колорита, они тусклы. Сервантес в этом смысле поразительно отличается от таких своих последователей, как Филдинг, В. Скотт, Диккенс, у которых яркость образов возрастает в меру перехода от главного героя, часто бледного, к второстепенным и эпизодическим фигурам, которые, по меткому замечанию Честертона, появляются на страницах романа Диккенса на миг, чтобы запомниться навсегда какой-либо единственной незабываемой чертой. Но это потому, что главные герои Диккенса (и даже самый яркий из них, донкихотский мистер Пиквик) несравнимы по масштабу с ламанчским рыцарем, – роль «персонажей-обстоятельств» у более сатирического писателя XIX века значительно важнее. Не то у Сервантеса.
В его романе, где творится суд над национальной жизнью, автора (а вслед за ним и читателя) больше интересуют герой-судья и его помощник, чем все подсудимые, вместе взятые. Сами по себе они часто играют не большую роль, чем стадо баранов или ветряные мельницы, с которыми воюет Дон Кихот.
Быт буржуазного общества, складывающегося в недрах абсолютистского государства, – содержание сатиры плутовского и бурлескного романа XVII–XVIII веков – уже намечен Сервантесом как тема искусства, но ее развитие составляет заслугу позднейшей литературы. Дойдя до эпизода пребывания Дон Кихота у гостеприимного дона Диэго, Сервантес ограничивается несколькими штрихами в описании поместья, заявляя, что он, «переводчик этой истории», почел за нужное опустить описание дома «и прочие мелочи»; это – «сухие перечисления», которые не имеют отношения к «главному предмету» и к тому, что составляет силу его истории, ее правдивости (II, 18). Поданные крупным планом центральные персонажи, заполняя большую часть картины, образуют главный предмет и в известной мере всю ситуацию романа Сервантеса, небо и землю национальной жизни Испании.
Художник Сервантес – не с персонажами-условиями, хотя они побеждают героя, а с безрассудным героем. Его интересует «мудрое» безумие Дон Кихота, пренебрегающего условиями, демонстрирующего удивительные возможности героической натуры, которые таились в сельском идальго Алонсо Кихаде. Эти возможности – не только сказочная смелость и невероятное упорство Дон Кихота, не только изобретательность воображения хитроумного идальго, который творит целый мир и населяет его людьми по образу своему и подобию, – об этом мы уже знаем начиная с первых эпизодов. Развитие действия строится на другом – на новых способностях, которые обнаруживаются каждый раз в образе героя и раскрывают его чуткую к злу в жизни, широкую по интересам натуру.
Но это также новые, до сих пор скрытые возможности по отношению к самому себе, способность Дон Кихота возвыситься над собственным безрассудством и перейти от простого безумия к «мудрому» безумию – переходы всегда неожиданные для окружающих и для читателя. Движение образа начинается уже в первой части, где за книжными галлюцинациями проступает более глубокое, жизненное содержание. Самый резкий переход – ко второй части романа, посвященной третьему выезду Дон Кихота, когда во всей мере обозначается смысл его рыцарской идеи.
Неожиданность этих переходов показывает читателю, что он слишком поспешил со своими окончательными выводами о герое, довольно поверхностно определил его пафос, слишком рано поставил его натуре предел и, подобно окружающим Дон Кихота персонажам, обманулся, заключив, что тот просто помешанный. Таков в начале второй части эпизод встречи с крестьянками из Тобосо, где Дон Кихот «обманул» ожидания и читателя и Санчо, который собирался выдать ему одну из крестьянок за Дульцинею, но герой оказался не таким простоватым. Таково в конце истории духовное исцеление Дон Кихота, когда он сам освобождается от своих иллюзий – к величайшему изумлению своих друзей, безуспешно пытающихся поддержать в нем прежние заблуждения. Критика начиная с XVII века часто находила прояснение сознания героя перед смертью «психологическим чудом». Но этот скачок отчасти подготовлен нарастающим внутренним разладом в душе Дон Кихота (особенно в последних главах), а неожиданность протрезвления завершает развитие характера, поражавшего на протяжении всего романа постоянными переходами от сумасбродства к мудрости. В этих переходах динамизм натуры, ее способность к развитию превосходит наши ожидания и вызывает характерное для искусства Ренессанса изумление перед таящимися в человеческой природе силами, перед ее высотой.
Дон Кихот – сложный психологический образ, но мы (и кажется, будто и сам автор) не видим его изнутри, хотя больше всего нас интересует его душевная жизнь. Мы неясно знаем его «предел», он раскрывается, как герой эпоса, в объективном действии, в удивительных речах и поступках, мотивированных необычным характером. Однако сам характер при этом остается в какой-то мере «в себе» (внутренний монолог новейшего романа был бы здесь невозможен). Это характер более своеобразный, чем у героя древнего эпоса, и даже причудливый. Но его «причуды» еще не случайны, не индивидуально неповторимы, как у позднейших донкихотов; личная страсть героя Сервантеса, ее содержание еще непосредственно связаны с интересами народа и поэтому более принципиальны и высоки, чем обычно у героя романа Нового времени.
Читателям «ложного» «Дон Кихота» Авельянеды, как и другим персонажам романа Сервантеса, при встрече с настоящим Дон Кихотом неясно, кто он и к какому разряду его отнести: «Они уже совсем готовы были признать его за человека здравомыслящего, как вдруг у него снова начинал заходить ум за разум, и они все не могли определить, к какому разряду скорее можно его отнести: к разряду людей здравомыслящих или помешанных» (II, 59).
В этом колебании между смехом и уважением, между комическим и серьезным восприятием, а точнее, в состоянии, совмещающем оба чувства, пребывает и современный читатель «Дон Кихота». В самом деле, не совсем ясно, кто он, этот герой, когда заступается за мальчика-батрака, истязаемого хозяином, которому тут же возвращает его жертву, так как верит «рыцарскому» слову; или когда освобождает каторжников, потому что нельзя превращать в рабов тех, кого Бог и природа создали свободными, а затем требует, чтобы они с той же цепью на шее отправились на поклон к даме его сердца. То ли простак, цепляющийся за прошлое, то ли предтеча, провозвестник будущего. Мы не знаем, к какому интеллектуальному разряду, к какому социальному разряду отнести героя Сервантеса, так как Дон Кихот живет представлениями жизни, в которой окончательно еще не определились «разряды», жизни в брожении, которая, как и герой, еще богата различными «способностями» и исторически возможными путями развития. Он принадлежит переходной эпохе, породившей идеи, необходимые для возникновения нового общества, с которым они оказались несовместимыми. Это сознание, обойденное в настоящем, потерявшее с ним связь, но правое в своем неудовлетворении (хотя его «правота» никому не нужна), в своей «апелляции к будущему» (Луначарский). Короче, это герой донкихотской ситуации.
Образ у Сервантеса находится в непрерывном движении. Характер героя не столько меняется на протяжении истории, не столько становится иным, сколько становится, раскрывается, оказывается более глубоким и богатым, чем мы думали сперва. Безумие и мудрость Дон Кихота уже ясны в первой части романа, но смысл его безумия, то, что оно не просто результат чтения рыцарских романов, характер его мудрости выясняется во второй части. То же можно оказать о Санчо. Обычно утверждают, что во второй части Санчо облагораживается, становится менее корыстным, более преданным. Но еще в главе 30-й этой части Санчо, огорченный расточительством Дон Кихота, собирается, не прощаясь, удрать домой. Наибольшую жадность и плутовство по отношению к Дон Кихоту он проявляет под самый конец истории – в эпизоде «расколдования» Дульцинеи. Однако роль самой корысти в нашем представлении о нем меняется – мы постепенно все лучше узнаем Санчо.
Отношение оруженосца к рыцарю сложное. Здесь и патриархальное почтение крестьянина к образованному идальго, перед которым он чувствует себя «сущим младенцем» (II, 29), и привязанность односельчанина, но также чувство независимости и народная честь общинника Кастилии, где еще с XV века исчезло крепостное право: «ведь не столь велика разница между мной и моим господином, чтобы его омывали святой водицей, а меня окатывали этими чертовыми помоями» (II, 32). В обращении с господином Санчо держится довольно свободно, судит его, подтрунивает, вообще разрешает себе сметь свое суждение иметь. Сочетание в его характере патриархального простодушия и хитрости, наивной доверчивости и лукавства, глупой болтливости и здравомыслия всегда неожиданно, даже для его хозяина (Дон Кихот говорит Санчо: «У тебя хорошее сердце», – а перед тем он его честил: «Мешок, набитый плутнями»). Санчо одновременно и простак и хитрец, «давнишний простофиля и новоиспеченный шут» (II, 31). Два типа слуги: неповоротливая деревенщина, обжора – и ловкий плут, пройдоха, – в нем еще представлены синкретно. Этим он и интересен для окружающих: «Простоватость его подчас бывает весьма остроумна, – замечает Дон Кихот. – И угадывать, простоват ли он или себе на уме, не малое доставляет удовольствие» (II, 32).
Санчо, как и Дон Кихот, способен выйти за пределы прежнего состояния и перейти в противоположное. Мы с удивлением узнаем о бескорыстии корыстолюбивого Санчо, о верности лукавого Санчо, об остроумии тупого Санчо, о проницательности доверчивого Санчо, о соломоновых судах ограниченного Санчо, о воздержанности обжоры Санчо, даже об изяществе речи неотесанного Санчо (II, 58). И в движения характера сказывается не только общение с благородным идальго, не только влияние новых условий («С каждым днем ты делаешься все менее простоватым, все более разумным, – замечает ему Дон Кихот. – И это только подтверждает пословицу не с тем, с кем родился, а с тем, с кем кормился»). Сами условия влияют на героев Сервантеса соответственно их натуре. Об идеальной Дульцинее Дон Кихот говорит, что она заключает в себе величайшие достоинства, «если не явно, то виртуально» (II, 33). «Реалистический» компаньон героя «доблести» (исп. virtud) также богат неожиданно обнаруживающимися скрытыми виртуальными силами. Народ в образе Санчо – наивная, живая, многообразная, многоликая, способная к безграничному развитию основа общества, реальная основа ренессансной утопии Дон Кихота.
Движение жизни в образе Санчо, как и Панурга у Рабле, не столько целенаправленное движение истории, сколько брожение «играющей» природы. Отсюда повороты вспять, возвращение к прежнему состоянию, простоватость после здравомыслия, плутни после бескорыстных поступков – движение, не прекращающееся на протяжении всего повествования. Качество этого характера еще не вполне определилось, Санчо еще не деляческий «положительный ум», как Дон Кихот уже не настоящий герой. «Потолок» возможностей каждого из персонажей донкихотской пары «подвижный», его высота не столько уровень достигнутого развития, сколько объявившиеся потенции наивной натуры. Умные мысли Санчо часто высказывает по простоте душевной, называя вещи своими именами, «иной раз думаешь, что глупее его никого на свете нет, и вдруг он что-нибудь так умно скажет, что просто ахнешь от восторга», – замечает о нем Дон Кихот (II, 32).
Своеобразие ренессансного реализма образов Сервантеса выступает заметнее при сравнении их с образами испанского плутовского романа, в целом принадлежащего реализму эпохи барокко. Санчо настолько же отличается от пикаро, насколько Дон Кихот – от компаньона пикаро, от нищего идальго. Плут, рыцарь социального дна, несмотря на страсть к приключениям, – первый «деловой» (на испанский лад!) герой буржуазного романа в откровенно аморальной форме, преодоленной романом Просвещения. Пикаро – либо мошенник с самого начала (у Алемана и Солорсано), либо из простачка становится мошенником на определенном этапе повествования (у Кеведо). Плут, в отличие от Санчо, образ внутренне однородный в своем качестве, он, по замечанию Кеведо, «меняет место, не меняя своих привычек и судьбы». Метаморфозы архидинамичного «испанского Протея» и их импульсы – чисто внешние. У пикаро меняется профессия, у Санчо Пансы – характер.
Сервантес возмущается искажением его замысла у Авельянеды, так как тот в своем талантливом (многократно издававшемся и переведенном на ряд языков) романе, принадлежащем послеренессансному искусству, упростил его образы, убрал игру светотени и фиксировал в них отрицательное – Дон Кихот выведен сумасшедшим, Санчо плутом. Сравнивая настоящего Дон Кихота Хорошего с мнимым Дон Кихотом Плохим, персонаж Авельянеды, появляющийся в романе Сервантеса, приходит к выводу, что Дон Кихота Ламанчского «славного, отважного, благоразумного, влюбленного, искоренителя неправды» и т. д. подменили, а также подменили Санчо, который у Авельянеды «больше обжора, чем краснобай, и не столько шутник, сколько просто глупец» (II, 72).
Подобно другим шутам и простакам литературы Возрождения, Санчо – олицетворение наивной, «виртуально» богатой Природы. Способность «дурака» сказать умное слово – ненароком или по природному здравому смыслу – многозначна. Комические рассуждения Санчо звучат, подобно выступлению Мории в «Похвальном слове Глупости» Эразма, то как юмор, то как сатира, то как ирония, явная или скрытая. Пословицы и поговорки Санчо по функции также полисемичны. Это и жизненная мудрость народа, в противовес книжным знаниям идальго, и ограниченность патриархального рассудка рядом с разумом; ирония Санчо над Дон Кихотом и ирония автора над Санчо; сатирическая оценка окружающих – и юмористический взгляд на самого себя. Переходы в тоне рассуждений оруженосца, в его сознании, даже более неожиданны, чем чередование безумия с мудростью у рыцаря. Реплики Санчо, то простодушные, то лукавые, двусмысленны, в отличие от разумных речей Дон Кихота.
Возможности, заложенные в безыскусной натуре Санчо, развиваясь под влиянием жизненного опыта, накапливаются и выходят на свет, поражая читателя внезапными изменениями образа. Сам автор удивляется этим «скачкам», например в 5 главе второй части, рассказывая о «рассудительном и забавном разговоре, происшедшем между Санчо Пансой и его женой Тересой Панса». Санчо здесь не только высказывает «вещи столь тонкие, что невозможно допустить, что они исходили от него», но и «разговаривает в таком стиле, которого нельзя было ожидать от его ограниченного ума». Его жена вынуждена отметить, что, став странствующим рыцарем, Санчо начал говорить так возвышенно, что никто его понять не может (дойдя до этой главы, Сервантес заявляет, что считает ее поэтому «подложной»). Неожиданность «культурного роста» Санчо лишь гротескно обнажает натуру народного образа, ее способность к «мутации». Эта способность демонстрируется на протяжении всего романа, и на ней по преимуществу основан комизм «естественной природы» в донкихотской паре.
Самый яркий пример такой «мутации» – поведение Санчо во время губернаторства, неожиданное для окружающих и для читателей. Перед этим Дон Кихот в беседе с герцогом сомневался, имея в виду бестолковость и глупость Санчо, стоит ли посылать его управлять островом, но выразил надежду, что после того, как сам ему «хорошенько прочистит мозги» своими наставлениями, тот будет достоин этой должности (II, 32). Герцогиня, в свою очередь, подозревала, что новоиспеченный губернатор окажется алчным и будет творить неправый суд (II, 36). Читатель на основе всего предыдущего готов к ней присоединиться, тем более, что, отправляясь губернаторствовать, Санчо сообщает в письме к жене, что охвачен «величайшим желанием зашибить деньгу», как «все вновь назначенные правители», и что раз «козла пустили в огород, в должности губернатора мы свое возьмем» (II, 36). Но Санчо на деле опроверг опасения того и другого порядка и, вопреки ожиданиям, проявил замечательный ум, справедливость и полное бескорыстие. Слова дворецкого, что дело, которое началось с шутки, кончилось всерьез, а те, кто хотел кого-то одурить, сами в дураках остались, могут быть отнесены не только к шутке герцога и его компании, но и ко всей истории Дон Кихота и его оруженосца.
Губернаторство Санчо важнейшая часть самого большого эпизода романа – пребывания Дон Кихота в герцогском замке. Это кульминационный пункт всей фабулы, и здесь раскрывается истинный смысл иронии Сервантеса и ситуации, основанной на непрактичной и «ненужной» правоте.
Эпизод начинается как «осуществленная мечта» и «исполненное обещание». Предшествуемый славой о своих подвигах, герой появляется в замке герцога, где его встречают как светоч рыцарства. И «тут он впервые убедился и поверил, что он не мнимый, а самый настоящий странствующий рыцарь» (II, 31). Санчо также дождался наконец заветного «острова». Но это и эпизод наибольшего унижения героев. Прекраснодушие Дон Кихота и наивность Санчо, который «во всем сомневается, но всему верит» (II, 32), безумие представления, что в этом обществе «человек кузнец своего счастья», – доходят здесь до высшей точки. Если в первой части романа Дон Кихот сам превращал мельницы в великанов, то во второй, начиная со встречи с мнимой Дульцинеей, его обманывают другие. В центральном эпизоде этой части его безумие, из-за которого он служит предметом издевательских проделок, полностью раскрывается как фантастическое представление, будто мир – благодатное поприще для доблестных дел. Славный рыцарь становится шутом, а шут по воле сиятельных лиц – правителем острова. Лишь теперь вполне выявляется, что объективные обстоятельства (или «волшебники»), которые все время были враждебны герою и сводили на нет его дела, – это социальные обстоятельства.
Но в эпизоде величайшего унижения Дон Кихота убедительней, чем когда бы то ни было раньше, оправдана идея истинного рыцарства.
В замке герцога на деле проверяется теория о преимуществе благородства доблести над благородством родовитости. Ламанчский идальго даже в навязанной ему роли шута нравственно поднят над праздным миром привилегированных. В достойной и тактичной манере обращения с людьми независимо от их сана выступает превосходство героя, – как бы в подтверждение его давнишних слов, что, с тех пор как он сделался странствующим рыцарем, он стал любезным, благовоспитанным, великодушным, учтивым, кротким и терпеливым (I, 50). Последний подвиг Дон Кихота в защиту безвинных, заступничество за обесчещенную дочь бедной дуэньи, соотнесен с первым подвигом, освобождением мальчика, но на сей раз, впервые во всей истории, увенчивается успехом. Обрамляя повествование о деяниях героя, эти два подвига доказывают, что в «железном веке» действительно царит несправедливость, что необходимо вмешательство в ход жизни, что Дон Кихот прав, при всем комизме средств, которые лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств привели один раз к торжеству справедливости.
В герцогском мире социального неравенства к Дон Кихоту впервые обращаются за помощью сами обездоленные, и странствующий рыцарь, ранее отказывавшийся сражаться с «чернью», здесь вступает в поединок с лакеем, впервые нарушив сословно-рыцарский канон, но следуя духу истинного рыцарства. По своему положению рыцарь все больше сближается не с влюбленными безумцами Хризостомом и Карденио, как в первой части, а с социально бесправными, вроде дуэньи Родригес, и вместе с нею подвергается жестоким шуткам герцогской четы и их фаворитов. Покидая замок, он произносит знаменательную речь о свободе («свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот… с ней не могут сравниться никакие сокровища»), об освобождении «от благодеяний и милостей», от «пут, стесняющих свободу человеческого духа» (II, 58). Это начало освобождения от иллюзий о доблести, достойно награждаемой, начало нисходящей фазы его судьбы, которая приводит к осознанию его «всечасного умирания» (II, 59), к окончательному прозрению и смерти. Движение образа Дон Кихота от Алонсо Кихады до Алонсо Доброго – движение натуры, постоянно возвышающейся над собственным состоянием, над жизненными обстоятельствами, дошедшей до безумного их игнорирования, но также и до осознания своего безумия и неразумия обстоятельств, до «моральной победы» над обстоятельствами.
Параллельно развивающаяся история губернаторства Санчо – та же нравственная победа, но на иной лад, донкихотского героя над жалкими общественными условиями, над персонажами-обстоятельствами. На этот раз мы не в рафинированной среде высокопоставленных бездельников, инертной, далекой от национальных интересов, а в самой гуще социальной жизни и ее материально-правовых запросов, на реальной «санчо-пансовской» земле. Рассказ о десятидневном правлении Санчо, трактуя самый больной для Испании XVII века политический вопрос, заканчивается, вопреки желанию тех, кто устраивал этот фарс, к чести оруженосца. Здесь подтверждается мысль Дон Кихота: «чтобы быть губернатором, не надобно ни великого умения, ни великой учености… важно добросовестно относиться к делу. Советники же и наставники ему всегда найдутся» (II, 32). Здравый смысл народа в лице Санчо (который ссылается на пример легендарного короля Вамбу, простого крестьянина, призванного от сохи управлять государством) и гуманистическая мудрость Дон Кихота сходятся в недоверии ко всякого рода профессионалам-законникам абсолютистского порядка, к созданной ими сложной системе управления и к запутанной механике ее обстоятельств. Простодушные «законоположения великого губернатора Санчо Пансы» долго не утратили своей силы и Баратарии, язвительно замечает Сервантес по адресу чиновников, которые кичатся особыми государственными талантами.
Основное в главах о губернаторстве Санчо, однако, не эти законы, в которых, как и в соломоновых его судах, очевиден налет юмористически-условного и сказочно-фольклорного. Гуманист Сервантес свободен от юридического идеализма, от веры во всеспасительную силу законов, отличавшей приверженцев абсолютистской регламентации («издавай не издавай, толк один», – замечает Санчо, II, 55). Он сатирически относится к обстоятельствам официальной жизни и к тем, кто их олицетворяет. Подлинную жизнь и нормальную натуру человека в донкихотской ситуации воплощают те, кто способен подняться над этими обстоятельствами. Гуманистический тон в главах о губернаторстве – прежде всего в неожиданной «мутации» Санчо, когда тот становится правителем Баратарии. Наивный крестьянин здесь поднят не только над официальными порядками Испании и обычным уровнем правителей, но и над собственническим миром, привившим ему эгоизм и жадность к легкой наживе. Санчо здесь показывает, что он способен возвыситься над самим собой. Юмор Сервантеса – поэтизация человеческой активности, способной при благоприятных обстоятельствах на многое, способной изменить мир, создавать мир, творить собственную судьбу, – стихийное понимание решающей роли сознания при определяющей роли условий.
Поэтому критика ренессансной утопии о человеке – творце собственной судьбы в последнем памятнике реализма Возрождения, несмотря на горький оттенок, лишена пессимизма художников барокко, и рассказом о рыцаре Печального образа достойно завершается эволюция ренессансного гуманизма.
«Дон-Кихот» – замечательный образец того, как в истории искусства происходит художественное открытие, переход конкретной национально-исторической ситуации в тему общечеловеческого и вечного значения. «Дон-Кихоты, – писал Белинский, – были возможны с тех пор, как явились человеческие общества, и будут возможны, пока люди не разбегутся по лесам»[166]. Однако, как мы видели выше, сюжет Сервантеса и его герой не имеют ни литературных, ни фольклорных предшественников и возникают в произведении Сервантеса как отражение современной жизни, всецело породившей донкихотское положение. Ситуация европейского значения (кризис ренессансного гуманизма) в специфических условиях одной страны (кризис испанской культуры) выступила благодаря освещению Сервантеса, употребляя выражение Ленина, как «шаг вперед в художественном развитии всего человечества».
Но тем самым сюжет «Дон Кихота» сыграл исключительную роль и в истории комического. До Сервантеса сфера комического ограничивалась низшим, собственно смешным и подходила под Аристотелево определение комедии как «воспроизведения худших людей, но не во всей их порочности, а в смешном виде». Но конец века Возрождения, кризис его идеалов, осознанных творцом «эпоса вымершего рыцарства» в их связи, с исчезновением добродетелей многовековой культуры, показал, что основанием комического может быть не только «худшее» и «порочное», но и «лучшее» и «благородное». «Дон Кихот» положил начало высоко комическому в искусстве слова, высокому виду юмора[167]. «Высокий смех» – это смех над высоким, а в «Дон Кихоте» – над самым высоким и благородным, что коренится в натуре человека, над его верой в свое высокое назначение, в свой разум и волю, в жизнь и в свои силы, над его общественно деятельной («вмешивающейся») природой – тогда, когда высокое потеряло контакт с временем и с жизнью и стало субъективно высоким и смешным. В этом тайна вечной свежести последнего художественного создания реализма Возрождения.
Примечания
1
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. XIV. С. 476.
(обратно)2
Там же. С. 673.
(обратно)3
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. XIV. С. 673.
(обратно)4
См.: Martin A. Soziologie der Renaissance. Zur Physiognomik und Rhythmik der bürgerlichen Kultur. Stuttgart, 1932.
(обратно)5
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. XIV. С. 476.
(обратно)6
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. XIV. С. 476.
(обратно)7
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. XIV. С. 476.
(обратно)8
Там же. С. 475.
(обратно)9
«Абстракция государства как такового характерна лишь для нового времени, так как только для нового времени характерна абстракция частной жизни. Абстракция политического государства есть продукт современности.
В средние века существовали крепостные, феодальное землевладение, ремесленная корпорация, корпорация ученых и т. д.; т. е. в средние века собственность, торговля, общность людей, человек имеют политический характер… Всякая частная сфера имеет здесь политический характер или является политической сферой; другими словами, политика является также характером частных сфер. В средние века политический строй есть строй частной собственности, но лишь потому, что строй частной собственности является политическим строем. В средние века народная жизнь и государственная жизнь тождественны. Человек является здесь действительным принципом государства, но это – несвободный человек… Абстрактная, рефлектированная противоположность возникла лишь в современном мире» (Маркс К. К критике гегелевской философии права. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-изд. Т. 1. С. 254–255).
(обратно)10
Характерно, что в повестях Лоджа и Чосера, у которых Шекспир нашел фабулу своей комедии, изгнанные несправедливо герцог и прототипы Орландо под конец побеждают своих врагов. Шекспир, беря под сомнение реальность «торжества добра над злом», опускает момент решительной схватки, иронически неожиданно разрешая коллизию ничем не мотивированным добровольным раскаянием врага.
(обратно)11
К. Маркс и Ф. Энгельс о литературе. Гослитиздат. М., 1958. С. 276.
(обратно)12
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. XIV. С. 476.
(обратно)13
На фантастике свободных страстей основаны часто ситуации и в рыцарской поэме Возрождения. Боярдо и Ариосто представляют, в отличие от Рабле и Сервантеса, «романтическую линию». Но гипертрофия условного придает здесь фантастике формалистически односторонний характер.
(обратно)14
В последующих изданиях, начиная с 1508 г., значительно расширенное и вмещавшее свыше двух тысяч изречений и выражений.
(обратно)15
Erasmus Desiderius. Opus epistolarum recognitum per Allen. V. I–XI. 1906–1947. В 1947 г. письма Эразма были изданы в немецком переводе в пяти томах.
(обратно)16
Huizinga J. Erasmus. Deutsch von Werner Kaegi. Basel, 1936. S. 84.
(обратно)17
Гаргантюа и Пантагрюэль. Кн. 3. Гл. 37.
(обратно)18
Современники чувствовали идейную и стилевую связь «Утопии» с «Похвальным словом Глупости», и многие даже склонны были приписать авторство первой, критической, части «Утопии» – той, где разоблачено неразумие нового капиталистического порядка вещей, – Эразму. Литературными своими корнями гуманистическое произведение Мора восходит как известно, также к античности, но не к Лукиану, а к диалогам Платона и к коммунистическим идеям его «Государства». Но всем своим содержанием «Утопия», как и «Похвальное слово», связана с современностью, с социальными противоречиями аграрного переворота в Англии. Более разительно сходство основной мысли: и здесь и там своего рода «мудрость наизнанку» сравнительно с господствующими представлениями. Всеобщее благоденствие в мудром строе «Утопии» достигается не благоразумным накоплением частной собственности, а ее отменой, – это звучало не меньшим парадоксом, чем речь Мории. Известно, что Эразм принимал участие в первых трех изданиях «Утопии», которую он снабдил предисловием.
(обратно)19
В первоначальном тексте «Похвального слова» нет никаких внешних подразделений. Принятое деление на главы не принадлежит Эразму и появляется впервые в издании 1765 г.
(обратно)20
В письме к Эразму от 30 ноября 1532 г. – год создания «Пантагрюэля»! – Рабле восторженно называет своего учителя любимым «отцом», «матерью, его воспитавшей и утолившей у своей груди его жажду знания», «источником всякого творчества нашего времени».
(обратно)21
См., например, большую работу Bataillon M. Erasme et l'Espagne. Paris, 1937. «Нужно отказаться от вульгарного представления об Эразме как большом насмешнике, обязанном своей славой „Похвальному слову Глупости“. Это не больше как развлечение, написанное за неделю отдыха» (p. 78). Настоящий Эразм – «сын эпохи, которая превозносила мудрое незнание» или «внутреннее знание божественного» (p. 372). См. также: Margaret Mann Philipps. Erasme and the Renaissance. London, 1949. Смысл «загадочной маленькой книжки» (p. XIX) – это «недоверие к разуму, осуждение гордыни интеллекта» и «уважение к сверхразумному» (p. 101).
(обратно)22
Любопытно заглавие одного французского перевода «Слова», вышедшего в 1715 г.: «Похвальное слово Глупости, произведение, которое правдиво представляет, как человек из-за глупости потерял свой облик, и в приятной форме показывает, как вновь обрести здравый смысл и разум».
(обратно)23
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 2. С. 143.
(обратно)24
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 2. С. 143.
(обратно)25
Диалоги «Кораблекрушение», «Неосторожный обет» и «Паломничество», осмеивающие пилигримов и обычай давать обеты святым; «Рыцарь без лошади» – кичливость дворян; «Славное ремесло» – кондотьерство; «Разговор аббата и образованной женщины» – обскурантизм монахов; «Похороны» – вымогательство и конкуренцию орденов и др.
(обратно)26
Стиль «Похвального слова» в силу пародийной свой функции не может дать представления об этих достоинствах прозы Эразма. Напыщенный тон ученых периодов, в изобилии уснащенных цитатами и ссылками, порой совершенно бессмысленными, сочетается с вульгарной развязностью, где Глупость то и дело срывается с взятого тона, высказываясь откровенно и напрямик, как верно замечает переводчик «Похвального слова» П. К. Губер. В целом этот стиль прекрасно передает «дух риторов нашего времени» (гл. 6), язык которых служит Мории образцом: сочетание взятой напрокат учености с демагогической грубостью и страстностью уличных проповедников.
(обратно)27
Quien dice mal de Erasmo o es fraile, o es asno.
(обратно)28
Например, в гл. 63. Так как в цитате из «Экклезиаста» безумие и глупость упомянуты после мудрости, то это-де доказывает превосходство глупости, ибо «второе место не в пример почетней».
(обратно)29
См. выше трактовку Маргарет Мэн Филиппс.
(обратно)30
См.: Drummond R.– B. Erasme his Life and Character. London, 1873. P. 200.
(обратно)31
Для XVI в. следует иметь в виду, что в это число вошли издания отдельных частей по мере опубликования автором. «Третья книга» выходила отдельно 11 раз, «Четвертая книга» – 10 раз и т. д. Таким образом, фактическое количество изданий всего текста примерно одинаково для каждого столетия с XVI до XVIII.
(обратно)32
France A. Rabelais, Oeuvres complètes. T. XVII. éd. Calmann-Lévy. P., 1928. P. 215.
(обратно)33
Boulanger J. Rablais à travers les âges. P., 1925; Sainéan L. L'infl uence et la réputation de Rabelais. P., 1930.
(обратно)34
См.: «Философские письма» (1734), «Письмо его высочеству принцу о Рабле» (1768), «Письмо к дю Деффан» (1760).
(обратно)35
Это издание – так называемое Variorum – под редакцией Эсмангара и Жоанно стало в раблеведении притчей во языцех. Но аллегорическое понимание Рабле находит сторонников даже в наше время. Одна из новейших книг о Рабле сопровождена «кратким предположительным (!) ключом к Пантагрюэлю», списком в сорок одно название (см.: Charpentier J. Rabelais et le génie de la Renaissance. P., 1944. P. 313–314).
(обратно)36
Ginguené P. De l'autorité de Rabelais dans la révolution présente et dans la constitution civile du clergé. P., 1791.
Имеется в виду декрет 12 июля 1790 года о выборности священников и независимости французской церкви от Рима.
(обратно)37
Замечания Бальзака о Рабле см. в сборнике «Бальзак об искусстве» (М.; Л., 1941. С. 129, 157–159, 475), составил В. Р. Гриб. Разумеется, «чуждость» Бальзака Рабле относится только к политической программе «Человеческой комедии». Художник Бальзак в динамическом понимании жизни и ее диалектики, как и в методе типизации, более чем кто-либо из французских писателей – что бы он ни говорил, – внутренне ассимилировал влияние Рабле, которое даже проступает на поверхность в отдельных эпизодах его романов (например, описание пира у Тайфера в «Шагреневой коже», внушенное сценой пиршества Грангузье в V главе «Гаргантюа»).
(обратно)38
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. XXV. С. 394…
(обратно)39
Lefranc A. Rabelais. P., 1953. P. 32. Таким образом, на место старой легенды о Рабле, ключом к которой был образ беспечного и чувственного Панурга, новая критика, сближающая автора с мудрым и «жаждущим знания» Пантагрюэлем, приходит в конце концов… к тому же Панургу, который «ничего на свете не боится, кроме опасности», и готов отстаивать свои убеждения «вплоть до костра исключительно».
(обратно)40
Там же. P. 69, 96.
(обратно)41
Febvre Lucien. Le problème de l'incroyance au XVI siècle. La réligion de Rabelais. P., 1942. В дальнейшем цифры указывают страницы по изданию, вошедшему в серию «Эволюция человечества». Библиотека исторического синтеза. Под ред. Анри Берра. № 53. Париж, 1947.
(обратно)42
Febvre L. Origene et Des Periers ou l'énigme de Cymbalum mundi. P., 1947.
(обратно)43
Не потому ли почитатели Февра называют его современным Мишле? См.: предисловие А. Берра к цит. соч. Февра.
(обратно)44
«François Rabelais. Ouvrage publié pour le 400 an de sa mort, 1553–1953». Génève, 1953.
(обратно)45
Naudon P. Rabelais Franc Maçon, P., éd. Balance. 1954. Автор ссылается на своего предшественника Пробст-Бирабена, который уже издал в Ницце в 1949 г. книгу «Рабле и секреты Пантагрюэля», где эти «секреты» расшифрованы как «герметические символы в духе астрологии, алхимии и аритмософии».
(обратно)46
См.: Daix P. Sept siècles de roman. P., 1955.
(обратно)47
Lefebvre Henri. Rabelais. P., 1955. P. 10.
(обратно)48
Рабле заимствовал имя героя из народных драм начала XVI в., где Пантагрюэлем зовут водяного беса, который терзает пьяниц, бросая им в рот соль; иногда это персонификация самой жажды.
(обратно)49
Цитаты из романа Рабле даны в большинстве в переводе Н. М. Любимова. Римская цифра обозначает книгу романа, арабская – главу.
(обратно)50
«Пантагрюэль» был опубликован раньше «Гаргантюа» и затем составил вторую книгу произведения Рабле.
(обратно)51
В замечательной гротескной поэме итальянского поэта Пульчи «Великий Морганте» (1483), во многом близкой по духу к «Гаргантюа и Пантагрюэлю», добродушный великан Морганте побежден Роландом, обращен им в христианство, приобщен к культуре, но чудовище еще не наделено мудростью и пребывает на службе у героя. В народной «хронике», послужившей источником для первых двух книг произведения Рабле, родители Гаргантюа, Грангузье и Галемель созданы чарами волшебника Мерлина, чтобы они помогли королю Артуру в его войне с Гогом и Магогом, а их сын также служит этому королю. Образ чудовища у Пульчи и в народной хронике находится на полпути в истории своей трансформации, завершенной у Рабле.
(обратно)52
См.: Stapfer P. Rabelais, sa personne, son génie et son oeuvre. P., 1885. P. 393.
(обратно)53
См.: Lefebvre H. Rabelais. P., 1955. P. 40, 203.
(обратно)54
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. XXIV. С. 429. Письмо Энгельса Марксу от 10 декабря 1873 г.
(обратно)55
Намек на репутацию папы Александра VI Борджиа как отравителя.
(обратно)56
«Ирония – дочь Времени» Л. Февра – перефразировка слов Рабле, но этому выражению новейший историк придает обратный смысл. У жрицы Бакбук, когда она ссылается на Фалеса, Время раскрывает Истину и питает уверенность («ибо только временем были прежде и временем будут после открыты все сокрытые вещи»). У Л. Февра время скрывает истину – а заодно и комическое – и сеет неуверенность.
(обратно)57
Изречение Аристотеля, из его труда «О частях животных».
(обратно)58
А. Н. Веселовский прав, возводя образ Панурга к типу шута в литературе и театре Средних веков и Возрождения, но это – формально-генетическое объяснение, недостаточное даже для Панурга как ренессансного образа. С другой стороны, все образы произведения – в том числе и образ рассказчика, мэтра Алькофрибаса Назье, – пронизаны шутовством. Буффонное начало – способность смеяться и смешить – необходимая типическая черта человечности и мудрости в «пантагрюэльском» понимании человека.
(обратно)59
Гораздо более существенно, что весь стиль повествования пронизан «панурговским началом», вплоть до употребления рассказчиком характерных выражений Панурга.
(обратно)60
Разум и дух.
(обратно)61
Stapfer P. Rabelais, sa personne, son génie, son oeuvre. P., 1885. P. 394.
(обратно)62
Имя Мефистофеля, согласно одному предположению, происходит от греческого «мефаустофилес» – «лжедруг Фауста».
(обратно)63
См.: Кн. IV, гл. 65.
(обратно)64
Stapfer P. Rabelais. P. 405.
(обратно)65
Plattard Jean. La vie et l'oeuvre de Rabelais. P., 1939. P. 93.
(обратно)66
Ср. шутливое накопление взаимоисключающих определений у самого автора, описывающего в начале первой книги флягу, в которой нашли генеалогию Гаргантюа: «большая, серая, красивая, маленькая» (I-1).
(обратно)67
Stapfer P. Ibid. P. 308.
(обратно)68
См. статью: Roques Mario. Aspects de Panurge. Сб. «François Rabelais. Ouvrage publié pour le 400 an de sa mort, 1553–1953». Génève, 1953.
(обратно)69
«Pantagruelisme – vous entendez que c'est certaine gayté d'esprit» (Livre IV. Prologue de l'auteur).
(обратно)70
Lefranc A. Rabelais. P., 1953. P. 194–196.
(обратно)71
Ibid. P. 188.
(обратно)72
Sainéan L. L'infl uence et la réputation de Rabelais. P., 1930. P. 100.
(обратно)73
Lefranc A. Rabelais. P. 177.
(обратно)74
Lefranc A. Rabelais. P. 178.
(обратно)75
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. XIV. С. 477.
(обратно)76
Ср. замечание Паскаля о реках как «движущихся дорогах».
(обратно)77
«Bon espoir y gist au fond» – «там на дне (пантагрюэльской бочки) покоится добрая надежда» (Пролог к Третьей книге). «Gist» – это польза у Томаса Мора.
(обратно)78
Например, слова Бакбук: «Мы придерживаемся того мнения, что человеку свойственно не смеяться, а пить», – противоречащие «букве и духу» всего произведения Рабле.
(обратно)79
Вряд ли, однако, «жестокость» Панурга обязательно должна, как у некоторых критиков Рабле, вызывать возмущение. Эпизод «Панургова стада» в фантастическом и достаточно условном повествовании Рабле слишком близок к притче, для того чтобы вызывать подобное чувство, уместное лишь в реалистически бытовом романе. Притчей – оторванной от целого – этот эпизод и вошел в сознание читателя и в литературный язык, что видно и по неточному названию.
(обратно)80
Первое определение – взгляд известного исследователя Рабле Сенеана – основано на отождествлении пантагрюэлизма с «положительной видимостью» Пантагрюэля. Второе, взгляд Мериме, – на отождествлении с Панургом или, точнее, с его «отрицательной ролью».
(обратно)81
Евнина Е. М. Франсуа Рабле. М.: Гослитиздат, 1948. С. 235. Это первая – и пока единственная вышедшая в свет – советская монография о Рабле. В главе III, где устанавливается характер комического, автор приходит к выводу, что «смех Рабле, конечно, прежде всего сатиричен» (с. 257). Расхождение, однако, здесь больше терминологического порядка, так как сатира отождествляется с «обличительным смехом» (241–242), роль которого в «Гаргантюа и Пантагрюэле», разумеется, велика.
В неопубликованной диссертации М. М. Бахтина «Ф. Рабле в истории реализма» концепция «карнавального» и «амбивалентного» смеха Рабле, отличного от сатиры, юмора и забавно-комического, во многом близка развиваемой в этом очерке, но обоснована иначе – связью Рабле с неофициальной линией народного искусства Средних веков, с традицией «готического реализма». Рукопись этого высокоталантливого исследования исключительного интереса (с которой я познакомился, когда настоящая книга уже была в наборе) находится в архиве Института мировой литературы им. Горького.
(обратно)82
На нее указывает Дю Белле в «Защите и восхвалении французского языка» – крупнейшем памятнике эстетической мысли французского Возрождения.
(обратно)83
О Плутон, прими Рабле, Дабы впредь тебе, королю тех, Кто никогда не смеется, Иметь своего смехотвора. (обратно)84
См.: Леонардо да Винчи. Сочинения. Ч. I. Academia, 1935. С. 58, 69, 110.
(обратно)85
«И земля была пустынна и невозделана (в древнееврейском тексте tohu vobohu) и мрак над бездной» (начало Библии, стих 2).
(обратно)86
Желающего судьба ведет, нежелающего – волочет (Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Письмо 107, стих 11)..
(обратно)87
Charpentier J. Rabelais. P., 1944. P. 309.
(обратно)88
Lefranc A. Rabelais. P. 251. См. также с. 357, где по поводу прославления конопли высказывается предположение, что, вероятно, этот эпизод – «эхо современных проектов, связанных с развитием этой культуры, столь важной в связи с новыми экономическими потребностями». Дивному пантагрюэлиону явно свойственна – о чем Рабле, правда, не говорит – способность восстановления человеческой природы в ее цельности; пантагрюэлион вызывает комический дар даже у почтенного старого ученого, который в общем не очень-то жалует смешное в «Пантагрюэле».
(обратно)89
«Персей», однако, занимает выдающееся место в истории скульптуры, в ее отделении от зодчества. В отличие от стоявшего тогда на той же площади творения «божественного Микеланджело Буонаротти», его «чудесного Давида», который «хорош только, если смотреть на него спереди» («Жизнеописание», книга 1, глава 91), и как бы вписан в плоскость стены, автор «Персея» стремился создать композицию совершенную «не только с той стороны, которая является показной, но кругом со всех сторон», ибо «статуя… должна иметь восемь точек зрения, и все они должны быть одинаково хороши» (см. письмо Б. Челлини от 28 января 1547 г. к Б. Варки. Сборник «Мастера искусства об искусстве». Т. I. 1937. С. 243). В «Персее» эта задача решена весьма эффектно.
(обратно)90
Plon E. Benvenuto Cellini, orfèvre, mdailleur, sculpteur. Recherches sur sa vie, sur son oeuvre et sur les pièces, qui lui sont attéribuées. P., 1883.
(обратно)91
Здесь и в дальнейшем римские цифры указывают книгу «Жизнеописания», а арабские – главу. Цитаты даны в переводе М. Лозинского.
(обратно)92
Маркс К. Капитал. Госполитиздат, 1955. Т. I. С. 720.
(обратно)93
I, 28; II, 41, 79, 88 и др.
(обратно)94
Курсив мой. – Л. П.
(обратно)95
Это характерное для века и многозначительное выражение встречается и у Рабле, и у Фиренцуолы, и у других писателей.
(обратно)96
Слова Климента VII (I, 56).
(обратно)97
Курсив мой. – Л. П.
(обратно)98
«Зербин – самый храбрый и прекрасный из всех смертных. Природа, с удовольствием создав его, разбила затем форму» («Неистовый Роланд», песнь Х).
(обратно)99
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. XXV. С. 251.
(обратно)100
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 7. С. 213.
(обратно)101
В оригинале «Einfall».
(обратно)102
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. С. 418.
(обратно)103
Сказался на сюжете, который, несмотря на величие героя, благородство героини, особой значительности антагониста и мощи страстей, как ни одна трагедия Шекспира, часто приближается к мелодраме. Наибольший успех имел у массово-буржуазной аудитории.
(обратно)104
Сложение действия шекспировских страстей как сочетание двух линий действия (во дворце короля – и в доме Полония, линия Отелло – Дездемона и Родриго – Яго, Лир и дочери – Глостер и сыновья). Особые линии Авфидия и Алкивиада (в акте III, сцене 5). В нисходящем движении обе линии драматически сходятся: поединок Гамлета с Лаэртом, V акт «Отелло», Эдгар в обществе Лира, а Эдмонд – его дочерей. Торжество Авфидия, триумф Алкивиада. То есть от эпического разнообразия к драматическому единству.
(обратно)105
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. С. 254–255.
(обратно)106
Там же. С. 255.
(обратно)107
Статья «Шекспир, и несть ему конца». Гёте. Собр. соч. М.: ГИХЛ, 1937. Т. Х. С. 585.
(обратно)108
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. XVII. С. 397.
(обратно)109
Полисемия этого термина не случайна. Мы употребляем термин «народность» в самых различных значениях. Мы говорим о народности великих писателей, часто связанных с фольклором, в отличие от искусственных, собственно художественных и книжных корней творчества их современников; о народности как выражении национального характера у Данте, Расина, Гёте, Пушкина; о народности Бёрнса, Шевченко, Некрасова как прямого отражения социально политических интересов народа. Все эти значения далеко не всегда сливаются в творчестве художников прошлого. См. примеры из русской литературы второй половины XIX века – «Сказ о Левше», «Война и мир» и «Железная дорога» – «народных» в трех различных смыслах.
(обратно)110
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. XIV. С. 476.
(обратно)111
«… Основа, на которой каждый новый класс устанавливает свое господство, шире той основы, на которую опирался класс, господствовавший до него; зато впоследствии также и противоположность между негосподствующим классом и классом, достигшим господства, развивается тем острее и глубже» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 3. С. 48).
(обратно)112
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. XXV. С. 258–259.
(обратно)113
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. С. 605.
(обратно)114
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. XXV. С. 260.
(обратно)115
Dryden J. Works. London, 1892. V. XV. P. 344.
(обратно)116
Большинство исследователей усматривают в ней простое подражание «Дон Кихоту», а Адольфо де Кастро, который открыл интермедию, приписал ее самому Сервантесу.
(обратно)117
Цитаты из романа Сервантеса даны в переводе Н. М. Любимова. Цифры в скобках здесь и далее обозначают часть и главу.
(обратно)118
Белинский В. Г. Полн. собр. соч., М., Изд-во. АН СССР. Т. VI. С. 33.
(обратно)119
Ingenioso hidalgo – как называет в заголовке Дон Кихота автор – трудно переводимое определение, которое передавалось по-русски как «бесподобный» (Басанин), «остроумно-изобретательный» (Ватсон), «хитроумный» (Любимов, а до него Кржевский и Смирнов). Этот эпитет, который не имеет ничего общего с «хитроумием» Одиссея, обозначает, главным образом, «одаренность, живость и тонкость воображения». Толкованию его посвящена недавно вышедшая специальная монография: Harald Weinriсh. Das Ingenium Don Quijotes. Münster, 1956.
(обратно)120
Avеllanedа. El Quijote. Madrid, 1944. Р. 22.
(обратно)121
Об этом см. Державин К. Н. Сервантес, жизнь и творчество. Гослитиздат. М., 1958. С. 458–476.
(обратно)122
Sainte-Bеuve. Nouveaux lundis. P., 1895. V. VIII. P. 57.
(обратно)123
Манн Т. Путешествие по морю с «Дон-Кихотом» // Собр. соч. М., 1938. Т. VI. С. 408.
(обратно)124
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. X. С. 244.
(обратно)125
Там же. Т. VI. С. 34.
(обратно)126
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. X. С. 244.
(обратно)127
Figuеrоa J. U. Tres ensayos quijotescos. Madrid., 1957.
(обратно)128
Герцен А. И. Собр. соч. в 30 томах. Изд. АН СССР. Т. XVII. С. 245.
(обратно)129
Блок Ж. – Р. Актуальность «Дон-Кихота». Интернациональная литература. 1935. № 9.
(обратно)130
«Главная цель книги – критика идальгизма, язвы испанского общества, всю глубину которой Сервантес мог измерить лучше, чем кто-либо другой» (Моrеl-Fatio А., Social and Historical Background. СБ. «Cervantes across the Centuries». N.– Y., 1947. P. 113).
(обратно)131
См. известную работу: Castro A. El pensamiento de Cervantes. Madrid., 1925.
(обратно)132
May L.– Ph. Un fondateur de la libre-pensée. Cervantes. P., 1947.
(обратно)133
Olmeda M. El ingenio de Cervantes у la locura de Don Quijote. México., 1958. P. 244.
(обратно)134
Weinrich H. Das Ingenium Don Quijotes. Münster., 1956. Автор полагает, что помешательство Дон Кихота развивается от простого безумия к «высокой болезни» меланхолии.
(обратно)135
Van Doren M. Don Quixote's Profession. N.– Y. Columbia Univ., 1958.
(обратно)136
«Ранний буржуазный реализм». Сб. статей под ред. H. Берковского. Л., 1936. С. 176.
(обратно)137
Державин К. H. Сервантес. Жизнь и творчество. M., Гослитиздат. 1958. С. 5. – В дальнейшем в скобках указаны страницы цитат.
(обратно)138
Белинский В. Г. Поли собр. соч. Т. II. С. 424.
(обратно)139
Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. XXVII. С. 505.
(обратно)140
Манн Т. Собр. соч. Т. VI. С. 383.
(обратно)141
Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. XVII. С. 821.
(обратно)142
Там же. С. 824.
(обратно)143
Альтамира и Кревеа Р. История Испании. М., 1951. Т. II. С. 249.
(обратно)144
Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 10. С. 431.
(обратно)145
Там же. С. 432.
(обратно)146
Там же. С. 433.
(обратно)147
Роке Гинарт Сервантеса, наряду с героями Плутарха, был одним из главных источников для «Разбойников», что отмечает сам Шиллер в рецензии на свою драму.
(обратно)148
Герцен А. И. Собр. соч. в 30 томах. Т. XVI. С. 150.
(обратно)149
Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. ХVI. Ч. I. С. 62.
(обратно)150
Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. ХVII. С. 92.
(обратно)151
Гуттен Ульрих фон. Диалоги, публицистика, письма. Изд. АН СССР., 1959. С. 219.
(обратно)152
Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. ХХV. С. 251.
(обратно)153
В знаменитой речи «Гамлет и Дон Кихот» Тургенев утверждает, что Дон Кихот «едва знает грамоте». Эта удивительная аттестация персонажа, который дни и ночи проводил за чтением книг, нужна Тургеневу для того, чтобы противопоставить Дон Кихота, олицетворение человеческой воли и подлинного героя, Гамлету, олицетворению человеческой мысли и рефлектированному интеллигенту, который «даже, вероятно, вел дневник». Но эти два образа литературы Возрождения не только психологически противоположны, они также исторически связаны, выражая кризис гуманизма в столкновении с временем, «вышедшим из своей колеи». Разлад между героем и жизнью в гамлетовской ситуации мотивирован «знанием» действительности, а в донкихотской – ее «незнанием». С другой стороны, Гамлет некогда считал, что «человек безграничен способностями, значителен и чудесен, в деяниях подобен ангелу, в разумении – Богу», а Дон Кихота под конец охватывает меланхолия от сознания своего бессилия. Гамлет начал «донкихотом», Дон Кихот кончил «гамлетом».
(обратно)154
Герцен А. И. Собр. соч. Т. XVI. С. 151.
(обратно)155
Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке. Т. VI. С. 429.
(обратно)156
«К. Маркс и Ф. Энгельс о литературе». М., Гослитиздат. 1958. С. 276.
(обратно)157
Ленин В. И. Сочинения. Т. 18. С. 10.
(обратно)158
Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке. Т. VI. С. 429.
(обратно)159
Герцен А. И. Собр. соч. Т. ХVI. С. 149.
(обратно)160
Там же. С. 150–151.
(обратно)161
Там же. С. 153.
(обратно)162
Никто в романе не видел Дульцинеи Тобосской, даже рыцарь и оруженосец знают о ней лишь понаслышке. «По этому поводу можно было бы многое сказать, – замечает герцогине Дон-Кихот. – Одному Богу известно, существует ли Дульцинея Тобосская или не существует, вымышлена она или не вымышлена – в исследованиях подобного рода нельзя заходить слишком далеко» (II, 32).
(обратно)163
Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 7. С. 213.
(обратно)164
Ср. Мелетинский Е. М. Герой волшебной сказки. М. 1959. С. 213–256.
(обратно)165
Сид Ахмет просит «не презирать его труд и воздавать ему хвалу не за то, что он пишет, а за то, что он о многом не стал писать» (II, 44).
(обратно)166
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. VI. С. 34.
(обратно)167
Речь идет о классификации комического по предмету или по источнику, а не по назначению, не по цели смеха. В первом смысле комическое всегда в добуржуазном искусстве имело своим предметом только низшее (в моральном или интеллектуальном смысле) – и в этом исторические границы определения Аристотеля. «Облака» Аристофана, где Сократ изображен обманщиком и совратителем, – яркий пример комического как «воспроизведения худших людей». Напротив, комизм образа Альцеста в «Мизантропе» Мольера, как и обычно «донкихотских образов», уже не укладывается в пределах этого определения.
(обратно)






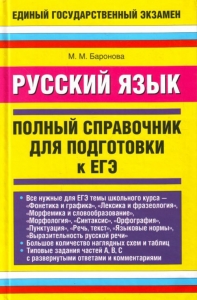

Комментарии к книге «Реализм эпохи Возрождения», Леонид Ефимович Пинский
Всего 0 комментариев