Александр Михайлович Гуревич «Свободная стихия»: статьи о творчестве Пушкина
© Гуревич А. М., 2015
© Языки славянской культуры, 2015
От автора
Предлагаемая читателю книга – итог многолетнего изучения творчества Пушкина. В ней обсуждаются вопросы, которые до сих пор остаются недостаточно проясненными и вызывают серьезные разногласия среди пушкинистов.
Это, во-первых, вопрос о своеобразии пушкинского романтизма, о соотношении в пушкинском творчестве доромантических, собственно романтических и реалистических начал. И, во-вторых, – о смысле и сути общественно-политической позиции поэта, о его отношении к верховной власти.
Известно, что развитие русской литературы нового времени приняло «неклассический» характер, что оно во многом отличалось от развития литературы западноевропейской. Показательна в этом отношении и судьба русского романтизма, в котором собственно романтические начала выражены не столь определенно и отчетливо, как, скажем, в романтизме немецком или английском. Ибо русский романтизм был гораздо теснее связан с явлениями доромантическими – традициями предшествующих литературных направлений. С другой стороны, художественное наследие романтизма в гораздо большей мере, чем это было на Западе, сохраняло живое значение для последующей литературной эпохи – творчества крупнейших русских писателей-реалистов.
В многообразном творчестве Пушкина, в его художественных созданиях и теоретических суждениях национально-исторические черты русского романтизма запечатлены чрезвычайно рельефно и целостно. Оно может быть поэтому названо типичным и одновременно исключительным явлением в истории отечественного романтизма, во многом определившим его судьбу в русской литературе.
Всем сказанным обусловлено содержание первого раздела книги – «Романтизм Пушкина». В двух первых его статьях русский романтизм рассматривается как сложная и дискуссионная историко-литературная проблема, выясняется взгляд на нее самого поэта. В трех последующих – охарактеризовано творчество Пушкина романтической поры: романтическая лирика и цикл так называемых «южных поэм»; показано принципиальное различие пушкинского и лермонтовского романтизма. За ними следуют две статьи, где речь идет о роли романтического начала в зрелом творчестве Пушкина. Наконец, в заключительной статье сопоставлены поэма «Цыганы» и повесть Л. Толстого «Казаки», подчеркнута роль пушкинской традиции в развитии русской литературы XIX в.
Главная тема второго раздела – общественно-политическая позиция Пушкина и ее воплощение в его художественном творчестве. Здесь критически рассматриваются и решительно отвергаются три устойчивых мифа о поэте. Прежде всего – это миф о Пушкине как о «чистом художнике», далеком о актуальных общественных проблем; затем – о Пушкине как истинном христианине и убежденном монархисте, лично преданном царю; и, наконец, о Пушкине как безусловном единомышленнике декабристов. В противовес этим устоявшимся представлениям здесь предлагаются наблюдения над текстами ряда важнейших произведений Пушкина зрелой поры, выявляются потаенные, скрытые смыслы этих произведений, их острозлободневный, взрывной характер, ускользающий обычно от внимания читателей, исследователей, критиков, но совершенно необходимый для понимания сути общественной позиции поэта.
Наконец, третий раздел книги составляют шесть больших статей, написанных для двухтомной «Онегинской энциклопедии» (М.: Русский путь, 1999; под общей редакцией акад. РАО Н. И. Михайловой), посвященных центральным персонажам и важнейшим особенностям построения пушкинского романа в стихах.
Все цитаты и ссылки на тексты произведений Пушкина, за исключением особо оговоренных случаев, приводятся по изданию: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. 4-е изд. Ленинград: Наука, 1977–1979.
В тексты включенных в книгу статей – по сравнению с первоначальными публикациями – внесены некоторые исправления, изменения и дополнения.
Книга адресована не только специалистам-литературоведам, но и учителям-словесникам, студентам-филологам и любителям отечественной словесности вообще.
Романтизм Пушкина
Судьба русского романтизма
Историка русского романтизма буквально с первых же шагов подстерегают серьезные трудности. С одной стороны, по издавна установившейся традиции, освященной еще именем Белинского, началом романтизма в России принято считать творчество Жуковского и Батюшкова. С другой стороны, хорошо известно, что романтизм в Европе – явление послереволюционное, выразившее неудовлетворенность тем общественным строем, который сложился в результате грандиозных социальных и политических катаклизмов на рубеже XVIII–XIX вв.
Казалось бы, в России, переживавшей в 1810–1820-е гг. общенациональный подъем, шедшей навстречу первому революционному выступлению, не было благоприятной почвы для возникновения романтических настроений. Каковы же причины их возникновения в столь «неподходящее» время? В какой мере русский романтизм является аналогом романтизма западноевропейского?
В поисках ответа на эти вопросы необходимо обратиться к одной из наиболее острых и дискуссионных проблем – проблеме типологической общности национальных разновидностей романтизма. Составляют ли они нечто целое, образуют ли единое в своей сущности литературное направление? Или же мы имеем дело с совокупностью более или менее родственных, может быть, даже внешне схожих явлений? Проблема романтизма оказывается тем самым частью более широкой и общей проблемы – соотношения типологически сходного и национально своеобразного в литературных направлениях вообще.
В трудах отечественных теоретиков – специалистов по сравнительному изучению литератур утвердилась мысль о необходимости различать сходство типологическое и контактное: внутренние аналогии литературного процесса, вызванные сходством общественных условий, и литературные влияния.
Что касается международного характера литературных направлений, аналогичная их последовательность и смена в разных странах рассматриваются обычно как результат типологических совпадений и соответствий. «Обращаясь к истории литературы нового времени, с самых ранних этапов формирования буржуазного общества, – утверждает В. М. Жирмунский, – мы констатируем у разных европейских народов одинаковую регулярную последовательность литературных направлений, смену и борьбу связанных с ними больших художественных стилей, сходство которых не может быть результатом случайности и обусловлено исторически сходными условиями общественного развития этих народов…» [1. С. 141].
Подобные же взгляды высказаны и в работах А. Н. Соколова: «Сходство литературных направлений, возникших в различных национальных литературах, объясняется не заимствованиями, не влияниями одной литературы на другую, а сходством социально-исторических условий, сложившихся в истории разных народов» [2. С. 409].
Эти авторитетные суждения выражают точку зрения наиболее распространенную, господствующую сейчас в нашей науке. Во многом убедительные и справедливые, они, тем не менее, выглядят недостаточно ясными в одном существенном пункте. При несомненном единстве основной тенденции общественного развития от средневековья к новому времени его темпы, формы и сроки оказывались различными в разных странах. И потому конкретно-исторические ситуации в Италии и Англии, Франции и Германии, Испании и России (не говоря уже об идеологических, религиозных и культурно-художественных традициях) были – в любую эпоху – глубоко своеобразными. Однако же в этих своеобразных, несходных, неповторимых условиях постоянно возникали литературные направления, которые принято рассматривать как сходные, родственные, внутренне близкие.
Нужно ли доказывать, что в первой половине XIX столетия полуазиатская крепостническая Россия и, скажем, капиталистическая Англия, давным-давно свершившая буржуазную революцию, пережившая эпоху промышленного переворота, находились на разных стадиях общественной эволюции? Между тем, и романтизм, и критический реализм возникают в обеих странах практически одновременно. Выходит, одни и те же литературные направления могут складываться в разных общественных ситуациях, и тогда ни о каком «сходстве социально-исторических условий» говорить не приходится. Однако же сторонникам традиционной точки зрения подобное допущение кажется невозможным. «Если романтизм возникает в определенных социально-исторических и идеологических условиях и становится их художественным выражением, то он не может возникнуть в других общественных и идейных условиях. Это положение можно признать аксиомой…», – настаивает А. Н. Соколов [3. С. 37]. Но, если это действительно аксиома, логично было бы признать, что, говоря о романтизме или реализме в России и Англии, мы называем одним и тем же именем разные по свей сути явления. Тем не менее «единая сущность романтизма при различии его национальных форм» [3. С. 11] кажется А. Н. Соколову столь же аксиоматичной. И понятие об этой единой сути, о «романтизме вообще» «создается путем обобщения особенностей, присущих отдельным романтическим направлениям» [3. С. 12].
Нетрудно заметить: сама возможность существования «отдельных романтических направлений» – многообразных национальных форм романтизма – остается при такой постановке вопроса недоказанной, теоретически необоснованной. Получается, что сходные «социально-исторические и идеологические условия» могут возникать в странах, находящихся на разных уровнях общественного развития.
Несколько иное решение интересующей нас проблемы предлагает В. М. Жирмунский. Данное Марксом определение романтизма как первой реакции на Французскую революцию и связанное с ней просветительство, рассуждает он, «точно обозначает социально-историческое место и предпосылки романтизма. Однако “реакция” была различной в сознании разных общественных классов, в разное время и у разных народов, и этим определяется многообразие и пестрота конкретных индивидуальных форм (“микросистем”) романтической литературы» [1. С. 152].
Но если реакция на просветительство и Французскую революцию была в разных странах неодинаковой, если несхожими были ее содержание, ее общественный смысл, то, значит, даже социальные и идеологические предпосылки национальных «романтизмов» были различными. На чем же основывается тогда внутренняя общность романтического искусства, единство художественной системы («макросистемы») европейского романтизма? Словом, если А. Н. Соколову не удалось теоретически обосновать возможность существования национальных разновидностей романтизма, то в рассуждениях В. М. Жирмунского, напротив, ускользает «единая сущность» романтического искусства.
Очевидные недостатки общепринятой концепции вызвали к жизни противоположную точку зрения, наиболее остро и темпераментно высказанную Б. Г. Реизовым. По его мнению, такие понятия, как «классицизм» или «романтизм», «не имеют типологического смысла: они имеют только исторический смысл, который они приобретают в каждой данной стране и в каждый данный отрезок времени» [4. С. 9]. Значит, «романтизм в общеевропейском плане может быть понят лишь как система и процесс литературных взаимодействий, которые вызывают в каждом случае разные национально и исторически обусловленные следствия» [5. С. 242]. Нет романтизма «вообще», существуют лишь отдельные «романтизмы», взаимосвязанные и воздействующие друг на друга [Там же].
Позиция Б. Г. Реизова не получила сколько-нибудь серьезной поддержки в нашей науке и вызвала ряд критических откликов, в значительной мере справедливых. Изъяны предложенной им концепции и впрямь очевидны. Главный из них – неоправданно резкое противопоставление типологического и конкретно-исторического изучения литературы – противопоставление, порождающее новые противоречия и неясности.
«Движение, пути, этапы! – иронизирует он. – Развитие литературы рассматривается как движение поезда, который не может прийти из Москвы в Ленинград, не пройдя всех промежуточных станций» [5. С. 10]. Ирония напрасная, ибо факт остается фактом: одинаковая последовательность основных литературных направлений (о чем так хорошо говорит В. М. Жирмунский), весь ход литературного процесса подчинены определенным закономерностям и не могут быть сведены к случайностям межнациональных контактов. И чем ближе народы и страны по своим историческим судьбам, по типу духовного и культурного развития, тем более сходства обнаруживают возникающие в них литературные направления. Объяснить все это одной лишь системой литературных взаимодействий, как предлагает Б. Г. Реизов, решительно невозможно. Именно в отрицании внутренних закономерностей литературного процесса, рождающих сходные явления в различных национальных литературах, и состоит главная ошибка Б. Г. Реизова.
А вместе с тем в его позиции есть свои резоны, свои сильные стороны. Недооценка системы литературных взаимодействий, их роли и значения в мировом литературном процессе – это, действительно, существенный недостаток отвергаемых им концепций. Прав Б. Г. Реизов и в другом: национальное своеобразие литературных направлений столь велико, что рассмотрение их в качестве «вариантов» классицизма, сентиментализма или романтизма «вообще» явно недостаточно.
Истина, очевидно, лежит где-то посередине между крайностями обеих точек зрения. С попытками опровергнуть тезис о закономерном возникновении и регулярной, последовательной смене основных литературных направлений согласиться, как видим, невозможно. Но столь же трудно согласиться и с традиционной его интерпретацией – с тем, что под воздействием сходных общественных условий в разных литературах сами по себе и независимо друг от друга возникают одинаковые художественные направления, единые по своей сути и отличающиеся лишь некоторыми вторичными признаками национального своеобразия. Литературные влияния и взаимодействия выглядят при этом чем-то необязательным, второстепенным.
Реальная картина европейского литературного развития представляется намного более противоречивой и сложной. В силу его неравномерности (см. [6. С. 175–176]) каждое из крупных литературных направлений достигает обычно наивысшего расцвета в какой-то одной стране (реже – в нескольких странах), где для этого складывается особенная, исключительно благоприятная ситуация. Именно в своей наиболee зрелой, классической форме и оказывает оно обратное воздействие на литературный процесс, становится как бы ориентиром литературного развития и получает международное значение. Разумеется, воздействие это возможно лишь постольку, поскольку в других странах существуют соответствующие условия, более или менее сходные социальные и духовно-культурные предпосылки. Но, коль скоро такое сходство никогда не может быть полным, эти аналогичные литературные направления тоже лишь отчасти сходны со своим образцом. В каждой стране, каждой национальной литературе происходит отбор и переработка идущих извне влияний, их переосмысление и истолкование в соответствии с отечественными потребностями и общественными задачами, их встреча с местными традициями, общекультурными и литературно-художественными.
Mы можем говорить, следовательно, о совокупном действии и взаимовлиянии факторов типологических и контактных в ходе возникновения и развития общеевропейских литературных направлений. С этой точки зрения и должны быть уточнены господствующие сейчас в нашей науке принципы их типологического исследования и прежде всего – представление о национальных разновидностях общеевропейских направлений как о равноправных, равнозначных (в теоретическом отношении) «вариантах».
В самом деле, если у европейских (даже только европейских!) народов литературные направления развиваются с неодинаковой интенсивностью, если каждое из них в своей классической форме выступает, как правило, в одной только стране, это значит, что в других странах оно не достигает полной зрелости, а в ряде случаев может быть выражено совсем слабо, представлено в эмбриональном, зачаточном виде. Очевидно, все эти многообразные национальные разновидности не могут быть признаны теоретически равноценными вариантами литературного направления «вообще». Ведь если в каждой из «национальных модификаций» сущностные черты того или иного направления выступают с разной степенью полноты, с большей или меньшей отчетливостью, сама попытка вычленения их «общего инвариантного ядра» [7. С. 3], «очищенного» от местных особенностей, становится проблематичной, а главное, бесплодной. Ибо сущность литературного направления выражается не в мифическом «инвариантном ядре», но прежде всего в его наиболее характерных и типичных образцах, в его классической национальной форме. Ориентируясь на нее, и следует, очевидно, решать проблему типологических соответствий, строить литературную модель данного литературного направления.
Что же касается иных, «неклассических» его разновидностей (ограничимся пока странами Западной Европы), то они являют собой как раз то, что можно было бы назвать типологическими вариантами, или, лучше сказать, «типологическими вариациями», этой теоретической модели, представляют как бы ступени приближения к ней.
Во избежание недоразумений сразу же заметим, что различие «классических форм» и «типологических вариаций» носит сугубо познавательный, понятийно-терминологический характер и ни в коем случае не может служить критерием эстетической оценки. Оно призвано установить лишь степень «чистоты», «классичности» изучаемого явления или же, напротив, меру его «неправильности». Однако сама по себе «чистота» литературного направления не говорит еще о его художественной ценности. Величайшие творения искусства нередко возникают как раз на сломе традиций – в итоге синтеза разнородных, подчас противоположных начал. Достаточно назвать имена Данте, Шекспира, Гете – писателей, которых невозможно прикрепить к какому-то определенному направлению. Русская литература XIX в. была сплошь «неправильной» с точки зрения западноевропейского художественного опыта, однако это нисколько не умаляет ее величия. Точно так же признание того факта, что перед нами «национальная вариация» литературного направления, а не его «классическая форма», менее всего может оскорбить чьи-либо патриотические чувства, нанести ущерб национальному престижу. Байрон был величайшим романтическим поэтом, хотя и гораздо менее «чистым» романтиком, нежели Новалис.
Предлагаемое разграничение понятий не является, по сути дела, чем-то принципиально новым. Его молчаливо признают авторы ряда систематических курсов по истории литературы, театра, изобразительного искусства. Характеризуя, например, такое художественное направление, как ренессансный реализм, они вовсе не занимаются «обобщением особенностей», присущих его национальным разновидностям, но берут за основу искусство Италии – классической страны европейского Возрождения, – а затем отмечают своеобразные черты и отличия Ренессанса во Франции, Германии, Англии, Испании. Причем отличия эти сводятся к тому, что сущностные черты ренессансного реализма воплощаются в других странах, в других национальных литературах менее последовательно и полно, чем в литературе итальянской.
Так, немецкому гуманизму, носившему по преимуществу ученый, книжный, филологический характер, был, в общем, чужд «идеал всестороннего развития сильной человеческой личности, языческого сенсуализма, новой светской культуры» [8. С. 308] (а ведь это и составляло, можно сказать, душу ренессансного реализма). Питая особый интерес к богословским вопросам, немецкие гуманисты во многом опирались на литературные традиции средневековья, от которых с презрением отворачивались гуманисты в Италии (см. [9. С. 212–220]). Вообще, в Германии «человек не пришел к тому гордому сознанию присущей ему высшей красоты телесного и духовного начала, которое выражали в своем учении теоретики итальянского Ренессанса и воспроизводили в художественных образах итальянские мастера» [10. С. 106].
Неудивительно, что многие важнейшие черты ренессансного реализма представлены в немецком искусстве словно бы в ослабленном виде или даже отсутствуют вовсе, ибо немецкий Ренессанс испытывал сильнейшее воздействие средневековой культуры и был теснейшим образом связан с нею. Так называемое Северное Возрождение (т. е. Возрождение северных по отношению к Италии европейских стран) представляло – как это сейчас все шире и чаще признается – своеобразный синтез, сплав «южных», собственно ренессансных начал и национальных, позднесредневековых, готических традиций. И потому теоретическую модель ренессансного реализма естественнее было бы создавать в результате изучения художественного опыта Италии, а не на основе общности итальянского и, скажем, немецкого искусства. Сам уровень развития ренессансных начал в обеих странах был различен.
Немалое значение имеют также хронологические границы итальянского и северноевропейского Возрождения. В Италии на протяжении трех столетий Ренессанс пережил несколько существенно различных стадий и в XVI в., когда Возрождение стало развиваться в большинстве других западноевропейских стран, клонился к закату. Но северные соседи итальянцев воспринимали ренессансные традиции обобщенно, суммарно, целостно. Ведь в других европейских странах эпоха Возрождения намного сократилась, сжалась иногда до нескольких десятилетий. Это был, как теперь говорят, «ускоренный» Ренессанс.
Итак, меньшая определенность и выраженность собственно ренессансных начал, их тесное сочетание и активное взаимодействие с традициями предшествующего этапа художественного развития (поздняя готика), относительная «сокращенность» эпохи Возрождения и в связи с этим нерасчлененное, целостное восприятие итальянского (классического для данного направления) художественного опыта – все эти особенности в высшей степени характерны и важны для понимания того, что́ представляют собой типологические вариации ренессансного реализма по сравнению с его классической формой.
Сходная картина открывается и при рассмотрении других литературных направлений. Так, понятие о классицизме может быть выработано только на основе изучения единственно «чистой» и «правильной» его формы – классицизма во Франции, создавшего действительно великое искусство. Но этого невозможно достичь путем «обобщения особенностей», скажем, французского, немецкого и английского классицизма, ибо в других европейских странах классицизм выступил в стертом, ослабленном виде, он носил в значительной мере подражательный, внешний характер и не выдвинул художников сколько-нибудь крупных и ярких.
В отличие от классицизма, романтизм проявил себя как мощное и яркое направление в ряде национальных литератур. Тем не менее «классической» страной романтизма стала одна только Германия. События и результаты Французской революции, оказавшиеся важнейшей социальной предпосылкой возникновения романтизма в Европе, были пережиты здесь, главным образом, «идеально», а решение общественных проблем перенесено в сферу спекулятивной философии, этики и особенно эстетики. Этому в высшей степени способствовали и давние национальные традиции. На протяжении всего XVIII в. просветительский рационализм в Германии получил довольно слабое развитие сравнительно с Англией или Францией. Зато идейные, религиозные, философские течения антипросветительного, антирационалистического толка (философия «чувства и веры», пиетизм, классический идеализм) были необычайно сильны.
Что же касается прочих национальных литератур, то сама, так сказать, степень их романтичности была иной. Не случайно новейшие исследователи все более настойчиво соотносят романтическую литературу остальных европейских стран не столько с йенской школой, не столько с немецким романтизмом в собственном смысле слова, сколько с движением «Бури и натиска» – вершиной немецкого предромантизма. Даже Байрон, несмотря на всю «новизну и оригинальность, типологически стоит гораздо ближе к крупнейшим писателям “Бури и натиска”, чем к выступившим в 1790-е гг. немецким романтикам» [11. С. 66].
Показательно, что одни и те же произведения, воспримавшиеся как романтические или даже ультраромантические во Франции, в Германии считались принадлежащими иной, более ранней эпохе литературного развития. Так, знаменитая книга мадам де Сталь «О Германии», ставшая для Франции (и других европейских стран) библией романтизма, осталась по немецким масштабам явлением доромантическим. И наоборот, переведенная на французский язык Б. Констаном и отчасти переработанная им (с учетом классицистических вкусов соотечественников) трагедия Шиллера «Валленштейн» не была все же понята и принята французским читателем: Шиллер казался ему слишком необычным, чересчур романтическим (см. [12]). Между тем у себя на родине Шиллер выступал как оппонент романтиков, как писатель доромантического склада.
Вообще во Франции, где традиции классицизма были особенно сильны, романтизм пробивал себе дорогу с величайшим трудом. Но и в английском романтизме воздействие предшествующего этапа идейно-художественного развития – философско-эстетических идей Просвещения – было весьма ощутимым. Английские романтики, по словам Н. Я. Дьяконовой, «никогда не порывали с традицией сенсуалистического эмпиризма, характерной для английской философии… По сравнению с романтической эстетикой Германии английская отличалась более “земным” и менее мистическим характером» [13. С. 8–9].
Все сказанное и позволяет рассматривать романтизм даже во Франции и в Англии как «национальные вариации» этого литературного направления – в отличие от его классического воплощения в немецкой литературе.
До сих пор речь шла только о литературе западноевропейской – о странах с более или менее общей исторической судьбой и сходным типом культурного развития. Само собой разумеется, что в странах Северной, Центральной и Восточной Европы, шедших во многом иными путями, национальные разновидности основных литературных направлений еще далее отстоят от их классических форм.
Надо сказать, что в последнее время наша наука все более настойчиво ставит вопрос о типологии самого развития литературы, в том числе и о типологии литературных направлений.
Так, по мысли И. Г. Неупокоевой, даже в пределах европейского региона (как, впрочем, и других регионов тоже) можно говорить о нескольких зонах литературного развития, изучать литературные направления как в их национальной, так и в их зональной специфике (см. [14]). Положение это следует, очевидно, принять с той лишь оговоркой, что в других «зонах» – в странах с иным, нежели на Западе, типом социально-исторического и духовно-культурного развития – не могли возникнуть те же самые классицизм, сентиментализм, просветительство, романтизм: идейно-художественная природа этих направлений существенно отлична от их западноевропейских образцов.
Еще В. О. Ключевским отмечено принципиальное различие между собственно просветительской литературой и литературой стран Восточной Европы (в их числе и России), только испытавшей на себе влияние просветительских идей. Просветительская литература во Франции, по его словам, была «восстанием, с одной стороны, против феодализма, с другой – против католицизма». «Значение этой литературы, – говорит ученый, – имело довольно местное происхождение, было вызвано интересами, довольно чуждыми для Восточной Европы, не знавшей ни феодализма, ни католицизма. Но учащая удары, направленные против феодализма и католицизма, французский литератор XVIII в. сопровождал эти удары целым потоком общих мест, отвлеченных идей. Люди Восточной Европы, незнакомые с феодализмом и католицизмом, только и могли усвоить эти общие места, отвлеченные идеи» [15. С. 160]. Но они, подчеркивал В. О. Ключевский, не улавливали условного смысла этих формул, понимали их буквально, прямо. И потому условные формулы, отвлеченные термины, порожденные вполне определенными обстоятельствами национально-исторической жизни, превращались у них в безусловные догматы политического и религиозно-нравственного характера [Там же].
Иными словами, в силу очевидного несходства общественных условий просветительские идеи и соответствующие им общественные настроения не были пережиты в странах Восточной Европы во всей их полноте и жизненной конкретности, они оказались воспринятыми как бы со стороны, извне, усвоены лишь в самом общем виде.
Можно сказать, по-видимому, что в этом и подобном ему случаях, когда идеи, настроения, художественные формы, выработанные одной литературой, попадают на совершенно иную социально-историческую почву, усваиваются в существенно отличной, принципиально несходной общественно-культурной ситуации, мы имеем дело не с типологическим родством, но лишь с типологическим сходством, не с типологическими вариациями основных литературных направлений, но с их типологическими подобиями.
Чем же отличаются «типологические подобия» от «типологических вариаций»?
Прежде всего, как мы уже видели, тем, что опыт классической для данного направления литературы воспринимается ими лишь в самом общем виде – гораздо менее полно, непосредственно и конкретно. Вследствие этого сущностные черты литературного направления, его классическая основа проступают в них еще менее отчетливо, в то время как начала национально-самобытные, традиции предшествующего этапа художественного развития играют роль значительно более активную и важную.
Во-вторых, художественный опыт какого-либо одного направления осваивается обычно в сложном комплексе с целым рядом других явлений западноевропейской художественной культуры (точно так же, как типологическими вариациями суммарно, целостно осваиваются достижения и образцы классических форм). Короче говоря, типологические подобия – но еще более сложные, внутренне разнородные, еще менее «чистые» и «правильные» образования.
Отсюда характерное для типологических подобий совмещение стадий литературного развития, наложение их друг на друга, едва ли не одновременное возникновение разных литературных направлений, тесное их переплетение и взаимодействие. Как показал Г. Д. Гачев, основные ступени болгарской литературы хотя и «воспроизводят необходимые фазы мирового литературного процесса», но воспроизводят их не в чистом виде, а часто в зародышевой форме или в смешении с другими ступенями» [16. С. 299]. На определенных этапах развития хорватской литературы XIX в. ей была свойственна «ориентация на романтизм», хотя по своей природе она оставалась еще доромантической (см. [17. С. 224]). Вообще, литература стран Центральной и Юго-Восточной Европы, считает И. Г. Неупокоева, «отмечена чертами художественного синкретизма, слитностью стадиально различных элементов художественного сознания» [18. С. 19].
Особенности той разновидности литературного направления, которую мы назвали типологическим подобием, удобно продемонстрировать на материале русской литературы, ибо в России, находившейся в XVIII – начале XIX в. на совершенно иной, более ранней стадии общественного и духовного развития, нежели передовые страны Западной Европы, никак не могли, конечно, возникнуть классицизм, сентиментализм, просветительство, романтизм в том самом смысле, в каком существовали они на Западе: слишком уж несходной, специфичной была на Руси «социально-эстетическая почва» (формула В. В. Кожинова) [19. С. 278].
Возьмем, к примеру, русский классицизм. Свою главную задачу писатели этого литературного направления видели в борьбе за превращение полуазиатской деспотии, какой была тогда Россия, в абсолютную монархию европейского образца. Они стремились помочь русскому дворянству выработать первоначальные основы общественного самосознания, преподать ему элементарные нравственно-политические уроки. Не забудем, что классицизм был первым в России литературным направлением, первым серьезным шагом по пути европейского художественного развития. Во Франции же классицизм открывал перспективу выхода из кризиса, в каком очутилось европейское общество на исходе Возрождения, а утверждаемая им идея разумности государства имела в качестве своей социально-политической предпосылки урегулирование дворянско-буржуазных противоречий под эгидой абсолютизма. Очевидно, это были не только различные, но и просто несравнимые общественные задачи.
Основу проблематики французского классицизма – прямого наследника Ренессанса, и в частности ренессансного индивидуализма, – составляли сложные, напряженные, конфликтные отношения между личностью и обществом, чувством и разумом, страстью и долгом, индивидуальной свободой и государственной необходимостью. Наиболее полно борьба этих противоположных начал выразилась в трагедии – ведущем жанре французского классицизма. Нужно ли доказывать, что на Руси не могло возникнуть подобного драматического напряжения между личностью и обществом, не было места тем политическим и этическим проблемам, какие волновали французское общество в XVII в.? Подобно другим славянским странам, не пережившая Ренессанса Россия, не знала сколько-нибудь заметной и устойчивой традиции возрожденческого индивидуализма. Союз государства и церкви по-прежнему оставался здесь силой незыблемой и безусловной, деспотически подчинявшей себе как отдельную личность, так и целые сословия.
Поэтому столкновение долга и страсти в русской литературе и не могло предстать в виде трагической антиномии, принять характер рокового, неразрешимого противоречия. Обычным для русских писателей-«классиков» было нормативно-морализаторское, прямолинейно-дидактическое противопоставление героев «добродетельных», повинующихся голосу чести и разума, и «злонравных», находящихся во власти «страстей». Как далеко это от трагических конфликтов Корнеля и Расина! Недаром ведущим жанром классицизма в России стала не трагедия, а нравоучительная и торжественная «похвальная» ода.
Вообще, «злонравные» или «добродетельные» герои русского классицизма еще сродни отчасти грешникам и святым литературы средневековой. И немудрено: древнерусская литература оставалась в XVIII в. живым и свежим воспоминанием. Характерные для средневековья идейные и нравственные представления, навыки и способы мышления, эстетические традиции и художественные ценности не были окончательно преодолены в сознании русских писателей-классиков. В книге E. H. Купреяновой и Г. П. Макогоненко верно отмечена связь оды и сатиры русского классицизма с жанром церковной проповеди, которому «свойственны только два эмоциональных оценочных регистра: похвала и осуждение… Диалектики добра и зла (добродетели и порока, греха и святости, истины и лжи) проповедь не знает» [7. С. 94]. Разумеется, ничего даже отдаленно похожего мы не встретим ни в одной западноевропейской литературе.
Возникший в стадиальном отношении значительно ранее европейского, хронологически классицизм в России появился намного позже. Отсюда тяготение писателей этого направления к самым разным традициям европейской литературы как предшествовавшим классицизму, так и следовавшим за ним. Несомненен, например, интерес русского классицизма к искусству барокко, которое – пусть в преображенном и урезанном виде – доносило до России идеи Ренессанса. С другой стороны, русские «классики» чем дальше, тем больше впитывали в себя идеи современного просветительства (разумеется, толкуя и перерабатывая их на свой лад). Недаром в нашей науке все еще не утихают споры: считать ли Ломоносова просветителем, писателем классицизма или же поэтом барокко. Поистине: дистанция огромного размера!
Еще сложнее обстоит дело в литературе второй половины XVIII в. В поэзии Державина, в творчестве Фонвизина исследователи постоянно отмечают совмещение самых разных начал, находят элементы всевозможных художественных направлений. И это тоже не случайно: классицизм в русской литературе тесно соприкасался с просветительством, сентиментализмом, предромантизмом, сосуществовал и взаимодействовал с ними.
Таким образом, все основные черты, характерные для типологических подобий вообще: относительно слабая выраженность собственно классицистических начал, особое значение местных, национальных традиций, одновременное освоение широкого комплекса разнородных явлений западноевропейской культуры, нечеткая отграниченность от других литературных направлений, – выступают в русском классицизме чрезвычайно ясно и отчетливо.
Все сказанное не означает, конечно, что русская литература не знала классицизма вовсе, что его существование – лишь миф, созданный учеными-литературоведами. Пусть «социально-эстетическая почва» была в России во многом иной, классицизм стал все же вполне реальным и весьма влиятельным направлением русской литературы, утвердивший в ней – под воздействием французских образцов – принципиально новую художественную систему.
Сама возможность «привить» классицизм на древо русской культуры означала, что для этого существовали определенные общественно-идеологические предпосылки. Действительно, общегосударственный пафос и культ гражданских добродетелей, жесткая регламентация художественного творчества и строгое подчинение установленным правилам – эти черты французского классицизма были близки русскому художественному сознанию, привычному к безусловному авторитету верховной власти, к строгому этикету и канонам средневекового искусства. И хотя классицизм как художественное направление просуществовал в России всего несколько десятилетий, его эстетические установки и творческие принципы оказали весьма серьезное и длительное влияние на последующее литературное развитие, на привычки и вкусы читающей публики.
Точно так же и русский романтизм – это явление глубоко своеобразное, выросшее на совершенно особой социально-исторической почве, в особой духовно-культурной атмосфере.
Разумеется, в патриархально-крепостнической стране, для которой эпоха буржуазных преобразований была еще впереди, никак не могли сложиться необходимые предпосылки романтического миросозерцания: всеобщее и полное разочарование в капиталистическом обществе и просветительской идеологии, в результатах и последствиях буржуазной революции. Не от трагического иррационализма капиталистических отношений или «превращенного», мистифицированного характера буржуазных свобод страдала Россия в первые десятилетия XIX в., но прежде всего от отсутствия всякой свободы, от жестокости крепостничества, от бесправия человека, от явного и грубого полицейско-бюрократического произвола. Вера в просветительские (т. е. доромантические) идеалы, защита разума, культуры, прогресса, элементарных свобод и прав личности составляли, как известно, неотъемлемую черту русской общественной мысли на протяжении всего XIX столетия.
С другой стороны, при всем своеобразии социально-исторической и духовно-культурной ситуации в стране русское общество, включившееся в процесс общеевропейского развития, чутко улавливало убыстрившийся, катастрофический ход истории, и неотвратимость грядущих перемен, и возраставшую напряженность жизни, ее противоречивость, сложность. Люди пушкинского времени, говоря словами Пестеля, видели «столько престолов низверженных, столько других постановленных, столько царств уничтоженных, столько новых учрежденных…». Они явственно ощущали тот «дух преобразования», который «заставляет, так сказать, везде умы клокотать» [20. С. 105].
О том же писал позднее и сам Пушкин, вспоминая – в конце жизни – годы своей лицейской юности:
Чему, чему свидетели мы были! Игралища таинственной игры, Металися смущенные народы; И высились и падали цари; И кровь людей то Славы, то Свободы, То Гордости багрила алтари. («Была пора: наш праздник молодой…», 1836)Следовательно, разочарование в современности, обострившееся под влиянием событий 1812 г., последующего общественного подъема в стране и освободительного движения во всем мире, было прежде всего разочарованием в русской действительности, в средневековых самодержавно-крепостнических порядках и соответствующих им общественных нравах (что и составляет важнейшую грань идеологии Просвещения). Но оно обратило взоры лучшей части русского общества к романтическому движению в Европе, возбудило интерес к настроениям «мировой скорби», к мятежному индивидуализму байроновского толка, к идеям и художественным принципам европейской романтической литературы.
Конечно, глубина и сила разочарования в жизни, которые обнаруживает русская поэзия 1810–1820-х гг., несравнимы с байроновским мироотрицанием. Белинский был совершенно прав, когда утверждал, что «добрый и невинный романтизм русский» столь же «похож на Байрона, сколько тень отбрасываемая на солнце человеком, похожа на человека». По словам критика, русские романтики попросту не поняли великого английского поэта, «ни его идеала, ни его пафоса, ни его гения, ни его кровавых слез, ни его безотрадного и гордого, на самом себе опершегося отчаяния, ни его души, столько же нежной, кроткой и любящей, сколько могучей, непреклонной и великой!.. Он проклял настоящее и объявил ему войну непримиримую и вечную…» [21. С. 520].
Комментируя последнее высказывание, Ю. В. Манн замечает: «В этом отзыве уловлен тотальный характер байроновского отчуждения, выходящего за пределы любой более частной мотивировки и вынужденного – именно ввиду своей тотальности – противополагать всему обьективно-сущему индивидуально-личное («…на самом себе опершееся отчаяние») [22. С. 122]. Но как раз тотальности разочарования, всеобщности отчуждения и не знал еще русский романтизм.
Да и другие важнейшие черты, выражающие самую суть этого литературного направления: искание абсолютных идеалов и стремление к бесконечному, крайний индивидуализм и культ беспредельной личной свободы, погруженность в глубины человеческого духа и интерес к «ночной» стороне души, – не получили в творчестве русских писателей той поры сколько-нибудь полного развития. Умонастроения и художественные открытия европейских романтиков были усвоены и переработаны в России на свой лад, приноровлены к отечественным запросам и потребностям, к тем проблемам, которые стояли тогда перед русским обществом, к уровню развития русской литературы.
И неудивительно, что они выступали – в особенности на первом этапе развития русского романтизма – в сложном, порой причудливом сочетании с длинным рядом иных, доромантических явлений: традицией высокой одической поэзии XVIII в. (писатели-декабристы), сентиментализмом и анакреонтикой (Жуковский, Батюшков, юный Пушкин), художественными принципами просветительской литературы. Характерно, например, одновременное увлечение поэтов-декабристов Державиным и Байроном – сочетание в высшей степени парадоксальное.
В статье «Два Лесных Царя» Марина Цветаева превосходно показала, с какой последовательностью, с какой настойчивостью упрощал Жуковский романтическую основу гетевской баллады, насколько рационалистичнее его перевод в сравнении с подлинником: «Вещи равновелики. И совершенно разны. Два Лесных Царя». И далее: «Страшная сказка на ночь. Страшная, но сказка. Страшная сказка нестрашного дедушки. После страшной сказки все-таки можно спать. Страшная сказка совсем не дедушки. После страшной гетевской не-сказки жить нельзя – так, как жили (В тот лес! Домой!)» [23. С. 322, 323]. А ведь по меркам немецкой литературы Гете и романтиком-то подлинным не был!
Точно так же и теоретики русского романтизма опирались не только на авторитет Шеллинга или братьев Шлегелей, но и обращались к эстетическим концепциям Винкельмана, Лессинга и Гердера, Гете, Шиллера и мадам де Сталь – словом, всех, кто в той или иной форме противостоял эстетике и поэтике классицизма. Романтизм, иначе говоря, выступал как суммарное обозначение нового, антиклассического искусства – «парнасский афеизм» (Пушкин).
На втором, последекабрьском этапе русского романтизма собственно романтические умонастроения и художественные принципы существенно углубляются. В атмосфере общественной реакции, крушения просветительских иллюзий и политических доктрин передовой дворянской интеллигенции отчетливо выявляются коренные черты романтического миросозерцания: напряженный индивидуализм, поиски абсолютных жизненных ценностей, всеохватывающее разочарование в действительности. Общественные противоречия представляются теперь трагически неразрешимыми, стремление к свободе бесперспективным, а сознание человека изначально двойственным – ареной беспрестанной борьбы добра и зла, «земного»» и «небесного» начал.
Естественно, что в этой ситуации заметно ослабевают связи романтизма с традициями классицизма и сентиментализма. Зато русские романтики испытывают теперь воздействие со стороны нового литературного направления – реализма и, в свою очередь, сами воздействуют на него. Взаимодействие, взаимопроникновение романтических и реалистических начал – важнейшая отличительная особенность творчества крупнейших писателей той поры – Пушкина, Лермонтова, Гоголя.
Итак, относительная неразвитость собственно романтических начал, переплетение и взаимодействие их с началами дои послеромантическими, «синкретический» характер литературного движения – таковы важнейшие приметы и свойства русского романтизма.
Перед нами снова весь комплекс особенностей, присущих той разновидности литературного направления, которую мы предложили назвать типологическим подобием. Но при всех отличиях русского романтизма от западного невозможно опять-таки отрицать, что он представляет собою своеобразный аналог романтизма европейского. Основные признаки романтического искусства – пусть в смягченных, преображенных, не вполне чистых и развитых формах – проступают в нем достаточно отчетливо.
Между тем, рассматривая (в уже упоминавшейся статье) XVIII век и даже первые десятилетия XIX как эпоху русского Возрождения, В. В. Кожинов – и это вполне логично – пытается обнаружить последующие литературные направления лишь в более позднее время – в 1840–1870-е гг., когда Россия находилась примерно на той же стадии общественного развития, что и передовые европейские страны во второй половине XVIII – начале XIX столетия. И действительно, в русской литературе той поры возникают явления, в духовном и эстетическом отношении довольно близкие западным просветительству, сентиментализму, романтизму. Но самостоятельными литературными направлениями они все-таки не стали.
Не стали именно потому, что к середине XIX в. русская литература прошла превосходную литературную школу, успела пережить – пусть по-своему и не столь интенсивно – основные ступени развития литературы европейской и начиная с 1840-х гг. прочно утвердилась на реалистических позициях. Вторично обращаясь теперь к великим европейским традициям, к идеям и художественным концепциям, казалось бы, давно преодоленным, она стремилась соединить, сплавить их с новейшим художественным опытом, с достижениями и принципами реалистического искусства. Не случайно наши литературоведы все чаще говорят сейчас об универсальности, синтетичности русского реализма XIX столетия.
Бесполезно искать поэтому в русской литературе те же самые сентиментализм, просветительство, романтизм, какие существовали в Западной Европе. Если при первом своем проявлении они еще не были «национальными вариантами» общеевропейских литературных направлений, то в середине XIX столетия они уже не могли быть ими. Развитие русской литературы всегда было «неклассическим», «неправильным», и вряд ли стоит подтягивать его под привычные европейские нормы.
Итак, чтобы понятие литературного направления могло стать действенным инструментом постижения литературного процесса, необходимо прежде всего «расчленить» его, увидеть его сложность и неоднородность. Даже если ограничить поле наблюдения одними только европейскими литературами, следует говорить, очевидно, по меньшей мере о трех главных разновидностях внутри основных литературных направлений, которые мы условно назвали классическими формами, типологическими вариациями и типологическими подобиями.
Но теперь, естественно, возникает вопрос противоположного свойства. Что же дает нам право рассматривать названные типологические формы как межнациональную общность, как разновидности одного и того же литературного направления? Сознавая, что решение этого вопроса еще впереди, ограничимся пока лишь предварительными соображениями.
Очевидно, основу всякого художественного направления составляет определенное сходство глубинных духовно-содержательных и эстетических принципов, обусловленных в конечном счете сходным типом миропонимания. В самом деле, при всех различиях национальных разновидностей Ренессанса их объединяет стремление высвободиться из-под безусловного господства феодально-церковной морали, резко возросший интерес к человеческой личности. Именно эта гуманистическая основа (выраженная с большей или меньшей степенью отчетливости) и составляет фундамент европейского Возрождения, того художественного направления, которое принято называть ренессансным реализмом.
Точно так же и классицизм невозможно представить себе без рационалистического культа разума и государственно-гражданских добродетелей, сентиментализм – без утверждения человеческого чувства как величайшей жизненной ценности, а романтизм – без глубокого (хотя тоже, разумеется, более или менее полного и всеобщего) разочарования в действительности, без напряженно-страстного стремления к абсолютному, практически недостижимому идеалу.
Сходством этих глубинных духовно-эстетических первооснов обусловлены многообразные тематические, жанровые и стилевые соответствия, а также совпадения программно-творческих установок и ориентаций, позволяющие в большинстве случаев непосредственно определить принадлежность произведений разных национальных литератур к одному и тому же художественному направлению.
Скажем, уловить различие между романтическими поэмами Байрона и Пушкина (очень существенное и важное) можно лишь в результате специального исследования. Сходство же их, что называется, бросается в глаза и ясно даже неискушенному читателю. При всей несхожести трагедии Расина и Сумарокова это все-таки были произведения одного жанра, написанные с учетом требований и правил классицизма, в то время как в эпоху сентиментализма ведущее место в драматургии занимает «слезная» мещанская драма. Что же касается романтиков, то сама мысль о подчинении художника общеобязательным нормам и правилам казалась им нелепостью, а утверждение его духовной и творческой свободы стало общим местом романтической эстетики.
Во-вторых, типологические разновидности одного и того же направления могут быть сближены по значению в литературном процессе, по той роли, которую играют они в истории своей национальной литературы.
Чем объяснить, скажем, парадоксальный факт, что русские карамзинисты (т. е. сентименталисты и предромантики), объединившиеся в «Арзамасе», в полемике с классицизмом постоянно апеллировали к нормам разума и хорошего вкуса, к правилам Лагарпа и Буало? (см. [24. С. 15–21]). По-видимому, только тем, что «Арзамас» боролся с классицизмом в русском его варианте, т. е. прежде всего с традициями высокой одической поэзии и дидактической сатиры, с теоретическими установками «Беседы». Между тем французский классицизм широко культивировал также легкую поэзию, жанры анакреонтической оды, дружеского послания, которые на русской почве выступали как оппозиция классицизму, как его отрицание и подготовка романтизма. Сама мера «классицистичности» и «сентиментальности» для разных стран, как видим, различна. Однако же роль сентиментализма – оппонента классицизма и предшественника романтической искусства – была в обеих странах во многом сходной.
Итак, определенное сходство глубинных духовно-содержательных принципов; обусловленные им совпадения и соответствия программно-творческих установок, тематики, жанров и стиля; аналогичная роль и место в истории национальной литературы – таковы важнейшие моменты, на которых основывается межнациональная общность литературного направления. Однако общность эта предполагает не только неповторимое своеобразие национальных разновидностей каждого из литературных направлений, но и сложную их иерархию – разную меру типологического родства и подобия.
Соответственно и русский романтизм, выросший на иной национально-исторической почве, нежели романтизм немецкий или английский, качественно отличен от них и, конечно, не может быть назван романтизмом в точном и строгом смысле слова. Но он был «вполне романтизмом» по русским масштабам – с точки зрения русской литературы и потребностей ее развития. Как и на Западе, poмантизм в России довершил начатое сентиментализмом освобождение от «классических пут» и подготовил возникновение нового литературного направления – реализма.
Все эти свойства отечественного романтизма как «типологического подобия» с невиданной полнотой и яркостью проявились в многогранном творчестве Пушкина. Исключительный интерес представляют прежде всего пушкинские воззрения на романтизм вообще и русский романтизм в частности.
1973, 1993
Литература
1. Жирмунский В. М. Литературные течения как явление международное // Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. Л., 1979.
2. Соколов А. Н. Литературное направление: (Опыт статьи для терминологического словаря) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 21. № 5. 1962.
3. Соколов А. Н. К спорам о романтизме // Проблемы романтизма. М., 1967.
4. Реизов Б. Г. Об изучении литературы в современную эпоху // Русская литература. № 1. 1965.
5. Реизов Б. Г. О литературных направлениях // Реизов Б. Г. История и теория литературы: Сборник статей. Л., 1986.
6. Поспелов Г. Н. Общее литературоведение и историческая поэтика // Вопросы литературы. № 1. 1986.
7. Купреянова Е. Н., Макогоненко Г. П. Национальное своеобразие русской литературы: Очерки и характеристики. Л., 1976.
8. Алексеев М. П., Жирмунский В. М., Мокульский С. С., Смирнов А. А. История зарубежной литературы: Раннее средневековье и Возрождение. М., 1959.
9. Пуришев Б. И. Своеобразие немецкого Возрождения // Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы. М., 1967.
10. Гершензон-Чегодаева Н. М. Возрождение в немецком искусстве // Ренессанс, барокко, классицизм: Проблемы стилей в западноевропейском искусстве XV–XVII веков. М., 1966.
11. Шетер И. Романтизм: Предыстория и периодизация // Европейский романтизм. М., 1973.
12. Реизов Б. Г. Между классицизмом и романтизмом: Спор о драме в период Первой империи. Л., 1962.
13. Дьяконова Н. Я. Китс и его современники. М., 1973.
14. Неупокоева И. Г. История всемирной литературы: Проблемы системного и сравнительного анализа. М., 1976.
15. Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. Т. 5. М.: Мысль, 1989.
16. Гачев Г. Д. Ускоренное развитие литературы: (На материале болгарской литературы первой половины XIX века). М., 1964.
17. Вежбицкий Я. (Польша) Проблема романтизма в хорватской литературе // Романтизм в славянских литературах. М., 1973.
18. Неупокоева И. Г. Общие черты европейского романтизма и своеобразие его национальных путей // Европейский романтизм. М.: Наука, 1973.
19. Кожинов В. В. О принципах построения истории литературы: (Методологические заметки) // Контекст. 1972. Литературно-теоретически исследования. М., 1973.
20. Восстание декабристов. Т. 4. М.; Л., 1927.
21. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 6. М., 1955.
22. Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М., 1976.
23. Цветаева М. И. Об искусстве. М., 1991.
24. Лотман Ю. М. Поэзия 1790–1810-х годов // Поэты 1790–1810-х годов. Л., 1971.
«Парнасский афеизм»
Высказывания Пушкина о романтизме, хорошо известные порознь, не приведены до сих пор в систему. Между тем его мысли и рассуждения о романтической поэзии, содержащиеся в критических статьях (по большей части неоконченных), в рецензиях, полемических выступлениях; многочисленные замечания, разбросанные в письмах и черновиках, подготовительных материалах и художественных произведениях, обнаруживают несомненное единство и глубокую внутреннюю связь. Высказанные в разное время и по разным поводам, они как бы дополняют, уточняют, разъясняют друг друга и – в своей совокупности – выражают продуманную и устойчивую систему взглядов.
Попытаемся же реконструировать пушкинскую концепцию романтизма.
Стало уже традицией цитировать слова Пушкина о его глубокой неудовлетворенности теми воззрениями на романтизм, которые господствовали в тогдашней критике. «Кстати: я заметил, что все (даже и ты) имеют у нас самое темное понятие о романтизме», – говорится, например, в известном письме П. А. Вяземскому от 25 мая 1825 г. [1, X. С. 117] Чуть позже та же мысль повторяется в письме А. Бестужеву: «Сколько я ни читал о романтизме, всё не то; даже Кюхельбекер врет» [1, X. С. 148–149).
Корень заблуждения современных ему русских авторов – и в их числе самых талантливых («даже» Вяземского, «даже Кюхельбекера») – поэт видит в том, что «под общим словом романтизма» они «разумеют произведения, носящие на себе печать уныния или мечтательности» [1, VII. С. 52]. В этом отношении они слепо следуют французским журналистам, «которые обыкновенно относят к романтизму все, что им кажется ознаменованным печатью мечтательности и германского идеологизма или основанным на предрассудках и преданиях простонародных: определение самое неточное» [1, VII. С. 24].
В борьбе с такого рода «темными понятиями», неточными определениями и рождается полемическое утверждение: разделять поэзию на классическую и романтическую следует не по содержательному, а по формальному принципу: «Если вместо формы стихотворения будем брать за основание только дух, в котором оно писано, то никогда не выпутаемся из определений», – читаем в статье «О поэзии классической и романтической» (1825). Поэтому к классическому роду «должны отнестись те стихотворения, коих формы известны были грекам и римлянам, или коих образцы они нам оставили…». Напротив, к поэзии романтической должны быть отнесены те «роды стихотворения», которые не были известны древним, и те, в коих прежние формы изменились или заменены другими» [1, VII. С. 24].
Казалось бы, взгляд Пушкина на романтизм прост, ясен и не нуждается в каких-либо комментариях. Однако простота эта лишь видимая.
Понятые буквально, слова поэта слишком уж противоречат всему смыслу его основных программных выступлений, где на первый план неизменно выдвигаются духовно-содержательные свойства художественного произведения. Ограничимся одним только примером. Рецензируя произведения Сент-Бёва, Пушкин упрекает его за то, что в своих «Мыслях» он «слишком много придает важности нововведениям так называемой романтической школы французских писателей, которые сами полагают слишком большую важность в форме стиха, в цезуре, в рифме, в употреблении некоторых старинных слов, некоторых старинных оборотов и т. п. Все это хорошо; но слишком напоминает гремушки и пеленки младенчества» [1, VII. С. 167].
Налицо как будто бы явное противоречие: различия между классицизмом и романтизмом нужно искать не в «духе», а в форме поэзии, а в то же время формальным нововведениям не следует придавать «слишком много важности». В чем же дело? Как объяснить столь очевидное несоответствие? Для этого необходимо прежде всего восстановить ход мысли поэта, контекст его рассуждений о классицизме и романтизме.
Начнем с того, что само понятие «романтизм» Пушкин употребляет в разных значениях. Этим словом он обозначает одновременно (так было принято в немецкой романтической эстетике, во всей европейской художественной критике той поры) и современное ему литературное направление, и ту давнюю литературную традицию, на которую это направление опиралось.
Иными словами, романтизм был для поэта понятием вполне конкретным, исторически и хронологически локальным, и понятием более общим, более широким – как мы бы теперь сказали, типологическим.
В рецензии на поэму Ф. Глинки «Карелия» (1830) эта терминологическая двуплановость выявляется с замечательной ясностью. Талант, «может быть, самый оригинальный», Ф. Глинка «не исповедует ни древнего, ни французского классицизма, он не следует ни готическому, ни новейшему романтизму…» [1, VII. С. 84]. Значит, точно так же, как «лжеклассицизм» XVII столетия недопустимо смешивать с «классическим» искусством древнего мира, так и романтизм в литературе начала XIX в. («новейший», по терминологии Пушкина) следует отличать от «готического» романтизма минувших эпох.
«Готический» романтизм – это детище новой европейской цивилизации, возникшей на обломках античности. «Смиренное начало романтической поэзии» уходит в глубину веков – в эпоху нашествия мавров и крестовых походов: «Мавры внушили ей (европейской поэзии. – А. Г.) исступление и нежность любви, приверженность к чудесному и роскошное красноречие востока; рыцари сообщили свою набожность и простодушие, свои понятия о геройстве и вольности нравов походных станов Годфреда и Ричарда» [1, VII. С. 25]. Образцы романтической литературы видел Пушкин в средневековой народной поэзии, в творчестве Данте и Ариосто, Лопe де Вега, Кальдерона и Сервантеса, Шекспира и Мильтона. Это и была, по его мнению, литература, ориентированная на создание новых, нетрадиционных, неклассических форм, литература, возникшая в связи с изменившимися условиями жизни, под влиянием новых исторических и общественно-культурных факторов.
Но если «готический» романтизм закономерно возникает в результате развития новой европейской цивилизации и европейской культуры, чем объяснить тогда возникновение и влияние в новое время французского классицизма?
Пушкин видит в этом некую аномалию – отклонение от общего правила. Романтические («готические») традиции, столь сильные и Англии н Германии, Испании и Италии, оказались во Франции слабыми, неразвитыми. «Романтическая поэзия пышно и величественно расцветала по всей Европе, – читаем в статье “О ничтожестве литературы русской” (1834), – Германия давно имела свои Нибелунги, Италия – свою тройственную поэму[1], Португалия – Луизиаду, Испания – Лопе де Вега, Кальдерона и Сервантеса, Англия – Шекспира, а у франузов – Вильон воспевал в площадных куплетах кабаки и виселицу и почитался первым народных поэтом!» [1, VII. С. 212].
В том-то и заключается необъяснимый парадокс развития французской литературы, что в других европейских странах «поэзия существовала прежде появления бессмертных гениев, одаривших человечество своими великими созданиями. Сии гении шли по дороге уже проложенной». Во Франции дело обстояло как раз наоборот: «возвышенные умы 17-го столетия застали народную поэзию в пеленках, презрели ее бессилие и обратились к образцам классической древности» [1, VII. С. 213]. Именно слабость национальных художественных традиций и вынудила великих французских писателей обратиться к могучей и сильной традиции античной литературы.
Отсюда двойственность отношения Пушкина к классицизму XVII столетия. Поэт говорил о нем как о блистательной эпохе в истории французской литературы, как о явлении необъяснимом, величественном и чудесном: «Каким чудом посреди сего жалкого ничтожества, недостатка истинной критики и шаткости мнений, посреди общего падения вкуса вдруг явилась толпа истинно великих писателей, покрывших таким блеском конец XVII века?.. Как бы то ни было, вслед за толпою бездарных, посредственных или несчастных стихотворцев, заключающих период старинной французской поэзии, тотчас выступают Корнель, Буало, Расин, Мольер и Лафонтен, Паскаль, Боссюэт и Фенелон. И владычество их над умственной жизнью просвещенного мира гораздо легче объясняется, нежели их неожиданное пришествие» [Там же].
Неизменно подчеркивал Пушкин непреходящую эстетическую ценность величайших творений французских «классиков». Трагедии Расина «стоят на высоте недосягаемой», «составляют вечный предмет наших изучений и восторгов…» [1, VII. C. 147]; его стихи полны «смысла, точности и гармонии» [1, X. С. 66). На одно из первых мест во всей мировой литературе ставит поэт мольеровского «Тартюфа», видя в нем «плод самого сильного напряжения комического гения» [1, X. С. 115].
И все же идейно-эстетические принципы классицизма не соответствуют, по мнению Пушкина, самой природе художественного творчества. Возникший в противовес национальной традиции и вопреки ей, классицизм, все более отделяясь от народной почвы, превратился в искусство салонное, придворно-аристократическое, созданное, однако же, писателями отнюдь не аристократического происхождения и потому полностью зависимыми от двора: «Вскоре словесность сосредоточилась около его (Людовика XIV. – А. Г.) трона. Все писатели получили свою должность. Корнель, Расин тешили короля заказными трагедиями, историограф Буало воспевал победы и назначал ему писателей, достойных его внимания, камердинер Мольер при дворе смеялся над придворными. Академия первым правилом своего устава положила: хвалу великого короля» [1, VII. C. 213].
Личная зависимость поэта становится причиной его несвободы творческой: «Он не предавался вольно и смело своим вымыслам. Он старался угадывать требования утонченного вкуса людей, чуждых ему по состоянию» [1, VII. C. 148]. Отсюда и неизбежная регламентация художественного творчества, его дидактизм и нравоучительность, нормативность эстетической теории классицизма. И вполне понятно, что в окончательном преодолении ее традиций, в полном раскрепощении от «классических пут» видел Пушкин важнейшее условие поступательного развития современного ему искусства.
Поэту ясно, что консервативная в художественном отношении эстетика классицизма теперь, в XIX в., обретает к тому же и реакционный политический смысл. «Нельзя требовать от всех писателей стремления к одной цели, – возражает он публицисту-ретрограду М. Е. Лобанову. – Никакой закон не может сказать: пишите именно о таких-то предметах, а не о других… Требовать от всех произведений словесности изящества или нравственной цели было бы то же, что требовать от всякого гражданина беспорочного житья и образованности» [1, VII. C. 275]. Таким образом, свобода общественная, политическая и свобода творческая стягивается в пушкинских историко-литературных опытах в единый и целостный комплекс.
Соответственно и освобождение от «классических» правил рассматривается Пушкиным как литературное вольномыслие и эстетическая «ересь», как художественная революция. Свершить эту революцию и должен, по его убеждению, «новейший» романтизм, т. е. современное литературное движение, представленное прежде всего именами Гете и Байрона. И конечно же, такого рода романтизм связан в представлении поэта не с одним лишь формальным новаторством, он является выражением «духа» – духа времени. Понятие романтизма наполняется, таким образом, определенным нравственно-психологическим и общественно критическим содержанием. Романтизм – это «парнасский афеизм» [1, II. С. 237] – выражение «бешеной свободы» и «литературного карбонаризма» [1, X. С. 77].
Знаменательно, что и в новом, романтическом герое Пушкина опять-таки привлекает прежде всего его мятежность и бунтарство, его неудовлетворенность жизнью и неприятие современного общества. «Равнодушие к жизни и ее наслаждениям», «преждевременная старость души» [1, X. С. 42] суть главнейшие признаки романтического героя и романтического мироощущения вообще. Другой непременной чертой романтической личности считает поэт величие и силу страстей, жажду необыкновенных впечатлений, приключений, подвигов. «Когда я вру с женщинами, – говорится в письме А. Бестужеву о декабристе Якубовиче, – я их уверяю, что я с ним разбойничал на Кавказе, простреливал Грибоедова, хоронил Шереметева etc. – в нем много, в самом деле, романтизма» [1, X. С. 148]. По словам Н. В. Фридмана, Пушкин «включал в интеллектуально-психологическую сферу романтизма необыкновенное, поднимающее человека над повседневностью…» [2. 131–135, 136]. Вообще «необыкновенное в человеке, необыкновенное в нации, необыкновенное в природе, необыкновенное в форме произведения» [2. С. 138] – таковы основные принципы романтической поэзии в понимании Пушкина. Остается добавить, что характеристика эта относится всецело к «новейшему» романтизму – к романтизму, понятому не как тип художественного творчества, а как определенное литературное направление.
Но и в «новейшем» романтизме Пушкин различал тоже как бы две стороны. Поэт рассматривает его не только как живой и реальный факт современной литературной жизни, как объект литературно-критического изучения и оценки. Он видит в нем также программу дальнейшего обновления художественного творчества, развития словесного искусства. Ибо борьба с классицизмом и его влиянием не окончена: бастионы классицизма не рухнули до сих пор во Франции.
Современная французская литература, по глубокому убеждению поэта, не знает подлинного романтизма, она вся еще во власти классицизма, его эстетических и художественных традиций: «Век романтизма не настал еще для Франции – Лавинь бьется в старых сетях Аристотеля – он ученик трагика Вольтера, а не природы…» Те сборники стихов, что именуются романтическими, поэт называет не более не менее, как «позор для французской литературы» [1, X. С. 599]. Андре Шенье не имеет никакого отношения к романтизму: он «из классиков классик – от него так и несет древней греческой поэзией» [1, X. С. 77]. Франция еще ждет гениального поэта-романтика, который «возродит умершую поэзию» и увлечет ее на путь свободы [1, X. С. 508].
Отсутствие художнической свободы и определяет, по мысли поэта, ничтожество и слабость современной ему французской литературы, не «доросшей» еще до романтизма – в «новом» смысле слова. «Одно меня задирает, – сообщает он М. П. Погодину в 1832 г., – хочется мне уничтожить, показать всю отвратительную подлость нынешней французской литературы. Сказать единожды вслух, что Lamartine скучнее Юнга, а не имеет его глубины, Béranger не поэт, что V. Hugo не имеет жизни, т. е. истины; что романы A. Vigny хуже романов Загоскина… Я в душе уверен, что 19-й век, в сравнении с 18-м, в грязи (разумею во Франции). Проза едва-едва выкупает гадость того, что зовут они поэзией» [1, X. С. 323].
Потому-то и отказывает Пушкин Ламартину, Виньи, Гюго в звании романтических поэтов, что свойственные нынешним романтикам чувства тоски, разочарования, неприятия жизни выражены в их произведениях недостаточно естественно, свободно и сильно, что «почти всем французским поэтам новейшего поколения» недостает главного свойства истинной поэзии – искренности вдохновения (см. [1, VII. С. 168]). Недаром Ламартин уступает сентименталисту Юнгу, «не имеет его глубины»! Единственное исключение из этого печального правила – первый стихотворный сборник Сент-Бёва, в полной мере отвечающий принципам новой романтической школы: «Никогда ни на каком языке голый сплин не изъяснялся с такой сухой точностию; никогда заблуждения жалкой молодости, оставленной на произвол страстей, не были высказаны с такой разочарованностию» [1, VII. С. 162].
В целом же новейшая поэтическая школа во Франции не сумела «отучиться от некоторых врожденных привычек, и мы видим в ней всё романтическое жеманство, заключенное в строгие формы классические» [1, VII. С. 26]. В ее созданиях нет и следа «искреннего и свободного хода романтической поэзии [1, VII. С. 53]. Французским поэтам еще предстоит создать новые, свободные художественные формы, адекватные собственно романтическим настроениям.
Самого же романтического «духа», думал поэт, недостаточно для возникновения нового искусства. Оно начинается там, где этот «дух», это новое содержание воплощаются в соответствующие ему художественные формы!
Теперь становится понятным, почему с такой настойчивостью предлагал Пушкин формальный критерий для разграничения классической и романтической поэзии: «романтическое жеманство» возможно и «в строгих формах классических». «Стихотворение может являть все сии признаки (признаки романтического содержания. – А. Г.), – разъясняет он свою мысль, – а между тем принадлежать к роду классическому» [1, VII. С. 24].
Более того, романтизм, по мнению Пушкина, рождает не просто новые формы, но и новый принцип формы – иной тип связи формы и содержания! Как показал С. М. Бонди, главное отличие романтизма от классицизма поэт видел в индивидуализации всей художественной структуры произведения. Согласно пушкинской концепции, в эстетике классицизма «каждое произведение рассматривалось… не изолированно, не просто как свободное создание поэта, с формой, свободно создаваемой в соответствии с замыслом, с содержанием, а в соотнесении с традиционными жанрами, с выработанной традицией формой». Напротив, романтическая поэзия «должна была сломать эту установку на определенные жанры, ее произведения должны восприниматься вне этой апперцепции, ее формы не заданы заранее, а возникают из самого индивидуального содержания» [3. C. 424–425].
Именно с этой точки зрения нововведения «так называемой романтической школы французских писателей» [1, VII. С. 167] и не могут быть признаны подлинным романтизмом – «романтизма нет еще во Франции» [1, X. С. 508]. «Новейший романтизм, полагает поэт, лишь только будущее французской литературы, ее завтрашний день.
Как же тогда расценить тогда судьбу русской литературы, ее предшествующее развитие, ее современное состояние? Они, по мнению IIушкина, еще безрадостнее.
Трагедию русской культуры Пушкин видел в многовековой обособленности от духовной и умственной жизни Западной Европы, от ее исторических опытов и судеб. «Долго Россия оставалась чуждою Европе, – говорится в самом начале статьи “О ничтожестве литературы русской”. – Приняв свет христианства от Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-кафолического мира. Великая эпоха возрождения не имела на нее никакого влияния; рыцарство не одушевило предков наших чистыми восторгами, и благодетельное потрясение, произведенное крестовыми походами, не отозвалось в краях оцепеневшего севера…» [1, VII. C. 210].
Спасшая европейскую цивилизацию от татарского нашествия Россия заплатила за это дорогой ценой: «внутренняя жизнь порабощенного народа не развивалась». На то были и свои особые причины: «Татаре не походили на мавров. Они, завоевав Россию, не подарили ей ни алгебру, ни Аристотеля». Последующие исторические события в стране также «не благоприятствовали свободному развитию просвещения» [1, VII. С. 210].
Поэтому-то, казалось поэту, и в средние века, и в новое время Россия была несравненно беднее Европы, гораздо беднее Франции памятниками литературы: «Европа наводнена была неимоверным множеством поэм, легенд, сатир, романсов, мистерий и проч., но старинные наши архивы и вивлиофики, кроме летописей, не представляют никакой пищи любопытству изыскателей» [1, VII. С. 210–211]. Вообще, «старинной словесности у нас не существует. За нами темная степь и на ней возвышается единственный памятник: “Песнь о полку Игореве”» [1, VII. С. 156].
Рождение новой русской литературы (и этим она несколько напоминает французскую XVII в.) произошло внезапно: «Словесность наша явилась вдруг в 18 столетии подобно русскому дворянству, без предков и родословной» [Там же].
Столь неожиданно явившаяся на историческом поприще, русская словесность плод «новообразованного общества» [1, VII. C. 211] еще менее, нежели французская, могла опереться на свое прошлое, на свои национальные традиции. «Поколение, преобразованное, презрело безграмотную изустную народную словесность, и князь Кантемир, один из воспитанников Петра, в путеводители себе избрал Буало» [1, VII. С. 368]. Французская литература в это время «обладала Европою» и «должна была иметь на Россию долгое и решительное влияние» [1, VII. С. 211].
Словом, развитие русской литературы как бы повторяет – только в ухудшенном варианте – развитие литературы французской. Ее история несравненно беднее, самобытные национальные традиции – намного слабее, она еще менее укоренена в народной культуре. Всеми этими факторами, думал поэт, и обусловлен несамостоятельный, подражательный характер вновь возникшей русской литературы. Но французские писатели XVII в. следовали, по крайней мере, традиции великой и могучей – античной литературе. Русские же писатели XVIII столетия опирались на теорию и практику искусственного французского «лжеклассицизма». Это подражание подражанию и заставляло Пушкина с горечью говорить о «ничтожестве литературы русской».
Значит, если романизм «готический» был слабо выражен даже во Франции, то уж в России, по убеждению Пушкина, его не было и в помине. Романтическая традиция (в расширительном, типологическом значении слова) отсутствовала в русской литературе начисто.
Существует ли в ней в таком случае романтизм «новейший»? Можно ли считать подлинно романтическим русское литературное движение 1820-х годов? Сама постановка подобных вопросов представлялась поэту абсурдной. С его точки зрения, в России не было даже подлинного классицизма (а лишь подражание французским образцам). И если век «новейшего» романтизма не настал еще для Франции, то тем более его время не приспело в России. «Но старая – классическая, на которую ты нападаешь, полно, существует ли у нас? это еще вопрос», – возражает Пушкин Вяземскому в связи с его предисловием к «Бахчисарайскому фонтану». И далее в том же письме: «Где же враги романтической поэзии? где столпы классические?» [1, X. С. 69, 70]. Недаром статья Вяземского, содержащая яркую характеристику классической и романтической поэзии, противоположности их творческих установок и принципов, казалась Пушкину несколько безадресной: она писана «более для Европы вообще, чем исключительно для России, где противники романтизма слишком слабы и незаметны и не стоят столь блистательного отражения» [1, VII. С. 14]. Постоянно указывая на «младенческий», «отроческий» возраст отечественной словесности, Пушкин видел ее главную задачу в высвобождении из-под влияния французского классицизма, из-под власти искусственных и ложных эстетических канонов. «Между тем как эсфетика со времен Канта и Лессинга развита с такой ясностию и обширностию, – начинает он свою известную статью “О народной драме и драме «Марфа Посадница»” (1830), – мы всё еще остаемся при понятиях тяжелого педанта Готшеда; мы всё еще повторяем, что прекрасное есть подражание изящной природе и что главное достоинство искусства есть польза» [1, VII. С. 146].
Примечательно пушкинское Письмо к издателю «Московского вестника» (1828), где скептический взгляд на существование в России «новейшего» романтизма выражен с беспощадной ясностью. Поэт вспоминает здесь, как ему, наблюдавшему в ссылке (в начале 1820-х гг.) «жаркие споры о романтизме», «казалось, однако, довольно странным, что младенческая наша словесность, ни в каком роде не представляющая никаких образцов» [1, VII. С. 51], обнаруживает тем не менее «стремление к романтическому преобразованию» [1, VII. С. 52]. Действительно, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что романтическими в русской критике просто-напросто именуются «произведения, носящие на себе печать уныния или мечтательности», или же стихотворения, в которых с очевидностью сказывается «жеманство лжеклассицизма французского» [1, VII. С. 52, 53]. Не соглашаясь, в частности, с Вяземским, Пушкин отказывается признать романтическим поэтом Озерова. Его трагедия «Фингал» «написана по всем правилам парнасского православия; а романтический трагик принимает за правило одно вдохновение…» [1, X. С. 46].
Следовательно, и для русской литературы, убежден Пушкин, романтизм – это дело будущего, это перспектива развития, а не реальность сегодняшнего дня. Романтический «переворот в нашей словесности» [1, X. С. 139] еще только предстоит совершить. А для этого необходимо прежде всего переориентировать русскую литературу, указать ей иные источники для подражания – главным образом немецкие и английские. «Английская словесность начинает иметь влияние на русскую, – с удовлетворением отмечает он в письме к Гнедичу от 27 июня 1822 г. – Думаю, что оно будет полезнее влияния французской поэзии, робкой и жеманной» [1, X. С. 33]. Еще решительнее высказывается поэт в письме к Вяземскому. «…Стань за немцев и англичан – уничтожь этих маркизов классической поэзии…» – рекомендует он ему в 1823 г. [1, X. С. 53]. «Все, что ты говоришь о романтической поэзии, прелестно, – хвалит он друга в другом письме, – ты хорошо сделал, что первый возвысил за нее голос – французская болезнь умертвила бы нашу отроческую словесность» [1, X. С. 46].
Другое средство направить русскую литературу по романтическому пути – обратить ее к «мутным, но кипящим источникам новой, народной поэзии» [1, VII. С. 51], «к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному» [1, VII. С. 57]. Как ни бедна Россия – в сравнении с Европой – памятниками старинной словесности, они являют живую и подлинно поэтическую традицию: «…Есть у нас свой язык; смелее! – обычаи, история, песни, сказки – и проч.» [1, VII. С. 364], – говорится, например, в наброске статьи «О французской словесности» (1822).
Такова – в общих чертах – пушкинская программа романтического преобразования отечественной литературы. В качестве одного из важнейших пунктов она также включает в себя преодоление крайностей и недостатков новой романтической школы, ибо в своем реальном обличье «новейший» романтизм не вполне соответствовал представлениям поэта об идеале романтического искусства.
Не случайно напряженный интерес к романтическому индивидуализму байроновского толка – к могучей и сильной титанической личности – уживался у Пушкина с недоверчивым или даже прямо отрицательным отношением к ряду других романтических течений и группировок: к философскому романтизму шеллингианского типа, к французской «неистовой словесности». Но и творчество Байрона Пушкин приемлет далеко не полностью. В английском поэте ценит он прежде всего «певца Гяура и Жуана» – т. е. автора романтических поэм и романа в стихах. К философским мистериям Байрона относился он довольно холодно, сомневался в его драматическом таланте (см. [1, VII. С. 37]), отмечал слабость Байрона в изображении исторических лиц (см. [1, VII. С. 133]). Корни этих недостатков Пушкин видит в особенностях мировоззрения Байрона, который «бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества, потом отвратился от них и погрузился в самого себя» [1, VII. С. 37].
Между тем, по глубочайшему убеждению Пушкина, поэт должен быть независим не только от гнета внешних обстоятельств, власти художественных канонов и правил. Он должен быть прежде всего свободен внутренне – от односторонности убеждений и личных пристрастий, гордой сосредоточенности на себе самом. Только при этом условии может он выполнить главную свою задачу – постичь мир во всем его многообразии, его полноте и богатстве.
Одностороннему, погруженному в себя Байрону противопоставляет Пушкин всеобъемлющего Гете, «великана романтической поэзии» [1, VIII. С. 67]. «Фауст», по его мнению, «есть величайшее создание поэтического духа», которое «служит представителем новейшей поэзии, точно как «Илиада» служит памятником классической древности» [1, VII. С. 37].
Новейшие романтики – и в этом их великая заслуга – решительно отбросили всякие внешние ограничения художественного творчества, окончательно порвали с нормативностью «классического» искусства. Но им зачастую недостает свободы внутренней, шекспировской многосторонности, гетевской объективности и широты взгляда на мир. В преодолении этих недостатков видит Пушкин задачу и смысл следующего, более высокого этапа литературного развития, обоснованием которого и стала его теория «истинного романтизма».
Теория «истинного романтизма» рассматривается обычно как антиромантическая, как реалистическая по своей сути в своих главных чертах (см., напр. [4; 5; 6]). Между тем это не совсем точно. Направленная против односторонности и субъективизма романтиков, она вовсе не означала полного пересмотра основ романтической теории искусства. Правильнее было бы сказать, что в романтической эстетике поэт отбирает и акцентирует те ее стороны, которые сближают романтизм с реализмом. Недаром формула «поэт действительности» [1, VII. С. 78] казалась ему наиболее подходящей для характеристики собственного творчества. Охотно признавая недостатки «Кавказского пленника» как поэмы романтической, поэт вместе с тем неизменно подчеркивал жизненную достоверность многих ее мест. Он отмечал естественность душевных движений своего героя, верность «местных красок» в кавказских пейзажах, научную точность описаний «нравов черкесских», которые могут рассматриваться «как географическая статья или отчет путешественника» [1, X. С. 507–508]. Соглашаясь, что «6лагоразумие» Пленника мало подходит для героя романтического произведения, Пушкин тут же разъясняет «типизирующую» установку своей поэмы: «Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века» [1, X. C. 41–42].
Сходным образом оправдывает Пушкин и изображение Пимена в «Борисе Годунове»: «Характер Пимена не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях…» [1, VII. С. 53]. Вообще, разъясняет поэт, отказавшись следовать драматургическим правилам классицизма, он старался «заменить сей чувствительный недостаток верным изображением лиц, времени, развитием исторических характеров и событий, – словом, написал трагедию истинно романтическую» [1, VII. С. 52].
Тот же критерий выдвигает Пушкин и для оценки чужих произведений. В «Евгении Онегине» выделяет он несколько романов, «в которых отразился век и современный человек изображен довольно верно». В «Марфе Посаднице» Погодина его особенно восхищает живое и точное воссоздание минувшей эпохи: «Мы слышим точно Иоанна, мы узнаем мощный государственный его смысл, мы слышим дух его века… Какая сцена! Какая верность историческая!» [1, VII. С. 151].
Напротив, к замечаниях по поводу комедии Грибоедова Пушкин указывает на психологическое и житейское неправдоподобие поведения Чацкого: «Всё, что говорит он, очень умно. Но кому говорит он всё это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека – с первого взгляду знать, с кем имеешь дело…» [1, X. С. 97]. В трагедии Гюго «Кромвель» поэт видит «нелепость вымыслов» [1, VII. С. 335], нарушение «исторической истины», «драматического правдоподобия» [1, VII. С. 337]. В «Сен-Маре» А. Виньи (в транскрипции Пушкина «Сен-Марс») отмечает он надуманность и искусственность ситуаций [1, VII. С. 338–340].
Полнота воспроизведения действительности во всем богатстве многоразличных ее проявлений – такова, по мысли Пушкина, главнейшая особенность «истинного романтизма». В «Ромео и Джульетте» Шекспира его восхищает прежде всего широкая и верная картина итальянской жизни XVI в.: «В ней отразилась Италия, современная поэту, с ее климатом, страстями, праздниками, негой, сонетами, с ее роскошным языком, исполненным блеска и concetti. Так понял Шекспир драматическую местность» [1, VII. С. 66].
Решительно выступает Пушкин против попыток сузить сферу художественного изображения, ограничить ее одним лишь высоким и прекрасным, видя в этом посягательство на творческую свободу поэта, на самые основы «истинного романтизма». Он настаивает на том, что «самый ничтожный предмет может быть избран стихотворцем» [1, V. С. 459]. В «Онегине» (как, впрочем, и в ряде других художественных произведений) он полемически утверждает свое право изображать «низкую природу». Главную прелесть исторических романов Вальтера Скотта видит он в том, что они знакомят нас с прошлым «домашним образом», что его герои «просты в буднях жизни» [1, VII. С. 366].
Другим неотъемлемым свойством «поэзии действительности» считал Пушкин создание многоплановых и сложных человеческих характеров. Неудовлетворенный психологической бедностью героев классицизма, он писал, что «Расин понятия не имел об создании трагического лица» [1, X. С. 66]. С осуждением отзывался поэт о схематичности героев Байрона или же старых английских романистов. Ему кажется неестественной манера этих писателей заставлять действующих лиц даже «самые посторонние вещи» произносить так, чтобы они несли «отпечаток данного характера»: «Заговорщик говорит: Дайте мне пить, как заговорщик – это просто смешно» [1, X. С. 609]. Исключительный интерес представляет знаменитое сопоставление характерологических принципов Мольера и Шекспира. Герои Мольера могут быть скорее названы условными масками, нежели живыми лицами. Они – «типы такой-то страсти, такого-то порока». «У Мольера, скупой скуп – и только…» Лицемер ведет себя одинаково в любых ситуациях, в любых положениях. Он «волочится за женою своего благодетеля, лицемеря; принимает имение под сохранение, лицемеря; спрашивает стакан воды, лицемеря». Напротив, шекспировские герои – «существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков», раскрывающие свои характеры в зависимости от обстоятельств. Скупец Шейлок еще и «сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен». Необычайно многообразен характер Фальстафа, «коего пороки, один с другим связанные, составляют забавную, уродливую цепь, подобную древней вакханалии» [1, VIII. С. 65–66]. Превосходство Шекспира над Мольером объясняется, следовательно, не превосходством его драматического гения, но особенностями его художественного метода – иными, высшими принципами изображения жизни.
Важнейшей чертой «истинного романтизма» Пушкин считал строгую объективность в изображении действительности. В статье «О народной драме и драме “Марфа Посадница”» он писал: «Драматический поэт, беспристрастный, как судьба… не должен был хитрить и клониться на одну сторону, жертвуя другою. Не он, не его политический образ мнений, не его тайное или явное пристрастие должно было говорить в трагедии, но люди минувших дней, их умы, их предрассудки. Не eго дело оправдывать и обвинять, подсказывать речи. Его дело воскресить минувший век во всей его истине» [1, VII. С. 151].
Эти суждения поэта полемически заострены против субъективизма и дурной тенденциозности современной ему литературы, против тех, кто не понимает, «как драматический автор может совершенно отказаться от своего образа мыслей, дабы совершенно переселиться в век им изображаемый» [1, VII. C. 54]. Они метят в романистов, которые «перебираются» в изображаемую эпоху «с тяжелым запасом домашних привычек, предрассудков и дневных впечатлений» [1, VII. C. 72].
Пушкин стремится сблизить искусство с реальностью, борясь за максимальную правдивость и жизненную конкретность изображения. Вместе с тем пушкинское требование объективности и беспристрастия художника было характерно для ранней, начальной стадии теории реализма, для эпохи его формирования, когда главная задача состояла в преодолении субъективистских традиций классицизма и романтизма. Впоследствии эти положения пушкинской эстетики будут откорректированы «теорией субъективности» Белинского.
С другой стороны, многим важнейшим положениям пушкинской теории нетрудно подыскать соответствия и аналоги в литературно-художественных программах различных романтических и даже доромантических группировок и школ. Таковы, в частности, идея универсальности искусства и «протеизма» художника, требование многогранности и разнообразия характеров, таковы идеи историзма, национальной самобытности, обращения к традициям народной культуры и мн. др. Поэтому теория «истинного романтизма», концепция «поэзии действительности» не могут рассматриваться как синонимы реалистической эстетики. Пушкинский принцип исторической и психологической достоверности – воссоздания «духа эпохи», колорита «народности и местности» не предполагает изображения действительности в ее социально-типичных чертах, а человеческой личности – в ее социально-исторической обусловленности. Он имеет более общий, универсальный смысл. Под верностью характеров поэт подразумевает обычно точное изображение страстей и душевных движений – результат глубокого знания неизменной человеческой природы. Все это тесно связывает его взгляды на «истинный романтизм» с эстетическими традициями, предшествовавшими конкретно-историческому реализму XIX столетия, с собственно романтической эстетикой.
Следовательно, в целом концепцию «истинного романтизма» вернее было бы охарактеризовать не как реалистическую в полном смысле слова, а как взаимопроникновение романтизма и реализма в теории художественного творчества, как их внутреннее, нерасчлененное единство.
Можно сказать, таким образом, что система взглядов Пушкина на романтизм достаточно сложна и в то же время внутренне едина. Она включает в себя понимание романтизма как широкой типологической общности (типа творчества) и как явления исторически конкретного – новейшей литературной школы. Романтизм предстает в ней как реальный факт литературной жизни – объект критического разбора и оценки и как творческая программа, намечающая пути преобразования, дальнейшего развития отечественной словесности. Разные стороны пушкинской концепции и выражают различные, но тесно связанные между собой понятия «готического», «новейшего» и «истинного» романтизма.
Суммируя пушкинские воззрения на романтизм, еще раз подчеркнем: поэту ясен прежде всего особый характер русского романтического движения, существенно отличного во многих своих чертах от романтизма на Западе. И второе: развиваемая им программа романтического преобразования отечественной словесности универсальна и синкретична; тесно связанная с доромантической эстетикой, она вбирает в себя еще не обособившиеся вполне начала романтизма и реализма.
Те же особенности обнаружим мы в художественном творчестве Пушкина.
1977, 1993
Литература
1. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. 4-е изд. Л., 1979.
2. Фридман Н. В. О романтизме Пушкина: («Цыганы» в художественной системе южных поэм) // К истории русского романтизма. М., 1973.
3. Бонди С. М. Историко-литературные опыты Пушкина // Литературное наследство. Т. 16–18. М., 1934.
4. Асмус В. Ф. Пушкин и теория реализма // Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968.
5. Дрягин К. Борьба Пушкина за pеалистическую эстетику // Пушкин – родоначальник новой русской литературы. М., 1941.
6. Сергиевский И. В. Эстетические взгляды Пушкина // Избранные работы. М., 1961.
Романтическая лирика
В художественной эволюции Пушкина принято выделять особый, романтический этап, который сменяется затем этапом реалистическим. Хронологические границы пушкинского романтизма определяются, впрочем, по-разному. Как романтическое рассматривается то все пушкинское творчество, предшествующее его переходу на позиции реализма (см., напр. [1]), то его поэзия первой половины 1820-х годов или даже лишь период 1820–1823 гг. (см., напр. [2. С. 187–188; 3. С. 64–75]).
Очевидно, однако, что ни один из этих периодов не может быть безоговорочно назван всецело романтическим, а творчество последующей поры – всецело реалистическим и вовсе чуждым романтизму. Истинная картина художественного развития поэта намного сложнее, а границы между периодами его творчества выглядят неопределенными, размытыми. Об этом ясно свидетельствует прежде всего его лирика.
Ранняя пушкинская лирика развивалась в основном в русле «карамзинизма», точнее – той сентиментально-элегической поэзии, которую принято считать начальным этапом романтического движения в России. Взятая в целом, она и в самом деле представляла собой переход от сентиментализма к романтизму. Разуверившись в идеалах классицизма, в плодотворности гражданского служения, в возможности изменить жизнь, перестроить ее на началах разума, сентименталисты стремились противопоставить ее хаотичности и «неразумности» разумно организованный внутренний мир личности. Неотъемлемым условием проповедуемой ими душевной гармонии должна была стать полная свобода от страстей, способность довольствоваться малым, скромным уделом, стремление «как можно менее тужить, как можно лучше, тише жить без всяких суетных желаний» (Карамзин). Таким образом, пусть лишь в одной сфере, Карамзин, его предшественники и последователи оставались рационалистами: они утверждали торжество разума в сознании человека.
Романтизм же знаменовал собою отказ от рационалистических доктрин. Идейно-психологической почвой, на которой выросло это литературное направление, было разуверение в возможности рационального решения жизненных проблем, перспективах гармонического утверждения человека в окружающем мире. Романтикам открылись драматизм и сложность внутреннего бытия личности. Они преодолели (или, во всяком случае, преодолевали) поэтому характерную для сентиментализма иллюзию, будто в мире души отдельного индивидуума можно обрести покой, свободу и счастье.
Элегическая поэзия предпушкинской и пушкинской поры, отправляясь от карамзинской традиции, тоже приходила постепенно к пониманию противоречивости, сложности душевной жизни человека, все острее и глубже ставила вопрос о возможности и перспективах его духовно-нравственной свободы. Пределом ее развития может быть названа поздняя лирика Баратынского – ясное свидетельство иллюзорности надежд обрести хотя бы относительную гармонию в душе отъединенной, замкнутой в себе личности, лишенной каких бы то ни было всеобщих связей.
В пушкинской лирике лицейской и послелицейской поры нетрудно обнаружить весь круг настроений и традиционных формул, ставших общим местом сентиментально-элегической поэзии: прославление частной жизни и личной независимости, покоя и уединения, дружбы и творчества, отвращение к официальному миру и светской суете. Юный поэт выступает здесь в роли ученика Жуковского и Батюшкова, наследника традиций позднего Державина и Карамзина, осваивает и развивает открытые ими художественные принципы.
При всей множественности его литературных уроков наиболее ощутимым и определяющим было, конечно, влияние Батюшкова. «Влияние Батюшкова обнаруживается в “лицейских” стихотворениях Пушкина не только в фактуре стиха, но и в складе выражения и особенно во взгляде на жизнь и ее наслаждения», – отмечал в свое время еще Белинский [4. С. 281]. Действительно, в первую очередь под его воздействием в ранней пушкинской лирике возникает и вскоре становится центральным условный образ беспечного ленивца, эпикурейцамудреца, чуждого стремлению к богатству, почестям, славе, культивирующего изящное наслаждение, упоение земными радостями. Нельзя, однако, не обратить внимания и на существенное различие в самом «взгляде на жизнь и на ее наслаждения», которые высказывают учитель и ученик.
Внешне жизнерадостная и праздничная, поэзия Батюшкова внутренне трагична, проникнута ощущением скоротечности жизни, неизбежности душевного охлаждения и смерти. Веселость Батюшкова – не просто праздник молодости, но и средство забыть об ужасе жизни и холоде бытия. В этом главнейшем пункте Пушкин решительно расходится со своим наставником. Его поэзия начисто лишена той трагической подпочвы, которая так ощутима в батюшковской лирике. Лейтмотив юношеского творчества Пушкина – не поиски утешения в горестях жизни, а безоглядное, радостное упоение свободой и наслаждением.
Как различна, например, общая тональность столь, казалось бы, сходных стихотворений, как «Мои пенаты» (1811–1812) и «Городок» (1815)! Батюшков остро чувствует непрочность, хрупкость идиллического существования в «сабинском домике», недолговечность неги наслаждения. Даже в кульминационный момент дружеского пира он не устает напоминать друзьям о скоротечности жизни:
Пока бежит за нами Бог времени седой И губит луг с цветами Безжалостной косой, Мой друг! скорей за счастьем В путь жизни полетим; Упьемся сладострастьем И смерть опередим; Сорвем цветы украдкой Под лезвием косы И ленью жизни краткой Продлим, продлим часы!Этого постоянного «memento mori» мы не найдем у Пушкина, который напрочь отстраняет от себя все беды и горести, все темные стороны жизни. Радости поэта кажутся незыблимыми, ничем не омраченными:
Блажен, кто веселится В покое, без забот, С кем втайне Феб дружится И маленький Эрот; Блажен, кто на просторе В укромном уголке Не думает о горе, Гуляет в колпаке…Жажда наслаждения рождается у Пушкина не из желания забыть об ужасе бытия, а от избытка чувств – как естественное проявление молодости. Мысль о недолговечности радости и счастья вовсе не смущает юного поэта, который, не заботясь о будущем, воспевает наслаждения, неизменно сопутствующие «младым счастливцам»:
И снова каждый день Стихами, прозой станем Мы гнать печали тень. Подруги молодые Нас будут посещать; Нам жизни дни златые Не страшно расточать. (Послание к Галичу, 1815)Это сказано очень смело и независимо: ведь Батюшкову и другим поэтам-элегикам было как раз всего страшнее «расточать» «златые дни» жизни, за которыми неумолимо следовало охлаждение. Кратковременность, хрупкость земных радостей, представлялось им, и делает жизнь трагичной. Напротив, Пушкин – в соответствии с философской доктриной просветителей – преодолевает противоречие между желаниями личности и законами судьбы. Он не сомневается, что сами стремления человека – результат действия каких-то объективных, высших законов. Жить согласно этим законам – и значит быть свободным!
С особой силой звучат эти мотивы в пушкинской лирике 1817–1819 гг. В дружеских посланиях той поры: «К Каверину», «К Щербинину», «Добрый совет», «Стансы Толстому» – поэт убеждает своих приятелей понять естественность веселья и легкомыслия юности («Всему пора, всему свой миг, / Всё чередой идет определенной…»), беспечно и безоглядно упиваться жизнью:
До капли наслажденье пей, Живи беспечен, равнодушен! Мгновенью жизни будь послушен, Будь молод в юности твоей! (Стансы Толстому, 1819)Предвидя неизбежный приход поры «унылых сожалений, холодной истины забот и бесполезных размышлений», поэт не отчаивается, ибо знает: каждому возрасту свойственны свои радости и утешения. И точно так же, как юность упивается неистовством страсти, старость может найти отраду «в туманном сне воспоминаний». Со всей решительностью эта мысль выражена в «Добром совете»:
Когда же юность легким дымом Умчит веселье юных дней, Тогда у старости отымем Всё, что отымется у ней.Временами, правда, юношеская лирика Пушкина окрашивается все же в минорные тона; настроения уныния и грусти, выражающие «угрюмые страдания» любви, становятся в ней порой преобладающими.
Перед собой одну печаль я вижу! Мне страшен мир, мне скучен дневный свет…– читаем, например, в стихотворении «Элегия» (1817). В творчестве Пушкина пробуждается даже интерес к тайнам человеческой психики, к неожиданным и непредсказуемым душевным движениям. В этом отношении такие стихотворения, как «Друзьям» (1816), «Желание» (1816) или «Дорида» (1819), уже предвещают его поэзию романтической поры. В «Дориде», например, предвосхищена ситуация «Кавказского пленника»: в объятиях подруги герой не может забыть «другую» – прежнюю возлюбленную (см. [5. С. 211]).
Тем не менее ранняя пушкинская лирика далека еще от романтизма. Юный поэт не склонен рассматривать собственные горести, неудачи сердца как симптом несовершенства мира или выражение всеобщего закона – бессилия человека перед враждебной ему судьбой (об этой черте романтической элегии см. в кн. [6. С. 21–38]). Страдания любви представляются ему частным случаем, личной неудачей и не приводят к отрицанию земного счастья вообще:
Играйте, пойте, о друзья! Утратьте вечер скоротечный; И вашей радости беспечной Сквозь слезы улыбнуся я. (Друзьям, 1816)Можно сказать, значит, что в целом ранняя лирика Пушкина на фоне традиционной элегической поэзии выглядит несколько необычно: ее отличает большее жизнелюбие, редкая последовательность в утверждении личной свободы и личного счастья, безусловное приятие непреложных законов бытия.
Как и у других поэтов, учителей, предшественников и современников Пушкина, прославление личной независимости наполнялось у него гражданским, общественным смыслом. Оно представляло, по существу, своеобразную форму протеста против общества, в котором господствует дух казенщины, лакейства, раболепия и деспотизма. Но если в лицейской лирике гражданские настроения образуют, так сказать, подтекст интимно-дружеских стихотворений, то в 1817–1820 гг. – в первый период после окончания Лицея – картина меняется. Нарастание свободолюбивых настроений и общественных интересов, идеологическое возбуждение, охватившее в эти годы русское общество, прямое воздействие декабристских взглядов – все это приводит к тому, что празднично-эпикурейская лирика Пушкина (чаще всего дружеские послания) насыщается прямым политическим содержанием. По сравнению с творчеством Батюшкова или шедших по его стопам поэтов, пушкинское вольнолюбие выглядит более бурным, открытым, демонстративным, более острым и политически окрашенным.
С другой стороны, существенны различия между Пушкиным и поэтами так называемого декабристского романтизма. И дело тут не только в том, что собственно политических стихотворений у Пушкина сравнительно немного. Важнее другое: иным было содержание пушкинского вольнолюбия. Не подвиг самопожертвования, не героику активного политического действия воспевает Пушкин, но свободу личную. Он выражает чувства и мысли человека, внутренне не преемлющего существующие порядки и нравы, не желающего мириться с деспотизмом и произволом. Личная духовно-нравственная свобода становится у него выражением свободы вообще, в том числе свободы гражданской, политической. Для декабристов же, считавших, что протестовать и бороться может только человек внутренне свободный (ибо раб на борьбу не способен), личная свобода и духовная независимость были лишь необходимым условием борьбы за благо общественное.
Порою грань между интимной и гражданской лирикой у Пушкина как будто стирается: встреча друзей неизбежно предполагает беседу вольнодумцев-единомышленников.
С тобою пить мы будем снова, Открытым сердцем говоря Насчет глупца, вельможи злого, Насчет холопа записного, Насчет небесного царя, А иногда насчет земного.– говорится, например, в послании 1819 г. «N. N. (В. В. Энгельгардту)».
Многозначительно и начало другого стихотворения той поры – «Веселый пир» (1819):
Я люблю вечерний пир, Где Веселье председатель, А Свобода, мой кумир, За столом законодатель…Центральное положение в этом отрывке занимает слово «свобода», которое поворачивается к читателю разными гранями, означая естественное, непринужденное общение молодежи, принадлежащей тесному дружескому кружку, и самочувствие «частного» человека, не связанного строгим регламентом государственной службы, и буйство молодого духа, не ведающего границ. Оно намекает, наконец, на политическое вольномыслие «младых повес» (отсюда обращение к словам политического обихода: «председатель», «законодатель»). Обычная дружеская пирушка становится встречей избранных – мудрецов и свободолюбцев (см. [1. С. 218]).
И наоборот, в знаменитом обращении «К Чаадаеву» (1818) политическая, гражданская тема раскрывается в жанре дружеского послания. Тем самым преодолевается характерная для классицизма и сентиментализма антитеза общественного и личного блага, а стремление к свободе предстает не как холодное веление разума или требование долга, но как живое, трепетное чувство, как необоримая страсть. Жажда свободы таится в самом сердце лирического героя, составляет сокровенный смысл его существования, ибо свободный человек может быть счастлив только в свободном обществе. Отсюда целая система уподобления гражданского чувства любовному, что придает гражданским порывам волнующе-личный характер. Эффектное сравнение молодого свободолюба с нетерпеливым любовником – центральный образ стихотворения – сплетает личное и общественное в единый узел.
В пушкинском послании воплощен характерный для романтизма взгляд на внутренний мир человека как на нечто непостоянное, изменчивое, текучее (в то время как «классики» и сентименталисты полагали личность всегда равной себе). Даже гражданская экзальтация предстает в нем как временное, преходящее состояние – «прекрасные порывы» души, которая пока «горит» свободой. Значит, упоение свободой проходит так же, как проходит любовь, и потому нельзя упустить прекрасные мгновения жизни! Все это и определяет общее настроение пушкинского послания: беспокойное нетерпение, страстное ощущение лучшего будущего, призыв к активному, немедленному действию на благо Отчизны.
Так в лирике Пушкина постепенно выкристаллизовываются черты, типичные для романтического мироощущения: нетерпеливое, страстное стремление к идеалу свободы, представление об изменчивости, текучести внутреннего мира личности, интерес к противоречиям душевной жизни.
Однако главные достижения Пушкина-романтика были еще впереди. До сих пор поэт шел, так сказать, в ногу с литературой раннего русского романтизма. На новом этапе творчества, который начался в 1820 г. – с момента высылки на юг, – он далеко обгоняет писателей-современников и становится признанным вождем романтического движения. Именно в первой половине 1820-х годов и создает Пушкин яркие образцы романтической лирики, а также цикл романтических «южных» поэм.
Прежде жизнь в целом выглядела в пушкинской поэзии простой и понятной, радостной и праздничной. Отныне она кажется противоречивой и сложной, загадочной и драматичной. Это, конечно, был огромный шаг по пути к романтизму!
Новый взгляд на жизнь сказался в первом же написанном на юге стихотворении – элегии «Погасло дневное светило…» (1820). В нем поэт предстает перед читателем иным, совсем не похожим на того беспечного мудреца и ленивца, каким он был в большинстве своих прежних произведений. Теперь это человек охлажденный и разочарованный, переживший тайные душевные бури, глубоко неудовлетворенный прошлым: свою «младость» называет он потерянной» и отцветшей, а уделом «сердца хладного» считает страданье.
Все, что воспевал он раньше, поставлено теперь под сомнение. Развенчан культ дружбы, легкого наслаждения. Прежние товарищи – всего лишь «минутной младости минутные друзья». Прежние подруги – «изменницы младые», «наперсницы порочных заблуждений». Заблуждением представляется и вся былая жизнь – «желаний и надежд томительный обман». Стремлением порвать с прошлым, с прежним окружением (а вовсе не ссылкой), жаждой душевного обновления и возрождения объясняется внезапная перемена судьбы: «Искатель новых впечатлений, / Я вас бежал, отечески края». Пушкинская лирика явственно окрашивается в байроновские тона.
Резко укрупняется сам масштаб личности лирического героя, душе которого сродни теперь величественный и угрюмый пейзаж: погасшее «днéвное светило» (а не просто солнце), вечерний морской туман, волнующийся и угрюмый океан, «бурная прихоть» «обманчивых морей» (как будто pечь идет о каком-то кругосветном плавании). Во-вторых, герой элегии по-байроновски одинок: он покинул «брега печальные» своей «туманной родины», но не достиг еще желанного «берега отдаленного», который вырисовывается в какой-то неясной перспективе. Он один лицом к лицу со стихией!
А в то же время в элегии нет ощущения безнадежности или отчаяния. Между отношением лирического героя к прошлой и будущей жизни возникает даже известное эмоциональное равновесие. Его стремление к желанному будущему окрашивается «волненьем и тоской», а воспоминания об отвергнутом прошлом вызывают сладкую грусть и рождают душевный подъем; он стремится в даль, «воспоминаньем упоенный», верит в исцеление своей увядшей души. Эмоциональным центром элегии становится ее рефрен «Шуми, шуми, пoслушное ветрило, / Волнуйся подо мной, угрюмый океан». Выразительно передает он то состояние нравственного перелома, «ощущение душевного распутья, которое «и определяет настроение всего стихотворения» [7. С. 390].
Драматическая напряженность и внутренняя противоречивость воплощенного в элегии чувства придают ей черты неповторимости и своеобразия. Тем более что чувство это тесно связано с особыми, тоже неповторимыми жизненными обстоятельствами: переломным моментом биографии лирического героя, необычностью обстановки (южная ночь, палуба корабля, море). Вот это умение передать неповторимость переживания, его внутреннюю сложность и противоречивость, связать его с единичной жизненной ситуацией стало важнейшим художественным открытием Пушкина-романтика, важнейшим средством индивидуализации лирического «я». Первым из русских лириков Пушкин заговорил, если вспомнить знаменитую державинскую формулу, «языком сердца».
Дело в том, что сентиментально-элегическая поэзия предшественников и современников Пушкина, равно как и его собственная ранняя лирика, не высвободилась еще до конца из-под власти традиций классицизма и сентиментализма: общее в ней преобладает над индивидуальным, устойчивое – над сиюминутным. В ней неизменно варьируется, в сущности, одна и та же исходная ситуация: демонстративное противостояние личности, всецело погруженной в частную жизнь, официальному миру. Отсюда определенная нормативность и абстрактность, свойственная поэзии Карамзина, Жуковского, Батюшкова. Их лирическое «я» – это человек «вообще», живущий как бы вне времени и пространства. Его чувства и переживания обретают поэтому значение эталона душевной жизни (см. [8. С. 136; 9. С. 126]).
В творчестве поэтов-элегиков следующею поколения усиливается стремление создать более живой и конкретный, неповторимо индивидуальный образ лирического «я». Он получает теперь бо́льшую определенность, обретает признаки среды, эпохи, даже профессии (образ поэта-гусара у Д. Давыдова, вольного студента – у Языкова, русского барина-вольнодумца – в стихах Вяземского).
Совсем по-другому, как видим, решается та же проблема в «южной» лирике Пушкина. Переживание возникает в ней в ситуации единичной и неповторимой, каждый раз иной. И само оно тоже всякий раз иное, неожиданное и непредсказуемое. Именно отказ от принципа варьирования, индивидуализация лирической ситуации, обращенность к единичному лирическому событию в его жизненной и психологической конкретности – все это стало важнейшим завоеванием русской романтической лирики в целом (см. [10. С. 201–204]). «Погасло дневное светило…» может быть названо первым собственно романтическим опытом Пушкина, поворотным моментом в его поэтическом творчестве.
Наметившаяся в «морской» элегии тема разочарования становится вскоре центральной. В таких стихотворениях, как «Увы! зачем она блистает…» (1820), «К Овидию» (1821), «Простишь ли мне ревнивые мечты…» (1823), «Коварность» (1824), «Под небом голубым страны своей родной…» (1826) и других, вырисовывается трудная, горестная судьба поэта – жертвы неразделенной или трагической любви, клеветы, гонений, коварства, дружеских измен. Сам он все чаще предстает человеком охлажденным, опустошенным, надломленным судьбой:
Я пережил свои желанья, Я разлюбил свои мечты; Остались мне одни страданья, Плоды сердечной пустоты. Под бурями судьбы жестокой Увял цветущий мой венец — Живу печальный, одинокой, И жду: придет ли мой конец? Так поздним хладом пораженный, Как бури слышен зимний свист, Один – на ветке обнаженной Трепещет запоздалый лист. (1821)Все эти мрачные, трагические настроения – свидетельство необычной, исключительной личности автора, личности подлинно романтической. В то же время – это человек необыкновенной судьбы, пламенных страстей, поражающих интенсивностью внутренней жизни – свойства, также отвечающие канону романтического героя.
Безумие и всевластие страсти полнее всего запечатлелись в любовной лирике середины 1820-х годов – в таких стихотворениях как «Ночь» (1823), «Ненастный день потух…» (1824), «Сожженное письмо» (1825), «Желание славы» (1825), «Всё в жертву памяти твоей» (1825). Накал страстей здесь таков, что даже идеальный образ далекой возлюбленной, одно лишь воспоминание о ней вызывают в душе поэта неистовые вспышки чувства, рождают иллюзию ее присутствия, ощущение ее близости. На резком контрасте страсти и бесстрастия, душевной холодности и безудержности сердечных порывов во многом строится романтическая лирика Пушкина (см. [11. С. 28, 38–39]).
Исключительности романтической личности соответствует и необычность обстановки, экзотический фон, на котором разыгрывается и с которым связаны ее переживания: южная природа, новые для европейца характеры и нравы, пестрое смешение культур. Красноречивы уже сами заглавия «южных» стихотворений: «Дочери Карагеоргия» (1820), «Черная шаль. Молдавская песня» (1820), «Нереида» (1820), «Гречанке» (1822), «Прозерпина» (1824), «Фонтану Бахчисарайского дворца» (1824), «Виноград» (1824), «Подражания Корану» (1824), «К морю» (1824) и др.
Естественно, что обращение к новому типу лирического героя потребовало и новых, собственно романтических форм его самообнаружения, новых способов его самораскрытия.
В романтических стихотворениях Пушкина запечатлены противоречивость, конфликтность сознания современного человека, напряженность и драматизм его переживаний. В них раскрывается неожиданность, парадоксальность душевной жизни, прихотливость и непредсказуемость чувства. Пушкин «привносит в лирику энергию психологического самодвижения со всеми его неожиданностями, с непредвиденностью душевных порывов», с явными и скрытыми контрастами, внутренними коллизиями [12. С. 28]. Соответственно усиливаются динамизм и экспрессия лирического стиля.
В пушкинской элегии сокращается характерная для этого жанра временнáя дистанция между воплощенным в ней переживанием и моментом изображения, «возникает иллюзия переживания, тотчас же воплощаемого в слове» [8. С. 184]. Причем переживание это текуче, изменчиво. Кажется, что живое и трепетное чувство лирического героя возникает и развивается на глазах у читателя. «Видишь, как горит бумага, слышишь, как бьется сердце любовника», – с восторгом отзывается один их критиков-современников о стихотворении «Сожженное письмо» (см. [13. С. 84]).
В самом деле, драматическая ситуация (необходимость сжечь самое дорогое – письмо любимой женщины) раскрывается здесь неожиданно и смело: драматизируется каждый отдельный момент исчезновения письма, каждая стадия его уничтожения. Стихотворение строится поэтому на быстрых чередованиях мгновенных действий («Уж пламя жадное листы твои приемлет…»; «вспыхнули! пылают…»; «Растопленный сургуч кипит…»; «Темные свернулися листы») и на столь же быстрых, мгновенных переходах от этих внешних событий к внутренней борьбе в душе поэта («Как долго медлил я…»; «ничему душа моя не внемлет…»; «Грудь моя стеснилась…»). Постоянное пересечение обоих рядов, стремительный темп стихотворной речи, прерывистой, задыхающейся, и создает наглядное, почти физическое ощущение непрерывной текучести чувства (см. [13. С. 84–86]).
Существенно также, что Пушкин не до конца разъясняет читателю смысл происходящего. Перед нами лишь эпизод любовной драмы, бросающей на него трагический отсвет. Но в чем состоит суть этой драмы, по каким причинам нужно уничтожить письмо – обо всем этом можно только догадываться. Атмосфера недосказанности, окружающий героев ореол загадочности, таинственности в полной мере отвечали принципам романтического искусства.
Как показал академик В. В. Виноградов, предметом лирического изображения становится у Пушкина сам момент напряжения или осложнения чувства – драматическая ситуация, приводящая к разладу, страданию, внутренней борьбе. Отсюда особая экспрессивность лирического монолога, обостренность эмоциональных контрастов, стремительность и внезапность композиционных ходов, отрывочность и многозначительная недосказанность поэтической речи, различные формы непрямого, косвенного выражения душевных переживаний.
Все эти черты новой, романтической поэтики ясно проявляются в стихотворении «Ненастный день потух…», целиком построенном на резких эмоциональных контрастах и мгновенных внутренних сближениях разнородных, казалось бы, явлений.
Открывающая стихотворение картина угрюмого и ненастного северного вечера не просто наводит «мрачную тоску» на душу лирического героя, но одновременно вызывает в его памяти, в его воображении целый поток живых картин-воспоминаний, которые переживаются, однако, как происходящие в данный момент, сейчас (не случайно прошедшее время первых четырех строк сменяется затем настоящим). Прихотливые, как бы не вполне мотивированные сцепления этих воспоминаний и ассоциаций рождают внезапные и резкие изломы лирической темы, постоянные перебои, перерывы поэтической речи (означаемые рядами точек) – знаки предельного напряжения чувства. Все это приоткрывает в итоге причины душевной подавленности лирического героя, суть пережитой (и переживаемой) им душенной драмы. И наоборот, смысл соположения этих отрывочных видений и эмоциональных всплесков угадывается лишь в результате их соотнесения с раскрывающимся в элегии чувством [13. C. 77–81].
Так, в начале стихотворения – по контрасту с ненастной мглой северного вечера – возникает картина ясного и теплого вечера на берегу южного моря («луна туманная» здесь и восходящая «в сиянии» луна там). Затем – по сходству времени (вечер – время свиданий) – на фоне упоительной южной природы возникает образ оставленной возлюбленной, направляющейся к привычному месту встреч – «под заветными скалами». Настойчиво подчеркиваемые далее одиночество и печаль героини («Теперь она сидит печальна и одна…») вновь контрастируют с негой и роскошью южной ночи, будто специально созданной для любви. И наконец, финальный фрагмент – полувысказанное сомнение в верности возлюбленной («Но если…») – контрастирует с предшествующим полузаклинанием-полууверением: «Не правда ль: ты одна… ты плачешь… я спокоен».
И хотя о пережитой драме, о порожденных ею душевных бурях в этой краткой лирической пьесе опять-таки не говорится прямо (В. В. Виноградов назвал это «принципом косвенных, побочно-символических отражений чувства» [13. С. 77]), с поразительной силой выражены в ней и страдания разлуки, и мучения ревности, и энергия страсти.
Можно сказать, следовательно, что судьба человека, его внутренняя жизнь развертываются в романтической лирике Пушкина как цепь душевных конфликтов и противоречий.
Все более глубоким, острым, напряженным, трагическим становится в ней и конфликт личности с окружающим миром, современным обществом. Как это свойственно романтизму вообще, он принимает самые резкие, крайние формы: бегства, мести, отчаянного протеста, борьбы. Ощущая себя отщепенцем, изгнанником, томящимся в темнице узником, поэт сравнивает свою судьбу с участью пленного орла и мечтает вырваться на волю – умчаться «Туда, где за тучей белеет гора, / Туда, где синеют морские края» («Узник», 1822).
Именно в пору южной ссылки появляются в пушкинских произведениях образы протестантов, бунтарей, мятежников, мстителей. Таковы, например, персонажи его поэмы «Братья-разбойники» или Зарема из «Бахчисарайского фонтана». Таков и Карагеоргий – Георгий Черный, один из вождей греческих повстанцев – борцов против турецкого владычества (стихотворение «Дочери Карагеоргия», 1820). Свое прозвище получил он за убийство отца и брата, отказавшихся примкнуть к освободительному движению.
Образ Карагеоргия целиком построен на романтически резких контрастах и противоречиях. Это борец за свободу, нежно любящий отец и жестокий убийца, «преступник и герой»:
Как часто, возбудив свирепой мести жар, Он, молча, над твоей невинной колыбелью Убийства нового обдумывал удар И лепет твой внимал, и не был чужд веселью!Главное же – Карагеоргий – это яркая, могучая, поистине титаническая личность, возвышающаяся над обыкновенными людьми. Это подлинно романтический герой-избранник, не вмещающийся в рамки обыденного, повседневного – человек, к которому общепринятые житейские и нравственные нормы попросту неприложимы.
Воображение поэта волнует и другая историческая личность – великая, загадочная фигура Наполеона. Его моральный облик в изображении Пушкина столь же сложен и противоречив, как противоречива его историческая роль – душителя революции и борца против реакционных монархических режимов (стихотворение «Наполеон», 1821). «Презревший человечество» тиран, «до упоенья» утоливший «жажду власти», Наполеон в то же время «великий человек», «изгнанник вселенной», завещавший миру «вечную свободу». И потому на его могиле «луч бессмертия горит».
С личностями гордыми, сильными, могучими связаны были освободительные надежды Пушкина. Если раньше, провозглашая незыблемость «законов мощных», поэт признавал преступным всякое посягательство на них как со стороны царя, так и со стороны народа (ода «Вольность», 1817), то теперь он выступает поборником революционных потрясений, ясно видя их насильственный, кровавый характер. Правда, в «Кинжале» насилие оправдано только в том случае, когда «дремлет меч закона». Но уже в послании декабристу В. Л. Давыдову, написанном в том же 1821 г., прямо говорится о радостном причащении «кровавой чаше». Для такого рода кровавой, беспощадной борьбы как нельзя лучше подходили мятежные, охлажденные, ожесточившиеся, жаждущие мести романтические герои.
Оказавшись на юге в предгрозовой политической атмосфере, сблизившись с наиболее радикальным крылом декабристского движения – деятелями возглавленного Пестелем Южного общества, поэт жадно следил за развитием восстания в соседней Греции (его дыхание явственно ощущалось в Кишиневе), за ходом революционных событий в Италии, Испании, Португалии. Он не сомневался, что революция разразится и в России, твердо верил в ее успех.
Тем болезненнее воспринял Пушкин известия о поражении революционно-освободительных движений, о торжестве – во всеевропейском масштабе – сил реакции:
Кто, волны, вас остановил, Кто оковал ваш бег могучий, Кто в пруд безмолвный и дремучий Поток мятежный обратил? (1823)Поиски ответа на этот вопрос привели поэта к неутешительным выводам. Главную причину поражения революции он видит в нравственном ничтожестве массы, в привычке народов безропотно покоряться угнетению и тирании. Горечью, презрением, болью дышат заключительные строки его стихотворения «Свободы сеятель пустынный…» (1823), написанного в разгар пережитого поэтом духовного кризиса:
Паситесь мирные народы! Вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды Ярмо с гремушками да бич.Политическое бессилие «мирных народов» оказывалось тем не менее реальной и страшной силой. Оно становилось тормозом, неодолимым препятствием на пути великих личностей. И постепенно Пушкин все более склоняется к мысли, что даже величайшие из людей, даже самые яркие, сильные индивидуумы не в состоянии изменить и перестроить мир. Жизнь человечества подчинена каким-то неизбежным законам, не считаться с которыми невозможно.
Прощание с надеждами на революцию идет у него поэтому рука об руку с разочарованием в сильной личности, в вождях и героях освободительного движения, стремящихся порой к самоутверждению и власти, «в самой природе современной ему революционности», рождающей деспотизм и гнет вместо свободы и всеобщего счастья [14. С. 240]. Все строже оценивает поэт и нравственный облик героя-индивидуалиста. Если раньше он ставил его – в силу его «особости», исключительности – выше обычных моральных норм, то теперь он применяет к нему общепринятые нравственные критерии. Он подчеркивает теперь его эгоизм, его сосредоточенность на себе самом, его презрительно-высокомерное отношение к другим людям, его неспособность постичь богатство и красоту мира.
Достаточно вспомнить в связи с этим антинаполеоновский выпад во второй главе «Евгения Онегина» («Мы почитаем всех нулями, / А единицами – себя. / Мы все глядим в Наполеоны; / Двуногих тварей миллионы / Для нас орудие одно…»); или критическое отношение к герою-индивидуалисту в «Цыганах»; или внутреннюю опустошенность и томительную скуку Фауста («Сцена из Фауста», 1825), чье сознание разъедено скепсисом и духом холодного анализа; или, наконец, «Подражания Корану» (1824), где поэт сталкивает в непримиримом конфликте сверхличный и индивидуалистический взгляд на мир, который – в соответствии с религиозной символикой произведения – выступает как конфликт веры и неверия. Индивидуалистический бунт развенчивается здесь в самих своих нравственно-мировоззренческих основах. Именно таков смысл четвертого подражания, где говорится о споре Бога с царем и о поражении последнего. Причем Пушкин смело вводит в характеристику царя резко оценочные эпитеты, придающие ему сходство с героем-индивидуалистом байроновского толка: «могучий», «безумной гордостью обильный», «похвальба порока». Особенно важно указание на «гордость» царя, ставшую для Пушкина одной из главных примет байроновского героя (ср., например, в «Цыганах»: «Оставь нас, гордый человек!..» или в «Онегине»: «Как Байрон, гордости поэт…»).
Пережитый поэтом духовный кризис имел двоякое значение для его творческой эволюции. С одной стороны, он привел к крушению просветительских иллюзий и тем самым стимулировал дальнейшее развитие пушкинского романтизма. Не случайно именно теперь в крупнейших созданиях Пушкина-лирика – таких, как «Песнь о вещем Олеге» (1822), «К морю», «Подражания Корану», «Андрей Шенье» (1825), – настойчиво утверждается мысль о таинственных, роковых путях, по которым движется жизнь, о ее высшем, провиденциальном смысле, о скрытых законах и силах, управляющих судьбами отдельных личностей, народов, всего человечества и внятных лишь немногим избранникам – мудрецам и пророкам, кудесникам и поэтам. Так возникает в пушкинской лирике романтический образ поэта-пророка, наделенного даром постигать глубинные тайны бытия:
И внял я неба содроганье, И горний ангелов полет, И гад морских подводных ход, И дольней лозы прозябанье. (Пророк, 1826)Переживание мира как тайны – вот что сближает Пушкина с романтиками!
С другой стороны, кризис 1823 г. с большой определенностью выявил, подчеркнул глубокое различие между пушкинской позицией и воззрениями романтиков, ускорив формирование в недрах пушкинского романтизма принципов «поэзии действительности». Двойственность эта особенно ясно сказывается в отношении Пушкина к романтическому индивидуализму байроновского образца. Его символом становится в пушкинской поэзии образ демона (стихотворение «Демон», 1823). Душе поэта близки ядовито-холодные «язвительные речи» демона, скептический, беспощадно трезвый взгляд на мир, презрение к иллюзиям и бесплодным мечтаниям. А в то же время для него несомненна и ущербность индивидуалистического сознания, отторгнутого от полноты бытия, ограниченность рассудочного, негативно-иронического отношения к миру, непререкаемым духовно-нравственным ценностям:
Неистощимой клеветою[2] Он провиденье искушал; Он звал прекрасною мечтою; Он вдохновенье презирал; Не верил он любви, свободе; На жизнь насмешливо глядел — И ничего во всей природе Благословить он не хотел.Разделительная черта между двумя типами отношения к жизни проведена здесь достаточно отчетливо.
Так в споре с байроновским индивидуализмом кристаллизуется пушкинское понимание свободы. Всеобщности разочарования и безграничности романтического произвола противополагает поэт добровольное и естественное подчинение непреложным закономерностям бытия (черта, свойственная, как мы помним, и его ранней лирике), душевную открытость и безусловное доверие к жизни – мотив, пронизывающий цикл «Подражания Корану» или такие, скажем, стихотворения 1825 г., как «Вакхическая песня», «Если жизнь тебя обманет…», «19 октября».
«Пушкин 20-х годов, – справедливо замечает Л. Я. Гинзбург, – воплотил романтизм как великий факт современной культуры – в частности, русской, – но он и в этом движении не растворился, его авторское сознание никогда до конца не отождествлялось с изображенной им романтической личностью. В поэзии Пушкина начала 20-х годов романтическая, байроническая тема существовала наряду с другими темами, другими авторскими образами. Между тем один из основных признаков романтического строя в поэзии – это абсолютное единство личности автора…» [10. С. 183–184].
Значит, даже в разгар увлечения романтизмом «авторское сознание» поэта не было всецело романтическим. Идеал для него не антипод, но грань самой действительности. Отсюда его неустанное стремление к душевной гармонии, понимаемой как норма жизни, поиски реальных путей к свободе и счастью, жажда полноты бытия, убежденность в принципиальной ее достижимости. Этим и обусловлена разнородность его лирики первой половины 1820-х гг., множественность воплощенных в ней авторских ликов. Недаром, к примеру, ряд стихотворений «ссылочной» поры («Юрьеву», 1821; «Друзьям», 1822; «Из письма к Я. Н. Толстому», 1822; «Из письма к Вульфу», 1824) выглядят прямым продолжением его прежних гедонистически-эпикурейских посланий, а такие стихотворения, как «Кинжал» (1821) или «Послание цензору» (1822), выдержаны в стилевых традициях гражданского классицизма.
Другая группа созданных в то же время лирических пьес носит еще переходный характер: традиции сентиментально-элегической поэзии сочетаются в них с новыми, романтическими веяниями. Таковы стихотворения, в которых говорится о «побеге» от неразрешимых противоречий жизни, высказана надежда укрыться от гонений рока и ударов судьбы. И хотя само по себе стремление к покою и уединению было общим местом современной Пушкину лирики, образ вдохновенного отшельника обретает у него романтические черты – добровольного изгнанника, стоически переносящего жизненные невзгоды («Чаадаеву», «К Овидию» – 1821), вечного скитальца и странника – жертвы «самовластья» («К Языкову», 1824; «П. А. Осиповой», 1825). Причем в послании «Чаадаеву» развернута целая жизненная программа, разительно отличная от той, что проповедовал юный поэт в еще недавних «петербургских» стихах:
В уединении мой своенравный гений Познал и тихий труд, и жажду размышлений. Владею днем моим; с порядком дружен ум; Учусь удерживать вниманье долгих дум; Ищу вознаградить в объятиях свободы Мятежной младостью утраченные годы И в просвещении стать с веком наравне.И в дальнейшем (а мотив «покоя и воли» получит развитие и в зрелой пушкинской лирике) жизнь в обители «трудов и чистых нег» будет представляться поэту полной творческого кипения, духовных исканий и напряженных раздумий, одним из наиболее надежных способов самосохранения личности.
Можно говорить, далее, и о «пограничности» антологических пьес, составивших затем цикл «Подражания древним». Как бы наперекор душевным противоречиям и внутренней раздвоенности, столь привлекавших внимание романтиков, в них опоэтизированы естественная целостность и полнота чувства, душевная гармония и нравственное здоровье, непосредственное переживание богатства жизни радость бытия. А обращение поэта к антологической традиции выявляет вечный, непреходящий смысл утверждаемых им духовно-нравственных ценностей.
«Перед нами подвижный и многоликий мир, – пишет о “Подражаниях” В. А. Грехнев, – удивительно цельный в своей многоликости. Он поворачивается в цикле разными гранями, и каждая из них отмечена печатью гармонии и красоты». Пушкинская антологическая пьеса запечатлевает «образ мимолетности». Это и миг благоговейно-трепетного созерцания обнаженной «полубогини» («Нереида», 1820), и сладостно-печальные воспоминания о далекой возлюбленной («Редеет облаков летучая гряда…», 1820), и безмятежные часы упоения на лоне мирной природы («Земля и море», 1821), и незабываемые мгновенья «святого очарованья», дарованного музой («Муза», 1821). Но над этими краткими и будто случайными мгновениями бытия «как бы начинает реять тень вечности» [8. С. 103, 118].
Гармоническая уравновешенность запечатленного в каждом стихотворении чувства, а в то же время его скрытая трепетность и утонченная одухотворенность, психологическая острота переживания – все это позволяет применять к антологическим пушкинским пьесам такие оксюморонные термины, как «классический романтизм» или же «романтический эллинизм» (см. [15. С. 169; 16. С. 24]).
Наконец, при несомненном (и естественном для поэта-романтика) интересе к необычным, исключительным личностям, переживаниям, ситуациям, пушкинской лирике первой половины 1820-х гг. свойственно также внимание к жизни в ее повседневных проявлениях, в ее домашнем обличье, к конкретно-биографическим и бытовым реалиям. Это и некоторые послания южной поры («Приятелю», 1821; «М. Е. Эйхфельд», 1823), и стихотворение «Кокетке» (1821), и более поздние «Зимний вечер» (1825), «Признание» (1826) (см. [17]). Так складывается в пушкинской лирике представление о поэзии повседневности, столь характерное для его зрелого творчества.
Очевидная неоднородность пушкинской лирики первой половины 1820-х гг. позволяет говорить не только о сочетании в ней различных, порой противоречивых тенденций, но даже о совмещении разных стадий литературного развития.
Своего рода итогом пушкинского романтизма – наиболее полным, ярким его выражением и одновременно воплощением его кризиса – стало завершенное уже в Михайловском стихотворение «К морю» (1824), которое можно назвать прощанием поэта с романтической юностью.
Созданный в стихотворении образ «свободной стихии» многозначен и символичен. Море предстает в нем как живое существо, близкий друг автора. Оно оказывается даже его двойником – символом души поэта. Отсюда особый, глубоко личный тон стихотворения, искренность лирических признаний, намеки на тайные, интимные стороны своей жизни (замысел бежать за границу и любовь к Е. К. Воронцовой):
Моей души предел желанный! Как часто по брегам твоим Бродил я тихий и туманный, Заветным умыслом томим! . . . . Ты ждал, ты звал… я был окован; Вотще рвалась душа моя: Могучей страстью очарован, У берегов остался я…Образ моря в пушкинском стихотворении воплощает идеал поэта-романтика. Он выступает прежде всего как символ безграничной свободы. Само словосочетание «свободная стихия», по замечанию Е. А. Маймина, это «как бы вдвойне свобода, свобода абсолютная» (см. [18. С. 98]). Во-вторых, море – в отличие от «скучного неподвижного брега» – влечет поэта своей беспрестанной подвижностью, изменчивостью, своим беспокойством и многообразием. Оно таит в себе опасности, неожиданности, внезапные и резкие контрасты. Наконец, оно величественно и грандиозно, оно неподвластно человеку. Наоборот, человек ничтожен и бессилен перед грозной мощью вольной стихии:
Как я любил твои отзывы, Глухие звуки, бездны глас, И тишину в вечерний час, И своенравные порывы! Смиренный парус рыбарей, Твоею прихотью хранимый, Скользит отважно средь зыбей: Но ты взыграл, неодолимый, — И стая тонет кораблей.Вот почему обращенный к морю монолог поэта – это не просто задушевная, дружеская беседа с ним, но и восторженный, торжественный гимн в честь его «гордой красы». Отсюда приподнятая, патетическая интонация стихотворения, звучная (с опорой на сонорные согласные) инструментовка стиха, торжественная, насыщенная архаизмами лексика («брег», «бездны глас», «вотще», «рыбарей»).
В композиционном отношении стихотворение отчетливо делится на две части. В первой, как мы видели, раскрывается идеал поэта. Во второй – содержится безотрадная оценка действительности, современного автору цивилизованного общества, во всем противоположного и враждебного этому идеалу. Такая двухчастная композиция выражает главнейшую черту романтического миросозерцания, в основе которого – непримиримый конфликт между идеалом и действительностью.
Трагична участь романтического героя в «опустевшем мире». Это подтверждается раздумьями о судьбах Наполеона и Байрона – двух величайших людей эпохи, двух ее «гениев», «властителей дум» нескольких поколений. Мятежные, непокорные, они сродни величественной океанской стихии. Не случайно могилой Наполеона стал затерянный в безбрежных морских просторах остров святой Елены, а Байрон «был, о море, твой певец»:
Твой образ был на нем означен, Он духом создан был твоим: Как ты, могущ, глубок и мрачен. Как ты, ничем неукротим.Чем ближе к концу, тем мрачнее, безнадежнее тон стихотворения: ведь Байрон и Наполеон – это уже свергнутые, хотя и дорогие еще кумиры. Их печальный финал – судьба угасшего «среди мучений» Наполеона и трагическая смерть «оплаканного свободой» Байрона – свидетельствует о том, что даже гениальная личность не может направить по своему произволу ход исторических событий (см. [19. С. 317]). Прощание с морем выливается у Пушкина в прощание с мечтами о свободе, с надеждами на скорое их осуществление:
Мир опустел… Теперь куда же Меня б ты вынес, океан? Судьба земли повсюду та же: Где капля блага, там на страже Уж просвещенье иль тиран.И к другому важному выводу приходит поэт в этом стихотворении. Он убеждается, что бежать от общества в какой-то иной, лучший мир невозможно, что бежать некуда, ибо человек всюду и везде зависит от сложившихся общественных условий, независимо от того, нравятся они ему или нет. Он может сохранить лишь внутреннюю свободу, отстаивать дорогие ему убеждения и идеалы. В финале стихотворения поэт обещает сохранить навсегда память о море – верность романтическим идеалам юности.
И в самом деле: переход к «поэзии действительности» означал для Пушкина не просто преодоление романтизма, но видоизменение и дальнейшее развитие романтических настроений и художественных принципов.
Романтическим по своей природе может быть назван прежде всего центральный внутренний конфликт зрелой пушкинской лирики – между жизнью в ее высшей, идеальной сущности и реальностью современного мира (своего рода модификация общеромантического конфликта идеала и действительности). В ней постоянно звучит мотив трагического неприятия современности, усиливается безнадежно-мрачный взгляд на собственную судьбу, человеческую жизнь вообще. В минуты отчаяния поэт называет жизнь «печальной и безбрежной» степью («Три ключа», 1827), отказывается видеть в ней какой-либо смысл («Дар напрасный, дар случайный…», 1828), он сравнивает ее с дикой бесовской пляской, от которой нет спасения («Бесы», 1830). Он готов навсегда порвать с окружающим миром, предпочесть ему полное одиночество, отверженность, даже безумие («Монастырь на Казбеке», 1829; «Не дай мне бог сойти с ума…», 1833; «Странник», 1835).
В пушкинской лирике возникает образ скитальца, гонимого враждебной ему силой – жестокой и злой судьбой. «Но злобно мной играет счастье», – сетует поэт в послании «К Языкову» (1824). «Из края в край преследуем грозой, / Запутанный в сетях судьбы суровой», – повторяет он в «19 октября» (1825). Гонимый роком, человек скитается по свету «то в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком». Вместо спокойной и естественной смерти «средь отческих могил» судьба сулит ему нелепую гибель на большой дороге («Дорожные жалобы», 1829). Трагическое неприятие мира выражено во всех названных – пусть немногих – стихотворениях с достаточной определенностью и прямотой.
Верность духу романтизма сказывается и в последовательном утверждении – наперекор «жестокому веку» – идеала личностной свободы, духовной, нравственной, творческой. Свободы не только от факторов внешних (власти, «толпы», враждебных обстоятельств), что было характерно для романтизма вообще, но и внутренних – так сказать, от самого себя.
Прежде всего это свобода от предубеждений и предвзятых догматов, от одностороннего, узкого взгляда на жизнь. «Нерв» пушкинского творчества – в постоянном напряженном интересе к бесконечно разнообразной, изменчивой действительности: природе, истории, культуре. Только преодолев прежние представления о мире как о «пустыне мрачной», обретя способность постигать его богатство, величие и красоту, поэт получает право стать пророком и проповедником, «глаголом жечь сердца людей» («Пророк», 1826). Истинный поэт, точно эхо, живо и чутко откликается «на всякий звук» («Эхо», 1831). И в этом суть и смысл его призвания, его общественной миссии.
Во-вторых, подлинная свобода означает для Пушкина высвобождение из-под власти опустошающих душу страстей. В отличие от многих романтиков, от большинства современных ему русских лириков, поэт был убежден: трагична не кратковременность страсти, но безраздельность ее господства над личностью. Неудивительно, что особое, можно сказать, исключительное значение обретают для него интенсивные и острые реакции на окружающее, краткие вспышки полного, подлинного счастья. Это – «чудные мгновенья», прекрасные минуты духовно-нравственного подъема и обновления, особого, высшего состояния духа, подымающие человека «выше мира и страстей», минуты, когда ему открывается богатство жизни и полнота бытия.
Момент нравственного преображения запечатлен, например, в «Поэте» (1827): сила вдохновения исторгает художника из оков «суетного света», и его дух становится свободным и могучим, «как пробудившийся орел». Те же два состояния: томленье «в тревогах шумной суеты» и внезапное пробуждение души, в которой вдруг воскресает «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь», – противопоставлены и в стихотворении, адресованном А. П. Керн (1825).
Не страшась, что торжество светлого начала кратковременно и преходяще, поэт воспевает саму мгновенность земной радости, саму способность человека ярко и остро пережить ниспосланные ему счастливые минуты. Разве не благословляет он судьбу, когда в его «дом опальный» заезжает – пусть ненадолго – верный товарищ? И сам он желает другу в его страшных испытаниях хотя бы краткого, но светлого и высокого озарения («И. И. Пущину», 1826). Особенно мила сердцу поэта умирающая «прощальная краса». Больше всего ему нравится осень – время «пышного природы увяданья». «Цветы последние» ему «милей роскошных первенцев полей». Его глубоко трогает красота «чахоточной девы», которая «жива еще сегодня, завтра – нет». Даже в любовной пушкинской лирике речь идет главным образом не о неизменной и вечной страсти, но мгновенном, сиюминутном переживании:
Что нужды? – Ровно полчаса, Пока коней мне запрягали, Мне ум и сердце занимали Твой взор и дикая краса. (Калмычке, 1829)Сколько горечи в стихотворении «19 октября» (1825), обращенном к друзьям-лицеистам! В нем говорится о разлуке и смерти, об изгнании, одиночестве и неизбежной старости. Но все эти грустные раздумья побеждаются радостью дружеских встреч и веселых пиршеств, творческого вдохновения и духовной близости, горячей веры в то, что никакие невзгоды, никакие испытания не могут отнять у человека отрадных – пусть немногих – минут.
Личность, убежден Пушкин, подчиненная обстоятельствам и условиям жизни, во многом от них зависимая, в то же время неподвластна им: она – в каком-то смысле – выше судьбы! Постоянная готовность вдохновенно, всем существом отдаваться «чудным мгновеньям» бытия становится в пушкинской лирике одним из важнейших критериев нравственной ценности человека, надежным залогом его духовной и нравственной свободы.
Романтические идеи и настроения ощутимы, наконец, и в лирическом цикле, посвященном роли поэта и назначению поэзии. В творчестве Пушкина сохраняется характерное для романтизма противопоставление поэта обществу – тупой светской «черни», «толпе», которая требует от поэта «пользы» и «цели», пытается его поучать и наставлять: «Поэт», 1827; «Поэт и толпа» («Чернь»), 1828; «Поэту», 1830. Отвергая такого рода примитивные воззрения на искусство, Пушкин отстаивает независимость художника, его свободу от каких-либо норм, требований, правил.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной Иди, куда влечет тебя свободный ум, Усовершенствуя плоды любимых дум, Не требуя наград за подвиг благородный,– гордо провозглашает он в сонете «Поэту». Обрести личную и творческую независимость, остаться верным себе, сохранить свои убеждения и идеалы – таков, по мысли Пушкина, нравственно-гражданский долг поэта. Только неуклонное следование его велениям позволяет писателю осуществить свое высшее назначение и художническое призвание: живо и чутко откликаться «на всякий звук», воплотить, выразить в своем творчестве полноту и богатство бытия.
Провозглашаемая Пушкиным свобода поэта имеет как бы две стороны. В «Пророке» и «Поэте» говорится главным образом о внутренней свободе художника – непременном условии творческого акта. Поэт-пророк должен подняться на нравственную высоту, достойную избранника: он должен принести «священную жертву», победить свои житейские, человеческие слабости и недостатки, погруженность в «заботах суетного света»; он должен, наконец, преодолеть представление о мире как о «пустыне мрачной».
В последующих поэтических декларациях на первый план выдвигается конфликт поэта с толпой, чернью. Речь идет теперь не о самоочищении певца, но о его стойкости и бескомпромиссности («Но ты останься тверд, спокоен и угрюм»). Недаром так бурно нарастает на протяжении этого лирического цикла активность толпы. В «Поэте» тема «толпы» едва намечена, в «Черни» толпа уже поучает поэта, требует от него «пользы» и «цели», а в сонете «Поэту» она «плюет» на его «алтарь», осыпает его бранью, проклятиями и угрозами.
Ясно сознавая трагический характер «безответности» поэта («Эхо»), Пушкин тем не менее полагает, что в сложившихся общественных условиях поэт должен обречь себя на это, вообще говоря, ненормальное, но неизбежное одиночество, примириться с тем, что его творчество не находит отклика у современников. В «последнем завете» – стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» (1836) – поэт обосновывает свое право на бессмертие именно гражданской и духовно-нравственной стойкостью: послушная одному лишь «веленью Божию», его муза «равнодушно» приемлет суждения «глупца», «хвалу и клевету» современников (см. [20]).
Мы снова убеждаемся: творческая программа Пушкина, во многом отличная от романтической теории искусства, в ряде своих важнейших положений опирается на узловые положения эстетики романтизма.
Стремление разрешить противоречие между исторической реальностью «жестокого века» и «жизнью вообще», жизнью в ее высшей, идеальной сути, обрести душевную гармонию и внутреннюю цельность «здесь и сейчас» – такова важнейшая черта зрелой пушкинской лирики, предопределившая сопряжение в ней (как и в его поэзии романтической поры) не просто разных, но и, казалось бы, далеких начал: доромантических, собственно романтических, реалистических. Их нерасчлененное, «синкретическое» единство может быть названо характерной особенностью пушкинского творчества в целом.
1971, 1993
Литература
1. Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965.
2. История романтизма в русской литературе (1790–1825). М., 1979.
3. Фомичев С. А. Поэзия Пушкина: Творческая эволюция. Л., 1986.
4. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 7. М., 1955.
5. Городецкий Б. П. Лирика Пушкина. М.; Л., 1962.
6. Фризман Л. Г. Жизнь лирического жанра. М., 1973.
7. Томашевский Б. Пушкин. Кн. 1: (1813–1824). М.; Л., 1956.
8. Грехнев В. А. Лирика Пушкина: О поэтике жанров. Горький, 1985.
9. Грехнев В. А. Болдинская лирика А. С. Пушкина. Горький, 1977.
10. Гинзбург Л. Я. О лирике. 2-е изд., доп. Л., 1974.
11. Фридман Н. В. Романтизм в творчестве А. С. Пушкина. М., 1980.
12. Грехнев В. А. Пушкин: «лирическое движение» // Болдинские чтения. Горький. 1987.
13. Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941.
14. Бернштейн Д. «Борис Годунов» и русская драматургия // Пушкин – родоначальник новой русской литературы. М.; Л., 1941.
15. Скатов Н. Н. Русский гений. М., 1987.
16. Смирнов А. А. Тенденции романтического универсализма в лирике А. С. Пушкина второй половины 1820-х годов // Болдинские чтения. Горький, 1990.
17. Сидяков Л. С. Изменения в системе лирики Пушкина 1820–1830-х годов // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 10. Л., 1982.
18. Маймин Г. А. О русском романтизме. М., 1975.
19. Степанов Н. Л. «К морю» // Степанов Н. Л. Лирика Пушкина: Очерки и этюды. М., 1959.
20. Непомнящий В. С. Двадцать строк // Непомнящий В. С. Поэзия и судьба: Статьи и заметки о Пушкине. М., 1983.
«Поэт совсем другой эпохи»
Чтобы уяснить место лирики Пушкина в романтическом движении, необходимо сопоставить ее не только с лирикой предшественников и современников, но и поэтов последующей поры. И прежде всего – с поэтическим творчеством Лермонтова, центральным явлением нового этапа русского романтизма – романтизма 1830-х гг. Если пушкинская лирика наиболее полно и ярко воплощает сам процесс становления романтического сознания, то лермонтовская – означает своего рода предел, которого достигает романтизм в русской поэзии.
В историю литературы Лермонтов вошел как преемник и продолжатель Пушкина. Действительно, его прямая ориентация на достижения и художественный опыт великого предшественника очевидна. Исследователи не раз отмечали настойчивые и многообразные обращения Лермонтова к пушкинским текстам (явные и скрытые цитаты, реминисценции, словесно-образные заимствования, сюжетно-тематические параллели и т. п.); воздействие эстетических принципов Пушкина на художественную систему Лермонтова; наконец, общность самого типа их стремительной творческой эволюции: от юношеского байронизма к созданию обобщенно-типического характера героя времени и далее – к запечатлению картин народной жизни, образов простых людей.
Лермонтов, однако, не просто наследовал и продолжал пушкинскую традицию, но и отталкивался от нее. Центральная коллизия пушкинской лирики (жестокая реальность современного мира и жизнь в ее высшей, идеальной сути) выглядит у него, «поэта совсем другой эпохи» (Белинский) [1. С. 503], безнадежно-трагической и неразрешимой в принципе. Она ставится под знак вечности и обретает вселенский масштаб. Соответственно – пушкинскому культу гармонической целостности, земного упоения и счастливых мгновений бытия противостоит абсолютное разочарование и безмерность лермонтовских требований к жизни, жажда блаженства и бесконечного существования.
Можно сказать, что оба поэта (и в этом их глубинное родство!) воплощают в своем творчестве идеал полноты бытия. Но Пушкин – в его конкретном и реально достижимом земном обличье, а Лермонтов – как возвышенную и недоступную мечту. Любовь «на время», чувства «на срок», «сладкий недуг» неминуемо исчезающей страсти, подчинение личности непреложным законам бытия – все, что казалось Пушкину нормальным, естественным, прекрасным, что было для него условием и залогом подлинного счастья, все это для Лермонтова абсолютно неприемлемо, ибо обесценивает, обессмысливает жизнь, превращая ее в «пустую и глупую шутку». Романтический конфликт идеала и действительности достигает в его поэзии крайнего, почти немыслимого напряжения.
Художественно-символическим воплощением этих максималистских устремлений выступает в лермонтовском творчестве образ «неба» в его противостоянии «земле», непримиримая антитеза «земного» и «небесного» начал – факт, неоднократно отмечавшийся в научной литературе. Однако внимание исследователей еще не останавливало, кажется, то обстоятельство, что символика земного и небесного у Лермонтова многозначна, а ее содержание текуче, изменчиво. Каковы же важнейшие смысловые грани этих ключевых образов лермонтовской поэзии?
«Земное» у Лермонтова – прежде всего как бы синоним современного цивилизованного общества, в котором господствуют несправедливость, измена, клевета, а чистота и благородство осмеяны и поруганы. В его творчестве запечатлено сознание, потрясенное этическим несовершенством мира – зрелищем жизни,
Где нет ни истинного счастья, Ни долговечной красоты, Где преступленья лишь да казни, Где страсти мелкой только жить; Где не умеют без боязни Ни ненавидеть, ни любить. (Демон, 1839)[3]По словам П. Н. Сакулина, поэт, «казалось, принес землю на заклание небу. Небом он мерит землю, ангелами – людей» [2. С. 10–11].
Однако «земное» связано для Лермонтова не только с торжеством зла, но и с безусловными нравственными ценностями – ощущением личностной свободы и полноты бытия, силой мысли, страстей, напряжением воли, жаждой познания и действия:
Взлелеянный на лоне вдохновенья, С деятельной и пылкою душой, Я не пленен небесной красотой, Но я ищу земного упоенья. (К другу, 1829)Поэт признается в своей любви к земле, в предпочтении небесному и вечному реальных земных «упоений» – радостей, страданий, страстей:
Не обвиняй меня, всесильный, И не карай меня, молю. За то, что мрак земли могильный С ее страстями я люблю… (Молитва, 1829)Еще более сложным содержанием насыщен в лермонтовской поэзии образ «неба». «Небесное» выступает в ней прежде всего как антипод земного бытия в целом и в этом смысле обретает черты первоначального эдемского сада, потерянного рая. Ибо, «там, в пределах отдаленных, / Где душа должна блаженство пить» («Стансы», 1830–1831), неведомы земные грехи и пороки, но также – и земные страданья, волненья, страсти:
Оборвана цепь жизни молодой. Окончен путь, бил час, пора домой, Пора туда, где будущего нет, Ни прошлого, ни вечности, ни лет; Где нет ни ожиданий, ни страстей, Ни горьких слез, ни славы, ни честей; Где вспоминанье спит глубоким сном… (Смерть, 1830–1831)Ср. в «Демоне»:
Им в грядущем нет желанья, Им прошедшего не жаль.Небо для Лермонтова – ничем не возмущаемое «блаженство безгрешных духов / Под кущами райских садов» («Ангел», 1831), царство абсолютного покоя, идеального совершенства и ненарушаемой гармонии, внутренне неизменное и словно бы застывшее в сладостном забытьи. В поэтической мифологии Лермонтова «небо», «рай» предстают родиной души, о которой она не может забыть, тоскуя «в земной неволе». Тяга к запредельному, таким образом, прирождена человеку, как бы таится в нем: «Есть чувство правды в сердце человека, / Святое вечности зерно…» («Мой дом», 1830–1831). Символическим выражением этого святого чувства, этого тяготения к высокому, вечному и являются образы неба, луны, звезд, столь частые в его юношеской поэзии. Как заметил П. Н. Сакулин, Лермонтов первых лет творчества может быть назван «настоящим звездопоклонником» [2. С. 4]. Действительно, в его ранней лирике нетрудно выделить своего рода «астральный» цикл: «Звезда» («Светись, светись далекая звезда…»), «Небо и звезды», «Ангел», «Звезда» («Вверху одна…»), «Мой дом», «Люблю я цепи синих гор…» и др.
Итак, душа в представлении Лермонтова изначально чиста, она всецело принадлежит «небу». Между тем натура человека, полагает поэт, изначально антиномична, двойственна; небесное сталкивается в ней с земным, и сразу же начинается драма их взаимодействия: «Лишь в человеке встретиться могло / Священное с порочным…» («1831-го июня 11 дня», 1831). И если душа может грезить о райском блаженстве, абсолютном покое, то человеческая личность не в состоянии забыть о земном, полностью от него отрешиться. Зависть к «звездам прекрасным» неотделима от чувства разнородности с ними:
Тем я несчастлив, Добрые люди, что звезды и небо — Звезды и небо! – а я человек!.. (Небо и звезды, 1831)Стремление к небесному блаженству выступает тем самым в творчестве Лермонтова как своего рода сверхличный идеал. Личность же может мечтать только о некотором подобии земной жизни – об «очищенном» и продолженном земном бытии. Как показал В. Ф. Асмус, для Лермонтова характерна «мысль о том, что постулируемый поэтом мир высшей, запредельной реальности есть лишь проекция его земных устремлений и желаний», что он тесно связан с миром наличной действительности [3. С. 389]. Такого рода «постулируемая» реальность занимает как бы срединное, промежуточное положение между землей и небом (это земля с чертами неба или небо с дарами земли), хотя в системе утверждаемых поэтом жизненных ценностей она также получает наименование и статус «неба».
Так, в юношеском стихотворении «Отрывок» («На жизнь надеяться страшась…», 1830) нарисована картина грядущего «рая земли», уготованного даже не будущим, далеким поколениям людей, но тем, кто придет им на смену – «другим, чистейшим существам», безгрешным и детски наивным, к которым «станут… слетаться ангелы». Не похожи на рай и «надзвездные края», куда Демон зовет Тамару: ее ждут там сокровища, красота, наслаждение – словом, «все, все земное». Тот же мотив звучит и в поэме «Ангел смерти» (1831): «Там все, что он любил земного, / Он встретит и полюбит снова!..» Характерны, наконец, афористические строки позднейшего стихотворения («Любовь мертвеца», 1841):
Что мне сиянье божьей власти И рай святой? Я перенес земные страсти Туда с собой.Неслиянность личности и души (или, по крайней мере, неполная их слитность), известная автономность, независимость друг от друга, самостоятельность и самоценность обоих начал – такова уникальная особенность лермонтовского жизнеощущения. Не случайно в лирическом субъекте Лермонтова «причудливо совмещены как бы два сознания: одно меряет свои сроки вечностью, другое – житейскими «годами» [4. С. 11]. И эта двойственность во многом определяет «загадочность», парадоксальность всего художественного мира Лермонтова, его поэтики, причудливо сливающей увиденное трезвым «взором» с увиденным грезящей «душой» [4. С. 18].
Наконец, антитеза небесного и земного раскрывается у Лермонтова в руссоистско-байроническом духе – как противостояние природы и цивилизации, прошлого и настоящего. Если современное цивилизованное общество словно концентрирует в себе земные пороки и страсти, то в нравственно чистой жизни полудиких, патриархальных народов, простых людей вообще, поэт видит «тень блаженства» – отблеск ничем не замутненного небесного начала. Наряду с природным царством, миром естественных человеческих чувств, жизнь простых людей может быть охарактеризована (если воспользоваться выражением Д. Е. Максимова) как «преддверие к идеалу» [5. С. 190].
Величественный ландшафт, материнская нежность и чистота детской души, дружеское участие и любовь оставляют неизгладимый след в душе поэта, представляются ему знаком гармонии вселенной и залогом грядущего блаженства. Примечательно его юношеское стихотворение «Кавказ» («Хотя я судьбой на заре моих дней…», 1830), где эти мотивы, сливаясь воедино, обретают обобщенно-символическое звучание. Точно так же и «край отцов» в воспоминаниях и грезах Мцыри предстает как символ прекрасного человеческого сообщества – родины в широком смысле слова, включающем в себя представление о небесной отчизне. Это мир, «где люди вольны, как орлы», где они связаны между собой тесными дружескими узами, где свято чтят предания, а жизнь человека протекает на лоне матери-природы.
Таковы три смысловых уровня, три содержательные грани антитезы «земля и небо» – грани подвижные, взаимопроницаемые и легко замещающие друг друга. Необходимость стремления к «небесному» – во всех его разновидностях – и составляет основной этический императив Лермонтова, определяющий, в сущности, комплекс утверждаемых им духовно-нравственных ценностей. Человек в представлении Лермонтова должен прежде всего сознавать, чувствовать, культивировать в себе это высшее, небесное начало (поэтизация уточненной духовности), понять его соотношение с другими силами своей души (пафос самопознания). Он должен свято хранить его – наперекор житейским нуждам, заботам, тревогам – в любых, самых трудных условиях и трагических ситуациях (требование нравственной стойкости, неизменной верности себе). Он обязан, наконец, мужественно отстаивать высшие нравственные ценности от чьих бы то ни было посягательств (власти, «толпы», света), быть готовым к самопожертвованию и борьбе во имя их утверждения (жажда действия).
В непререкаемой верности своим идеалам – главная предпосылка высокой самооценки «лермонтовского человека», связанное с нею чувство собственного избранничества, романтически понимаемое чувство чести. Верность себе выступает у Лермонтова как долг и – одновременно – как естественное чувство, утраченное лишь в «нашем поколенье», «в наш век изнеженный». Оно является и условием нравственного совершенства личности, и залогом достижимости «небесных» идеалов (при всей их безграничности и кажущейся недосягаемости). Поэт убежден: создатель
… не позволил бы стремиться К тому, что не должно свершиться. Он не позволил бы искать В себе и в мире совершенства. Когда б нам полного блаженства Не должно вечно было знать. (Когда б в покорности незнанья…, 1831)«Святое чувство» надежды прирождено человеку и живет в нем «наперекор страстей» – наперекор мятежным земным порывам. Лермонтов предвосхищает здесь моральную проблематику Л. Толстого: нравственное совершенствование представляется ему как движение вспять – к первоосновам личности, к простейшим формам человеческого общежития (см. [6]). «Удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, – говорится в “Герое нашего времени”, – мы невольно становимся детьми: все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какою была некогда и верно будет когда-нибудь опять» [7. С. 224].
Двойственность человеческой психики предопределяет и два противоположных пути, две различные формы, в которых воплощена в лермонтовской поэзии устремленность к идеалу. Томимая небесным блаженством, душа жаждет вкусить, предвосхитить его уже здесь, на земле, и потому жадно ловит все, что кажется ей обещанием вечности, знаком иного, лучшего мира. Совершенная личность наделена у Лермонтова обостренной чувствительностью, способностью угадывать тайный смысл земных явлений, постигать по едва уловимым намекам, «по легким признакам» скрытое воплощение высших начал бытия – «напоминание о безбрежном величии мира, об идее вечности и бесконечности жизни» [8. С. 147].
Поэт и близкие ему герои особенно ценят погруженность в мечту, воспоминание, грезу, вещий сон или сомнамбулический транс. Человек тогда словно бы выпадает из действительности, из реального течения времени (граница между мигом и вечностью как бы стирается, исчезает) и обретает некое подобие идеальной гармонии, ее прообраз – состояние, запечатленное в таких стихотворениях, как «Желанье» (1832), «Когда волнуется желтеющая нива…» (1837), «Ветка Палестины» (1837), «Из-под таинственной, холодной полумаски…» (1841), «На севере диком стоит одиноко…» (1841), в воспоминаниях и грезах Мцыри, в ряде пейзажей «Героя нашего времени». Только позабыв «скучные песни земли», полностью отрешившись от «мира печали и слез», душа припоминает сладкие «звуки небес» и упоительную гармонию райского блаженства. Вот почему столь характерны для лермонтовской лирики мотивы забвенья-воспоминания («Как часто, пестрою толпою окружен…»), сна во сне («Сон»). Погруженность в грезу, забытье – это некое устойчивое состояние, постоянное свойство лирического героя, «лермонтовского человека» вообще (см. [4. С. 10–52]). Такого рода отпадение от реальности служит Лермонтову неоспоримым свидетельством совершенства личности, ее сопричастности высшим началам бытия. И одновременно дает новый импульс, питающий и усиливающий постоянное тяготение к «небесному», удостоверяющий его осуществимость, его истинность.
Романтический максимализм Лермонтова не позволяет ему, однако, уйти от враждебной действительности, полностью от нее отрешиться, искать спасения в отвлеченно-идеальной сфере. Жизнь, не отвечающая его высоким требованиям, кажется поэту бессодержательной и бессмысленной, а единственно достойной целью земного существования представляется поединок с мировым злом. Мечта о подвиге, о героическом действии, о предельном напряжении всех духовно-нравственных сил, созвучном представлению лирического субъекта о своей избраннической миссии («Я рожден, чтоб целый мир был зритель / Торжества иль гибели моей»), – другой путь, другая форма устремленности поэта к высшим идеалам.
При невозможности героического действия в настоящем, при неясности непосредственных путей и целей борьбы особую значимость и самодовлеющую ценность в творчестве Лермонтова приобретает героическая настроенность, готовность к борьбе и подвигу – вне зависимости от каких-либо практических результатов. Многозначителен в этом смысле идейный итог «Мцыри»: лишь ощущение свободы приносит человеку счастье, какой бы ценой ни приходилось потом за него платить; прекрасна сама жажда борьбы, сама готовность к действию, волевая собранность и целеустремленность.
В глазах Лермонтова действие – необходимая форма существования идеи. Духовное могущество исключительной романтической личности предопределяет тем самым безграничность ее воли, способность к великим свершениям. Воля, в представлении Лермонтова, это – доминанта личности, центр ее духовного мира. Воля, говорится в «Вадиме», «заключает в себе всю душу», «воля есть нравственная сила каждого существа», она – «отпечаток божества, творческая власть, которая из ничего созидает чудеса» [7. С. 94][4].
В этой связи центральное значение для Лермонтова приобретает вопрос об этической природе волевого акта, духовных и моральных стимулах индивидуалистической героики, ибо с нравственной точки зрения культ волевой а ктивности отнюдь не безопасен. С одной стороны, полагает поэт, воля есть «отпечаток божества», и, следовательно, сопряженная с ней жажда деятельности санкционирована свыше. А сама героическая активность есть не что иное, как борьба с мировым злом, попытка восстановить изначальную гармонию. С другой стороны, в атмосфере всеобщей пассивности и бездеятельности желание борьбы выступает не иначе как конфликт с целым миром – вызов судьбе, року.
Так завязывается внутренний, неразрешимо-трагический конфликт лермонтовской лирики: бороться во имя высших идеалов наперекор судьбе с целым миром – значит мстить людям, «толпе», обществу, самому Богу за невозможность эти идеалы осуществить. Желание блага, таким образом, нераздельно слито с необходимостью зла. Ангельская чистота и детская беззащитность поэта-пророка неизбежно приводят к мятежу, к позиции гордого демонизма:
Под ношей бытия не устает И не хладеет гордая душа; Судьба ее так скоро не убьет, А лишь взбунтует; мщением дыша Против непобедимой, много зла Она свершить готова, хоть могла Составить счастье тысячи людей: С такой душой ты бог или злодей… (1831-го июня 11 дня)Комментируя эти строки, Б. М. Эйхенбаум писал: «Идея самопознания и органически связанная с ней проблема добра приводит Лермонтова в вопросу о высоком зле – о “гордой душе”, которая должна мстить за гибель добра» [9. С. 194]. Дей ствительно, демонизм может быть назван вынужденной этической позицией поэта – ответной реакцией на царящую в мире несправедливость.
Вместе с тем действование, волевая активность неразрывно связаны в сознании поэта с причастностью ко злу. Как и твердую волю, ее тоже нужно культивировать, воспитывать, упражнять (по видимости бесцельные и жестокие эксперименты Печорина над окружающими получают тем самым внутреннее оправдание и смысл). «Самое зло, рассматриваемое с этой точки зрения, – отмечает В. Ф. Асмус, – определяется и даже оправдывается как условие и форма действования и торжества именно воли…» [3. С. 369]. Иными словами: зло может быть побеждено только с помощью зла! При всей этической двусмысленности подобной позиции она представляется поэту неизбежной в условиях, когда «чистое» добро обречено на гибель.
Проблема «высокого зла» получает у Лермонтова и более глубокий, философский смысл. Свободная человеческая воля и связанная с ней неукротимая жажда познания, действия, представление о собственной личности как суверенной и самоценной есть по самой своей сути не что иное, как отпадение от изначальной гармонии, и в этом смысле – бунт против Бога. Личностная свобода и жизнь «в покорности незнанья» несовместимы! Восстание против сущего принимает у Лермонтова и его героев космические масштабы, ведет к тотальному отрицанию миропорядка («с небом гордая вражда»). Демонизм становится постоянной, центральной темой творчества Лермонтова, а Демон – «царь познанья и свободы» – устойчивым художественным символом «высокого зла». Высокое зло и тяга к его действенному воплощению, полагает поэт, прирождены человеку (равно как и тяга к «небесному») и – в философском смысле слова – необходимы; они, в сущности, и делают его личностью. Но они же являются причиной изначального раздвоения человеческой натуры, «корнем» земных мучений и страданий. Антитеза земного и небесного перерастает у Лермонтова в коллизию между ними.
Демонические умонастроения, несовместимые с мечтой о небесном блаженстве, побуждают поэта сомневаться в ее осуществимости, ведут его к прямому отрицанию идеала, заставляют отдавать предпочтение мирским страстям и «неполной радости земной» – неполной, но реальной!
Как землю нам больше небес не любить? Нам небесное счастье темно; Хоть счастье земное и меньше в сто раз, Но мы знаем, какое оно. (Земля и небо, 1830–1831)Жаждущий безусловной, младенчески чистой веры, поэт чувствует себя неспособным к ней. Он словно бы хочет получить гарантию в существовании того идеального мира, к которому стремится всеми силами своей души, хочет наперед увериться в его достижимости:
Есть рай небесный! звезды говорят; Но где же? вот вопрос – и в нем-то яд… (Я видел тень блаженства; но вполне…, 1831)Он как будто беспрестанно взвешивает в своей душе ангельское и демоническое начало, пытаясь решить, какое же из них откроет ему «жизни назначенье, цель упований и страстей». Показательна многолетняя, упорная работа над двумя центральными поэмами – «Демоном» и «Мцыри», в которых ясно выразились две ипостаси его души, две грани его художественного мира.
Стремление к небу и любовь к земле, неискоренимая жажда веры и невозможность уверовать, желание нравственного обновления и сознание его неосуществимости – таков смысл центрального внутреннего конфликта лермонтовского творчества. Причем противоборствующие начала неразрывно слились, сплавились друг с другом: «И царствует в душе какой-то холод тайный, / Когда огонь кипит в крови» («Дума», 1838). Характерное для поэта-романтика душевное раздвоение достигает у Лермонтова невиданной остроты! (см. [4. С. 58–59]).
Вторая половина творчества Лермонтова (1835–1841) – время кризиса романтического миросозерцания. Поэт все острее ощущает неразрешимость его внутренних противоречий, ограниченность и уязвимость позиции мятежного индивидуализма, все настойчивее стремится преодолеть роковую раздвоенность романтического сознания и соотнести свои возвышенные идеалы с реальностью. В основе его позиции – «сознание власти действительности… и вместе с тем несогласие с ней, отрицание ее» [8. С. 94]. Романтизм позднего Лермонтова отчасти утрачивает свой активно-протестующий характер, лишается прежнего волевого напора и агрессии по отношению к миру, он все больше становится оборонительным, даже «страдательным».
Речь идет уже не о героическом «торжестве иль гибели» мятежника-индивидуалиста, а о неизбежности его поражения перед лицом враждебной действительности. Поэтому напряженность и острота конфликта между «земным» и «небесным» заметно смягчаются, а сама эта антитеза как бы уходит в подтекст, получает символическое, скрытое выражение.
Первостепенное значение для Лермонтова обретают надличностные духовно-нравственные ценности – такие, как жажда единения с людьми, любовь к родине и народу («Бородино», «Родина», «Песня про… купца Калашникова»). А трагический духовный мир «лермонтовского человека» поверяется и корректируется теперь внутренним миром человека простого, обыкновенного (см. [5. С. 63]). При этом люди из народа нередко наделяются чертами, близкими основному герою Лермонтова: суровой сдержанностью, мужеством, волей, ясным сознанием долга, способностью сильно и глубоко страдать («Сосед», «Завещание», «Валерик»), Соответственно трагедия героя-избранника утрачивает ореол исключительности и все более осмысляется как типичная судьба личности «в стране рабов, стране господ». Все это приводит поэта к необходимости зорко вглядываться в жизнь, в характеры людей, постигать законы действительности. Оставаясь во многом романтическим, творчество Лермонтова явно эволюционирует в сторону реализма.
И все же «перспектива поэтического развития Лермонтова неоднозначна и вряд ли сводится к “отречению” от романтизма» [10. С. 113].
Действительно, для зрелого Лермонтова характерно ощущение непреодолимой преграды, непереходимого рубежа между героем-избранником и обычными людьми, трагическое переживание роковой отъединенности от общей жизни. Не только борьба с миром или гордое противостояние ему оказывается гибельным для «лермонтовского человека», но и всякая форма сближения, соприкосновения, контакта с ним, будь то попытка Демона «с небом примириться» или же бегство Мцыри в родной аул. В лирике Лермонтова – в «Смерти Поэта» и «Трех пальмах», в «Листке» и «Утесе», в «Морской царевне» и «Пророке» – эта тема звучит особенно безнадежно и трагично. Человек как будто обречен жить в заранее предначертанной ему сфере, и любая попытка выйти за ее пределы становится губительной как для него самого, так и для обитателей другого мира (см. [11. С. 82–83]).
Проблема синтеза романтизма и реализма оказывается тем самым весьма сложной и драматичной.
При всей специфичности взаимодействия романтического и реалистического начал в зрелом творчестве Лермонтова само их столкновение, их взаимопроникновение и взаимоотталкивание сродни тем процессам, которые протекали в пушкинской поэзии начиная с середины 1820-х гг. – в его лирике, в его романтических («южных») поэмах, в его стихотворном романе. И это обстоятельство вновь свидетельствует о значимости художественного опыта Пушкина для последующей русской литературы, для определения ее магистрального маршрута.
1981, 1993
Литература
1. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 4. М., 1954.
2. Сакулин П. И. Земля и небо в поэзии Лермонтова // Венок М. Ю. Лермонтову: Юбилейный сборник. М.; Пг., 1914.
3. Асмус В. Ф. Круг идей Лермонтова // Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968.
4. Ломинадзе С. Поэтический мир Лермонтова. М., 1985.
5. Максимов Д. Е. Поэзия Лермонтова. М., 1964.
6. Лотман Ю. М. Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов // Учен. зап. Тартус. гос. ун-та. Тарту, Вып. 119. 1962.
7. Лермонтов М. Ю. Сочинения: В 6 т. Т. 6. М.; Л., 1957.
8. Михайлова Е. Н. Идея личности у Лермонтова и особенности ее художественного воплощения // Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова: Исследования и материалы. I. М., 1941.
9. Эйхенбаум Б. М. Статьи о Лермонтове. М.; Л., 1961.
10. Роднянская И. Б. Герой лирики Лермонтова и литературная позиция поэта // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 39. № 2. 1980.
11. Наровчатов С. Лирика Лермонтова. 2-е изд. М., 1970.
Байроническая поэма
Наряду с лучшими образцами романтической лирики важнейшим творческим достижением Пушкина-романтика стали созданные в годы южной ссылки поэмы «Кавказский пленник» (1821), «Братья-разбойники» (1822), «Бахчисарайский фонтан» (1823) и завершенная в Михайловском поэма «Цыганы» (1824). Наиболее полно и ярко воплотился в них образ героя-индивидуалиста, разочарованного и одинокого, недовольного жизнью и рвущегося к свободе.
И характер демонического бунтаря, и сам жанр романтической поэмы сложились в творчестве Пушкина под несомненным влиянием Байрона, который, по словам Вяземского, «положил на музыку песню поколения» [1. С. 126], Байрона – автора «Паломничества Чайльд Гарольда» и цикла так называемых «восточных» поэм. Идя по пути, проложенному Байроном, Пушкин создал оригинальный, русский вариант байронической поэмы, оказавшей огромное воздействие на отечественную литературу. Романтическая поэма байроновско-пушкинского образца разительно отличалась от тяжеловесных героико-исторических поэм эпохи классицизма и от поэм на сказочные сюжеты типа «Руслана и Людмилы» или же «Громобоя» Жуковского. Обращенная к современности, она раскрывала внутренний мир передового человека эпохи, рассказывала о его тревогах, надеждах и душевных противоречиях, о его трагических переживаниях и страстях. Как известно, в «Кавказском пленнике» Пушкин хотел изобразить характерные черты молодежи XIX в., особенности ее духовного облика и психического склада: «это равнодушие к жизни и ее наслаждениям, эту преждевременную старость души» (см. X, 42).
Вслед за Байроном Пушкин избирает героями своих произведений людей необыкновенных. В них действуют личности гордые и сильные, отмеченные печатью духовного превосходства над окружающими и находящиеся в разладе с обществом. Поэт-романтик не сообщает читателю о прошлом героя, об условиях и обстоятельствах его жизни, не показывает, как развивался его характер. Лишь в самых общих чертах, намеренно туманно и неясно говорит он о причинах его разочарования и вражды с обществом. Он сгущает вокруг него атмосферу таинственности и загадочности.
Действие романтической поэмы развертывается чаще всего не в той среде, какой принадлежит герой по рождению и воспитанию, а в особой, исключительной обстановке, на фоне величественной природы: моря, гор, водопадов, бурь, – среди полудиких народов, не затронутых европейской цивилизацией – «просвещением». И это еще больше подчеркивает необычность героя, исключительность его личности.
Одинокий и чуждый окружающим, герой романтической поэмы сродни только автору, а порой выступает даже в роли его двойника. В заметке о Байроне Пушкин писал: «Он создал себя вторично, то под чалмою ренегата, то в плаще корсара, то гяуром…» (VII, 37). Характеристика эта приложима отчасти и к самому Пушкину: образы Пленника и Алеко во многом автобиографичны. Они словно маски, из-под которых проглядывают черты автора (сходство подчеркнуто, в частности, созвучием имен: Алеко – Александр). Повествование о судьбе героя окрашено поэтому глубоким личным чувством, а рассказ о его переживаниях незаметно переходит в лирическую исповедь автора.
Не вдруг увянет наша младость, Не вдруг восторги бросят нас, И неожиданную радость Еще обнимем мы не раз; Но вы, живые впечатленья, Первоначальная любовь, Небесный пламень упоенья, Не прилетаете вы вновь. (IV, 87)Эти строки «Кавказского пленника» характеризуют, конечно, душевное состояние героя, но в то же время имеют прямое отношение и к самому поэту, раскрывают мир его мыслей и чувств. «В нем есть стихи моего сердца», – говорил Пушкин о «Кавказском пленнике» (X, 508). Соединяя в себе черты эпоса и лирики, романтическая поэма, принадлежит, таким образом, к смешанному, лиро-эпическому роду.
В отличие от эпической поэмы эпохи классицизма, лироэпическая поэма Байрона и Пушкина невелика по объему. Ее действие, сосредоточенное вокруг двух-трех основных эпизодов, развертывается стремительно и бурно, сцены отмечены драматической напряженностью. Поэт рассказывает лишь о самых главных, необходимых событиях, которые служат как бы вехами в развитии сюжета (так называемая «вершинная» композиция), предоставляя читателю догадываться обо всем остальном. Стремительность действия и сжатость поэтического рассказа стали художественным выражением нового ощущения жизни, ее необычайно убыстрившегося темпа. В статье о «Цыганах» Вяземский разъяснял читателю, что для современного искусства уже невозможно неспешное и подробное изображение человеческой судьбы от купели «до поздней старости и, наконец, до гроба», характерное для литературы XVIII в. Устремленная «к результатам», новая поэзия показывает главное в человеке, опуская «частицы скучных подробностей». Этого требует сам дух эпохи: «ныне и стрелка времени как-то перескакивает минуты и считает одними часами» [1. С. 113].
При несомненной общности романтических поэм Пушкина и Байрона пушкинская поэма глубоко своеобразна, творчески самостоятельна, а во многом и полемична по отношению к Байрону. Как и в лирике, резкие черты байроновского романтизма у Пушкина смягчены, выражены не столь последовательно и отчетливо, во многом преображены.
Прежде всего бросается в глаза иной масштаб личности пушкинского героя. При всей его исключительности ему в общем не свойственны (или свойственны в значительно меньшей степени) такие черты байроновских персонажей, как гордый титанизм, безусловное, полное превосходство над окружающими и гипнотическая власть над ними, трагическая отверженность и роковая отъединенность от других людей. Во-вторых, в поэмах Пушкина увеличивается дистанция между автором и героем, который в значительно меньшей степени, чем у Байрона, является его двойником. Их позиции, взгляды, оценки далеко не всегда совпадают. С этим связана, в-третьих, децентрализация пушкинской поэмы, подрыв «эстетического единодержавия» (В. М. Жирмунский) главного героя произведения. Гораздо более значимы в ней описания природы, изображение быта и нравов, наконец, функция других персонажей. Их мнения, их взгляды на жизнь равноправно сосуществуют в поэме с позицией главного героя.
Эти общие особенности южных поэм, своеобразие их художественной структуры хорошо изучены нашей наукой (см. в особенности [2; 3]). Не столь ясен их содержательно-идеологический смысл. И хотя поэмы Пушкина-романтика глубоко и всесторонне охарактеризованы в ряде серьезных и обстоятельных научных трудов (Д. Д. Благого, С. М. Бонди, Б. В. Томашевского, В. В. Виноградова, Г. А. Гуковского, А. Н. Соколова, С. Г. Бочарова, Ю. В. Манна), существенные особенности их проблематики, их идейно-образной структуры требуют дальнейшего уточнения и конкретизации.
Как ставится и решается Пушкиным проблема природы и культуры? Как изображает и оценивает он разочарованного «байроновского» героя и противостоящую ему «естественную» среду? Каков идейный смысл каждой из поэм? В чем суть знаменитого эпилога «Цыган», словно бы подводящего итог всему романтическому циклу? По всем этим вопросам ведутся непрекращающиеся споры, высказываются различные, порой полярные суждения.
Попробуем рассмотреть южные поэмы исходя из основных особенностей пушкинского романтизма.
* * *
Эпилог «Кавказского пленника», в котором воспевается покорение Кавказа русскими войсками, вызвал, как известно, недоумение и крайнее неудовольствие П. А. Вяземского. Воспринимая его как элемент чужеродный и внешний по отношению к основному тексту, либерально настроенный критик сожалел, что Пушкин «окровавил» свою поэму [4. С. 274–275].
Напротив, современные исследователи исходят из того, что эпилог неразрывно связан со всем содержанием и замыслом произведения. Но его значение, его место в идейной структуре «Кавказского пленника» интерпретируются далеко не одинаково. Более того, за различным истолкованием эпилога скрывается, в сущности, различное понимание самой поэмы, ее сути, ее основного смысла.
«Исходным тезисом» поэмы, полагает Б. В. Томашевский, было отрицание «европейского» уклада и превосходство над ним «естественного» начала. Между тем Пушкин вовсе «не выставлял быт горцев как образец идеального уклада жизни: он не звал людей вспять, к отказу от цивилизованной жизни, к какому-то первобытному состоянию. В этом отношении эпилог вносил существенную поправку в то впечатление, которое могло получиться от несколько идеализированного изображения горцев» [5. С. 409, ср. также с. 405].
Невозможно, однако же, не заметить разительного несоответствия между «исходным тезисом» и «поправкой» к нему, начисто этот тезис отвергающий. Ведь одно дело сомневаться в преимуществах «естественного состояния», а совсем другое – искоренять его огнем и мечом. Одно дело отвергать европейскую цивилизацию во имя «природы», а другое – воспевать ее торжество над дикой вольностью. Приходится говорить, следовательно, не о том, что Пушкин в эпилоге исправляет впечатление от своей поэмы, а о том, что он полностью пересматривает в нем ее общий смысл. Картина, разумеется, малоправдоподобная.
Напротив, Д. Д. Благой усматривает в эпилоге не контраст, а прямое соответствие всему предшествующему тексту произведения. «Обнаженно антируссоистский» характер эпилога вполне отвечает, по его мнению, основной направленности поэмы, общему ее антируссоистскому духу. «Культурному человеку нет пути назад, в природу. “Друг природы”, ринувшийся на Кавказ в поисках свободы, оказывается рабом вольных черкесов. На этом контрасте стремления к свободе и рабства, невозможности обрести свободу в первобытности… построена вся поэма» [6. С. 268]. Но и такое обьяснение не может быть признано вполне удовлетворительным. «Обнаженно антируссоистская» направленность поэмы плохо согласуется с поэтизацией кавказской природы, сочувственным изображением горских нравов, а главное – с явно идеализированным образом героини – «младой черкешенки».
Стоит, однако, внимательно и непредубежденно вглядеться в текст первой из южных поэм, как сразу же станет ясно: антитеза природы и цивилизации, вызывающая столь серьезные разногласия, в ней только еще намечается. Мы не найдем здесь ни прямого осуждения культуры и просвещения, ни проклятий европейскому укладу жизни, ни гневных тирад против «неволи душных городов», как потом в «Цыганах». Пленник бежит не от европейской цивилизации как таковой, не от «оков просвещенья», а от привычного ему светского общества. «Отступник света» – этой сжатой формулой Пушкин точно выразил смысл разочарования своего героя.
Но и критика света в поэме тоже носит ограниченный, локальный характер. Пленник предстает в ней как жертва клеветы, двоедушия, лицемерия, коварства, господствующих в светском обществе. Вот как объясняет сам поэт причины бегства героя из «родного предела»:
Людей и свет изведал он И знал неверной жизни цену. В сердцах друзей нашед измену, В мечтах любви безумный сон, Наскуча жертвой быть привычной Давно презренной суеты, И неприязни двуязычной, И простодушной клеветы, Отступник света, друг природы, Покинул он родной предел И в край далекий полетел С веселым призраком свободы. (IV, 85)Очевидно, что разочарование Пленника невозможно назвать всеобъемлющим, полным, что не удовлетворяет его главным образом нравственное несовершенство светского общества. И даже не столько оно само, сколько те отчужденно-враждебные отношения, какие сложились у героя с его окружением. Верно, конечно, что в поэме «развернут целый спектр мотивов» отчуждения центрального персонажа от своей среды. Здесь и пресыщение жизнью, и недовольство ближними, но главным образом, – «жажда свободы и переживание любви» [7. С. 35]. Однако и жажда свободы, и любовная катастрофа тоже выступают в ней как результат морального несовершенства светского общества, разочарования героя в его нравственных основах.
Немым укором свету служит в поэме изображение жизни вольных черкесов. Их прямодушие и простота, воинственная отвага и гостеприимство являют разительный контраст порочным нравам высшего общества. Конечно, за этим противопоставлением нравственного облика двух миров угадывается и более широкая антитеза – антитеза естественного, патриархального общественного уклада и искусственной цивилизации (недаром ведь Пленник охарактеризован многозначительной двуединой формулой: «Отступник света, друг природы»). И все же – только угадывается, только намечается.
К тому же и черкесская вольница, столь сочувственно обрисованная в поэме, выглядит все же далеко не идиллично. Поэт не раз называет черкесов «хищниками», говорит об их воинственной жестокости, о тягостной судьбе попавшего к ним Пленника, который становится закованным в цепи рабом и даже называет место своей неволи «ужасным краем». Главное же – безо всяких прикрас показаны отношения внутри аула, внутри черкесской семьи, где немалую роль играют принуждение и корысть.
«Я знаю жребий мне готовый: Меня отец и брат суровый Немилому продать хотят В чужой аул ценою злата; Но умолю отца и брата, Не то – найду кинжал иль яд.»,– рассказывает о своем будущем героиня (IV, 93).
Итак, мы без труда обнаружим в поэме и сочувственное, несколько идеализированное изображение горских племен, и критическое отношение к нравам светского общества. Но мы не найдем здесь ни тотального отрицания европейской цивилизации, ни мысли о безусловном превосходстве «естественного» начала над «европейским», ни вообще прямого их сопоставления или же столкновения. Проблема природы и цивилизации, естественности и культуры ставится и решается в «Кавказском пленнике» иначе – как проблема нравственно-психологическая.
Разочарование героя мотивировано в поэме двояко. Пленник страдает не только от того, что он в разладе с обществом, но и от того, что он и разладе с самим собой. «Противоречия страстей», как отметил Б. В. Томашевский [5. С. 394], составляют, так сказать, нервный узел пушкинского произведении.
Действительно, душа Пленника во власти страстей. Это и отвращение к свету, и неразделенная любовь, и – главное пламенная жажда свободы. Свобода, по удачному выражению С. М. Бонди, становится для него (как и для других романтических героев) предметом почти религиозного культа (см. [8. С. 435]):
Свобода! он одной тебя Еще искал в пустынном мире. . . . . С волненьем песни он внимал, Одушевленные тобою, И с верой, пламенной мольбою Твой гордый идол обнимал. (IV, 85)Пламенные страсти, интенсивные переживания романтического героя – выражение его исключительности, его духовной и нравственной независимости от презираемого им общества. Но они же причина его несвободы. Герой-индивидуалист неизбежно оказывается жертвой страстей. Он бесчувствен и холоден, душа его опустошена и «вянет» от их «злой отравы», «истребившей» чувства. Он
…бурной жизнью погубил Надежду, радость и желанье, И лучших дней воспоминанье В увядшем сердце заключил. (IV, 84)Правда, характер романтического бунтаря до конца в поэме не выдержан. Сквозь разочарование и байронизм явственно проступают черты унылого элегического любовника – страдальца, который «вздыхает и льет слезы по своей недоступной и холодной красавице» [6. С. 262]. Как мало похоже это на холодного, ожесточившегося героя байроновских поэм!
Итак, свобода, предмет идеальных стремлений героя, имеет как бы две стороны. Это свобода внешняя – от нравственного гнета светского общества, от клеветы, гонений, измен. Но это и свобода внутренняя – от самого себя, от порабощающих душу страстей.
На первый взгляд бегство «в край далекий» оканчивается для героя плачевно: погоня за «призраком свободы» оборачивается рабством. Именно в этом, по мнению Д. Д. Благого, и заключается смысл пушкинского произведения. Но поиски внешней свободы – лишь одна сторона содержания поэмы. Не менее существенно и другое: жизнь в неволе становится для Пленника истоком нравственного возрождения, началом освобождения из-под власти страстей. Его привлекает величественная красота Кавказских гор, и страшная игра природных стихий, и вольные нравы горских племен, его трогает самоотверженная и чистая любовь «девы гор». А вспыхнувшее (в конце поэмы) чувство к своей спасительнице пробуждает «окаменевшего» героя к новой жизни:
К черкешенке простер он руки, Воскресшим сердцем к ней летел, И долгий поцелуй разлуки Союз любви запечатлел. (IV, 99)По наблюдению A. Л. Слонимского, в этот момент происходит «внезапное просветление»: «Пленник постигает вдруг истинную ценность жизни. Уходит куда-то вся его разочарованность, сердце его воскресает для радости… Этот внезапный поворот создает яркий, чисто пушкинский драматический эффект. Обнаруживается та жажда жизни, которая таилась под разочарованной внешностью пленника» [9. С. 190] (ср. также [13]). К иному истолкованию финала склоняется Ю. В. Манн, полагая, что неправомерно видеть в нем «духовное обновление или любое другое завершенное состояние» [7. С. 48]. Пушкину важна, однако, не завершенность состояния, а перспектива: сама способность героя к духовному развитию, принципиальная возможность для него нравственного возрождения.
В характере Пленника совмещены, так сказать, оба члена исходной антитезы. Человек культуры, он ищет нравственные ценности за ее пределами. Отворачиваясь от светского общества, он идет в мир природы, простоты и естественности, лишь в них видя возможность нравственного возрождения.
Заметим, что возрождение героя связано с торжеством чувства, с его победой над романтической страстью. Для Пушкина это отнюдь не синонимы. Глубокого смысла полна формула, которой характеризует он разочарование Пленника (в начале поэмы): «Страстями чувства истребя». Страсти – могучие и пламенные движения души – опустошительны и трагичны. Они требуют неизменной сосредоточенности на какой-нибудь одной стороне бытия. Напротив, чувства – выражение полноты душевной жизни, способности воспринимать мир в его богатстве и многообразии. По самой своей природе они кратковременны и преходящи, они захватывают человека лишь на недолгий срок, уступая затем место новым жизненным впечатлениям.
О возраст ранний и живой, Как быстро легкой чередой Тогда сменялись впечатленья: Восторги – тихою тоской, Печаль – порывом упоенья! (IV, 381)– эти слова из посвящения к «Бахчисарайскому фонтану» (не вошедшие в окончательный текст поэмы) очень точно характеризуют эмоциональные состояния, которые поэт именовал чувствами.
Можно сказать, следовательно, что Пленник проделывает в поэме путь от страстей к чувствам.
Словно бы в обратном направлении движется героиня поэмы. Конечно же, и она представлена автором не как одна из многих горских дев, но как явление исключительное в окружающем ее мире. Ее сочувствие несчастному, ее самоотверженная, жертвенная любовь – все это слишком явно контрастирует с жестокими нравами черкесского аула. Мало того, после объяснения с героем она тоже проникается настроениями тоски и разочарования. Заключительный монолог Черкешенки – как бы эхо признаний, слышанных ею от Пленника:
«…Нет, русский, нет! Она исчезла, жизни сладость; Я знала всё, я знала радость, И всё прошло, пропал и след. Возможно ль? ты любил другую!.. Найди ее, люби ее; О чем же я еще тоскую? О чем уныние мое?..» (IV, 99)Живое и трепетное чувство героини превращается в опустошительную романтическую страсть. Вообще, в финальной сцене Черкешенка и Пленник точно меняются местами: он «летит» в ней «воскресшим сердцем», она же остается охлажденной и разочарованной.
В душу героини входит, таким образом, новое, ранее неведомое ей начало – результат соприкосновения с человеком иного, культурного мира. Именно безнадежное разочарование становится главной причиной ее гибели. Под влиянием этого нового для нее чувства совершает она свой отчаянно смелый поступок – освобождает из неволи Пленника, после чего возвращение в родной аул для нее уже невозможно.
Герои «Кавказского пленника» представляют, следовательно, исключения из общего правила – лучшие исключения. Поднимаясь над своим окружением, над своей средой, «отчуждаясь» от нее, они оказываются причастными другому миру, иному кругу нравственных ценностей. В их душах по-своему сочетаются оба противоположных начала: цивилизации и природы.
Так вырисовывается в поэме идеал Пушкина, который может быть обозначен как гармонический синтез естественности и культуры. И напротив, явления, принадлежащие лишь одному из этих миров: «дикая вольность» горских племен или искусственная жизнь высшего света, – подлежат критическому рассмотрению и суду.
После всего сказанного проясняется и роль эпилога в поэме, действительно соответствующего его содержанию. Присоединение Кавказа к России Пушкин рассматривает как исторически необходимый и реальный путь сближения природы и цивилизации. Он мечтает о временах, которые придут на смену «дикой вольности» и «гласу алчной брани», о временах, когда путник «без боязни» сможет подъехать к диким ущельям Кавказских гор. В письме Л. С. Пушкину (от 24 сентября 1820 г.) поэт с удовлетворением констатирует: «Дикие черкесы напуганы; древняя дерзость их исчезает. Дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои – излишними» (X, 17).
Но поэма в целом посвящена, разумеется, не самим по себе проблемам природы и цивилизации, не их историческим судьбам. Эти абстрактные категории наполняются у Пушкина живым нравственно-психологическим содержанием. Синтез естественности и культуры, возможность их гармонического согласия в душе человека выступают в его творчестве как альтернатива всевластию индивидуалистических страстей, гарантия нравственной свободы и полноты душевной жизни. Так в первой же из романтических пушкинских поэм определился своего рода антиромантический комплекс – круг представлений об ограниченности и неполноценности замкнутого в себе индивидуалистического сознания.
Являются ли, однако, страсти уделом одного лишь цивилизованного общества? Свободен ли от них первобытно-патриархальный мир? В «Кавказском пленнике» мы не найдем ответа на эти вопросы. Тем острее ставятся они в следующей завершенной романтической поэме – в «Бахчисарайском фонтане», где внимание с характера современного героя переключено на саму экзотическую среду. И что же? В ней тоже живут «страсти роковые»! Впрочем, это уже во многом иные страсти, не похожие на те, что теснятся в груди «европейца» Пленника, – страсти дикие, неистовые, некультивированные, ничем не сдерживаемые, проявляющиеся открыто и ярко во всей их стихийной мощи.
«Пламенные желанья» и жгучая ненависть, измена, ревность и месть, раболепный страх и деспотическое своеволие – игрой всех этих страстей буквально наэлектризована атмосфера ханского дворца. Примечательно, что Зарема, в душе которой страсти бушуют особенно неистово, которая сама говорит, что она «для страсти рождена», чужестранка. Она грузинка, уроженка Кавказа, того самого края, где развертывается действие первой из южных поэм. Тем разительнее контраст между невинностью юной Черкешенки и бурной, порывистой страстью Заремы. И вполне закономерно, что трагедия любви – ревности – мести завершается в поэме катастрофически (см. [10. С. 91–92]).
Вывод о нравственной неоднородности первобытной среды, к которому Пушкин пришел еще в «Кавказском пленнике», дополняется теперь другим, не менее важным: «естественное состояние», как и цивилизованное общество, – благоприятная почва для развития свободных, ничем не скованных страстей, для их трагической игры.
Но чем безудержнее страсти, тем сильнее подчиняют, порабощают они людские души. И действительно, рабами, пленниками любви становятся в поэме прежде всего ее центральные персонажи – Зарема и Гирей, а в какой-то мере и другие ханские жены (недаром так бдительно следит за ними «злой эвнух»). Более того, их внутренняя несвобода (плен страсти, любви) неразличимо сливается с несвободой внешней: ведь гарем – это и есть не что иное, как любовный плен! И если в предшествующей поэме ее главный герой был единственным пленником среди свободных горцев, то в новой – среди пленных и рабов свободен (но свободен только внешне!) один лишь Гирей. Ситуация плена оказывается здесь всеобщей. Причем зависимость от воли и прихоти владыки стала для обитательниц гарема привычным, естественным состоянием – как бы второй натурой.
Метафора любовного плена, иными словами, едва ли не реализуется в сюжете поэмы. Во всяком случае, прямое и переносное значения слова здесь сближены, трудноразличимы, граница между ними колеблется. Достаточно вспомнить лирический эпилог «Бахчисарайского фонтана», где герой-автор, говоря о своей неразделенной страсти, именует себя «узником томным», лобызающим собственные оковы!
Тем самым Пушкину удается преодолеть основное противоречие «Кавказского пленника», присущую ему двойственность, где герой, напомним, выступал как жертва общества, света и как жертва неразделенной страсти. Но достигнутое в «Бахчисарайском фонтане» единство (это хорошо показано в книге Ю. В. Манна (см. [7. С. 72, 74])) покупалось ценой, так сказать, деидеологизации конфликта, ценой его упрощения, ценой понижения духовного, интеллектуального уровня центрального персонажа.
На фоне всеобщего рабства – внутреннего и внешнего – разительным контрастом предстает духовная свобода и нравственная стойкость другой героини поэмы – «Марии нежной». И опять-таки свобода эта обусловлена прежде всего ее душевной чистотой и неопытностью («Невинной деве непонятен / Язык мучительных страстей…»). Не менее важно и то, что Мария – человек другой религии, другой культуры; она европеянка и христианка, чья душа очищена и просветлена воспитанием и верой. Недаром так настойчиво подчеркивает поэт, что ее одинокий приют «гарема в дальнем отделенье» осенен верой, напоминая приют ангела: «И, мнится, в том уединенье / Сокрылся некто неземной». А нарушившая это уединение Зарема видит с «изумленьем»
Лампады свет уединенный, Кивот, печально озаренный, Пречистой девы кроткий лик И крест, любви символ священный… (IV, 139)Так входит в произведение уже знакомая нам по первой из южных поэм тема сопоставления и взаимодействия разных культур – европейской и восточной, христианской и магометанской (см. [10. С. 89]). И подобно тому как в «Кавказском пленнике» наивная любовь дикарки становится для героя началом нравственного возрождения, а для нее самой встреча с человеком цивилизованного общества – источником новых, неведомых ранее переживаний, так и в «Бахчисарайском фонтане» любовь к европеянке – человеку иного мира, иной культуры – пробуждает в душе дикого восточного деспота высокие человеческие чувства. По определению В. Г. Белинского, «мысль поэмы – перерождение (если не просветление) дикой души через высокое чувство любви» [11. С. 380].
Но и в облагороженном, возвышенном своем варианте страсти неизбежно несут человеку охлаждение, разочарование. И в цивилизованном обществе, и в «естественной среде» возникают поэтому сходные психологические типы, аналогичные ситуации. Подобием разочарованного романтического героя и становится в поэме Гирей – жертва безнадежной любви к ангельски чистой Марии. С другой стороны, рабом, пленником страсти представлен, как уже отмечалось, и герой-автор. Однако параллелизм их судеб относителен. Если в подчеркнуто неавтобиографической фигуре Гирея на первый план выдвинуты мотивы охлаждения и разочарования, то в развернутом лирическом эпилоге поэмы преобладают мотивы нравственного возрождения. Причем сама возможность возрождения связывается опять-таки с прикосновением к чужому миру – его легендам, природе, истории, культуре. И Гирей, и герой-автор поднимаются, таким образом, на новую, более высокую ступень нравственного развития.
Господствующее в эпилоге чувство – жажда преодоления «безумной любви», мечта об освобождении «узника томного» от снедающей его «мучительной «тоски. И освобождение это снова связывается для поэта с возвращением живых и светлых чувств, означает вновь обретенную способность глубоко и поэтически воспринимать мир, остро переживать многообразные и непрерывно сменяющие друг друга жизненные впечатления, оно означает, наконец, пробудившийся дар песнопения.
В начальных стихах эпилога поэт говорит о притуплении чувств во время своего посещения Бахчисарая, о том, что сердце его всецело было поглощено воспоминаниями от любви (заметим, что и Пленник отправляется на Кавказ, «охолодев к мечтам и к лире»). Иное, контрастное состояние раскрывается в заключительных стихах поэмы: в них господствует чувство торжествующей жизни, гармонической уравновешенности и душевной полноты, которое буквально пронизывает лирический крымский пейзаж, одухотворяет его:
О, скоро вас увижу вновь, Брега веселые Салгира! Приду на склон приморских гор, Воспоминаний тайных полный, — И вновь таврические волны Обрадуют мой жадный взор. Волшебный край! очей отрада! Всё живо там… . . . . Всё чувство путника манит… (IV, 145) (курсив наш. – А. Г.)Не случайно – в начале приведенного отрывка – поэт совершенно антибайронически характеризует себя: «Поклонник муз, поклонник мира». Ведь душевная гармония и умиротворенность – качества полярно противоположные тем, которые проповедовал романтический индивидуализм.
Поразительно, что эта антибайроновская по своему существу концепция складывается в самый разгар пушкинского увлечения байронизмом. Причем критическое отношение к герою-индивидуалисту – особенно после духовного кризиса 1823 г. – постепенно усиливается. Отчетливо выразившееся в начальных главах «Онегина», таких стихотворениях, как «Демон» (1823), «Подражания Корану» (1824), «Сцена из Фауста» (1825), оно ярко и сильно проявилось в «Цыганах» – последней, лучшей и самой зрелой поэме южного цикла.
Во многом продолжая и развивая проблематику предшествующих романтических поэм, «Цыганы» в то же время существенно отличны от них. Пушкин вновь обращается здесь к судьбе романтического избранника, но изображает его во многом иначе, чем в «Кавказском пленнике». Впрочем, в обеих поэмах есть и немало общего. Перед нами все та же гордая и мятежная, мрачная и разочарованная душа – по-байроновски враждебная обществу личность, то же романтическое бегство от цивилизации в мир «детей природы» – на сей раз в цыганский табор. Наконец, та же тема любви «туземки» и «европейца». Но это сюжетное сходство еще сильнее оттеняет различие в содержании обеих поэм, несовпадение их художественного смысла.
От критики «высшего света» поэт переходит теперь к прямому обличению европейской цивилизации – всей «городской» культуры. Она предстает в «Цыганах» как скопище тягчайших нравственных пороков, мир стяжательства и рабства, как царство скуки и томительного однообразия жизни.
… Когда б ты знала, Когда бы ты воображала Неволю душных городов! Там люди, в кучах за оградой, Не дышат утренней прохладой. Ни вешним запахом лугов; Любви стыдятся, мысли гонят, Торгуют волею своей, Главы пред идолами клонят И просят денег да цепей. (IV, 155)– в таких выражениях рассказывает Алеко Земфире «о том, что бросил навсегда».
Значительно углубляется и конфликт героя с обществом. Пленник – изгнанник добровольный и, так сказать, временный; его разочарование не столь всеобъемлюще и сильно: в неволе он предастся чувствительным воспоминаниям о прошлом, о прежней любви, а в финале поэмы «воскресает» сердцем. Иное дело – Алеко. Он вступает с окружающим миром в конфликт острый и непримиримый («его преследует закон», рассказывает отцу Земфира), он порывает с ним всякие связи и не помышляет о возвращении назад, а его приход в цыганский табор – настоящий бунт против общества.
В «Цыганах», наконец, гораздо определеннее и резче противостоят друг другу патриархальный «естественный» уклад и мир цивилизации. Они предстают как воплощение свободы и рабства, ярких, искренних чувств и «мертвых нег», неприхотливой бедности и праздной роскоши. В цыганском таборе
Все скудно, дико, все нестройно; Но все так живо-непокойно, Так чуждо мертвых наших нег, Так чуждо этой жизни праздной, Как песнь рабов однообразной! (IV, 153)Мысль о нравственном превосходстве анархической вольности цыганского табора над «неволей душных городов» выражена в поэме совершенно недвусмысленно и предельно ясно.
Итак, «естественная» среда в «Цыганах» изображена – впервые в южных поэмах – как стихия свободы. Не случайно «хищные» и воинственные черкесы заменены здесь вольными, но «мирными» цыганами, которые «робки и добры душою». Ведь даже за страшное двойное убийство Алеко поплатился лишь изгнанием из табора. Но сама свобода осознается теперь как мучительная проблема, как сложная нравственно-психологическая категория. В «Цыганах» Пушкин выразил новое представление о характере героя-индивидуалиста, о свободе личности вообще.
«На место внешнего противоречия свободы и неволи («Кавказский пленник») является в «Цыганах» внутреннее противоречие его свободы и их воли…», – афористически точно формулирует суть этой новой ситуации С. Г. Бочаров [12. С. 11]. Отсюда и «перевернутые» отношения героя и патриархального мира.
В «Кавказском пленнике» нравственная свобода покупалась ценою неволи. Напротив, Алеко, придя к «сынам природы», получает полнейшую внешнюю свободу: «он волен так же, как они». В отличие от Пленника, наблюдавшего жизнь горцев со стороны, Алеко готов слиться с цыганами, жить их жизнью, подчиняться их обычаям. «Он любит их ночлегов сени, / И упоенье вечной лени, / И бедный, звучный их язык». Он ест с ними «нежатое пшено», водит по селам медведя, находит счастье в любви Земфиры. Сумеет ли он в столь благоприятных, почти идеальных условиях обрести свободу внутреннюю? Вот главный вопрос, на который должна ответить поэма. Центр тяжести конфликта переносится в глубь человеческой души.
При этом Пушкин крайне озабочен «чистотой эксперимента». Он решительно убирает все случайное, затемняющее суть дела. Суммируем изменения, внесенные им в сюжет «Цыган» сравнительно с «Кавказским пленником».
Жестокие черкесы заменены «мирными» цыганами. Устранен мотив внешней несвободы – рабства героя.
Разрыв героя с цивилизованным обществом представлен как полный и окончательный.
Отсутствует тема неразделенной любви – дополнительная мотивировка его разочарования.
Словом, поэт снимает как будто бы все преграды на пути героя в новый для него мир.
Тем не менее Алеко не дано насладиться счастьем и узнать вкус подлинной свободы. В нем по-прежнему живут характерные черты романтического индивидуалиста: гордыня, своеволие, чувство превосходства над другими людьми. Даже мирная жизнь в цыганском таборе не может заставить его забыть о пережитых бурях, о славе и роскоши, о соблазнах европейской цивилизации:
Его порой волшебной славы Манила дальная звезда, Нежданно роскошь и забавы К нему являлись иногда; Над одинокой головою И гром нередко грохотал… (IV, 154)Главное же – Алеко не в силах побороть мятежные страсти, бушующие «в его измученной груди». И не случайно автор предупреждает читателя о приближении неизбежной катастрофы – нового взрыва страстей («Они проснутся: погоди»).
Неизбежность трагической развязки коренится, таким образом, в самой натуре героя, отравленного европейской цивилизацией, всем ее духом. Казалось бы, полностью слившийся с вольной цыганской общиной, он все-таки остается ей внутренне чуждым. От него требовалось вроде бы совсем немного: чтобы, как истинный цыган, он «гнезда надежного не знал и ни к чему не привыкал». Но Алеко не может «не привыкать», не может жить без Земфиры и ее любви. Ему кажется естественным даже и от нее требовать постоянства и верности, считать, что она всецело принадлежит ему:
Не изменись, мой нежный друг! А я… одно мое желанье С тобой делить любовь, досуг, И добровольное изгнанье. (IV, 155)«Ты для него дороже мира», – разъясняет дочери Старый цыган причину и смысл безумной ревности Алеко.
Именно эта всепоглощающая страсть, неприятие какого-либо другого взгляда на жизнь и любовь и делают Алеко несвободным внутренне. Тут-то и проявляется наиболее ярко противоречие «его свободы и их воли». А не будучи свободен сам, он неизбежно становится тираном и деспотом по отношению к другим. Трагедии героя придается тем самым острый идеологический смысл. Дело, значит, не просто в том, что Алеко не может справиться со своими страстями. Он не может преодолеть узкое, ограниченное представление о свободе, свойственное ему как человеку цивилизации. В патриархальную среду приносит он взгляды, нормы и предрассудки «просвещения» – оставленного им мира. Поэтому он и считает себя вправе мстить Земфире за ее вольную любовь к Молодому цыгану, жестоко покарать их обоих. Оборотной стороной его свободолюбивых стремлений неизбежно оказываются эгоизм и произвол.
Лучше всего свидетельствует об этом спор Алеко со Старым цыганом – спор, в котором обнаруживается полное взаимное непонимание: ведь у цыган нет ни закона, ни собственности («Мы дики, нет у нас законов», – скажет в финале Старый цыган), нет у них и понятия о праве.
Желая утешить Алеко, старик рассказывает ему «повесть о самом себе» – об измене любимой жены Мариулы, матери Земфиры. Убежденный, что любовь чужда всякому принуждению или насилию, он спокойно и твердо переносит свое несчастье. В том, что произошло, он видит даже роковую неизбежность – проявление вечного закона жизни: «Чредою всем дается радость; / Что было, то не будет вновь». Вот этого мудрого спокойствия, безропотного смирения перед лицом высшей силы не может ни понять, ни принять Алеко:
Да как же ты не поспешил Тотчас вослед неблагодарной И хищникам и ей, коварной, Кинжала в сердце не вонзил? . . . . Я не таков. Нет, я не споря От прав моих не откажусь! Или хоть мщеньем наслажусь. (IV, 163)Особенно примечательны рассуждения Алеко о том, что для защиты своих «прав» он способен уничтожить даже спящего врага, столкнуть его в «бездну моря» и наслаждаться шумом его падения. Пассаж этот представляет, конечно, скрытую полемику с Байроном. В поэме «Корсар», которую особенно любил Пушкин, ее главный герой Конрад готов отказаться от побега из плена (хотя наутро его ждет казнь!) только потому, что ему при этом придется умертвить своего злейшего врага, пашу Сеида, но умертвить спящим! И вот поступок, немыслимый для Конрада, кажется Алеко естественным и «нормальным».
Но мщение, насилие и свобода, думает Старый цыган, несовместимы. Ибо подлинная свобода предполагает прежде всего уважение к другому человеку, к его личности, его чувству. В финале поэмы он не только бросает Алеко обвинение в эгоизме («Ты для себя лишь хочешь воли»), но и подчеркивает несовместимость его убеждений и нравственных принципов с подлинно свободной моралью цыганского табора («Ты не рожден для дикой доли»).
Смелый и неожиданный вывод, к которому приходит Пушкин в «Цыганах», состоит, следовательно, в том, что истинная свобода романтическому герою не по плечу!
Надо сказать, что вопрос о пушкинской оценке Алеко – один из спорных в нашем литературоведении. С. М. Бонди, например, увидел в поэме «разоблачение романтического героя», его «эгоистической сущности» [14. С. 42, 26]. Против формулы о развенчании Алеко решительно выступил другой виднейший пушкинист – Б. В. Томашевский, назвавший ее «ложной традицией».
«Задача Пушкина, – утверждал он (и это, конечно, ближе к истине!), – не “развенчание” героя, а изображение его трагической безысходности» [5. С. 631]. Примечательно, впрочем, что оба исследователя не видят особой разницы между развенчанием, деромантизацией героя и его обличением или разоблачением.
С другой стороны, Ю. В. Манн подчеркивает: Алеко принес в табор «высокий критерий общественной гармонии, который не выдерживает цыганская среда». Для героя-романтика потеря возлюбленной равнозначна «крушению мира». Совершенное им убийство выражает поэтому не только его разочарование в дикой вольности, но и бунт против миропорядка. Нельзя, значит, объяснять его преступление властью собственнических страстей, принесенных из цивилизованного мира [7. С. 84–85]. Но и такое – в целом более глубокое объяснение – представляется недостаточным и несколько абстрактным. Ведь высокие идеалы и критерии общественной гармонии не мешают Алеко прямо заявлять о своих правах на Земфиру; не сомневается он и в праве (отнюдь не только моральном!) покарать соперника, отнявшего у него подругу. Спасаясь от преследующего его закона, он не может представить себе уклада жизни, который не регулировался бы законом и правом. Любовь для него, если вспомнить слова Д. С. Мережковского, не «прихоть сердца», как для Земфиры и Старого цыгана, а брак. Ибо Алеко «отрекся лишь от внешних, поверхностных форм культуры, а не от внутренних ее основ» [15. С. 113, 114].
Можно говорить, очевидно, о двойственном, критическом и одновременно сочувственном, отношении автора к своему герою, ибо с характером героя-индивидуалиста у поэта, напомним, были связаны освободительные стремления и надежды. Деромантизируя Алеко, Пушкин отнюдь не обличает его, но раскрывает трагизм его стремления к свободе, неизбежно оборачивающийся внутренней несвободой, таящей в себе опасность эгоистического произвола. Позиция романтического индивидуализма лишается, так сказать, абсолютной истинности, но за ней сохраняется относительная правота: она оправдывается законностью и необходимостью протеста против общества. Достаточно вспомнить завершающее поэму сравнение Алеко с покинутым журавлем, которое не может не вызвать к нему чувства острой жалости.
Не меньшие разногласия вызывает и вопрос об авторском отношении к «естественной» среде. «Цыганская община, конечно, не более как идеализированный образ “золотого века”…», – писал Б. В. Томашевский [5. С. 625]. Принципиально иную точку зрения отстаивал С. М. Бонди, утверждавший, что Пушкин в «Цыганах» развенчивает не только «традиционного романтического героя-свободолюбца», но и «романтический идеал абсолютной свободы». Свободные цыганы, по его мнению, «свободны лишь потому, что они “ленивы” и “робки душой”, примитивны, лишены высоких духовных запросов» [8. С. 454]. Деромантизирована в поэме, полагает С. М. Бонди, даже свободная цыганская любовь, ибо она «оказывается страстью, не создающей никаких духовных связей между любящими, не налагающей на них никаких моральных обязательств» [8. С. 453–454]. Однако, как мы уже видели, пушкинская позиция диалектически сложна и несводима к однозначной формуле.
Суть ведь в конце концов не в том, полностью ли отвечает изображенная в поэме жизнь цыганского табора пушкинскому идеалу. Для положительной оценки цыганской вольности довольно и того, что она нравственно выше, чище цивилизованного общества. Другое дело, что по мере развития сюжета обнаруживается: мир цыганского табора, в конфликт с которым с такой неотвратимостью вступает Алеко, тоже не безоблачен, не идилличен. Подобно тому как в душе героя под покровом внешней беспечности таятся «страсти роковые», так и жизнь цыган обманчива на вид. Вначале она кажется сродни существованию «птички перелетной», не знающей «ни заботы, ни труда». «Резвая воля», «упоение вечной лени», «покой», «беззаботность» – так характеризует поэт вольное цыганское житье.
Однако во второй половине поэмы картина резко меняется. «Мирные», добрые, беспечные «сыны природы» тоже, оказывается, не свободны от страстей. Сигналом, возвещающим об этих переменах, служит полная огня и страсти песня Земфиры, не случайно помещенная в самом центре произведения, в его композиционном фокусе [6. С. 331–332]. Песня эта проникнута не только упоением любви, она звучит как злая насмешка над постылым мужем, полна ненависти и презрения к нему.
Столь внезапно возникшая, тема страсти стремительно нарастает, получает поистине катастрофическое развитие. Сразу же выясняется, что неверность Земфиры вовсе не исключение: желая утешить Алеко, Старый цыган рассказывает ему об измене Мариулы и о своем горе. Далее – одна за другой – следуют сцены бурного и пылкого свидания Земфиры с Молодым цыганом, безумной ревности Алеко и второго свидания – с его трагической и кровавой развязкой.
И эта вспышка страстей, вдруг прорвавшая невозмутимо спокойную поверхность мирных будней цыганского табора, вызывает ответную реакцию в душе Алеко. Примечательна сцена ночного его кошмара. Герой вспоминает прежнюю любовь (он «другое имя произносит»), тоже, вероятно, разрешившуюся жестокой драмой (возможно, убийством возлюбленной). Видение Алеко не случайно: он почувствовал себя в аналогичной ситуации. Страсти, доселе укрощенные, мирно дремавшие «в его измученной груди», мгновенно пробуждаются и вспыхивают жарким пламенем. Эта сшибка страстей, трагическое их столкновение и составляют кульминацию поэмы. Не случайно, что во второй половине произведения драматическая форма становится преобладающей. Именно здесь сосредоточены почти все (кроме одного) драматизированные эпизоды «Цыган».
Первоначальная идиллия цыганской вольности рушится под напором буйной игры страстей. Один из главных итогов «Бахчисарайского фонтана» оказался важным для Пушкина и в «Цыганах». Страсти осознаются в поэме как всеобщий закон жизни. Они живут повсюду: «в неволе душных городов», и в груди разочарованного героя, и в вольной цыганской общине. Скрыться от них невозможно, бежать бессмысленно. Отсюда безнадежный вывод в эпилоге: «И всюду страсти роковые, / И от судеб защиты нет» (IV, 169). Слова эти точно и ясно выражают идейный итог произведения (а отчасти и всего южного цикла поэм) и не нуждаются в каких-либо особых истолкованиях.
Заметим: обычная цель такого рода истолкований – доказать, что страсти привнесены в цыганскую общину извне. «Бедствие пришло в это вольное племя со стороны цивилизации. Вторжение “ложных страстей” разрушило счастье первобытных кочевников…», – утверждает Б. Г. Реизов. И далее, анализируя заключительные строки поэмы, он пишет: “Между вами” не значит “у вас”. В эпилоге Пушкин становится на точку зрения того, кто готов был бы бежать из общества в пустыню. Попытка Алеко освободиться от власти общества безнадежна: он принес с собою в табор свои “страсти роковые”, свои “мучительные сны”, которые не мог забыть за два года “вольной” жизни. Бегство невозможно» [16. С. 32]. Иная, убедительная и верная трактовка эпилога предложена Н. В. Фридманом. По его мнению, слово «и» здесь равнозначно «даже». Оно подчеркивает, «что в “первобытной” среде, где, казалось бы, не должно быть никаких душевных катастроф и трагедий, они все-таки есть». И далее: «Те же “роковые” страсти, по мысли Пушкина, бушуют и в “первобытном” мире; здесь они становятся менее злыми и жестокими, но остаются такими же напряженными и властными» [10. С. 113, 119].
Гораздо глубже, нежели в предшествующих поэмах, раскрывается в «Цыганах» и нравственная неоднородность «естественной» среды. Впервые на это обратил внимание И. В. Киреевский в известной статье «Нечто о характере поэзии Пушкина» (1828). Предположив, что поэт хотел представить жизнь патриархальной цыганской общины как воплощение «золотого века», критик спрашивал: согласуется ли легкомыслие и неверность цыганских жен с нравственным совершенством народа? Типичен или исключителен характер Старого цыгана? (см. [17. С. 50]).
Сами по себе вопросы эти чрезвычайно важны. Однако же противопоставление добродетельных мужей и легкомысленных жен представляется несколько надуманным: ведь Молодой цыган столь же страстен и пылок, как Земфира. Добродетельны в поэме, конечно же, не все цыгане, а лишь один из них – отец Земфиры. Удивлять нас это не должно: и в предыдущих поэмах Пушкин неизменно наделял главных героев какими-то особенными качествами, вовсе не характерными для их окружения. Исключителен в поэме Алеко, исключителен и Старый цыган.
В противоположность своим соплеменникам, живущим страстями, повинующимся зову сердца, легко теряющим и столь же легко обретающим подруг, он верен своей первой и единственной любви – Мариуле. Ее измена не только глубоко ранила его, но (вспомним Черкешенку или Гирея) привела к охлаждению и разочарованию. «С этих пор / Постылы мне все девы мира», – признается он Алеко.
Мало того, Старый цыган выступает в поэме как своего рода интеллигент – хранитель родовой памяти и патриархальной нравственности. Это он рассказывает Алеко старинное предание о сосланном Овидии, он вершит над ним нравственный суд и выносит беспощадный приговор. Наконец, Старый цыган проповедует мысль о необходимости спокойного и добровольного подчинения неизбежным и вечным закономерностям бытия – мысль, чрезвычайно близкую самому Пушкину.
Таким образом, антитеза природы и цивилизации как будто бы внутренне ослаблена (повсюду бушуют страсти, всюду есть люди, возвышающиеся над средой). Но в то же время она и усиливается благодаря контрастному сопоставлению исключительных героев – лучших представителей обоих миров. И подобно тому как цыганский табор (при всех своих минусах) нравственно выше европейского мира, так и Старый цыган в моральном отношении выше даже лучшего из сынов цивилизации. «Гордому» индивидуализму противопоставляет он «смиренную вольность», которая «ограничивается естественными этическими нормами, требующими безусловного уважения к свободе другого человека» [9. С. 247].
Тем не менее нравственные позиции обоих героев – при всей их противоположности – как бы дополняют друг друга. По мысли поэта, высшая, но несколько абстрактная мораль Старого цыгана, правомерная в «естественных» условиях кочевого табора, его проповедь безусловного и безропотного подчинения неизбежным и вечным закономерностям бытия, его защита «смиренной вольности» не могут быть безоговорочно приняты человеком цивилизованного мира. В своем протесте против господствующих нравов, общественного деспотизма, в своем отрицании существующего порядка вещей, наконец, в своем стремлении к свободе он вынужден становиться на путь индивидуалистического бунта. Но оборотная сторона индивидуализма – внутренняя несвобода личности, губительная для нее самой, опасная для других.
Так завязывается в «Цыганах» узел трагически-неразрешимых противоречий. И трагический колорит последней из южных поэм тем сильнее, что – как выясняется в ходе действия – полная свобода цыган тоже не приносит им счастья. Несчастлив Алеко, но несчастлив и Старый цыган, которому после измены Мариулы «постылы» «все девы мира» (см. [14. С. 49]). И это закономерно: там, где живут страсти, должны быть и их жертвы – люди страдающие, охлажденные, разочарованные. Свобода сама по себе еще не гарантирует счастья. Бегство от цивилизации бессмысленно и бесперспективно.
Эта трагическая антиномия – необходимость приятия мира как такового, жизни «вообще» и невозможность принять данное конкретное общество – становится, как отмечалось уже в разделе о лирике, центральной для зрелого пушкинского творчества. Именно в «Цыганах» она впервые получает глубокое и яркое воплощение. Попытки разрешить конфликт между действительностью и современностью, между разумно-прекрасной сущностью мира и «жестоким веком» вновь и вновь возвращают поэта к проблемам естественности и культуры. Поиски их синтеза и означают для него попытку (точнее – одну из попыток) построения целостного мировоззрения.
Значит, хотя идейные итоги южных поэм и заключают в себе полемику с учением Руссо, нет основания говорить об их последовательном антируссоизме. Антируссоистской была, конечно, мысль, что цивилизованному человеку нет возврата назад, что ему не найти спасения в условиях «дикой» вольности, что «роковые страсти» и трагические противоречия неизбежны в любой среде. Вместе с тем сочувственное, во многом идеализированное изображение «естественного состояния», признание его нравственного превосходства над цивилизованным обществом, мечта о синтезе «природы» и культуры – все это было несомненной данью руссоистским идеалам.
В дальнейшем отношение Пушкина к патриархальной общине становится более скептическим и трезвым. Показательна в этом смысле неоконченная поэма «Тазит» (1829–1830). Воспитанный в духе европейско-христианской морали, ее герой – воплощение гуманности и нравственности – еще резче, нежели Черкешенка или Старый цыган, выделяется среди своих соплеменников. «Естественные» герои прежних поэм вовсе не чувствовали себя бесправными или отверженными. Тазит вступает со своим окружением в непримиримый конфликт, превращается в изгоя и отщепенца. Ему приходится бежать из родного аула, от гнева отца точно так же, как Алеко от преследующего его закона. Тазит становится «лишним человеком» в патриархальной среде, которая тем самым как бы уравнивается в нравственном отношении с цивилизованным миром. И «дикость», и цивилизация в равной мере враждебны лучшим своим представителям – людям исключительным в культурном или нравственном отношении. Вот уж поистине – «и от судеб защиты нет»!
Следовательно, скорее «Тазит», а не «Цыганы» и уж тем более не «Кавказский пленник» может быть признан поэмой последовательно антируссоистской. Но и в позднейших произведениях («Путешествие в Арзрум», 1835; «Джон Теннер», 1836), рисуя первобытно-патриархальный мир без всяких прикрас, Пушкин неизменно подчеркивал все же поэтичность «дикой вольности» в сравнении с сухой и прозаической жизнью современного цивилизованного общества (прежде всего буржуазного). Соответственно и синтез естественности и культуры как условие гармонического развития личности продолжает сохранять для Пушкина значение духовно-нравственного идеала.
Тут мы подходим к одному из наиболее глубоких и принципиальных различий между южными поэмами Пушкина и восточными поэмами Байрона.
Разочарование Байрона тотально, оно – следствие неудовлетворенности поэта любыми формами человеческого общежития, современностью вообще, жизнью вообще. Ни о каком синтезе природы и цивилизации у него не может быть и речи. Единственной реальной ценностью для поэта остается исключительная, сильная, титаническая личность. Понятно, что и герои Байрона вовсе не стремятся найти вдали от общества успокоения или «отрадной тишины». В противоположность Пушкину с его двойственным, настороженно-недоверчивым отношением к страстям, Байрона и его героев отличает подлинный культ пламенной, всепоглощающей страсти. А экзотическая среда – лишь наиболее подходящая сфера для выявления их бурных, ничем не скованных эмоций, их неиссякаемой волевой активности.
Пламенные мятежники, байроновские герои не знают ни минуты покоя, они жаждут немедленного, беспрерывного действия, борьбы и живут лишь местью тому обществу, которое они отвергли или которое их отвергло. Отсюда их внутренняя неизменность, твердость и определенность их характеров, резкость психологических очертаний. Мы встречаемся с ними «в момент, когда формирование их внутреннего мира завершено». Следовательно, «действие поэм происходит после того, как мятежные черты героя, его духовное одиночество и внутренняя исключительность определились» [3. С. 106].
Напротив, герои Пушкина-романтика измучены страстью, мечтают о покое и отдохновении. Рядом с байроновскими персонажами они кажутся бездейственными и пассивными. Само их положение невольника или рядового члена цыганской общины разительно отличается от положения байроновских героев – главарей, вожаков, предводителей, повелевающих покорной и безропотной массой. Не в борьбе видят свое назначение Пленник или Алеко, но в поисках смысла жизни, возможностей нравственного возрождения или обновления. Иными словами, последовательному и крайнему индивидуализму Байрона противостоит у Пушкина изверившийся в индивидуализме герой, который ищет духовно-нравственные ценности за пределами индивидуалистического сознания.
В отличие от героев «восточных» поэм, персонажи «южных» поэм разочарованы не вполне, не до конца. Соприкосновение с другим миром, культурой, природой, людьми, пережитые потрясения и испытания – все это не проходит для них бесследно, стимулирует их духовно-нравственную эволюцию, изменяет их внутренний облик. И эта открытость миру, многообразию жизни, способность к развитию – принципиально важная и характерная черта пушкинских героев (см. [3. С. 111–114]).
Очевидное несходство романтических поэм Байрона и Пушкина ясно свидетельствует не только о меньшей выраженности собственно романтических тенденций в произведениях русского поэта, но и о рано определившемся тяготении Пушкина к «поэзии действительности». Интенсивное взаимодействие романтических и реалистических начал, их глубинное единство составляют, как мы сейчас убедимся, важнейшую особенность пушкинского творчества последующей поры.
1974, 1993
Литература
1. Вяземский П. А. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1982.
2. Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин // Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин; Пушкин и западные литературы. Л., 1978.
3. Фридлендер Г. М. Поэмы Пушкина 1820-х годов в истории эволюции жанра поэмы в мировой литературе (К характеристике повествовательной структуры и образного строя поэм Пушкина и Байрона) // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 7. Л., 1974.
4. Письмо к А. И. Тургеневу от 27 сентября 1822 г. // Остафьевский архив. Т. II. СПб., 1899.
5. Томашевский Б. В. Пушкин. Кн. 1 (1815–1824). М.; Л., 1956.
6. Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1813–1826). М.; Л., 1950.
7. Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М., 1976.
8. Бонди С. М. Поэмы Пушкина // Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 3. М., 1975.
9. Слонимский А. Л. Мастерство Пушкина. М., 1959.
10. Фридман Н. В. Романтизм в творчестве А. С. Пушкина. М., 1980.
11. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 7. М., 1955.
12. Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. М., 1974.
13. Сандомирская В. Б. «Естественный человек» и общество // Звезда. № 6. 1969.
14. Бонди С. М. О Пушкине: Статьи и исследования. М., 1978.
15. Мережковский Д. С. Пушкин // Пушкин в русской философской критике: Конец XIX – первая половина XX в. М., 1990.
16. Реизов Б. Г. Понятие свободы у Пушкина // Реизов Б. Г. Из истории европейских литератур. Л., 1970.
17. Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979.
«Свободный роман»
1
Суть нового этапа, обозначившегося в творчестве Пушкина после пережитого поэтом в 1823 г. духовного кризиса, видят обычно в преодолении романтизма и переходе на позиции реализма. «Рубежом в творчестве Пушкина, – писал, например, Б. В. Томашевский, – является 1823 год, когда он приступил к созданию “Евгения Онегина”. По мере того как он продвигался в работе над романом, он освобождался от романтических схем, все более утверждаясь в новом, избранном направлении, в “поэзии действительности”… И в дальнейших произведениях Пушкин утверждает жизнь в ее реальных, повседневных формах» [1. С. 171]. Аналогичные суждения находим и в академическом курсе русской литературы. «Прослеженное выше движение Пушкина от южных поэм к роману в стихах и далее – к художественной и исторической прозе, – говорится там, – характеризует основное направление и важнейшие вехи его творческой эволюции. Она была движением не только от романтизма к реализму, но потенциально и к вершинной, самой объемной реалистической форме – социально-психологическому роману» [2. С. 311].
В последующие годы, однако, в эти устоявшиеся представления внесены существенные коррективы. Во-первых, наряду с началом социально-историческим – пафосом «поэзии действительности», утверждением жизни «в ее реальных, повседневных формах», исследователи все более настойчиво подчеркивают в пушкинском стихотворном романе, пушкинском реализме вообще, начала универсальные, общечеловеческие, «вечные» (см., напр. [3]). Во-вторых, все более очевидным становится тот факт, что переход к реализму отнюдь не означает окончательного и полного разрыва с романтической традицией: в «Онегине» и ряде других, более поздних произведений явственно просматриваются многие черты романтических умонастроений, романтической поэтики (см., напр. [4]).
Представляется, однако, что творческая эволюция Пушкина являет собой картину еще более сложную. Движение к реализму предполагало не одно только преодоление романтизма, но также одновременное углубление и развитие его художественных принципов, расширение плацдарма романтизма и – уже как следствие этого – его постепенное сближение с реализмом. В давней (1936 г.) статье Л. Я. Гинзбург убедительно показано, что поэт шел к реализму изнутри романтического миропонимания, романтического метода, что его реалистическая эстетика прорастала из глубин эстетики романтической (см. [5. С. 100]). Сама форма «свободного романа», свободной, «истинно романтической» трагедии означала в глазах Пушкина преодоление не только канонов классицизма (особенно остро эта проблема стала перед ним в ходе работы над «Борисом Годуновым»), но во многом и байроновского влияния, т. е. новое качество его романтического творчества.
Если ранее романтизм связан был для Пушкина прежде всего с байронизмом, едва ли не отождествлялся с ним, то теперь картина меняется. Конечно, Пушкин по-прежнему учитывает художественный опыт Байрона (хотя уже не только автора «Чайльд Гарольда» и «восточных поэм», но также «Дон-Жуана» и «Беппо»), однако круг его литературно-романтических интересов и пристрастий расширяется. Хорошо известен обостренный интерес поэта к драматургии Шекспира (в романтической ее интерпретации), к историческим романам Вальтера Скотта с их «домашним» отношением к истории и мастерством воссоздания «местного колорита», к универсальному творчеству Гете, в котором русский поэт видел классика «новейшего» романтизма, к психологическому аналитизму констановского «Адольфа», наконец, к трудам теоретиков романтизма: А. Шлегеля, Гизо, мадам де Сталь, Б. Констана, Сисмонди (см., напр. [6. С. 489–492; 7. С. 372–391; 8. С. 63, 108]).
Во многом опираясь на высшие достижения писателей-романтиков, на опыт европейской романтической литературы, Пушкин и обосновывает понятие «истинного романтизма», подчеркивает, акцентирует в романтизме черты, по сути дела, сближающие его с реализмом. Поэта все более привлекает теперь широкое, объективное, аналитически точное изображение жизни, искусство создания многомерных и противоречивых человеческих характеров. В плане мировоззренческом это связано с преодолением байроновской односторонности, субъективизма и внеисторичности, с утверждением – в противовес им – необходимости постижения закономерностей бытия, независимых от воли отдельной, даже выдающейся личности; понимания действительности в ее национально-исторической конкретности и определенности; представления о неисчерпаемости и многообразии жизни, сопричастность которым и делает человека свободным.
Можно ли назвать эти идеи и художественные принципы специфичными для реализма? Они, конечно, характерны для реализма, свойственны ему! Но они типичны также и для романтического искусства, вытекают из самого «духа романтизма», если воспользоваться формулой А. Шлегеля. Ибо романтиков как раз и отличает «стремление постичь единую действительность в вечном противоречии ее элементов, в бесконечной пестроте и движении, во взаимодействии смешного, возвышенного и обыденного» [5. С. 99]. Перед нами, так сказать, общая территория романтизма и реализма, область их пересечения и перекрещивания. Вообще, для русской литературы середины 1820–1830-х годов характерна относительность граней между романтизмом и реализмом, обилие переходных, промежуточных форм, что объясняется общностью стоящей перед ними задачи – необходимостью преодоления художественных концепций рационалистически-просветительского толка (см. [9. Стб. 459]).
Дело, однако, не просто в сращенности, слитности романтизма и реализма, в трудности их точного разграничения, но и – в не меньшей степени – в своеобразии и сложности пушкинской позиции. В самом деле, романтизм для Пушкина – это синоним свободы, воплощение мятежа и протеста против застоя и неподвижности жизни. Суть пережитого им духовного кризиса и состояла как раз в том, что возможность осуществления этих идеалов, казавшихся доселе достижимыми, превратилась для него в острую и мучительную проблему. Поэту открывается теперь неодолимая «сила вещей», необходимость принимать в расчет реально существующие обстоятельства и расстановку общественных сил, инерцию вековых привычек и традиций, своеобразие национально-исторической жизни народа. Немалую роль в формировании этих новых представлений сыграла, надо думать, историческая концепция Карамзина (напомним, с каким энтузиазмом были встречены поэтом вышедшие тома его «Истории…»), центральная мысль его труда – о просвещенном самодержавии как исторически естественной для России форме правления (см. [10. С. 107–124]).
Поиски реальных путей воплощения романтического идеала – таков важнейший парадокс, важнейшее противоречие самого пушкинского творчества, во многом предопределившее сопряжение, спаянность в нем романтических и реалистических начал.
Если раньше, в пору южных поэм, поэт вместе со своими героями мечтал найти царство свободы за пределами современного цивилизованного общества, то теперь, убедившись, что «судьба людей повсюду та же», он стремится обрести возможности свободы в границах сущего – в рамках порядка вещей, обусловленного и утвержденного логикой жизненных обстоятельств и национально-исторических традиций. Вот почему в «Евгении Онегине» и «Борисе Годунове», двух величайших созданиях «послекризисной» эпохи, Пушкин обращается к проблеме социального бытия человека и проблеме власти – главнейшим факторам, определяющим, регулирующим границы и возможности личностной свободы.
2
Драматические взаимоотношения личности и ее ближайшего социального круга определяют, в сущности, центральную коллизию пушкинского романа в стихах. Во многих работах, посвященных «Евгению Онегину», настойчиво подчеркивается, что Пушкин-реалист раскрывает зависимость персонажей романа (и прежде всего центральных героев) от среды, что он обнаруживает обусловленность их поведения, характеров и взглядов социальными факторами, что своеобразие и судьба личности объясняется «общественной исторической средой, ее породившей» [11. С. 195]. Действительно, Онегин, Ленский, Татьяна представлены в романе как жертвы неблагоприятных жизненных обстоятельств, сложившихся общественных условий; их трагическая участь выглядит поэтому закономерной. Причем именно многогеройность романа усиливает впечатление неизбежного трагизма судеб центральных персонажей.
Вместе с тем все более ясным становится, что сама степень «сцепленности» героя и обстоятельств была в пушкинском романе иной, не столь безусловной и жесткой, как в последующих реалистических произведениях. Справедливо возражая против излишне прямолинейного утверждения Г. А. Гуковского, что «личность в системе Пушкина выводится из среды» [11. C. 242], И. М. Тойбин замечает: «В произведениях Пушкина акцент ставится не на изображении среды самой по себе (“нравы”, “интересы”, “имущественные отношения” и т. д.) и не на тщательном выявлении психологических и социальных мотивировок или аналитическом исследовании причинных связей. Все это в художественной системе пушкинского творчества присутствует лишь в качестве некоей общей основы…» [12. С. 43] В. С. Баевский пришел к выводу об «избирательности мотивировок» в стихотворном пушкинском романе, позволяющей оставлять без объяснения многие особенности образа жизни, характера и поведения героев [13. С. 134–136].
В самом деле, в «Евгении Онегине» изображается не среда как таковая, не механизм имущественно-сословных отношений, в которые необратимо втянуты персонажи, их помыслы, поступки, действия, но скорее социально-бытовой уклад и национально-характерный фон жизни центральных героев. Конечно, он способствует объяснению характеров, но все же объясняет их далеко не до конца. Немалое значение, как известно, придавал Пушкин природным задаткам и свойствам, самой натуре человека (см. [14. С. 86–87]). Однако ведь и в южных поэмах для Пушкина была несомненна (хотя и обозначена, разумеется, куда более абстрактно) связь нравственного, психического облика героя с образом его жизни, особенностями общественного уклада.
Во-вторых, этот социально-бытовой уклад – и в поместном, и в великосветском своем варианте – предстает в романе не как что-то однозначно отрицательное. Поэт различает в нем две стороны, две грани. Так, великосветское общество, само по себе пустое и праздное, открывает в то же время возможность приобщения к высотам европейской культуры, обостряет личностное самосознание, чувство чести и человеческого достоинства. Точно так же и усадебный мир в «Онегине» – это, конечно же, общество примитивных, ограниченных крепостников-помещиков, но это и жизнь на лоне природы, в согласии с вековыми народно-патриархальными традициями, овеянная поэзией старины, столь близкой романтическому сознанию (см. [15. С. 261, 348]).
И наконец, самое главное: как ни велика власть общественных условий над человеком, она, по мысли поэта, все же не беспредельна. Утвердившееся в эпоху реализма представление о связи личности и общества, о зависимости человека от окружающих условий уживается в пушкинском романе с идеей независимости от них, с мыслью о возможности и необходимости возвыситься над средой, ибо полное слияние с нею, растворение в ней означают духовную гибель личности. Способность подняться над окружением, быть непохожими на других – важнейшая отличительная черта главных героев романа. Недаром они предстают под пером Пушкина как «типические исключения» (В. О. Ключевский) и в этом смысле – как прямые наследники героев его романтических, «южных» поэм. Можно сказать даже, что требование освободиться от влияния среды (если все-таки пользоваться этим термином), преодолеть силу ее притяжения выступает в романе как нравственный императив поэта: мысль о гибельном воздействии дворянского общества – светского «омута» или поместного болота, – необходимость возвыситься над ничтожностью его повседневного существования проходит красной нитью через весь роман.
Более того, своих любимых героев поэт судит как раз за то, что в решающие минуты жизни они не выдерживают испытания и уступают давлению окружающего мира, подчиняются его власти, его предубеждениям, предрассудкам, нормам. И как же дорого расплачиваются они за это! Страшась «общественного мненья», Онегин выходит на роковой поединок и после мучится виденьем «окровавленной тени». Ленский, «не имев, конечно, охоты узы брака несть», становится тем не менее женихом Ольги и – в вероятной перспективе – заурядным помещиком. Татьяна, выйдя замуж без любви, по воле матери, обречена жить не только с нелюбимым супругом, но и в глубоко чуждой ей атмосфере большого света.
И все же именно с главными героями произведения, с их характерами и судьбами связывает Пушкин решение центрального вопроса – о возможности духовной и нравственной свободы в современном ему обществе. В ходе романа Онегин и Татьяна становятся духовно все более независимыми от своего непосредственного окружения, они – каждый по-своему – вбирают, впитывают в себя лучшие черты первоначально чуждого им уклада: петербургского большого света (Татьяна) или патриархальной русской деревни (Онегин). И в этом отношении они опять-таки сопоставимы с героями южных поэм, где, как мы видели, поэт также пытался нащупать возможности синтеза двух противоположных начал: европейской культуры и патриархальной «естественности».
Именно сочетание внутренней свободы, естественности и утонченной светскости придает Татьяне особое очарование и нравственное величие в финальной главе романа. Соприкосновение с народно-патриархальным миром и сроднившейся с ним Татьяной побуждает Онегина внести серьезные коррективы в свою, казалось бы, незыблемую холодно-скептическую позицию, дает первый импульс его последующей духовно-нравственной эволюции. И если в романтических поэмах проблема синтеза «природы» и «культуры» оставалась нерешенной и даже трагически неразрешимой, то в «Евгении Онегине» – на русской национально-патриархальной почве – ее разрешение, гармоническое сочетание противоположных начал представляются уже вероятными или, по крайней мере, осуществимыми в принципе.
Так в рамках социальной необходимости, в условиях неизбежной зависимости от общества вырисовываются в сюжете пушкинского романа перспективы и возможности «самостоянья человека», горизонты его личностной свободы.
3
Почему же человек, зависимый от обстоятельств, принадлежащий определенному общественному укладу и социальному кругу, способен возвыситься над ними, освободиться от их безусловной власти? Дело в том, что личность в представлении поэта формируется не только под воздействием непосредственного окружения и конкретных общественных условий. Она обусловлена также широким бытийным контекстом, культурной традицией, связана с универсумом, мировым целым. Более того, ценность человеческой личности, представлялось Пушкину, определяется прежде всего ее способностью преодолеть притяжение малого жизненного круга, мерой ее приобщенности к универсальному и вечному, высшим жизненным ценностям – природным, культурным, духовно-нравственным, к вихревому круговращению жизни, безостановочному ее движению.
Как известно, напряженный интерес к миру и личности, к жизни человеческого духа в их динамике, непрерывной изменчивости и стремительном развитии, в процессе вечного становления и обновления составляет одну из важнейших отличительных особенностей романтического искусства вообще. Противники застывшего, отвердевшего, неподвижного, романтики поэтизируют текучесть всего сущего, в то время как писателям-реалистам с их социально-аналитическим пафосом, жаждой всестороннего постижения действительности открывается поэзия повседневного и обыденного, необходимость художественного исследования любых, в том числе устоявшихся и определившихся форм жизни.
Парадоксальность пушкинского романа как раз и заключается в совмещении изменчивости и устойчивости: мир предстает здесь в непрерывном движении, которое носит, однако, особый, возвратно-циклический характер. Причем в этот грандиозный космический цикл органично включается и круг индивидуального человеческого существования, и «оборот кругообразный» общественно-исторического бытия. «Историческое время в романе, – говорится в указанной уже статье И. М. Тойбина, – постоянно “сопрягается” с природным, вписывается в нечто вечное, постоянное, устойчивое. За быстротекущими, “скачущими” ритмами повседневных дел и событий проступает мерно-величавый ход природы с ее круговоротом времен года, сменой дня и ночи, с ее устойчивыми закономерностями движения и постоянства, жизни и смерти, обновления и традиционности» [16. С. 93]. Но и в самом вечном, природном, устойчивом поэта тоже захватывает стремительность движения!
Действительно, регулярная смена времен года, череда «вытесняющих» друг друга поколений, заново проходящих предначертанный круг жизни, повторяющиеся фазисы человеческого существования, диалектика жизни и смерти, молодости и старости, старины и новизны, круговращение исторических эпох и связанные с ним изменения моды, привычек, вкусов, культурных ориентаций и литературных образцов, воспоминания о прошлом и мысли о будущем самого «автора» – бесконечное пересечение всех этих тематических рядов составляет главное содержание так называемых «лирических отступлений» романа. Причем акцент неизменно ставится не на описании того или иного события или предмета, но на факте его изменения, перехода от одного состояния к другому:
Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало, Короче становился день… и т. д. (гл. 4, строфа XL)В самых известных, хрестоматийных пушкинских пейзажах живет острое ощущение неостановимого бега времени:
Но наше северное лето. Карикатура южных зим. Мелькнет и нет: известно это, Хоть мы признаться не хотим. (гл. 4, строфа XL) Но лето быстрое летит. Настала осень золотая. ………………………… Вот север, тучи нагоняя, Дохнул, завыл – и вот сама Идет волшебница зима. (гл. 7, строфа XXIX) Дни мчались; в воздухе нагретом Уж разрешалася зима… (гл. 8, строфа XXXIX)Подобное же сопоставление времен, продиктованное сознанием непрерывности и неизбежности свершающихся перемен, сразу же обнаруживается при соприкосновении с любым предметным слоем пушкинского романа:
Мне памятно другое время! (гл. 1, строфа XXXIV) Мазурка раздалась. Бывало… ……………………………….. Теперь не то… (гл. 5, строфа XLII) Свой слог на важный лад настроя, Бывало, пламенный творец… ……………………………….. А нынче все умы в тумане… (гл. 3, строфы XI, XII)Такого рода примеры можно множить до бесконечности.
В эту грандиозную движущуюся панораму – картину стремительно изменяющегося мира – вписаны взаимоотношения и судьбы героев, рассказ о которых во многом строится на тех же динамических сопоставлениях и мгновенных сближениях.
Своего рода движение по кругу образует, к примеру, развитие взаимоотношений центральных персонажей. Так, история Онегина и Татьяны, словно бы меняющихся местами в сюжете романа, построена, как известно, по принципу зеркального отражения (см. напр. [11. С. 268–271; 17. С. 195–198]). «Обратная симметрия» обнаруживается и в расстановке обеих любящих пар (глубина, искренность чувств Татьяны и холодность Онегина, серьезное, искреннее чувство Ленского – и легкомыслие Ольги) (см. [17. С. 185]). Финальное описание одесского дня «автора» контрастно соотнесено с описанием дня Онегина в первой главе и тем самым обрамляет, охватывает произведение, намечая для героя перспективы иного варианта жизненного пути (см. [3. С. 28–34]).
Вообще, действие романа в целом «продвигается среди многих возможностей, потенциальных вариантов, которые в ходе повествования непрерывно автором намечаются вокруг осуществляющегося сюжета» ([18. С. 93], ср. [19]); сущее и возможное все время как бы отражаются одно в другом.
Вот Ленский – вчерашний геттингенский студент, а ныне «помещик новый» и счастливый жених. Поразительно, но даже внезапная гибель юного мечтателя стимулирует авторские размышления о том, каков был бы его завтрашний день, что ожидало бы его в будущем. Эпохи жизни Ленского, варианты его судьбы сталкиваются, сопоставляются, бросают друг на друга отсвет, рождают предположения о таящихся в его душе возможностях – принцип, во многом определяющий композиционное развертывание романа.
Еще более стремительны и внезапны душевные превращения Татьяны – сначала «мечтательницы нежной», затем страстно влюбленной и страдающей уездной барышни, наконец, величавой петербургской княгини – «законодательницы зал». Причем резкость и неожиданность происходящих перемен отмечены особо: «…Открылись очи; / Она сказала: это он!» (гл. 3, строфа VIII); «Как изменилася Татьяна!» (гл. 8, строфа XXVIII). И опять-таки: по ходу повествования обозначены другие возможности жизни героини: «Была бы верная супруга / И добродетельная мать» (гл. 4, письмо Онегину); «А счастье было так возможно, / Так близко!..» (гл. 8, строфа XLVII) [18. С. 94].
Напомним, что обостренный интерес к скрытым возможностям человека и его судьбы, к диалектике возможного и сущего – черта, в высшей степени характерная для романтической эстетики. По словам Н. Я. Берковского, «возможности, а не заступившая уже их место действительность – вот что важно было для романтиков». Ибо «возможности даны во многих вариантах. Если какая-то из них стала реальностью, то нет нужды возводить ее в догмат» [20. С. 37]. Этот интерес к возможному в значительной мере определяет своеобразие художественного метода пушкинского романа в стихах и, в частности, особое положение в нем героя-автора.
4
В каком же отношении находится «автор» к центральным персонажам романа? С одной стороны, определенно подчеркнута его безусловная «разность» с ними, в том числе и с Онегиным; с другой – столь же несомненна их внутренняя близость. Недаром ведь персонажи представлены в романе как близкие знакомцы «автора». В свою очередь, и сам он, выступающий – в одном из своих ликов – как персонаж, сближен с героями, «придвинут» к ним. Граница между ними оказывается подвижной, зыбкой, несколько размытой (см. [21. С. 18–19]).
Можно сказать, что в облике «автора» сконцентрированы те духовно-нравственные свойства, воплощен тот тип отношения к жизни, к которому лишь постепенно, исподволь приближаются его герои и который сохраняет для поэта значение идеала, жизненной нормы.
По словам Ю. Н. Тынянова, пушкинский роман «сплошь литературен». Его «герои и героини являются на фоне старых романов как бы пародическими тенями» [22. С. 66]. Действительно, Онегин, Ленский, Татьяна настойчиво соотносят самих себя и окружающих с известными литературными образцами, пытаются формировать свою личность, строить свою судьбу наподобие любимых литературных героев. Столкновение с реальностью для них, воспитанных на «обманах» литературы, оказывается болезненным, подчас трагичным. Недаром взаимоотношения центральных персонажей – это в значительной мере драма непонимания. Герои романа во многом становятся жертвами собственных предубеждений, априорно-схематических представлений о жизни. Между тем подлинная свобода, по убеждению поэта, предполагает, в частности, высвобождение из-под власти стереотипов, требует иного, самостоятельного взгляда на мир – трезво-критического и возвышенно-идеального в одно и то же время.
Отсюда – сложная система притяжений и отталкиваний героев и автора, разные формы «диалогического контакта» между ними, отмеченные М. М. Бахтиным в работе «Из предыстории романного слова». Так, автор «видит ограниченность и неполноту онегинско-байронического мировоззрения и стиля», а в то же время «он не только изображает этот “язык”, но в известной мере и сам говорит на этом “языке”»; «другими словами, автор находится в диалогическом отношении с языком Онегина; автор действительно беседует с Онегиным, и эта беседа – существенный конститутивный момент как всего романного стиля, так и образа языка Онегина» [23. С. 412, 413].
Примечателен в этом смысле и двоякий, тоже «диалогический» финал произведения. «Пушкин заканчивает роман рассказом от автора, обрывая его, как он оборвал в восьмой главе историю Онегина, – заметил Ю. Н. Чумаков. – Истинный финал романа, светящийся упоением и счастьем, не отменяет горестно-щемящего финала восьмой главы, но, взаимодействуя с ним, создает сложное, трагически-просветленное (амбивалентное) звучание» [3. С. 12]. С другой стороны, такого рода «двойной финал» вновь возвращает читателя «к прошлому “автора” и Онегина с тем, чтобы выявить новый, до поры скрытый, нереализованный вариант судьбы героя, обнажить непредвиденные возможности жизни, иных, чем в восьмой главе, решений» [16. С. 98].
Но если судьба (и позиция) «автора» – это возможный вариант судьбы героя, значит, их противостояние относительно. Тем более что в «лирическом» времени романа перед нами изменившийся автор, который «в настоящем уже не совсем таков, как в прошлом» [24. С. 318]. И напротив: «событийное» время персонажей выступает в «Онегине» как прошлое «автора», как уже пройденный, но все еще дорогой и памятный этап его жизни. Поэтому персонажи раскрываются не только сюжетно – в цепи их поступков, мыслей и чувств, но и лирически – как воплощение прошлого душевного опыта автора, как предмет его раздумий и глубоко личных переживаний.
Все это позволяет – вслед за Ю. Н. Тыняновым – говорить о лирическом принципе организации романа в целом (а не просто о присутствии в нем лирического начала) и – в этом смысле – о его глубинной связи с романтической поэтикой (см. [24. С. 316–317], ср. [22. С. 58]). Можно сказать даже, что в «Онегине» несомненно присутствует второй, лирический сюжет («макросюжет»), внутрь которого погружена собственно фабульная, событийная канва романа.
Действительно, если Онегин – это как бы прошлое герояавтора (о чем свидетельствуют не только многочисленные автобиографические штрихи в его обрисовке, не только сам факт их дружбы, их былая близость, взаимопонимание, сходство настроений и взглядов, но и многие признания «автора», из которых явствует, что он тоже прошел в своей духовной эволюции этап скепсиса, разочарованности и охлаждения), то ведь и Ленский, в свою очередь, чем-то напоминает Онегина (и тем самым самого «автора»), каким тот был в дни своей юности. Обратим внимание, к примеру, на такие словесные формулы, характеризующие прошлое Онегина, как «Воспомня прежнюю любовь, / Чувствительны, беспечны вновь…» (гл. 1, строфа XLVII); «Нашед мой прежний идеал» (гл. 4, строфа XIII); «прежний», т. е. наивный, сентиментально-романтический!
Иначе говоря, Ленский, Онегин, герой-автор представляют, в сущности, разные грани единого сознания современного человека вообще, закономерные этапы его духовно-нравственной эволюции. Их внутреннее родство, сцепление их судеб образуют магистральную линию лирического сюжета.
Сказанное позволяет поставить иначе все еще дискуссионный вопрос об эволюции Онегина. Обращение ко второму сюжетному плану показывает: роман построен так, что самые значительные, кардинальные сдвиги в сознании героя происходят как раз за пределами фабульной части. Эпоха романтической наивности (в духе Ленского), испытание страстями, последующее охлаждение и разочарование, крах вольнолюбивых мечтаний во время путешествия по Руси – все это не входит в онегинский сюжет как таковой, но становится достоянием «макросюжета».
Аналогичным образом и эпоха грядущего нравственного возрождения Онегина обозначена в романе внефабульными средствами – как ощущение возможности, как один из вероятных вариантов его дальнейшей судьбы. Конечно же, внутреннее обновление героя, переживающего острый душевный кризис, проблематично: Онегин только подведен к той грани, за которой оно может начаться. И все же принципиальная возможность его преображения (а возможность в романе «является также особой реальностью, наряду с той реальностью, которая осуществляется» [18. C. 59]) несомненна: ведь если Онегин воплощает прошлое героя-автора, то и «автор» в каком-то смысле – будущее героя. И коль скоро «автору» удалось преодолеть разочарование и скепсис, выработать иной, более широкий, истинный и гармонический взгляд на мир, то, очевидно, это не исключено и для Онегина. Дело, однако же, не в личности самого Онегина. Пушкину, повторим, важна прежде всего принципиальная возможность духовного воскресения, перспектива развития современного человека вообще. В сущности, именно об этом и написан роман.
Сопоставление двух типов отношения к жизни (условно говоря – гармонического и дисгармонического), которое в лирике Пушкина предстало как конфликт внутренний, как борьба двух противоположных состояний в душе поэта, обнаруживается и в «Онегине» – как притяжение-отталкивание заглавного героя и героя-автора.
5
Персонифицированная в образе героя-автора, пушкинская позиция воплотилась во всей художественной структуре стихотворного романа, определила его важнейшие конструктивные принципы – такие, как ориентация на «гибридное» «двухголосое» слово (см. [23. С. 142]), «поэтика противоречий», как столкновение и взаимодействие разных точек зрения на действительность, ироническая демонстрация условности и относительности каждой из них (см. [25]).
Скажем, в первой главе романа Онегин обрисован и как обыкновенный светский денди, повеса и франт, и как человек, причастный высотам современной культуры, сопоставимый или связанный с людьми передовых, вольнолюбивых убеждений (Чаадаевым, Кавериным, героем-автором). Читателю предлагаются как бы два различных взгляда на героя, ни один из которых сам по себе не является истинным: верным оказывается и то и другое одновременно или ни то ни другое в отдельности. Точно так же «неподражательная странность» Онегина, глубокое, непритворное разочарование в жизни могут быть истолкованы – и не без основания – как следование модным образцам («москвич в Гарольдовом плаще»), героям современных романов.
Столь же неопределенно, повторим, решается в романе вопрос о последующей судьбе Онегина, возможной участи Ленского. Двойственно оценивается и социальное окружение героев – поместное дворянство, высший петербургский свет.
За видимой несогласованностью, двойственностью оценок угадывается характерное для «Онегина» несовпадение эмпирически-бытового облика персонажа (или любого объекта вообще) и его идеальной, глубинной сути. Напомним, например, что Катенину показалось недостаточно мотивированным, слишком внезапным превращение Татьяны – уездной барышни в Татьяну – светскую даму. Еще более очевидно, что облик провинциального помещика, скромного мечтателя и наивного поэта-романтика, каким представлен в романе Ленский, дает очень мало оснований ждать от него в будущем исторических свершений на благо человечества («Быть может, он для блага мира / Иль хоть для славы был рожден…» – гл. 6, строфа XXXVII). Однако же в «Онегине», подчеркнем еще раз, идеально-сущностный и эмпирически-бытовой пласты бытия прилегают друг к другу гораздо менее плотно, чем в позднейших реалистических произведениях; каждый из них обладает относительной автономией и самостоятельной ценностью.
Даже характеристика отдельного, единичного предмета или явления тоже как будто колеблется, двоится, открывает в нем разные стороны и грани. Так, театр, куда приезжает Евгений, это и эмпирически-конкретный театр, место представления балета Дидло – с усталыми лакеями, бранящимися у подъезда кучерами, франтами, лорнирующими незнакомых дам, и Театр вообще – феномен русской культуры, овеянный славой крупнейших драматургов и актеров, «волшебный край», где все дышит «вольностью». Аналогично построены образы моря, бала (в первой главе), помещичьего дома («старинного замка») – во второй (см. [16. С. 95–97]).
Вообще, вещи в пушкинском романе «движутся от торжественного к обыденному, от трагического к смешному и обратно; они обладают переменной ценностью, определяемой контекстом». Как и у романтиков, каждая вещь оказывается «то смешной, то серьезной, то смешной и серьезной в одно и то же время» [5. С. 102, 104]. Отвечая основам реалистической эстетики, этот художественный принцип может быть рассмотрен и как своеобразная модификация романтической иронии или по крайней мере – как явление, сопоставимое с нею.
Разные стороны предметов, человеческих характеров и судеб, бросая друг на друга колеблющийся отсвет, создают особый, стереоскопический эффект, усиливают впечатление неисчислимого многообразия, неисчерпаемости мира, непрестанной его подвижности, текучести, диалектической противоречивости, его не поддающейся однозначно-рационалистическому истолкованию сложности и бесконечного богатства.
Принцип динамического взаимодействия и взаимоотражения разных сфер бытия обусловил и особый статус художественной реальности «Евгения Онегина», особое ее отношение к внероманной действительности (см. [26]). Не раз отмечались зыбкость, проницаемость границ между ними, возникающий при этом эффект их сближения, перехода одной в другую.
Известно, что авторское «я» в «Онегине» выступает в трех ипостасях, трех ликах – биографической личности, персонажа и творца романа (см. [27]). Но ведь в тех же трех амплуа выступают и его центральные герои! Уже говорилось: Онегин, Ленский, Татьяна представлены как друзья, близкие знакомые автора, который на протяжении всего повествования сохраняет тон непосредственного наблюдателя – человека, находящегося среди своих (С. Г. Бочаров назвал это «идеальным соприсутствием» автора [28]). Тем самым подчеркнута жизненная достоверность, едва ли не документальная точность «романа в стихах» – в противовес романтическим вымыслам прежних созданий его творца («южных» поэм прежде всего).
Не случайно главные герои произведения получают возможность выходить за рамки сюжета, соприкасаться с реальными или, во всяком случае, внероманными лицами: не только с автором как биографической личностью, но и с Кавериным (Онегин в I гл.), Вяземским (Татьяна в VII гл.). В гл. VI изображена некая безымянная горожанка, навещающая могилу Ленского (в качестве персонажа романа) и одновременно (как читательница) размышляющая о судьбе Ленского, Ольги, Онегина (см. [3. С. 10–11]). И наоборот, действующие лица произведений других авторов (Скотинины, Буянов) становятся персонажами пушкинского романа, также способствуя уничтожению границы между реальностью и вымыслом.
Во-вторых, каждый из главных героев выступает в роли творца «своего» романа, ибо в значительной мере строит свою жизнь и судьбу по образцу литературных персонажей, по законам художественной реальности. Различие же между героями и автором состоит в том, что «романы» героев подчеркнуто литературны. Между тем автор – как ни парадоксально – творит роман особого рода – «роман жизни», верный реальной действительности, принципиально отличный от «обманов» в духе «и Ричардсона, и Руссо» или же «небылиц» «британской музы».
С другой стороны, сама действительность также оборачивается «романом». И метафорическая формула «роман жизни» в финальной строфе, весьма характерная, кстати, для романтической эстетики («Роман есть жизнь, принявшая форму книги… Мы живем в огромном (и в смысле целого, и в смысле частностей) романе», – писал, например, Новалис [29. С. 100]), как бы вновь сопоставляет и уравнивает реальность эмпирическую и художественную, мотивирует их обратимость, неизбежность их взаимодействия.
Из сказанного следует, что художественный метод «Евгения Онегина» не может быть определен как безусловно реалистический. Сама пограничность стихотворного пушкинского романа, стоящего как бы на рубеже двух эпох в творчестве Пушкина и русской литературы вообще, обусловила его небывалую художественную сложность, парадоксальную слитность и взаимопроникновение романтических и реалистических начал, трудно поддающихся аналитическому разграничению.
Во всяком случае, роль романтического начала в этом сложном синтезе весьма существенна и еще в полной мере не оценена. Добавим, что немалое значение сохранит оно и в последующем пушкинском творчестве.
1987, 1993
Литература
1. Томашевский Б. Пушкин. Кн. 2: Материалы к монографии (1824–1837). М.; Л., 1961.
2. История русской литературы: В 4 т. Т. 2. Л., 1981.
3. Чумаков Ю. Н. «Евгений Онегин» и русский стихотворный роман. Новосибирск, 1983.
4. Развитие реализма в русской литературе: В 3 т. Т. 1. М., 1972.
5. Гинзбург Л. Я. Пушкин и проблема реализма // Гинзбург Л. Я. О старом и новом: Статьи и очерки. Л., 1982.
6. Винокур Г. О. «Борис Годунов»: Комментарий // Пушкин. Полное собрание сочинений. Т. 7. М.; Л.; Изд-во АН СССР, 1935.
7. Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин; Пушкин и западные литературы. Л., 1978.
8. Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л., 1960.
9. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. Т. 6. М., 1971. (Автор статьи – В. M. Маркович.)
10. Эйдельман Н. Я. Последний летописец. M., 1983.
11. Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957.
12. Тойбин И. М. Вопросы историзма и художественная система Пушкина 1830-х годов // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 6. Л., 1969.
13. Баевский В. С. Сквозь магический кристалл. M., 1990.
14. Храпченко М. Б. Реалистическое обобщение и его формы // Храпченко М. Б. Художественное творчество, действительность, человек. 3-е изд. М., 1982.
15. Лотман Ю. М. Роман Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1980.
16. Тойбин И. М. «Евгений Онегин»: Поэзия и история // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 9. Л., 1979.
17. Благой Д. Мастерство Пушкина. М., 1955.
18. Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. М., 1974.
19. Бочаров С. Г. О реальном и возможном сюжете («Евгений Онегин») // Динамическая поэтика: От замысла к воплощению. М., 1990.
20. Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.
21. Лакшин В. Движение «свободного романа»: Заметки о романе «Евгений Онегин» // Литературное обозрение. № 6. 1979.
22. Тынянов Ю. Н. О композиции «Евгения Онегина» // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
23. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М., 1975.
24. Непомнящий В. Поэзия и судьба: Над страницами духовной биографии Пушкина. 2-е изд., доп. М., 1987.
25. Лотман Ю. М. Своеобразие художественного построения «Евгения Онегина» // Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.
26. Тамарченко Н. Д. У истоков русского классического романа: (Роман в стихах – поэма – повесть в творчестве Пушкина) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 48. № 3. 1989.
27. Винокур Г. Слово и стих в «Евгении Онегине» // Пушкин: Сборние статей. М., 1941.
28. Бочаров С. Форма плана // Вопросы литературы. № 12. 1967.
29. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.
Маленький человек и романтический герой
1830-е годы принято рассматривать как время дальнейшего развития, укрепления и углубления в пушкинском творчестве реалистического художественного метода, время, когда «Пушкин пробивался к художественному постижению социальной сущности человека» [1. С. 326]. И это новое качество пушкинского реализма, новую его фазу (см. [2. С. 8]) исследователи связывают обычно с дальнейшим отходом, отталкиванием поэта от романтизма, с усилением его демократических симпатий, с нарастающим интересом к повседневной жизни обыкновенных людей, а главное – с его обращением к принципиально новому, незаметному герою, к теме «маленького человека», ставшей потом одной из важнейших тем классической русской литературы.
Во многом справедливые, суждения такого рода нуждаются все же в дальнейшем уточнении и конкретизации. Прежде всего следует еще раз подчеркнуть, что и в 1830-е годы пушкинский реализм – это реализм особого типа, реализм, сохранивший живые связи с иными, дореалистическими литературными явлениями и художественными принципами, естественно вобравший в себя начала романтические, сентиментальные, просветительские. И дело тут не только в том, что Пушкин – первый из русских писателей-реалистов – не смог еще до конца «преодолеть» романтизм, что в его творчестве ощутима романтическая «инерция». Существеннее другое: художественный опыт романтизма (и отчасти сентиментализма) был насущно необходим Пушкину для решения важнейших идейно-творческих задач.
Ибо демократическая ориентация Пушкина тоже особого рода. Она, конечно, «парадоксально вытекает из пушкинских представлений об исторической роли дворянства как неразрывно связанного с народом и ответственного за его судьбу» [3. С. 13]. Но она порождена также и представлениями поэта о неминуемом упадке потомственного дворянства при деспотическом режиме, о неизбежности его «омещанивания» и в этом смысле сближения с массой обыкновенных людей (см. [4. С. 222–223]).
Вот почему социально-психологический тип «маленького человека», оказавшийся теперь, в 1830-е годы, в центре его внимания, не просто противостоял возвышенно-романтическому, исключительному герою южных поэм и в какой-то мере «Евгения Онегина», но являлся также его продолжением, видоизменением, его – без преувеличения – инобытием.
Рассмотрим три главных момента, три вехи в раскрытии пушкинской темы маленького человека: «Повести Белкина» (1830), «Медный всадник» (1833), «Капитанская дочка» (1836). Думается, что характеристика романтического подтекста этих, еще во многом неразгаданных произведений не только бросит новый свет на особенности их художественной проблематики и творческого метода, но и позволит обнаружить их внутреннюю связь.
1
«Старинные люди, мой батюшка» – эта фонвизинская фраза, взятая эпиграфом к III главе «Капитанской дочки», может служить своего рода ключом к загадочному циклу белкинских повестей (не случайно ведь и к ним приискан фонвизинский эпиграф), к пушкинской трактовке темы маленького человека вообще. И хотя время действия новелл отнесено к первым десятилетиям XIX в., все же в глазах Пушкина их персонажи – это люди, живущие по-старинному, сохранившие в своем бытовом облике и поведении «привычки милой старины» («Евгений Онегин»).
Мы помним: в «Онегине» отношение Пушкина к патриархальным дворянским нравам было двойственным – сочувственным и критическим одновременно. С сочувствием изображая искренность, простосердечие, доброту провинциальных помещиков (прежде всего семейства Лариных), поэт с едкой иронией рисовал их духовную ограниченность и культурную отсталость, с осуждением говорил об их крепостнических замашках. Причем (как это было у Фонвизина или Грибоедова) крепостничество и жестокость помещиков были поставлены в прямую связь с их патриархальностью и невежеством, с их «непросвещенностью».
В «Повестях Белкина» картина уже иная: жизнь «старинных людей» выступает здесь как положительная (хотя и скрытая) альтернатива «современности» и «просвещению». Именно в пору болдинской осени 1830 г. Пушкин особенно напряженно размышлял о судьбах родовой русской аристократии, которая в современной ему России – вследствие уравнительных петровских реформ – утрачивает свое господствующее положение, сходит с исторической арены и, все больше разоряясь и беднея, превращается «в род третьего состояния». Он необычайно остро ощущал себя «обломком» «униженных» дворянских родов, которым нет места на верхних ступенях сложившейся социальной иерархии. И это неприятие «новизны», «просвещенного века» (ср. горько-иронические строки «Езерского»: «Вы презираете отцами, / Их древней славою, правами / Великодушно и умно, / Вы отреклись от них давно, / Прямого просвещенья ради, / Гордясь, как общей пользы друг, / Ценою собственных заслуг…» и т. д.) (IV, 247) побуждает его теперь идеализировать минувшие допетровские времена – ту легендарную пору, когда родовая аристократия была в силе, – а в современности сочувственно изображать людей, сохранивших приверженность старым традициям, патриархальный (в сущности, средневековый) уклад жизни.
Скрытым противопоставлением «просвещенных» и старых времен, эпох минувших и века нынешнего и определяется прежде всего романтический подтекст «Повестей Белкина», равно как и других пушкинских произведений, посвященных теме маленького человека. (Напомним, что неприятие рассудочно-просветительского взгляда на жизнь, идеализация средневековья с его патриархальными нравами, чуждыми расчета и корысти, духовной разобщенности и взаимного отчуждения, столь характерных для западноевропейского общества нового времени, составляют существенную особенность романтического миросозерцания.) В сознании неизбежности сближения с мещанской средой, разночинной массой, с безвестным множеством рядовых людей, в исторической необходимости своего рода «опрощения» проявляется и сословная гордость Пушкина, и его своеобразный аристократический демократизм, и его романтическое отталкивание от современности.
Возрастающая любовь к «отдаленной старине», крепнущее убеждение, что родовитому русскому аристократу нет другого пути, как стать «дворянином во мещанстве», – все это побуждает Пушкина творить патриархально-дворянскую идиллию, рисовать характеры и нравы «старинных людей» – хранителей национального духа и вековых народных традиций – с нескрываемой симпатией, с явным сочувствием и умилением. Наметившаяся в «Евгении Онегине», эта тенденция впервые получает свое полное и яркое художественное выражение в «Повестях Белкина».
Вот почему о реализме «Повестей Белкина» нужно говорить с большой осторожностью, если понимать под реализмом верность воссоздания действительности в ее главнейших социальных конфликтах и противоречиях.
Как и в романтических «южных поэмах», Пушкин создает здесь особый, замкнутый в себе мир, словно бы отделенный, отграниченный от реальной действительности, Он показывает островки, оазисы русской жизни, где во всей чистоте сохранились еще заветы прошлого, добрые патриархальные нравы (см. [5]).
Правда, мир этот построен по законам, прямо противоположным тем, по каким строилось изображение экзотической среды в южных поэмах. Ни в чем не сходная с бесцветным, буднично-прозаическим цивилизованным обществом, удаленная от него пространственно, географически, она, эта среда, поражала своей необыкновенностью, исключительностью, масштабностью: грандиозными характерами, величественными пейзажами, бурными, неистовыми страстями, кровавыми конфликтами, эффектными драматическими развязками. Напротив, отличительная особенность маленького, по-домашнему уютного белкинского мирка – в его подчеркнутой обыкновенности, непритязательной скромности. Не случайно в изображении незатейливого, мирного существования рядовых, обычных людей Пушкин явно опирается на традиции сентиментализма. Жизнь обыкновенных людей предстает в «Повестях Белкина» как воплощение и торжество нравственной нормы, побеждающей в конечном итоге человечности, как свидетельство крепости традиционных устоев, прочности семейно-родовых уз, дружеских, соседских связей. В этом отношении сюжеты «Повестей» резко контрастируют с сюжетами «Маленьких трагедий», где отец ненавидит сына, а сын отца, где один из друзей из зависти отравляет другого, где вдова, хранящая верность памяти мужа, назначает тайное свидание его убийце, а человек, только что потерявший любимую мать, страстно предается разгулу.
На фоне подобного нравственного «беззакония» особенно рельефно выступает поэзия нормальных человеческих взаимоотношений, простых, естественных, доброжелательных и сердечных: взаимная привязанность Марии Гавриловны Р. и ее родителей, трогательная любовь Самсона Вырина к единственной дочери, «родственная, почти домашняя близость» немцев-ремесленников – соседей мрачного гробовщика Адрияна Прохорова [6. С. 89], здоровое, молодое, свежее чувство, соединяющее Алексея Берестова и Лизу Муромскую.
И это ощущение всеобщей связи людей, внутреннего единства патриархальной среды еще усиливается благодаря сложной системе рассказчиков, многократному пересказыванию, передаче из уст в уста сюжетов, эпизодов, деталей повествования – той атмосфере молвы и предания, которая предполагает, конечно же, известную степень доверия и близости, известное совпадение жизненных взглядов и позиций (см. [7. С. 181]).
Об этом же свидетельствуют и характеры персонажей. В своем большинстве действующие лица повестей – натуры открытые, простые, бесхитростные, вроде тихого, безответного и доверчивого Самсона Вырина, доброго ненарадовского помещика Гаврилы Гавриловича Р., славившегося «во всей округе гостеприимством и радушием». Или же – пылкие, искренние, прямодушные молодые люди типа Алексея Берестова и Бурмина. Или, наконец, чувствительные, мечтательные и нежные уездные барышни, противопоставленные в известном лирическом отступлении «Барышни-крестьянки» («…что за прелесть эти уездные барышни!») «рассеянным» столичным красавицам. С мягкой улыбкой говорит Пушкин о маленьких слабостях юных героев. Их невинное кокетство, наивное следование моде, «интересничанье» (перстень Алексея Берестова с мертвой головой, «военные действия» Марии Гавриловны, цитаты из Руссо в любовном объяснении Бурмина) – все это в его глазах следствие естественного желания молодости пленять, нравиться, иметь успех.
Что же касается демонического Сильвио и угрюмого гробовщика, нрав которого «совершенно соответствовал мрачному его ремеслу», то они представлены в повести как отклонение от нормы, как редчайшие исключения, своей необычностью только подтверждающие правило. Но и в их сознании происходят какие-то сдвиги; намечающие, по-видимому, поворот к «общей жизни», к единению с людьми (см. [8. С. 156–157; 9. С. 68; 6. С. 100]).
Удивительно ли, что в белкинском мире нет, в сущности, почвы для сколько-нибудь серьезных противоречий, антагонизмов, для столкновения непримиримых интересов и роковых страстей? Конфликты возникают здесь в значительной мере случайно, разрешаются в общем благополучно; главное же – они не ведут к разрушению общего строя жизни, а, напротив, способствуют его упрочению, восстановлению традиционных жизненных ценностей и норм.
Так, дерзкое приглашение в гости клиентов-мертвецов, задуманное обиженным Адрияном Прохоровым в пику новым соседям, на деле приводит лишь к более тесному сближению с ними (оно и понятно: ведь никто не думал его обидеть!). Попытка тайно обвенчаться вопреки родительской воле заканчивается тем, что Мария Гавриловна обретает жениха, о котором родители могли только мечтать. А вдвойне счастливый финал «Барышни-крестьянки» (многозначительно завершающий, кстати, весь цикл) обнаруживает беспочвенность давней вражды соседей-помещиков и «отменяет» бунт сына против отца. Как выясняется, и родители, и дети хотят, в сущности, одного и того же. И это вполне естественно, вполне нормально! Перед нами, так сказать, индивидуальный казус, а не типичная ситуация.
Вообще, как проницательно заметил Н. Я. Берковский, неожиданный поворот сюжета, столь характерный для классической новеллы, играет у Пушкина принципиально иную роль. Он означает не победу новых начал, вторгающихся в привычный, сложившийся жизненный уклад, но, напротив, торжество старого, традиционного, устоявшегося [10. С. 257, 264]. Игра случая, поясняет далее свою мысль исследователь, нужна совсем не блестящему гусарскому полковнику Бурмину, но бедному прапорщику Владимиру. Однако случай, «этот бог классической новеллы», помогает именно Бурмину! (см. [10. С. 292–293]).
Скажем определеннее: в изображаемой Пушкиным патриархальной среде словно перестают действовать законы реальной жизни. Бреттер не убивает здесь своего врага, обвенчанная и брошенная девушка находит мужа, соблазненная гусаром девица благополучно устраивает свою судьбу (см. [11. С. 549]), непримиримые враги легко мирятся и становятся родственниками (а в «Дубровском», напротив, насмерть ссорятся лучшие друзья) и т. п. И такого рода «игрушечные развязки» (А. Ахматова) драматических происшествий, безвыходных, казалось бы, ситуаций еще более сгущают сентиментально-идиллический колорит повестей.
Полупасторальный белкинский мир, таким образом, может быть назван и антиподом идеально-романтического мира южных поэм, и – как противоположность раздираемой трагически-неразрешимыми противоречиями peaльной действительности – своеобразным его аналогом. Однако же его идилличность – это лишь одна сторона дела, воплощение только одной грани пушкинской позиции.
В представлении Пушкина, белкинский мир – это мир, лежащий где-то на обочине исторического движения, практически выключенный из него. Это, так сказать, культурная и духовная провинция, населенная смирными или смирившимися людьми, чье сознание не развито и наивно, а культурный кругозор ограничен. Главное же – это сфера сугубо частной жизни, семейного уюта, «мещанского счастья» (ср. в «Моей родословной»: «Я сам большой, я мещанин»). Неудивительно, что и в белкинских повестях, и в последующих произведениях тихая, мирная жизнь «старинных людей» представлена как мелкомасштабная, как уменьшенное подобие подлинной жизни (И. М. Тойбин верно заметил, что сцены в Белогорской крепости напоминают отчасти кукольный театр [12. С. 231]). Вот почему изображение уютной игрушечности патриархального мира освещено доброй и снисходительной авторской усмешкой, окрашено легкой, мягкой иронией, неизменно окутывающей ткань повествования.
Но пушкинская ирония в «Повестях Белкина» имеет еще и другой – скрытый, трагический смысл. И тут нужно снова вернуться к раздумьям Пушкина о судьбах родовой русской аристократии.
Неминуемое уравнение, даже слияние потомственного дворянина-аристократа с людьми «третьего состояния» представлялось Пушкину исторической неизбежностью, а в то же время и некоей аномалией – чем-то противоестественным и странным. Ведь оно означало, что на тихое, скромное, сугубо частное – и в этом смысле мнимое – существование обречены теперь потомки некогда славных исторических боярских родов, что «мещанином» становится поневоле человек, чье естественное призвание – ответственная и активная государственная деятельность!
Но если аристократ становится мещанином, то и наоборот: мещанин становится аристократом – ситуация, с точки зрения поэта, абсурдная, выражающая неразумность, иррациональность исторического процесса. Со всей прямотой об этом сказано в «Моей родословной», написанной той же болдинской осенью 1830 г.:
Бояр старинных я потомок; Я, братцы, мелкий мещанин. (III, 197)Подчеркнутая оксюморонность этой горько-иронической формулы, сочетание в ней явно несоединимых, взаимоисключающих начал точно передают смысл пушкинской позиции, нашедшей свое воплощение и в «Повестях Белкина».
И эта ее глубинная суть определяет главнейший художественный принцип белкинского цикла: парадоксальное столкновение противоположностей, их взаимопогашение и отрицание, рождающее в итоге «нулевой эффект», лукавую игру фикциями и «мнимостями».
Действительно, создавая образ идиллического патриархального мира, Пушкин тотчас же ставит под вопрос само его существование, настойчиво подчеркивает его условность, миражность, призрачность. Не в этом ли смысл демонстративного пушкинского отказа от авторства в пользу мнимого автора – Ивана Петровича Белкина? Однако и образ Белкина, как показал С. Г. Бочаров, в значительной мере фиктивен. Во-первых, он составлен из свойств, либо нарочито нейтральных, означающих главным образом отсутствие тех или иных качеств, либо свойств, прямо противоположных, друг друга уничтожающих (см. [7. С. 142–143]). Перед нами, в сущности, «тень покойного автора», «колебание между призраком и лицом» [7. С. 132, 145]. Во-вторых, что еще существеннее, его авторство тоже может быть названо фиктивным. Ведь по «недостатку воображения» Белкин не сам сочинял повести, а лишь записывал истории, слышанные «от разных особ». Но и рассказы «разных особ» состоят в значительной мере из пересказов происшествий и эпизодов, слышанных от других лиц. В итоге возникает целая цепочка, вереница рассказчиков, не позволяющая выделить главного, основного автора рассказываемых историй [7. С. 156].
Этой же цели служит и организация речи многочисленных рассказчиков. С одной стороны, как отмечал В. В. Виноградов, между ними безусловно ощутимы определенные различия. С другой – столь же очевидна тенденция к нивелировке стиля, реалистически мотивированная образом Белкина как «посредника» между «издателем» и отдельными рассказчиками [13. С. 538]. Иначе говоря, фикцией оказывается лицо, ответственное за достоверность рассказа, что никоим образом не вяжется с установкой на «справедливость» и даже документальность повествования.
Фиктивными, мнимыми могут быть названы, наконец, и сюжеты пушкинских «псевдоновелл» («Пушкин пишет новеллы, полемизируя с самим жанром их», – замечает Н. Я. Берковский [10. С. 264]) – рассказы о несвершившихся событиях, представляющие к тому же пародийно-ироническую обработку расхожих сентиментально-романтических мотивов.
«Не будет ни страшной смерти гробовщика, задушенного мертвецами, – писал по этому поводу В. В. Гиппиус, – ни самоубийства несчастной жертвы своего заблуждения; ни трагедии молодого барина, влюбившегося в крестьянку; ни жестокой мести по праву дуэли, oтложенной до времени, когда противник будет счастлив; ни тайного брака двух влюбленных; ни отчаяния героини, разлученной с возлюбленным» [14. С. 36–37].
И вся эта сложная система взаимоотрицаний, «нулевых эффектов», столкновения противоположностей, вся эта прихотливая, изменчивая, капризная структура повестей, ироническая авторская игра несоответствиями, противоречиями, фикциями приоткрывает на миг и тут же снова скрывает главную «тайну» всего цикла – мнимость смирения маленького человека.
Действительно, как ни случайны вспыхивающие в повестях конфликты, все же в каждой из них неотвратимо возникают драматические ситуации, создающие напряжение между идиллическим фоном повествования и остротой сюжета, между незыблемостью традиционных жизненных норм и постоянными покушениями их поколебать. Более того, ситуации эти таят в себе «роковые возможности», рождают ощущение, что «финальные аккорды их (повестей. – А. Г.) не являются единственно возможными, что предположительны и другие исходы» [15. С. 15, 18].
Тут-то и выясняется, что в решительные минуты жизни, когда их счастье, честь, элементарные человеческие права поставлены под угрозу, добрые, мирные герои повестей точно преображаются. В них пробуждается чувство собственного достоинства, независимость, даже непокорство, а главное – готовность к безоглядно смелым, отчаянным поступкам, решительным действиям: «Безродный офицер состязается напряженно и безнадежно с родовитейшим аристократом – “Выстрел”, захудалый прапорщик увозом берет невесту из богатой помещичьей усадьбы – “Метель”, “незнаемая девушка” с дальней почтовой станции приходит в Петербург за счастьем и здесь умеет отстоять себя – “Станционный смотритель”, там же, в “Смотрителе”, отец девушки ведет неравный спор с ее соблазнителем, богатым и знатным; молодой барин готов не сегодня-завтра соединить свою судьбу с той, кого он считает крестьянкой, с мнимой Акулиной, – “Барышня-крестьянка”» [10. С. 263–264].
Другое дело, что идиллическая атмосфера белкинского мира не дает развиться росткам своеволия и непокорства, что она нейтрализует мятежные порывы. Она побуждает персонажей как можно скорее войти в привычную колею, нормальное жизненное русло, «отменяет» их бунт, делает его бессмысленным и ненужным. Таким образом, и бунт, и смирение героев равно выступают как своего рода «мнимости». Художественной реальностью является их взаимодействие: постоянно возникающие вспышки своеволия и непокорства, разрешаемые в ничто.
Дело, однако, не в результатах! Сама готовность к решительным действиям во имя защиты неотъемлемых прав личности, сами по себе мятежные потенции «простых героев», таящиеся под оболочкой покорности и смирения, приобретали в глазах Пушкина первостепенное значение. Эти свойства рядовых, обыкновенных людей казались ему чрезвычайно важными для понимания дальнейших судеб России, возможного хода ее истории.
2
В белкинских новеллах очерчен внутренний облик маленького человека, его духовно-психологический склад. Вопрос же о его социальной роли и значении в современной жизни впрямую не ставится: в уютной игрушечности патриархального мира герои повестей заботливо укрыты автором от общественных коллизий, от бурь и потрясений эпохи.
В последующих произведениях – «Дубровском», «Медном всаднике», «Капитанской дочке» – картина меняется: Пушкин изымает теперь своего героя из надежно защищенной крепости – сферы сугубо частной жизни – и бросает в водоворот истории, в самую гущу общественных противоречий, как бы испытывая его на прочность. И выясняется: сколь ни серьезны выпавшие на его долю испытания, маленький человек с честью выдерживает их. Он обнаруживает незаурядную нравственную стойкость и величие духа, способность принимать независимые решения, совершать смелые, рискованные поступки. То, что в «Повестях Белкина» было лишь эпизодом, вспышкой, выступало скорее как возможность или тенденция, становится теперь глубинной сутью характера, во многом определяющей самосознание и поведение личности.
Более того, под влиянием пережитых потрясений вполне, казалось бы, ординарный герой внутренне преображается, вырастает духовно и нравственно. Его незначительность, мелкость оказываются лишь видимостью, личиной, лишь внешней оболочкой, под которой скрываются и дремлют до поры могучие силы, героические потенции. Но для того, чтобы эти потенции проявились, чтобы произошло превращение обыкновенного человека в незаурядную личность, необходимы особые обстоятельства, исключительные, кризисные ситуации (см. [2. С. 285]).
Характерен в этом смысле пример Владимира Дубровского: вполне обыкновенный, ничем не примечательный офицер, беспечный, думавший лишь о службе да о женитьбе на богатой невесте, оказавшись жертвой произвола и беззакония, потеряв имение, дом, отца, вдруг становится предводителем разбойников, грозным и благородным мстителем. Именно в фигуре Дубровского соединение смиренного белкинского героя и могучего протестанта, романтического бунтаря предстает наиболее наглядно.
Правда, столь резкий скачок, столь стремительное преображение героя казались, по-видимому, Пушкину недостаточно мотивированными (не потому ли, в частности, роман не был завершен?). Во всяком случае, в «Медном всаднике» и «Капитанской дочке» представлена уже более сложная и противоречивая картина духовно-нравственного возвышения центрального персонажа. Но общая «модель» его эволюции осталась, в сущности, неизменной. И если мы обратимся теперь к «Медному всаднику», то увидим, что именно она, эта «модель», определяет в значительной мере его «внутренний сюжет» – логику движения поэмы.
В самом деле, поначалу Евгений – тоже вполне обычный мелкий чиновник, «каких встречаем всюду тьму», социально, психологически и нравственно ничтожный, еще более безликий и заурядный, чем, например, Владимир Дубровский или многие персонажи белкинских повестей. Это дворянин, вконец, кажется, забывший о своем прошлом, превратившийся в мещанина не только по своему достатку, но и по образу жизни, по своим идеалам. Намечающаяся в его мечтах перспектива «мещанского счастья» должна как будто навсегда закрепить связь героя с «третьим состоянием», разночинной средой.
Но в экстремальной, критической ситуации – перед лицом разыгравшейся стихии и принесенных ею несчастий – даже он, этот смиренный, безобидный человек, совершенно белкинский тип, даже он словно пробуждается ото сна и сбрасывает с себя личину «ничтожества».
И если в начале поэмы Пушкин нарочито подчеркивает несоизмеримость масштабов личности Петра, поглощенного великой мыслью о судьбах России, и Евгения, вынашивающего убогие планы личного благополучия, то уже в конце первой части дистанция между ними резко сокращается. Забывший о собственной безопасности, всецело охваченный тревогой за судьбу близких, Евгений нравственно вырастает в глазах читателя, вызывает его живое сочувствие. Он становится представителем массы, воплощением несчастных и обездоленных людей, страдающих от наводнения, ставших его жертвами.
И это его возвышение подчеркнуто внешне, закреплено в символическом рисунке поэмы. Сидя среди бушующих вод, «на звере мраморном верхом», в классической наполеоновской позе («руки сжав крестом») позади бронзового монумента, он становится в этот миг как бы подобием великана Петра, отчасти уравнивается с ним в масштабах. Подобием и контрастом одновременно. Ибо «неколебимая вышина» медного всадника, «простертая рука» исполина свидетельствуют об уверенности в победе над стихией. Напротив, «отчаянные взоры» и тревожные мысли Евгения говорят о его бессилии и страхе перед разъяренной Невой.
Но это лишь начало его духовной эволюции. Затем, уже во второй части, «Евгений совершает героический поступок, какого, казалось бы, нельзя было и ожидать от него, – делает второй шаг на пути от безличного чиновника к Человеку: переправляется в утлой лодке “чрез волны страшные”, грозящие дерзким пловцам гибелью, на Васильевский остров, где устремляется в Галерную гавань, к ветхому домику, жилищу его невесты» [16. С. 262]. Мало того, как выясняется в финале, Евгений находит-таки унесенный наводнением домик своей Параши и, точно шекспировский Ромео, умирает на его пороге.
Наконец, в кульминационной точке поэмы, в момент, когда «прояснились в нем страшно мысли», герой, «злобно задрожав», обращается с прямой угрозой к «державцу полумира». И эта мятежная вспышка снова сталкивает и вновь уравнивает – пусть на мгновение – Евгения и Петра! И хотя его бунт всего лишь выходка безумца, хотя силы бедного чиновника и «бронзового кумира» несоизмеримы, сама решимость бросить вызов «грозному царю» была овеяна в глазах Пушкина ореолом величия. (Ср. в статье 1836 г. «Александр Радищев»: «Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины!» Поступок Радищева поэтому «покажется нам действием сумасшедшего» – VII, 242.)
Итак, лишь доведенный до отчаяния, до предела, до крайности, раскрывает маленький человек лучшие свои качества, дремлющие в нем силы, свои героические потенции. В этой связи особый смысл получает в поэме и тема наводнения.
В отличие от авторов, видевших в наводнении небесную кару за грехи царя-деспота, предрекавших гибель Петербурга в результате грядущей катастрофы и прекращение его в «подводный город» (см. [17. С. 75–78]), Пушкин полагал, что сама по себе «возмущенная стихия» не страшна ни Петру, ни «Петра творенью» – столице Российской державы. Наводнение, однако, таит в себе иную, более реальную угрозу: оно создает те самые критические ситуации, которые пробуждают мятежные настроения в душах обыкновенных, маленьких людей, толкают их на отчаянные, безумные поступки. И эта «страшная стихия мятежей» (VIII, 45) представляет действительную, подлинную опасность для деспотизма и самовластья.
Конечно, не сама по себе выходка «безумца бедного» страшна «горделивому истукану». Но она грозный симптом, предвестие новых мятежей, грядущих социальных катаклизмов. Внешне случайная и краткая (в этом смысле по-белкински «фиктивная»), она все же глубоко закономерна. Пушкину важно подчеркнуть, что на Петра восстает обедневший, «ничтожный» потомок некогда славного дворянского рода. В нем говорит голос крови, пробуждается мятежное своеволие и гордая независимость аристократических предков. И этот мотив (который нельзя, конечно, рассматривать как простую случайность – рудимент прежнего замысла) связывает «Медного всадника» не только с «Дубровским», но и с «Капитанской дочкой».
3
В «Капитанской дочке» соединены оба аспекта пушкинской темы маленького человека, нашедшие перед тем свое воплощение в «Повестях Белкина» и «Медном всаднике».
Как и в белкинском цикле, с нескрываемой симпатией и добродушной усмешкой изображены в ней обитатели патриархального мира – провинциальные помещики Гриневы, семейство капитана Миронова. Однако акценты расставлены здесь несколько по-иному.
Гораздо определеннее прежде всего подчеркнута связь между «простонародностью» «старинных людей» (сцены их повседневного быта выглядят порой почти карикатурами; недаром, как отмечали исследователи, Пушкин опирается здесь на традиции фонвизинского «Недоросля») и крепостью их нравственных устоев – такими их качествами, как верность долгу, искренность, добросердечие, подлинная человечность.
Во-вторых, идиллически изображенный патриархальный мир – как царство справедливости и добра – резко и прямо противопоставлен миру официальному, казенно-бюрократическому с его бездушием, холодностью, формализмом, особенно отчетливо проявившимся в сценах военного совета и суда. (Характерно, что истина – установление невиновности Гринева – обнаруживается не в ходе судебного разбирательства, а приватно – в частном разговоре.) Столь же определенно комплекс нравственных ценностей патриархального мира противостоит и необузданной жестокости пугачевской вольницы – стихии «русского бунта, бессмысленного и беспощадного» (показательны в этом отношении сцены расправы с гарнизоном Белогорской крепости, надругательства над трупом Василисы Егоровны и т. п.). И эта двойная полемическая обращенность полна глубокого смысла.
Как и в «Медном всаднике», лучшие черты главных героев повествования раскрываются в минуты тяжких испытаний и трагических потрясений. Смешные и простодушные обитатели Белогорской крепости – капитан Миронов, Василиса Егоровна, Иван Игнатьич – в момент захвата ее пугачевцами ведут себя как настоящие герои. Их естественный, не показной героизм, как бы предвосхищающий поведение толстовских героев типа Тушина и Тимохина, производит особенно сильное впечатление на фоне измены казаков, робости гарнизона и покорности мирных жителей.
И снова – как в «Дубровском», как в «Медном всаднике» – мы становимся свидетелями будто бы внезапного возвышения центрального персонажа, стремительного роста и укрупнения его личности. Вчерашний дворянский недоросль, он предпочитает смерть малейшему отступлению от велений долга и чести. Он отказывается от присяги Пугачеву, от любых компромиссов с ним (не желает даже дать обещание не выступать против его войска). С другой же стороны, во время суда, снова рискуя жизнью, он не считает возможным назвать имя Маши Мироновой, справедливо опасаясь, что она будет подвергнута унизительному допросу.
И точно так же, как Владимир Дубровский, как «бедный Евгений», отстаивая свое право на счастье, Гринев совершает безоглядно-смелый, отчаянный поступок, представляющий дерзкий вызов официальному миру. Ведь предпринятая им самовольная поездка в «мятежную слободу» была опасной вдвойне: он не только рисковал быть схваченным пугачевцами, но ставил на карту свое благополучие, карьеру, доброе имя, честь! Акция Гринева, вынужденная безответственностью и пассивностью командования, бюрократическим равнодушием немца-генерала к судьбе дочери капитана Миронова и невесты сына его близкого друга, представляла, в сущности, вызов принятым нормам поведения, вызов официальному миру, едва ли менее безрассудный и дерзкий, нежели угроза бедного Евгения бронзовому Петру.
Подобное сочетание гордой независимости, неподкупной верности долгу, чести и способности совершать безумные, своевольные поступки Пушкин особенно ценил в старинном русском боярстве и, в частности, в своих предках (см. [18. С. 32–36]).
Существенное отличие «Капитанской дочки» от «Медного всадника» заключается в том, что доброта и справедливость одерживают здесь верх. И это симптоматично: душевное благородство, человечность аристократов-дворян и лучшей части людей «среднего состояния» (союз Маши Мироновой и Гринева в этом смысле символичен) превращают их, по мысли Пушкина, в серьезную общественную силу – некоторую «третью силу», стоящую как бы между официально-бюрократическими кругами и необузданной стихией крестьянского бунта, наиболее полно выражающую интересы русского общества, русского народа (см. [19]). Сюжетная гипербола повести выявляет самую суть пушкинской позиции: случайность индивидуальной судьбы Петра Гринева выступает в ней как воплощение социально-исторической закономерности русской действительности.
Как видим, смиренные маленькие люди в понимании Пушкина – это прежде всего потомки исторических, старинных родов, «угомонившие» былую боярскую спесь и своеволие «могучих предков», смирившиеся, но… не до конца. Под покровом «ничтожества» и смирения в них живет гордая независимость и неподкупность, верность своим убеждениям и принципам, а еще глубже, на самом дне души, таятся семена мятежа и бунта. И в отчаянных положениях, критических ситуациях семена эти дают всходы, прорастают вспышками протеста, «блеском безумия».
Защищая, по видимости, свои личные, сугубо частные интересы, «маленькие люди» выполняют важную общественную, историческую миссию. Носители правды, справедливости и человечности, они невольно выступают как бы посредниками между двумя враждующими силами – официальными государственными кругами и бунтующим народом. С ними связывает Пушкин надежду на возможность мирного разрешения основной социальной коллизии русской жизни, движения русского общества по пути гуманности и добра, в этом видит их историческое призвание и назначение.
Таким образом, в произведениях, которые принято считать образцами зрелого пушкинского реализма: «Повестях Белкина», «Дубровском», «Медном всаднике», «Капитанской дочке», – можно обнаружить романтический подтекст, чрезвычайно важный для понимания их смысла. Это скрытое романтическое начало проявляется: 1) в идеализации допетровских времен, патриархальных отношений, быта, нравов и душевных качеств «старинных людей»; 2) в противопоставлении патриархального мира современности и «просвещению» (в этом смысле патриархальный «белкинский» мир выступает не только как контраст, но как своего рода аналог экзотической среды романтических южных поэм); 3) в «укрупнении» и возвышении образов рядовых, «ничтожных» людей, вырастающих в критические минуты жизни до масштабов романтических героев – протестантов и бунтарей; 4) в изображении необычных, особых, экстремальных ситуаций, позволяющих маленьким людям выявить скрытое в них нравственное величие и готовность к протесту.
Образы исключительных, мятежных, возвышенно-романтических героев не были, иными словами, просто преодолены и отброшены Пушкиным. Романтическое начало в его зрелом творчестве изменило облик и форму, вторглось в сферу житейской прозы, затаилось в персонажах иного, внешне не романтического, «белкинского» склада. Тем не менее связь между «маленькими» героями и героями южных поэм очевидна.
Все сказанное приводит нас к выводу о сложности пушкинского художественного метода в 1830-е годы, о его синтетической природе – прямом предвосхищении синтетичности классического русского реализма XIX столетия.
1983, 1993
Литература
1. Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957.
2 Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1830–1833). Л., 1974.
3. Сидяков Л. С. Болдинская лирика как этап в эволюции пушкинской лирики на рубеже 1830-х годов // Болдинские чтения. Горький, 1978.
4. Харлап М. Г. Полемический смысл «Домика в Коломне» // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 39. № 3. 1980.
5. Хализев В. Е., Шешунова С. В. Цикл Пушкина «Повести Белкина». М., 1989. Гл. 1.
6. Петрунина Н. Н. Проза Пушкина. Л., 1987.
7. Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. М., 1974.
8. Гукасова А. Г. Болдинский период в творчестве Пушкина. М., 1973.
9. Бочаров С. Г. О смысле «Гробовщика» // Бочаров С. Г. О художественных мирах. М., 1985.
10. Берковский Н. Я. О «Повестях Белкина»: (Пушкин 1830-х годов и вопросы народности и реализма) // Берковский Н. Я. Статьи о литературе. М.; Л., 1962.
11. Ахматова А. А. К статье «Каменный гость» Пушкина. Дополнения 1958–1959 гг. // Ахматова А. Стихи и проза. Л., 1976.
12. Тойбин И. М. Пушкин: Творчество 1830-х годов и вопросы историзма. Воронеж, 1976.
13. Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941.
14. Гиппиус В. В. Повести Белкина // Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока. М.; Л., 1966.
15. Узин В. С. О повестях Белкина: Из коммент. читателя. Пб., 1924.
16. Измайлов И. В. «Медный всадник» А. С. Пушкина: История замысла и создания, публикации и изучения // Пушкин А. С. Медный всаднк. Л., 1978. (Литературные памятники.)
17. Ленобль Г. К истории создания «Медного всадника» // Ленобль Г. История и литература. М., 1977.
18. Эйдельман Н. Я. «В родню свою неукротим…»: Еще раз о мемуарах Пушкина // Знание – сила. № 1. 1981.
19. Лотман Ю. М. Идейная структура «Капитанской дочки» // Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.
Вослед «Цыганам» («Цыганы» Пушкина и «Казаки» Л. Толстого)
Очевидное сюжетное сходство пушкинских «Цыган» и толстовских «Казаков» давно уже замечено исследователями. Известно, что Толстой особенно высоко ставил последнюю из поэм южного цикла, обращался к ней в процессе pаботы над кавказской повестью. И тем не менее «Цыганы» не могли полностью его удовлетворить.
Восхищаясь пушкинским произведением, Толстой чувствует необходимость вступить с ним и полемику, развить и усложнить его проблематику. «Не могу писать без мысли, – отмечает он в своем дневнике (18 августа 1857 г.). – А мысль, что добро – добро во всякой сфере, что те же страсти везде, что дикое состояние хорошо, – недостаточны» [1. Т. 47. С. 152]. «Это уже явный спор с Пушкиным и борьба с ним…» – комментирует толстовскую запись Б. М. Эйхенбаум. И далее: «Толстому нужен более осязательный, более тенденциозный, более насущный вывод – и он бьется над его прояснением». Поэтому сюжет пушкинской поэмы «подвергается у Толстого своего рода пародированию и выворачиванию наизнанку» [2. С. 171].
Разумеется, это упрощение. Дело не сводится, конечно, к большей определенности и тенденциозности «Казаков», к пародированию в них пушкинского сюжета. Причины двойственного отношения Толстого к «Цыганам», к романтической традиции вообще лежат глубже, вытекают из самой сути его позиции. Попробуем в этом разобраться.
Если попытаться одним словом определить общий смысл творчества Толстого, то таким словом будет, конечно, «естественность». Точнее и лучше других выражает оно самую суть его идейной позиции – той точки зрения, с какой судил и оценивал он человека, и общество, и природу. Поэтизация коренных основ, исконных начал человеческого бытия, не уничтоженных вовсе, но лишь искаженных, задавленных противоестественными условиями существования в современной ему действительности, – такова одна из важнейших, определяющих особенностей первых же произведений писателя. Развитие жизни – и отдельной личности, и общества в целом – предстает в них как постепенная утрата изначальной природной гармонии и переход к ненормальному, болезненному, дисгармоническому состоянию, законченным воплощением которого в глазах Толстого была уродливая буржуазная цивилизация и соответствующее ей индивидуалистическое сознание современного европейца.
Процесс разрушения первоначальной гармонической естественности внимательно прослежен в «Детстве», «Отрочестве» и «Юности» (1852–1857) – трилогии, посвященной этапам становления, «эпохам развития» личности. Лишь детство представлено здесь как «счастливая, невозвратимая пора» жизни. Напротив, постепенное усложнение духовного мира, развитие индивидуалистических начал, склонности к размышлению, анализу неизбежно вызывают в душе глубокий, мучительный разлад.
И в других произведениях раннего периода мы встречаемся с разнообразными воплощениями все той же темы. Сочувственное изображение простых людей: вышедших из народа офицеров, солдат, крестьян – людей, в чьих душах еще крепки основы «естественной» патриархальной морали, утверждение их нравственного превосходства над представителями насквозь фальшивого высшего общества – один из постоянных мотивов военных рассказов Толстого. Враждебность буржуазной цивилизации – с ее формальным равенством и бездушной законностью – «натуральным» законам человеческого общежития с беспощадной силой обнажена в рассказе «Люцерн».
Идея возврата, движения вспять – к утраченной в прошлом гармонии, блаженству «естественного состояния» и составляет самую суть разрабатываемой писателем программы – программы обновления и духовного возрождения личности (а затем и общества в целом). Задача эта имеет как бы две стороны. В плане психологическом она выступает как «самоочищение» и заключается в том, чтобы сбросить с себя все наносное, искусственное, фальшивое, привитое противоестественной жизнью общества и наслоившееся на первоначальное ядро личности. В плане социальном она предполагает сближение с простым народом, «опрощение», а в идеале – даже слияние с патриархальной крестьянской массой.
Тут-то и проявляется со всей отчетливостью двойственное отношение Толстого к романтической традиции, предполагающее одновременно притяжение и отталкивание, живой интерес и острую полемику, а главное – постоянное обращение к художественному опыту романтизма. С одной стороны, именно от романтизма, от предшественника и вдохновителя романтиков Руссо унаследовал он страстное отрицание западноевропейской цивилизации, бездушной, рассудочной, враждебной естеству человека. С романтизмом роднит Толстого и его представление о жизни как «тайне», о ее неисчерпаемости, богатстве, иррациональности, о сложности и противоречивости души человеческой, заключающей в себе целую вселенную, о стихийной силе чувств и катастрофичности страстей, неподвластных воле и разуму человека.
С другой стороны, само романтическое сознание в глазах Толстого – плод современного ему культурного общества. Это сознание болезненное, сугубо индивидуалистическое, искусственное и потому чуждое, даже враждебное. Оно предполагает и соответствующий, заданный литературными образцами тип поведения, нарочитую позу, своего рода духовный маскарад. С нескрываемой иронией изображен, например, в рассказе «Набег» поручик Розенкранц – «один из наших молодых офицеров, удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову» [1. Т. 3. С. 22]. Да и в других произведениях Толстого антиромантические выпады встречаются постоянно. И все же, чем острее переживает писатель разлад между идеалом и действительностью, чем больше сомневается в возможности осуществления своей жизненной программы, тем настойчивее обращается он к художественному опыту романтизма.
Подобно романтикам, Толстой готов искать возможности воплощения своего идеала вне действительности, вне повседневной жизни современного общества – в каких-то особых сферах, в исключительных обстоятельствах и в необычных условиях. В пору напряженного творческого самоопределения в произведениях середины 1850 – начала 1860-х годов он перебирает и «проигрывает» едва ли не все варианты, пробует едва ли не все способы типично романтического выражения идеала. Ничтожной и прозаической современности противопоставляет он то недавнее прошлое с его цельно-рыцарственными характерами («Два гусара», 1856), то красоту природы и волшебную силу искусства («Люцерн», 1857), то художническую одаренность гениального безумца («Альберт», 1858). Полусознательное желание Нехлюдова начать новую жизнь, стать крестьянином, лихим ямщиком вроде Ильи Дутлова предстает как романтическая греза, сон наяву («Утро помещика», 1856). Наконец, в «Казаках», над которыми писатель работал около десяти лет и завершил в конце 1862 г., он не только ведет читателя в излюбленную романтиками экзотическую среду, но и прямо опирается на традицию байронической поэмы, и прежде всего на пушкинских «Цыган».
Разумеется, и в своей кавказской повести Толстой не становится всецело на позиции романтизма. Его двойственное отношение к этому литературному направлению в полной мере сохраняется и в «Казаках». Обратившись к излюбленному романтиками изображению «экзотической» среды, к традиционной для романтизма сюжетной схеме (европеец в первобытно-патриархальном мире), Толстой стремится сразу же освободить их от привычных романтических напластований, перекроить на свой лад.
С первых же страниц произведения решительно деромантизируется его центральный персонаж – Димитрий Оленин, последовательно отбрасываются обычные для писателей-романтиков мотивировки его бегства на Кавказ.
В отличие от романтических героев, скучающих, тоскующих, пресыщенных жизнью, Оленин изображен как нормальный и здоровый молодой человек, исполненный сил, энергии и радости существования. В его судьбе, личности, в его прошлой жизни, обычной для юноши из московского общества, нет ничего загадочного или таинственного. И, конечно, он «представляет собой резкий контраст мрачным героям Шатобриана и Байрона, который уходили на лоно природы с разбитым сердцем и опустошенной душой, уходили доживать свои скорбные дни, а не начинать новую жизнь» [3. С. 385]. Это совсем не «тощий плод, до времени созрелый», если воспользоваться лермонтовским образом. Ему не грозит «преждевременная старость души» – черта поколения, воплощенная, по словам Пушкина, в образе кавказского пленника.
Оленин лишь пытается принять позу разочарованного героя-индивидуалиста, который «ни во что не верил и ничего не признавал». Однако поза эта нисколько не соответствовала его истинному душевному самочувствию. «Но не признавая ничего, – следует “антиромантический” комментарий автора, – он не только не был мрачным, скучающим и резонирующим юношей, а, напротив, увлекался постоянно». Живо ощущая в душе своей присутствие «всемогущего бога молодости», Оленин был счастлив и любил самого себя, «потому что ждал от себя одного хорошего и не успел еще разочароваться в самом себе» [1. Т. 6. С. 8].
Не успел еще разочароваться Оленин и в людях. Он не враждует с обществом, не презирает окружающих, его самого никто не гонит и не преследует. Менее всего чувствует он себя одиноким, или отверженным, или непонятым, как это свойственно романтическим героям. «“Люблю! Очень люблю! Славные! Хорошо!” – твердил он, и ему хотелось плакать», – в таком размягченно-восторженном настроении покидает Оленин Москву и вспоминает об оставленных друзьях и знакомых, которые перед отъездом «как будто вдруг сговорились сильнее полюбить его, простить, как перед исповедью или смертью» [1. Т. 6. С. 6–7].
Романтический герой представал обычно перед читателем охлажденным, перегоревшим, измученным страстями, вянущим, подобно пушкинскому пленнику, от их «злой отравы». Неразделенная, трагическая любовь служила едва ли не самым частым поводом его бегства от общества. Напротив, про Оленина можно сказать, как про Ленского: «Он сердцем милый был невежда». Ему знакомы пока лишь легкие, мимолетные увлечения, подлинной страсти он еще не испытал, по-настоящему не любил.
Наконец, Толстой полностью устраняет мотив несвободы героя, неизменно выступавшей как главная причина романтического отчуждения от общества. Напротив, он всячески подчеркивает, что Оленину дано изведать вкус абсолютной свободы, которая была предметом неудержимых мечтаний и страстных стремлений романтиков. «В восемнадцать лет Оленин был так свободен, как только бывали свободны русские богатые молодые люди сороковых годов, с молодых лет оставшиеся без родителей. Для него не было никаких – ни физических, ни моральных – оков; он все мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды» [1. Т. 6. С. 7–8].
В том-то и состоит антиромантический парадокс Толстого, что свобода отнюдь не приносит Оленину счастья. Наоборот, она становится источником многих ошибок и заблуждений, душевной сумятицы, вызывает мучительное сознание, что он «напутал» в жизни. Внезапный отъезд на Кавказ и должен, по его расчетам, распутать клубок ошибок и противоречий, помочь выйти из нравственного тупика, в котором он оказался. Словом, в бегстве на Кавказ Оленин ищет не свободы, а спасения от свободы. Исходная ситуация романтической поэмы оказывается в «Казаках» перевернутой.
И все же в полной мере вырваться из-под власти романтической традиции Толстому не удается. Как ни подчеркивал писатель нормальность и обыкновенность Оленина, в нем явственно проглядывают черты, сближающие его с героями романтической литературы. Конечно, Оленин – это не «гениальная личность», не «высшая натура», как понимали ее романтики. И тем не менее это личность незаурядная, духовно богатая, а главное – не удовлетворенная жизнью, не сливающаяся со средой.
Подобно героям романтического склада, Оленин испытывает глубочайшее отвращение к прозе повседневного существования, боится погрязнуть в тине будничных мелочей и не хочет жертвовать ради них своей свободой. Переживший ряд разнообразных увлечений, он отдавался им «лишь настолько, насколько они не связывали его. Как только, отдавшись одному стремлению, он начинал чуять приближение труда и борьбы – мелочной борьбы с жизнию, он инстинктивно торопился оторваться от чувства или дела и восстановить свою свободу. Так он начинал светскую жизнь, службу, хозяйство, музыку, которой он одно время думал посвятить себя, и даже любовь к женщинам, в которую он не верил» [1. Т. 6. С. 8].
Бесспорно, наиболее ярким выражением необычности, исключительности Оленина, его непонятности для окружающих может быть названо внезапное, внешне ничем не мотивированное бегство на Кавказ, даже ближайшим друзьям представлявшееся чудачеством, едва ли не сумасбродством. Но и на Кавказе Оленин держится особняком. В обычную жизнь кавказского офицерства, которая «давно уже имеет свой определенный склад», он вписывается едва ли не хуже, чем в жизнь московского света. В нем сразу же почуяли чужого, «и он со своей стороны тоже удалялся офицерского общества и офицерской жизни и станице». И это особое положение, разъясняет Толстой, вытекало из коренного свойства натуры Оленина: он «жил всегда своеобразно и имел бессознательное отвращение к битым дорожкам. И здесь также не пошел он по избитой колее жизни кавказского офицера» [1. Т. 6. С. 88].
Действительно, чуждый мелочным житейским расчетам, равнодушный к чинам и наградам, Оленин всецело поглощен красотой природы, захвачен своим чувством к Марьяне. Его занимает вопрос о смысле жизни, проблема нравственного совершенствования. Все это выдает в нем черты утонченной духовности, столь близкие героям романтических произведений.
Но и такими своими чертами, как душевная чистота, доверие к людям и к жизни, наивность, благородство и прямодушие, Оленин тоже напоминает отчасти романтического героя – только на иной, «доромантической» стадии его развития, в пору, «когда он верил и любил» (Лермонтов). Ведь разочарование – это следствие обманутых надежд, крушение прежнего наивно-гармонического взгляда на мир (процесс, обычно остававшийся у писателей-романтиков за пределами повествования). Оленин ближе, следовательно, не к «сильным натурам», но к «чистым душам» романтической литературы.
Столь же сложно романтические и антиромантические тенденции переплетаются и в изображении другого члена исходной антитезы – той «естественной среды», с которой сталкивается, в которую попадает главный герой.
Романтики подчеркивали прежде всего ее необычность, изображали как особый, несхожий с европейским жизненный уклад, общественный и бытовой, как своеобразный тип культуры, который мог получать самую разную авторскую оценку: критическую (Байрон), сочувственную (Пушкин), восторженную (Лермонтов). При этом экзотичность обстановки, величие природы, яркость и красочность жизни далеких стран и народов как бы аккомпанируют исключительности центрального персонажа. Возвышающийся над своей средой, он оказывается перемещенным в среду, столь же необычную, как и он сам.
По-иному обстоит дело в повести Толстого. Необычная внешне, жизнь казаков поражает как раз своей обыкновенностью, незамутненной и первозданной естественностью, какой-то идеальной нормальностью и гармоническим слиянием с природой. Природа в «Казаках» не просто фон, но могучая сила, определяющая весь строй того естественного мира, в котором оказывается главный герой. Горы – первое и самое сильное впечатление Оленина на Кавказе. Их чистая, гордая и недоступная красота становится лейтмотивом произведения и обретает символический смысл.
В изображении Толстого кавказские пейзажи далеки от какой бы то ни было экзотики и начисто лишены того, что романтики называли местным колоритом. Они поражают не своей необычностью, внезапными и своеобразными эффектами, не яркостью и роскошью красок, но девственной свежестью и избытком внутренних сил. Перед нами природа как таковая, природа как она есть, ничем не искаженная и максимально раскрывшая свои возможности. По наблюдению Я. С. Билинкиса, писатель «не говорит ни об обвалах, ни о горных потоках», а «рисует вечер, закат, рассвет – процессы, совершающиеся в природе всегда и везде. Но тут природа свободна в своих проявлениях – она не порабощена человеком, не измучена суровым климатом» [4. С. 139].
Даже такие антипоэтические подробности, как жара, духота, обилие комаров, нисколько не уменьшают прелести южной природы. Ее первобытная, стихийная мощь буквально завораживает Оленина, очутившегося во время охоты в лесу: «Эти мириады насекомых так шли к этой дикой, до безобразия богатой растительности, к этой бездне зверей и птиц, наполняющих лес, к этой темной зелени, к этому пахучему, жаркому воздуху, к этим канавкам мутной воды, везде просачивающейся из Терека и буль-булькающей где-нибудь под нависшими листьями, что ему стало приятно именно то, что прежде казалось ужасным и нестерпимым» [1. Т. 6. С. 76].
Неотъемлемой частью этого могучего и прекрасного царства предстает в повести и жизнь казаков, протекающая сообразно законам природы и безусловно подчиненная величественному, вечному круговороту природных сил, тесно связанная с естественной цикличностью земледельческого труда. И снова с нее снимается всякий налет необычного, экзотического.
Детским вздором выглядят прежние романтические грезы Оленина по дороге на Кавказ, неразлучные «с образами Амалатбеков, черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей» [1. Т. 6. С. 11). Очень скоро ему становится ясна вся наивность традиционно-литературных представлений, не имеющих ни малейшего соприкосновения с реальностью. Жизнь казаков раскрывается перед ним как норма человеческого существования, как наиболее чистое выражение неизменных и вечных основ бытия. «Никаких здесь нет бурок, стремнин, Амалат-беков, героев и злодеев, – думал он, – люди живут, как живет природа: умирают, родятся, совокупляются, опять родятся, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет…» [1. Т. 6. С. 101–102].
В соответствии с таким взглядом и изображена в повести повседневная жизнь казаков – самая обычная жизнь людей труда. Приготовление пищи и уход за скотом, уборка урожая, отдых и праздники – все это могло быть и бывает везде: в любой русской деревне, в каждом горском ауле. Но в казачьей станице это общечеловеческое начало, эта родовая суть предстает в своем изначальном, неискаженном, натуральном облике. Она выступает прямо и непосредственно, не заслоненная привходящими, неблагоприятными обстоятельствами: непосильным трудом, крепостной неволей, сословными предрассудками, социальным неравенством и оскорбительным контрастом безумной роскоши одних и вопиющей нищеты других.
И точно так же, как у романтиков исключительность, экзотичность «природной» среды соответствовала необычности, исключительности центрального героя, прекрасная нормальность казачьего мира соответствует нормальности и душевному здоровью Оленина, таящейся в глубинах его натуры тяге к естественности.
Но и в изображении казачества у Толстого обнаруживаются черты, близкие романтизму. Как выясняется в ходе повествования, естественная и гармоническая жизнь «детей природы», не затронутых влиянием цивилизации, неподвластная общественным законам, – это своего рода миф, неосуществимый и утопический идеал. И сколько бы ни смягчал писатель в ходе работы над произведением не соответствующие этому идеалу черты казачьего быта (непосильный труд, социальное неравенство и пр.) (см. [4. С. 177–178]), затушевать их полностью он все-таки не смог. Идеал поэтому пришлось переместить назад, в прошлое, и кавказская повесть начинает звучать как элегия о лучших, но, увы, невозвратимых временах. («Толстой любит в станице то, что из нее уходит…» – отметил В. Б. Шкловский [5. С. 336].) Мечта Толстого оказывается сродни романтическим грезам: созданный им идеальный мир, противостоящий современной прозаической действительности, удален от нее не только в пространстве, но и во времени.
Живым обломком минувших, уже легендарных времен выступает в «Казаках» дядя Ерошка, которого «все знали по полку за его старинное молодечество» [1. Т. 6. С. 50]. Отвращение к собственности, резкое осуждение все усиливающихся меркантильных интересов, презрительное отношение к новому поколению казаков – постоянные темы его рассуждений и поучений: «Не то время, не тот вы народ, дерьмо казаки вы стали», – заключает он свою беседу с Лукашкой [1. Т. 6. С. 64]. Ему непонятно, как это можно жалеть снятое с убитого абрека ружье, которое требует у Лукашки урядник, как не выкрасть у ногайцев коня, если нет денег купить его. Ерошка вспоминает, что отдавал украденного коня за бурку, за штоф водки, и считает такую щедрость естественной нормой поведения. «Хочешь быть молодцом, так будь джигит, а не мужик», – наставляет он Лукашку. И ставит в пример себя: «Дядя Ерошка прост был, ничего не жалел. Зато у меня вся Чечня кунаки были» [1. Т. 6. С. 62].
Так входит в повесть проблема нравственного единства казачьей среды. В основном, в главном, поскольку крепки еще вековые жизненные устои, она, действительно, представляет собой нечто единое, цельное. Совершенно прав Б. И. Бурсов, указывая на эпическую основу толстовского повествования: «В “Казаках” возводится на степень истинной поэзии жизненный уклад народа, не порвавшего живых связей с природой и трудом, а с другой стороны, не разделенного на классы и сословия и самостоятельно, на основе самоуправления, защищающего свою свободу и независимость. Толстой воспевает этот жизненный уклад как неделимое целое, из которого нельзя изъять ни одной черты, даже самой невыгодной для характеристики этого народа» [1. Т. 6. С. 357].
Следует добавить также, что членов казачьей общины отличает тесная внутренняя спаянность и глубинное, внерациональное, «бессознательное» взаимопонимание – качества, особенно отчетливо проявившиеся в финальных эпизодах. Все это позволяет прийти к выводу о своеобразном преломлении в кавказской повести близкой романтикам идеи «органического коллектива» – романтической антитезы мятущемуся индивидуалистическому сознанию.
Но столь же очевидна и нравственная неоднородность казачества – следствие новейших перемен, поколебавших привычные основы жизни. Действительно, главные герои повести выглядят среди жителей станицы исключениями.
Помимо Ерошки, это, конечно, также Лукашка, еще сохранивший вкус к «старинному молодечеству» и жадно слушающий рассказы бывалого казака о славном прошлом. Недаром же старик «любил Лукашку и лишь одного его исключал из презрения ко всему молодому поколению казаков» [1. Т. 6. С. 60]. Не случайно именно Лукашка убивает, сидя в секрете, чеченца, а в конце повести умело руководит импровизированной военной экспедицией. Несомненным исключением следует признать и Марьянку, которая нравственной силой, чистотой и душевной цельностью резко выделяется среди молодых казачек, особенно в сравнении со своей подругой Устенькой, всегда готовой ради денег и подарков кокетничать с заезжими офицерами.
Следовательно, отношения главных героев повести: Оленина, Лукашки, Марьяны и дяди Ерошки – это отношения людей, так или иначе возвышающихся над своей средой, отличных от нее. По наблюдению Б. М. Эйхенбаума, они аналогичны взаимоотношениям персонажей в пушкинских «Цыганах»: «Нельзя не заметить своеобразной связи с “Цыганами” в том, что фабульной основой вещи, приводящей к какому-то общему выводу… сделались отношения трех лиц – Марьяны, Лукашки и Оленина, роли которых аналогичны пушкинским – Земфиры, Цыгана и Алеко. При этом сопоставлении Ерошка выглядит необходимым четвертым персонажем – вывернутым наизнанку, как бы спародированным “старым цыганом”» [7. С. 332–333]. Действительно, перед нами ситуация, обычная для пушкинской романтической поэмы, в том числе и для «Цыган». Мы помним: «естественная» патриархальная среда неизменно изображалась там как неоднородная в нравственном отношении, а главная роль отводилась героям исключительным, не похожим на свое окружение.
Сложность взаимодействия романтических и неромантических начал в «Казаках» обусловлена, впрочем, но только двойственным отношением их автора к романтической традиции, но и внутренней противоречивостью русского романтизма, наиболее отчетливо выразившейся в творчестве Пушкина. Существенно отличный от западноевропейского, русский романтизм сам заключал в себе явственные антиромантические тенденции. Они-то и оказались особенно близкими Толстому.
Речь идет прежде всего о сравнительной оценке центрального персонажа и противостоящей ему экзотической среды. В романтических поэмах Байрона, как уже говорилось, герой был высоко вознесен и над буржуазным европейским обществом, из которого он бежал, и над деспотически-патриархальным укладом Востока. Враждебный всему окружающему, он чувствовал себя в разладе с целым миром. И потому жизненная позиция титанической личности, гордой, мятежной и трагически одинокой, оказывалась единственно возможной правдой – выражением точки зрения самого автора.
Напротив, в южных поэмах Пушкина герой-индивидуалист утрачивает свое доминирующее положение и «эстетическое единодержавие», подвергается авторскому суду. Он обнаруживает подчас слабые стороны своей жизненной позиции, свою духовную и нравственную ограниченность или даже несостоятельность. Истина поэтому перестает быть монополией центрального персонажа, а его взгляды оказываются нетождественными взглядам автора (см. [8. С. 106–109]).
Словом, центральный персонаж пушкинской поэмы – это уже не титаническая личность байроновского типа, вызывающая безусловное восхищение автора, – авторское отношение к нему усложняется. С другой стороны, и противостоящая герою патриархальная, «естественная» среда изображается более сочувственно, идеализированно – как средоточие многих нравственных достоинств, неведомых европейской цивилизации и городской культуре, как мир свободный, поэтический, красочный, мир ярких индивидуальностей и пламенных страстей.
Подхватив эту тенденцию пушкинского творчества (и русского романтизма вообще), Толстой решительно углубил и развил ее, довел, можно сказать, до последнего предела. Сравнительная оценка героя-индивидуалиста и человека природы в его повести полярно противоположна байроновской. Душа «естественного человека» выступает в ней как воплощение жизненной нормы, а сознание героя, принадлежащего миру культуры, как духовная аномалия и нравственная болезнь, требующая исцеления. Самый процесс духовной эволюции личности, происходящие с ней внутренние перемены, ставятся в центр повествования и получают углубленную психологическую разработку. Именно глубинная аналитичность толстовской повести позволяет рассматривать ее как произведение в основе своей реалистическое.
Толстой раскрывает особую сложность переживаемого героем процесса: трудность возвращения изуродованного цивилизацией человека под влиянием новой для него среды к своему естеству, к нормальному человеческому существованию. Здесь-то и начинает звучать во всю мощь собственно толстовская тема – тема нравственного обновления личности, понятая как восстановление прошлого, как возврат к изначальным, стихийным первоосновам жизни. «Толстой, кажется, ищет в человеке чего угодно, только не нового, – верно замечает С. Г. Бочаров, – он, напротив, апеллирует к первозданному, вечному, естественному, что лежит на дне души каждого, заваленное и заслоненное поверхностными наслоениями, о чем люди забыли, но о чем каждый может вдруг “вспомнить” в критическую минуту своей жизни…» [9. С. 230]
Так характерная для романтизма сюжетная ситуация (человек перед лицом природы, европеец среди нецивилизованных народов) насыщается совершенно своеобразным, собственно толстовским содержанием. (Впрочем, и эти толстовские представления генетически восходят к традициям русского романтизма, испытавшего воздействие просветительских идей. Как показал Ю. М. Лотман, Лермонтов – автор «Мцыри» – убежден: «достаточно снять с человека социальные напластования – и обнажится “детская”, то есть прекрасная природа человека» [10. С. 42].)
Трудность процесса нравственного обновления, столь пристально исследуемого Толстым, обусловлена прежде всего сложной душевной жизнью героя (с авторской точки зрения – предельной искаженностью культурного сознания, удаленного от естественной нормы). С другой же стороны, сложным, по меньшей мере двузначным, становится у Толстого само понятие естественности.
Действительно, в начертанной писателем программе духовного возрождения личности перед ней открывается возможность подняться на две ступени нравственного совершенства, пережить как бы две последовательные стадии.
На первой из них задача состоит в том, чтобы слиться с величественной, дикой природой и словно бы составляющей одно целое с ней патриархальной общиной, без остатка раствориться в этой «роевой» жизни. Пользовавшийся в Москве безграничной свободой, Оленин лишь здесь, в казачьей станице, понял: свобода эта ложная, мнимая; истинная же свобода состоит в том, чтобы сбросить с себя путы цивилизации. «Новое для него чувство свободы от всего прошедшего» зародилось у Оленина уже по дороге на Кавказ: «Чем грубее был народ, чем меньше было признаков цивилизации, тем свободнее он чувствовал себя» [1. Т. 6. С. 12–13]. А после недолгого пребывания в станице, за время которого «старая жизнь была стерта», на душе у него становится «свежо и ясно» [1. Т. 6. С. 13]. Наконец, следует упоминавшийся уже кульминационный эпизод (Оленин во время охоты в лесу), когда в сознании героя свершается решающий перелом.
Именно в этот момент с особой силой ощутил он свое единство с окружающим миром, испытал «такое странное чувство беспричинного счастья и любви ко всему». Мысль о том, «что вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное от всех существо», представляется ему теперь странной, даже нелепой. Кажется, он имеет на нее право не более, чем любой из мириадов комаров, которыми кишит лес: «И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и тогото, а просто такой же комар или такой же фазан или олень, как те, которые живут теперь вокруг него» [1. Т. 6. С. 76–77]. Комментируя приведенную сцену, И. А. Бунин проницательно заметил: «Это стремление к потере “особенности” и тайная радость потери ее – основная толстовская черта» [11. С. 31].
Но Оленин не просто переживает радость потери «особенности» и растворение в окружающей жизни – прямо по формуле Тютчева: «Дай вкусить уничтоженья, с миром дремлющим смешай!» Нравственную принципиальность и идеологическую отчетливость его ощущениям придают беседы с дядей Ерошкой – живым воплощением стихийно-языческого миросозерцания.
Какая-то удивительная, истовая любовь ко всему сущему отличает дядю Ерошку: к зверю, птице, бабочке, наконец, к другим людям вне зависимости от их веры, национальности, общественного положения. «Я бывало со всеми кунак, – рассказывает он Оленину, – татарин – татарин, армяшка – армяшка; солдат – солдат, офицер – офицер. Мне все равно, только бы пьяница был» [1. Т. 6. С. 55].
В глазах Ерошки человек – существо прежде всего природное. Он и должен быть свободен, как зверь или птица. «Хоть с зверя пример возьми, – убеждает он своего собеседника. – Он и в татарском камыше, и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что Бог дал, то и лопает» [1. Т. 6. С. 56]. И наоборот: свинья, например, для него не менее значительное и равноправное существо, чем человек: «Да и то сказать: ты ее убить хочешь, а она по лесу живая гулять хочет. У тебя такой закон, а у нее такой закон. Она свинья, а все она не хуже тебя; такая же тварь Божия» [1. Т. 6. С. 58].
Потому-то любые природные стремления кажутся дяде Ерошке нормальными, законными и прекрасными («Все бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет»). Всякие же морально-религиозные запреты и ограничения решительно отвергаются им как вздорная, ненужная выдумка «уставщиков» – «фальчь» [1. Т. 6. С. 56].
Вот эта проповедь природности, стихийности, свободное подчинение непреложным, вечным законам бытия и сближают отчасти Ерошку со Старым цыганом из пушкинской поэмы. Но Старый цыган являлся в то же время олицетворением наивно-патриархальной морали и личной добродетели, средоточием совести цыганского табора. Недаром в финале поэмы он от лица всей общины произносит суровый приговор убийце. Проповедуя и оправдывая свободу любви, он тем не менее остается верен своей Мариуле.
Ерошка же живет, не зная каких-либо моральных преград, запретов и ограничений, не ведая различия между добродетелью и пороком. Он ни в чем не видит греха, не боится посмертной кары (умрешь – «трава вырастет на могилке, вот и все» – [1. Т. 6. С. 56]). Он не считает чем-то зазорным пьянство, воровство, прелюбодеяние, даже убийство. Известный в округе как первый пьяница и вор, он только гордится этим, называет себя джигитом и удальцом.
Другое дело, что Ерошка – человек сердечный, жалостливый. Представитель старого поколения, он в большей мере, нежели молодежь, сохранил естественную, природную доброту. Но это именно личные качества, а не моральные принципы. Скажем, сожаление об убитом Лукашкой чеченце ни в коем случае не ведет к осуждению его поступка. Так и охотник может жалеть подстреленного зверя, но это не заставит его бросить свое ремесло.
Подобно речам Старого цыгана, суждения Ерошки могут быть названы «гласом народа». Он лишь яснее выражает, отчетливее формулирует те жизненные правила и моральные нормы, которыми безотчетно и полусознательно руководствуются жители казачьей станицы. Примечательно, например, что ни Лукашка, ни его товарищи не испытывают ни малейшего сожаления или раскаяния после убийства чеченца (как, впрочем, и никаких военно-патриотических чувств). Убитый горец для них просто добыча, такая же, как олень или кабан. Следовательно, благодетельная свобода казаков от цивилизации означает в то же время и неприемлемую для Толстого свободу от христианской религии и христианской морали.
Комментируя (в письме А. А. Толстой) свой рассказ «Три смерти», писатель, в частности, разъяснял: «Мужик умирает спокойно, именно потому, что он не християнин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия – природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня, и прямо, просто смотрел ему в глаза» [1. Т. 60. С. 265]. Точно так же «нехристианами», лишь «по обычаю» свершающими религиозные обряды, были в глазах Толстого и казаки вместе с их «идеологом» дядей Ерошкой.
Между тем для самого писателя высшей формой естественности была, конечно, естественность нравственного закона – неуклонное стремление делать добро ближнему, прирожденное, думал он, каждому человеку. Служение добру, подвиг самоотречения и самопожертвования составляют основу и самую суть нравственного идеала Толстого. И идеал этот, кажется, прямо противоположен жизненным установкам обитателей казачьей станицы.
Перед нами как будто бы вопиющая непоследовательность авторской мысли, очевидная несогласованность нравственно-философских убеждений писателя. По словам М. О. Гершензона, Толстой «очень мучился этой двойственностью, – своим органическим тяготением к природе, которая не знает разума и совести, и органической же потребностью в нравственном законе» [12. С. 145].
Однако в представлении самого Толстого обе эти формы естественности совсем не исключали друг друга; напротив, они были теснейшим образом взаимосвязаны. Природа для него – «проводник религии» [1. Т. 60. С. 294]. Природная, стихийно-языческая естественность, думал он, является ступенью, притом ступенью необходимой и обязательной, к естественности нравственно-христианской, к этике самоотречения и нравственного долга. Здесь ключ к моральной философии Толстого, к ее видимым противоречиям и парадоксам.
Да, казаки живут стихийно и бессознательно, как природа, тоже не ведающая морали. Но они не знают также и эгоизма – той исключительной сосредоточенности на самом себе, той гипертрофии личного самосознания, которые составляют страдание и мучение цивилизованного человека. Вот почему погружение в стихийную жизнь природы и связанное с этим отречение от своего «я», потеря «особенности» представляются Толстому своего рода «чистилищем» – промежуточным звеном на пути к высотам нравственного идеала. Только человек, переставший думать о себе, способен думать о других. Только тот, кто «прост», как дядя Ерошка, кому ничего не нужно для себя лично, способен служить другим людям.
Соотношение этих трех моментов, трех состояний: противоестественной жизни в лоне цивилизации, природной, стихийной естественности и, наконец, естественности нравственного закона, – их иерархическое положение на толстовской шкале нравственных ценностей наглядно выявляется в не раз упоминавшейся уже ключевой сцене повести – отдыха в лесу во время охоты.
Знаменательно, что в момент полного слияния с природой Оленин с особенным отвращением вспоминает прежнюю, московскую жизнь: «Он сам представился себe таким требовательным эгоистом, тогда как в сущности ему для себя ничего не было нужно». В свою очередь, ясное сознание, что для себя ничего не нужно, раскрывает перед героем новые нравственные горизонты, приводит eго к мысли о счастье других людей: «И вдруг ему как будто открылся новый свет. “Счастие – вот что, – сказал он сам себе: – счастие в том, чтобы жить для других”». И далее Толстой снова и снова настойчиво подчеркивает неразрывную связь обеих моральных истин: «Ведь ничего для себя не нужно, – все думал он, – отчего же не жить для других?» [1. Т. 6. С. 77, 78].
Перед нами один из основных парадоксов моральной философии Толстого. В стремлении к нравственному совершенству человек должен решить вопрос, который Оленин формулирует следующими словами: «Все равно, что бы я ни был: такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет, и больше ничего, или я рамка, в которой вставилась часть единого Божества, все-таки надо жить наилучшим образом» [1. Т. 6. С. 77]. И решение это состоит, по мысли писателя, в следующем: чтобы стать подобием Божиим, рамой для части единого божества, необходимо сначала забыть о себе, о своей исключительности, ощутить себя «таким же зверем, как и все», – одним из бесчисленного множества живых существ. Так выглядит толстовская иерархия нравственных ценностей.
И как всегда у Толстого, его моральная философия имеет прямую практическую направленность, определяет условия, при которых и возможна только деятельность на благо других людей. Писатель убежден, что стремление к добру не может быть результатом одного лишь теоретического, умственного решения, оно должно исходить из самых недр души, стать живой и естественной потребностью сердца. Если же «сердце молчит», то «нарочно делать добро – стыдно» [1. Т. 60. С. 294]. Другое же условие, другая трудность состоит, по мысли Толстого, в том, чтобы постичь истинные нужды, заботы и потребности окружающих, понять, что́ сами они считают жизненным благом. А для этого необходимо усвоить их взгляд на мир, научиться смотреть на вещи с их точки зрения, поставить себя на их место и, значит, опять-таки забыть о собственной персоне.
Деятельное добро, таким образом, оказывается, по Толстому, трудной проблемой, на которой то и дело спотыкаются его герои.
Почему, в самом деле, не имеет успеха попытка Делесова спасти Альберта? Да потому, что не Альберту нужно было перемениться, а ему, Делесову, стать другим и увидеть: жизненное благо в представлении художника и его собственное понимание блага – далеко не одно и то же.
Почему обречены на неудачу все усилия Нехлюдова осчастливить своих крепостных? Почему его добрые деяния не вызывают у них ни сочувствия, ни доверия, ни уважения? Опять-таки потому, что герой «Утра помещика» принял чисто рассудочное решение жить для блага ближнего своего, потому что оно, это решение, не было укоренено в глубинах его натуры. Он скорее играл в добро, нежели на самом деле творил его. Недаром же герой ощущает внутреннюю неловкость и смущение от своих благородных поступков.
«Тяжело становится Нехлюдову от того, – комментирует создавшуюся ситуацию П. П. Громов, – что он “лезет” в чужую жизнь и пытается ее по-своему перепланировать, не понимая ни хозяйственных, ни духовных особенностей этой чужой жизни» [13. С. 268]. Действительно, Нехлюдов остается чужим для крестьян, он хочет изменить их жизнь, подходя к ней, так сказать, извне, а не изнутри. А подобный путь, по убеждению Толстого, неизбежно обречен на неудачу.
И не случайно в финале произведения возникает эта лирическая греза – мечта Нехлюдова о том, чтобы превратиться в лихого ямщика наподобие Ильи Дутлова, т. е. перестать быть собой. Превращение в другого, отказ от самого себя, растворение собственной личности в море народной жизни и есть, по Толстому, единственно возможный путь к подлинной добродетели – естественности нравственного закона.
Оленин и стал первым толстовским героем, осознавшим необходимость такого пути к нравственному возрождению. Но пройти его Оленину также не удалось. Его «решение искать счастье в добре было только “умственной” работой, но не внутренним голосом», – замечает М. О. Гершензон [12. С. 145]. И в самом деле: в своем стремлении жить для блага других Оленин еще более наивен и беспомощен, нежели герой «Утра помещика». Вполне понятно, что его добрые поступки, искусственные и неловкие, не могут не вызвать у казаков ничего, кроме недоумения; а подаренный Лукашке конь лишь усиливает настороженно-недоверчивое отношение к нему жителей станицы.
Не дано подняться Оленину и на предшествующую, низшую ступень нравственного совершенства: сделаться простым и естественным, как казаки, слиться с их прекрасной, гармонически цельной жизнью. Он может искренне восхищаться ими, завидовать Лукашке, мечтать о женитьбе на казачке, о физическом труде. Он испытывает подлинное, глубокое чувство к Марьяне. И тем не менее он не способен перестроиться внутренне настолько, чтобы стать на точку зрения простых людей и ощутить незримые нити, прочно связывающие жителей станицы в единое целое.
Оленин по-прежнему остается человеком, всецело погруженным в самого себя и абсолютно чуждым казакам по своему душевному складу. В написанном незадолго до отъезда письме он характеризует себя как «исковерканное, слабое существо» – жертву «сложного негармонического, уродливого прошедшего» [1. Т. 6. С. 122]. Действительно, нормальность и естественность простых людей все еще остаются для него недостижимой мечтой.
Возникшая на последних страницах повести критическая ситуация, еще более сплотившая между собой казаков, с беспощадной ясностью обнаруживает непереходимую грань между ними и главным героем произведения. Во время стычки с горцами юнкер Оленин, несмотря на малочисленность казачьего отряда, все же остается только сторонним наблюдателем. Он не способен разделить общую тревогу обитателей станицы, горе Марьяны, оплакивающей смертельно раненного Лукашку. Он неизменно существует сам по себе – вне круга дел и забот, горестей и радостей казачьего мира. И станица отвергает его, решительно отказывает признать его своим.
Не случайно именно в конце повести обретает Оленин черты разочарованного романтического героя, которых он был почти демонстративно лишен в ее начале. Чем больше восхищает его простая, здоровая и естественная жизнь казаков, тем сильнее становится его отвращение, его ненависть к оставленному им светскому обществу, пустому, искусственному и фальшивому.
Как ни парадоксально, разочарование героя в обществе свершается, так сказать, постфактум. В противоположность персонажам романтических произведений он сначала бежит от него на Кавказ, а уж потом постигает все его уродство, все его безобразие.
«Как вы все гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь!» – с гневом обличает он в своем предотъездном письме ставшие уже чуждыми ему нравы большого света.
«Как только представятся мне вместо моей хаты, моего леса и моей любви, – развивает он свою мысль, – эти гостиные, эти женщины с припомаженными волосами над подсунутыми чужими буклями, эти неестественно шевелящиеся губки, эти спрятанные и изуродованные слабые члены и этот лепет гостиных, обязанный быть разговором и не имеющий никаких прав на это, – мне становится невыносимо гадко… Счастье – это быть с природой, видеть ее и говорить с ней» [1. Т. 6. С. 120–121].
Страстно-патетические признания Оленина, столь напоминающие знаменитый монолог Алеко о «неволе душных городов» (см. [2. С. 170–171]), ясно показывают: полусознательное противостояние героя среде, имевшее место в начале повести, перерастает теперь в сознательный и острый, романтически напряженный конфликт. Вообще, именно в финальных эпизодах и сценах особенно ясно обнаруживается связь повести с романтической традицией, с пушкинскими «Цыганами» прежде всего. Никогда ранее не любивший, Оленин испытывает теперь подлинно романтическую, «идеальную» страсть к женщине, ставшей для него живым воплощением высших сил бытия, – страсть безответную и безнадежную. «Любя ее, я чувствую себя нераздельной частью всего Божьего мира», – читаем все в том же письме [1. Т. 6. С. 123]. И потому равнодушие героини равнозначно для Оленина жизненной катастрофе, оно становится символом его нравственного крушения.
Но главное, конечно, тот безысходно-трагический отсвет, который ложится в финале «Казаков» на судьбу героя. Испытывая все растущее отчуждение по отношению к светскому обществу, Оленин остается чуждым и полюбившимся ему казакам. Надеявшийся «поймать» их в «сети любви», он заслужил только враждебность Лукашки, холодность Марьяны, равнодушие дяди Ерошки. Многозначительна в этом смысле заключительная сцена – отъезд героя из станицы: «Оленин оглянулся. Дядя Ерошка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах, и ни старик, ни девка не смотрели на него» [1. Т. 6. С. 150].
Одиночество Оленина, от которого отвернулись и которого не приняли казаки, сродни одиночеству изгнанного из цыганского табора Алеко. Как и пушкинскому герою, свободная и естественная жизнь простых людей оказалась Оленину не по плечу.
Мысль о невозможности для человека цивилизации уйти от самого себя, преодолеть свою душевную сложность, внутреннюю разорванность, свой индивидуализм и радостно-бездумно слиться с вольной жизнью простых людей – таков важнейший идейно-нравственный итог кавказской повести, явно перекликающийся с конечным выводом пушкинских «Цыган».
Можно сказать, таким образом, что антитеза природы и цивилизации получает под пером Толстого трактовку, принципиально отличную от романтической, полемически ей противопоставленную. И тем не менее в идейно-художественном строе «Казаков» сохраняется немало черт, позволяющих сблизить их с романтической традицией, с пушкинскими «Цыганами» прежде всего.
Идейно-художественные итоги «Казаков», ожившая в них романтическая традиция оказались важными и актуальными для Толстого – автора «Войны и мира» и «Анны Карениной», тем более что роман-эпопея начат был сразу же по окончании кавказской повести.
Значение «Казаков» в творческом развитии писателя состояло, как мы убедились, в том, что в них впервые выступил герой, ясно сознавший неизбежность разрыва со своей средой, со своим окружением, необходимость внутреннего обновления, очищения, «опрощения» в качестве важного и необходимого шага на пути к нравственному совершенству. Сам же этот путь, этот процесс преодоления себя предстал как чрезвычайно сложный, трудный, непосильный даже для незаурядной личности.
С другой стороны, для того чтобы процесс этот начался, герой должен был оказаться вне привычных условий повседневного существования, в обстоятельствах новых, особых, исключительных, он должен был соприкоснуться с «общей жизнью» простого народа – патриархальным крестьянским «миром». В «Казаках», иными словами, возникает первый вариант ситуации, которая составит затем основу двух величайших созданий Толстого-романиста.
Естественно, что на новом этапе творческого развития писателю понадобился герой, духовный и нравственный потенциал которого был значительно выше, нежели тот, каким располагал потерпевший крах Оленин. Ему понадобилась личность исключительная и яркая, еще резче контрастирующая со своим окружением, еще более явно «отчужденная» от него.
Действительно, интенсивностью духовной жизни, размахом нравственных исканий Андрей Болконский и Пьер Безухов резко выделяются среди всех толстовских героев.
Но чем более такой герой был личностью – индивидуальностью яркой, своеобразной и неповторимой, чем сильнее были развиты в нем рефлексия и самоанализ, чем больше его сознание было отягчено «грехами» культуры и цивилизации, тем труднее было ему преодолеть свое «я», победить свою «самость» и раствориться без остатка в море общенародной жизни.
Напряжение, неизбежно возникавшее между обоими полюсами: внутренней сложностью героя и стремлением эту сложность преодолеть, – стимулировало дальнейшую разработку приемов психологического анализа. Не случайно, что именно в «Войне и мире» толстовская «диалектика души» проявилась особенно ярко и полно.
И все же на собственные силы героев, даже таких необыкновенных и значительных, как Андрей и Пьер, Толстой не надеется. Вот почему столь важно было ему продолжить поиски особых, исключительных ситуаций, которые помогли бы герою одержать моральную победу над самим собой. В романе-эпопее ею стала Отечественная война 1812 г., война, породившая «мир» – нравственное единение и общность нации в борьбе с иноземными поработителями.
Духовная исключительность центральных героев произведения, устремленных к высшим идеалам и целям, необычность запечатленной в нем общественно-исторической ситуации, обращение к героическому прошлому, полемически противопоставленному современности, – во всем этом сказалась связь «Войны и мира» с художественным опытом «Казаков», а через них – с романтической (прежде всего пушкинской) традицией вообще.
Но и в «Анне Карениной», романе из современной писателю жизни, на первый взгляд контрастно противостоящем «Войне и миру» по своей проблематике, явственно ощутим идущий от «Казаков» романтический импульс. В самом деле, изображенная в романе трагедия разобщения, индивидуалистического разъединения людей не кажется писателю неизбежной.
В пореформенную эпоху, в пору стремительного крушения вековых устоев, «когда все это переворотилось и только укладывается», возникает, по мысли Толстого, особая, тоже в своем роде исключительная социально-историческая ситуация, открывающая перед русским обществом многообразные возможности, новые пути движения вперед.
Одним из таких возможных путей (и самым перспективным из них) представляется Толстому хозяйственно-экономическое и духовно-нравственное сближение помещика с народом, с «естественной» жизнью людей труда, которое писатель рассматривает как своего рода революцию. Это будет, говорит он устами Левина, «революция бескровная, но величайшая революция сначала в маленьком кругу нашего уезда, потом губернии, России, всего мира» [1. Т. 18. С. 363].
И точно так же, как в «Войне и мире», исключительность, необычность ситуации позволяют толстовскому герою на его нелегком пути к нравственному обновлению и постижению смысла жизни найти в конце концов выход из тупика, из лабиринта заблуждений, сомнений, кризисов.
Неустанное стремление главных героев к нравственному совершенству, возможному лишь на путях «отчуждения» от своей среды и сближения с «общей жизнью» народа; особая, исключительная, благоприятствующая этим стремлениям общественная ситуация (архаически-патриархальный уклад казачьей общины, всенародная освободительная война 1812 г., эпоха решительных социальных сдвигов и формирования новых отношений между людьми) – все это делает очевидной связь «Казаков» с «Войной и миром» и «Анной Карениной», позволяет увидеть в кавказской повести как бы прообраз обоих великих романов.
Можно заключить, следовательно, что Толстому оказалась близка не только сама по себе романтическая традиция и ее воплощение в пушкинских «Цыганах», но и найденный Пушкиным путь синтеза романтических и реалистических начал, ставший магистральным путем русской литературы XIX в.
1978
Литература
1. Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М.; Л., 1928–1959. (Юбилейное издание.)
2. Эйхенбаум Б. М. Пушкин и Толстой // Эйхенбаум Б. О. О прозе: Сборник статей. Л., 1969.
3. Заборова Р. Б. Основные образы повести «Казаки» // Лев Николаевич Толстой: Сборник статей и материалов. М., 1951.
4. Билинкис Я. С. О творчестве Л. Н. Толстого: Очерки. Л., 1959.
5. Шкловский В. Б. Лев Толстой. М., 1953. (ЖЗЛ.)
6. Бурсов Б. И. Лев Толстой: Идейные искании и творческий метод. 1847–1862. М., 1960.
7. Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Кн. 1: Пятидесятые годы. Л., 1928.
8. Фридлендер Г. М. Поэмы Пушкина 1820-х годов в истории эволюции жанра поэмы в мировой литературе: (К характеристике повествовательной структуры и образного строя поэм Пушкина и Байрона) // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 7. Л., 1974.
9. Бочаров С. Г. Толстой и новое понимание человека: «Диалектика души» // Литература и новый человек. М., 1963.
10. Лотман Ю. М. Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов // Учен. зап. Тартус. гос. ун-та. Вып. 119. Тарту, 1962.
11. Бунин И. А. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 9. М., 1967.
12. Гершензон М. О. Мечта и мысль Тургенева. М., 1919.
13. Громов П. П. О стиле Льва Толстого: Становление «диалектики души». Л., 1971.
Заключение
Постоянное обращение к духовному наследию и художественному опыту романтизма, сложное сочетание, взаимодействие и борьба начал романтических и собственно реалистических – в творчестве каждого большого писателя неповторимо-своеобразное – может быть названо характерной особенностью русского реализма даже в эпоху его наивысшего расцвета.
И в самом деле: несомненна особая роль романтизма в судьбах русской литературы, словно бы завершившей к концу 1840-х гг. целый цикл художественного развития. За одно столетие она прошла в ускоренном темпе путь от классицизма до критического реализма – путь, на который другим странам понадобилось несколько веков, – и все более утверждалась теперь на реалистических позициях. За этот короткий срок она не только освоила и переработала применительно к духовным запросам русского общества важнейшие эстетические теории, творческие программы и художественные стили европейской литературы, она сумела также создать непреходящие ценности национального и мирового значения.
Небывалая стремительность движения, обусловленная в конечном счете факторами социально-историческими, возможна была, в частности, потому, что наша молодая литература не пережила (да и не могла пережить) классицизма, сентиментализма, романтизма, так сказать, в полной мере. Все эти художественные направления существенно отличались от соответствующих им «классических» европейских форм, а их социально-историческое содержание и духовно-идеологическое наполнение были, как мы убедились, во многом иными, нежели в передовых странах Западной Европы.
Лишь теперь, начиная с 1840-х годов, Россия вступает в новую фазу общественного развития, отдаленно сходную с той, что пережила Западная Европа во второй половине XVIII – начале XIX в. И это частичное стадиально-типологическое сходство вызвало обращение русской литературы, уже твердо ставшей на путь реализма, к духовному наследию минувшей эпохи, сделало возможным «второе рождение» идей и художественных концепций, казалось бы, давно преодоленных: просветительства, сентиментализма, романтизма.
Суммарное, целостное освоение этих великих традиций, их сопряжение, сплав с новейшим художественным опытом, с завоеваниями и принципами реалистического искусства и определили универсальность, синтетичность русского реализма XIX в., о которых все чаще говорят наши исследователи.
Роль романтических начал в этом сложном синтезе была весьма существенна. Русский реализм, писал Н. Я. Берковский, «пограничен с романтикой. Он заходит глубже, чем показано наличной действительностью, а это уже приближает к романтизму». Его отличает «чувство бесконечных средств, которыми располагает национальная жизнь и которые едва изжили себя, едва выступили из-под спуда, – чувство подлинно романтическое» [1. С. 151, 152].
Действительно, в то время как на Западе критический реализм развивается в условиях стабилизации общества, относительной устойчивости социальных отношений, Россия во второй половине XIX столетия живет под знаком надвигающихся или свершающихся переворотов, типично романтическим чувством стремительности, даже катастрофичности, исторического движения. Особой остроты это чувство происходящего или уже происшедшего исторического перелома, смены общественных укладов достигает в пореформенную пору, когда страна переживает нечто подобное (пусть отдаленно подобное) тем социальным катаклизмам, которые сотрясали западный мир на рубеже XVIII и XIX вв. (вспомним еще раз толстовскую фразу о переворотившейся жизни), когда сама действительность начинает казаться ирреальной, невероятной, фантастической, – в пору крушения вековых патриархальных устоев, разрыва привычных общественных связей и усиливающегося разъединения людей. Ощущение пограничности, переходности эпохи и создает внутренние предпосылки, открывает новые возможности для своеобразного возрождения и развития романтических традиций.
Сложность социально-идеологической ситуации в России усугублялась еще и тем, что простое повторение европейского опыта казалось невозможным: отрицательные черты буржуазной цивилизации и торжествующего капитализма были слишком очевидны. Русские писатели не хотели, не могли принять того будущего, которое неотвратимо надвигалось на них, неизбежность которого, в общем, была несомненна. Их искренний, горячий протест против «укладывающегося» в стране нового, буржуазного строя тоже нередко принимал романтический характер, более или менее густо окрашивался в романтические тона.
Действительно, надежда миновать буржуазную стадию общественного развитии (что, как известно, и составляет главную мировоззренческую предпосылку романтизма), мысль о возможности какого-то иного исторического пути, ведущего к более справедливому и гуманному строю, мечта о коренном преображении мира и человека, грандиозный масштаб задач и максимализм идеалов – эти характерные черты зрелого русского реализма еще более усиливали свойственный ему романтический пафос.
Естественно, что крупнейшие писатели второй половины XIX столетия: Тургенев и Гончаров, Л. Толстой и Достоевский, Островский, Некрасов, Лесков и др. – обращались к наследию романтизма, осваивали и перерабатывали его художественный опыт. Нередко они создавали произведения, в большей или меньшей степени приближавшиеся к романтизму по своим идейно-художественным принципам. Таковы, например, пьеса Островского «Снегурочка», многие тургеневские повести и «Стихотворения в прозе». Таковы «Белые ночи» Достоевского или «Казаки» Толстого.
Но и сугубо реалистические произведения русской литературы оказывались нередко внутренне связанными с романтической традицией: несравненно сильнее, чем в реализме западноевропейском (особенно французском – с его объективностью и аналитизмом, с его последовательной ориентацией на задачи и методы точных наук), выражено в них стремление писателя к идеалу, воплощена мечта об изменении и преобразовании жизни. Более тот, задача художественно-аналитического исследования современности, первостепенная для реалистов на Западе, были подчинена в русском реализме задаче преображения мира и человека. Изучение жизни и ее законов выступало с этой точки зрения как необходимое условие, как предпосылка грядущего обновления – социального и нравственного. Отсюда тяготение русских писателей-классиков к постановке сложнейших мировоззренческих проблем, интерес к возможностям, таящимся в жизни и природе человека, устремленность за пределы «наличного бытия».
Все это вместе взятое и предопределило плодотворность, непреходящую значимость осуществленного Пушкиным широчайшего художественного синтеза «действительного» и «идеального» (см. [2. С. 344]) – единства доромантических, романтических и реалистических начал – в истории отечественной словесности и русской культуры вообще.
Литература
1 Берковский Н. Я. О мировом значении русской литературы. Л., 1975.
2 Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.
Послесловие
Нельзя не признать, что проблема литературных направлений, их смены в ходе литературного развития, своеобразного соотношения романтизма и реализма в русской литературе и в творчестве отдельных писателей отнюдь не принадлежит ныне к числу самых важных, актуальных, наконец, самых модных.
Что греха таить, наука о литературе тоже подвержена веяниям моды. Так, в годы «оттепели» началось повальное увлечение структурализмом. Выход работ М. М. Бахтина породил волну работ о диалоге и полифонии. Во времена «перестройки» возник феномен «православного литературоведения». Тогда же стало набирать силу негативное отношение к сложившейся системе научных понятий, в их числе к вопросу о литературных направлениях и прежде всего – к реализму. Необходимость такой ревизии обосновывается обычно тем, что творчество ряда писателей, особенно крупных, с трудом умещается в рамках какого-либо направлении, а то и вовсе стоит особняком.
Да и сами литературные направления многослойны, внутренне неоднородны, недостаточно четко отграничены друг от друга, в результате чего постоянно возникают переходные, смешанные, гибридные формы (см., например: Маркович В. М. Вопрос о литературных направлениях и построении теории русской литературы XIX в. // Известия РАН. Серия литературы и языка. Т. 52. № 3. 1993).
Все это как будто самоочевидно. Но столь же самоочевидно и другое: категория литературного направления существует вовсе не для того, чтобы к имени любого писателя можно было безоговорочно прикрепить ярлык сентименталиста, романтика, реалиста и т. п. Она призвана лишь отметить главные вехи движения литературы, обозначить важнейшие стадии литературного процесса, его ориентиры. И такие ориентиры необходимы не только специалистам-исследователям, но и самим писателям – для осмысления и корректировки собственных художественных принципов, выработки творческих программ, уяснения своего отношения к предшественникам, последователям, оппонентам. Без страстных, ожесточенных споров классиков и романтиков, романтиков и реалистов, символистов и акмеистов, споров между самими романтиками, реалистами о сути романтизма, реализма, искусства вообще – невозможно представить себе литературную жизнь минувших эпох.
Словом, борьба и смена литературных направлений – это не выдумка литературоведов, но неотъемлемая часть истории литературы.
Сокровенные смыслы
Предисловие
Критическая литература о Пушкине поистине необозрима. Разумеется, не все написанное о нем равноценно: многое выглядит сегодня откровенно ошибочным, многое безнадежно устарело. Но внушителен и «золотой фонд» пушкинской критики. И неудивительно: авторами критических статей, рецензий, речей, книг о Пушкине были знаменитые писатели-классики, выдающиеся мыслители, поэты, авторитетные критики. Созданная ими пушкиниана составляет яркую, блистательную страницу в истории русской культуры, остается нашим бесценным духовным достоянием.
И все же постижение творчества Пушкина оказалось для русской критики делом мучительно трудным. Вокруг имени поэта сразу же разгорелись ожесточенные споры, не прекратившиеся и после его смерти, сталкивались разные, порой крайние мнения. Даже сейчас, по прошествии почти двух столетий со дня смерти поэта, накал страстей вокруг его имени не ослабевает. И дело тут не только в разности вкусов, взглядов, позиций отдельных критиков, но и в «неуловимости», «загадочности» самого творчества Пушкина, в «головокружительной краткости» его слога (А. Ахматова) и обманчивой ясности его созданий, в абсолютной слитности художественного содержания и способов его выражения, затрудняющей выявление и отчетливое истолкование центральной идеи, системы взглядов писателя.
Не менее существенна, однако, и еще одна сторона дела. Нередко читатели, критики, даже исследователи вольно или невольно игнорируют глубоко запрятанные подтексты, скрытые, потаенные смыслы пушкинских творений.
О том, насколько они значимы, насколько важны для понимания как отдельных произведений поэта, так и его творчества в целом, и пойдет сейчас речь.
Мифология пушкинистики
Не боясь преувеличения, можно сказать, что история осмысления русской критикой пушкинского наследия – это в значительной степени драма непонимания. Приближение к истине нередко отзывалось искажением сути и духа пушкинского гения, сопровождалось созданием и утверждением легенд и мифов о Пушкине. Не вдаваясь в детали, остановимся сейчас на трех основных, наиболее устойчивых мифах, которые во многом определили посмертную судьбу поэта и его произведений в «большом времени» (М. Бахтин). Именно, поэтому они могут быть названы великими мифами.
Первый из них, начавший формироваться еще при жизни Пушкина, но прочно утвердившийся и получивший широкое распространение после его смерти, это миф о нем как «чистом художнике – служителе красоты», чье творчество лишено сколько-нибудь серьезного и значимого общественного содержания. Наиболее полно этот взгляд был обоснован Белинским в его знаменитом цикле статей о Пушкине и в особенности – в статье пятой, где раскрывается «пафос» пушкинской поэзии, т. е. ее «нерв», ее главенствующая идея и внутренняя суть.
Пафос творчества Пушкина, а вместе с ним – и разгадку тайны его поэзии Белинский видит в артистизме и художественности. Разъясняя свою мысль, критик говорит, что вся допушкинская поэзия несла на себе печать рассудочности и дидактизма – родовых черт XVIII столетия. Пушкин же явил нам поэзию в чистом виде, сделал ее в полном смысле искусством слова. Он первым в нашей литературе разгадал тайну поэзии! Красота, артистизм, изящество пушкинских стихотворений, полагает Белинский, заключается не просто в совершенстве их формы, но и в красоте и изяществе выраженного в них чувства, ибо это – чувство человека-художника. Отсюда – внутренняя красота личности и «лелеющая душу гуманность» как главные свойства его лирики, определяющие ее «общий колорит» [1. С. 339].
Но в том же артистизме, в той же художественности, по мысли Белинского, таится и ограниченность пушкинской поэзии, неспособной ответить на «тревожные, болезненные вопросы настоящего». Творчество Пушкина, чуждое социальному анализу и глубоким раздумьям о жизни, убежден критик, не отвечает уже потребностям нового времени, настоящей минуты. Поэтому значение его не абсолютно, не безусловно. Тем не менее в его наследии есть ценности вечные и незыблемые.
Двойственность позиции Белинского очевидна. Впоследствии Чернышевский, во многом опираясь на своего предшественника и воспроизводя его суждения, заметно усилит критические нотки по адресу Пушкина. Тем самым он проложит путь к еще более резким, порой беспощадным отзывам о поэте Добролюбова и полному развенчанию его в статьях Писарева.
Если Белинский видел в пушкинском наследии вечно живое, развивающееся явление, по-новому открывающееся каждому поколению читателей, то Чернышевский ограничивает значение Пушкина рамками определенного исторического периода, уже уходящего в прошлое, предрекает наступление времени, когда творчество поэта останется только памятником эпохи. Обосновывая свой прогноз, Чернышевский противопоставляет «поэта мысли», «определенного воззрения на жизнь» и поэта, для которого «художественность», «артистизм», совершенство формы составляет главную творческую задачу. Поскольку Пушкин, утверждает он, принадлежит поэтам второго рода, он не сопоставим по масштабу с поэтами-мыслителями, такими как Байрон, Шиллер, Гете. К тому же забота о совершенстве формы, полагал критик, неминуемо ведет к объективизму, беспристрастности искусства, предполагает нейтральность общественной позиции писателя. Чернышевский считал, что зрелые, наиболее совершенные творения Пушкина наименее значимы в общественном отношении. Этим-то и объясняется охлаждение читателей-современников к его позднему творчеству. Вот почему Пушкин не может уже играть в русской литературе первенствующую роль. Роль эта по праву перешла к Гоголю – главе социально-обличительного, «отрицательного» направления (см. [2]).
До логического конца эта линия революционно-демократической критики доведена в известных статьях Писарева, в которых содержится беспощадная и уничтожающая оценка всего творчества Пушкина. В «так называемом великом поэте» критик увидел лишь легкомысленного стихотворца, «опутанного мелкими предрассудками, погруженного в созерцание мелких личных ощущений и совершенно не способного анализировать и понимать великие общественные и философские вопросы нашего века» [3. С. 415]. Конечно, это предел вульгаризации, до которого не доходили ни Чернышевский, ни Добролюбов, но своими корнями критика Писарева уходит в их теоретические построения.
Самое поразительное, однако, что и сторонники так называемой «эстетической критики» (П. В. Анненков и А. В. Дружинин прежде всего), отвергая взгляды своих оппонентов-«утилитаристов», соглашались с ними в наиболее существенном пункте. Они тоже считали Пушкина «чистым» художником, «художником-артистом», но видели в этом не порок, а заслугу поэта. Творчество Пушкина они рассматривали как лучшее, самое сильное противодействие утилитаристскому подходу к искусству, а служение чистой красоте – как главное достоинство его поэзии. Согласно их концепции, общественное значение искусства состоит не в прямом воздействии на современный быт и современные нравы, а в служении высшим общечеловеческим идеалам – истины, добра, красоты. Творчество Пушкина в этом смысле было для них эталоном.
Итак, непримиримые противники сходились в главном: творчество Пушкина казалось им лишенным социальной остроты, актуального общественного содержания. Неудивительно, что писаревская оценка, писаревский взгляд на Пушкина надолго утвердился в сознании читающей публики.
Лишь в последние десятилетия XIX в. ситуация существенно изменилась. Поворот явственно обозначился на торжествах по случаю открытия памятника Пушкину на Тверском бульваре в Москве (1880), прошедших под знаком всенародной любви к поэту. Центральным событием грандиозного пушкинского праздника стала знаменитая речь Достоевского, вызвавшая всеобщий энтузиазм и получившая небывалый резонанс. Оглушительный успех этой речи во многом объясняется тем, что Достоевский (в отличие, скажем, от Тургенева) говорил главным образом не о художественном совершенстве произведений Пушкина, не о чисто литературном значении его наследия, но прежде всего – о его жгучей общественной актуальности, о том, что «всемирная отзывчивость» Пушкина может способствовать духовному возрождению русского народа, ясному осознанию им своей всечеловеческой предназначенности, ибо «назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное» [4. С. 147].
Речь Достоевского резко изменила отношение к Пушкину читательской аудитории, вызвала новую волну интереса к его творчеству. С другой стороны, ее откровенная национально-почвенная ориентация, содержащаяся в ней проповедь идеи русского мессианизма, идеализация смирения и отрицание протеста – все это положило начало созданию второго мифа о Пушкине, Пушкине как истинном христианине и убежденном монархисте.
Действительно, на протяжении 1880–1890-х гг. складывается и получает все большее распространение представление о Пушкине – стороннике самодержавия, который, по едкому выражению А. Блока, «обожал царя» и который, преодолев юношеское вольномыслие, постиг, наконец, «смиренную красоту и правду религиозного миросозерцания» (см., напр., [5]). На Пушкина все больше и больше наводят «хрестоматийный глянец», его творчество получает официальное признание, оно входит в школьную программу. Официально-парадный характер принимает во многом и столетний юбилей поэта, героем которого становится, по словам современника, «урезанный и подправленный Пушкин» (см. [6. С. 87–89]).
Свое дальнейшее развитие и обоснование эти идеи получат в эмигрантской религиозно-философской критике первых десятилетий нашего века (особенно в связи со столетием гибели Пушкина). Примечательны уже сами заглавия посвященных Пушкину статей: «Поэт империи» (С. С. Ольденбург), «Певец империи и свободы» (Г. П. Федотов), «Религиозность Пушкина» (С. Л. Франк), «Пророческое призвание Пушкина» (И. А. Ильин), «Пушкин – наш первый национальный учитель» (Н. А. Цуриков).
Вот, наудачу, несколько характерных суждений: «Пушкин не принадлежал к числу бунтарей. Он больше утверждал, нежели отрицал, – и он был кровно связан со всем величавым строем Императорской России» (С. С. Ольденбург) [7. С. 197–198]; «Пушкин не отрицал национальной силы и государственной мощи. Он ее, наоборот, любил и воспевал. Недаром он был певцом Петра Великого. И в то же время, этот ясный и трезвый ум… почтительно склоняется перед неизъяснимой тайной Божьей, превышающей все земное и человеческое» (П. Струве, «Именем Пушкина») [8. С. 61]; «Русская государственность, повторяю, нашла в Пушкине певца силы исключительной». Поэт утверждал «сильную и щедрую, могучую и великодушную, суровую и приветливую Великую Россию», – писал в вышеназванной статье Н. А. Цуриков [8. С. 162]; «Так совершал Пушкин свой духовно-жизненный путь: от разочарованного безверия – к вере и молитве; от революционного бунтарства – к свободной лояльности, к мудрой государственности; от мечтательного поклонения свободе – к органическому консерватизму, от юношеского многолюбия – к культу семейного очага» (И. А. Ильин, «Пророческое призвание Пушкина») [9. С. 339].
Правда, даже самые горячие сторонники подобной концепции вынуждены были признать, что «личная церковность» Пушкина «не была достаточно серьезна и ответственна, вернее, она все-таки оставалась барски-поверхностной, с непреодоленным язычеством сословия и эпохи». Зато, убеждены они, ему «был свойствен свой личный путь и особый удел, – предстояние пред Богом в служении поэта» (С. Н. Булгаков, «Жребий Пушкина») [9. С. 278–279].
Такой подход давал основание интерпретировать в религиозном духе собственно эстетические высказывания и суждения Пушкина, его стихи о роли поэзии и назначении поэта. С удивительной прямотой и откровенностью говорит об этом И. Ильин: «…все меньше смущает нас то, что мешало некоторым современникам его видеть его пророческое призвание, постигать священную силу его вдохновения, верить, что это вдохновение исходило от Бога. И все те священные слова, которые произносил сам Пушкин, говоря о поэзии вообще и о своей поэзии в частности, мы уже не переживаем как выражения условные, “аллегорические”, как поэтические олицетворения или преувеличения» [9. С. 329]. То есть, когда Пушкин говорит: «Аполлон», «алтарь», «священная жертва», «жрецы», «божественный глагол» и т. п., это следует понимать не как поэтические иносказания или аллегории, но буквально – как прямые свидетельства личного религиозного опыта поэта, его непосредственных мистических переживаний.
Аналогичным образом С. Н. Булгаков настаивает на том, что сюжет стихотворения «Пророк» не может быть истолкован как чисто «эстетическая выдумка» (ибо «тогда нет великого Пушкина»). Ничего подобного, полагает почтенный автор: Пушкин «описывает здесь то, что с ним самим было, т. е. данное ему видение божественного мира под покровом вещества» [9. С. 282]. Так и хочется спросить: ну, а когда Пушкин говорит о поэте как о царе («Ты царь: живи один…»), он тоже описывает «то, что с ним было», запечатлевает свой биографически-личный опыт?
Вообще, полемизировать всерьез с этой наивной точкой зрения решительно невозможно. Достаточно напомнить, что именование поэта пророком, жрецом Аполлона, служителем муз было давней литературной традицией и в пушкинское время встречалось едва ли не на каждом шагу. Считать это «эстетической выдумкой» самого Пушкина нет никаких оснований. И, конечно, Вл. Ходасевич был прав, когда в полемике с Булгаковым отстаивал чисто художественную, а не автобиографическую природу стихотворения «Пророк» [10. С. 405].
Как бы там ни было, но религиозно-монархический миф о Пушкине оказался необычайно устойчивым и живучим. Он захватил не только критику, но и академическую науку, культуру, образование. С еще большим основанием это можно сказать и о третьем мифе (возникшем в советское время, в противовес второму), мифе о Пушкине как непримиримом враге самодержавия, пламенном революционере, друге и единомышленнике декабристов.
Миф этот должен быть признан прямым следствием общей официально-идеологической установки, предписывавшей рассматривать классическую русскую литературу как явление прогрессивное, враждебное самодержавию и крепостничеству, объективно революционное.
И, конечно, жизнь и творчество Пушкина оказались едва ли не самым благодатным материалом для подтверждения и иллюстрации подобной концепции.
В ходе разработки новой, «революционной» версии пушкинского творчества были выдвинуты следующие основные положения:
1. Несомненность личного знакомства Пушкина с декабристами, его тесные дружеские связи со многими из них;
2. Популярность его вольнолюбивых стихотворений в декабристских и околодекабристских кругах, их безусловная агитационно-пропагандистская роль;
3. Политические репрессии, которым подвергался поэт (южная и северная ссылки, увольнение со службы, тайный полицейский надзор и т. п.);
4. Отражение декабристских идей в мировоззрении и творчестве Пушкина;
5. Верность поэта декабристским идеалам после восстания 14 декабря.
Надо ли говорить, что совокупность этих суждений, каждое из которых само по себе может считаться в той или иной мере справедливым, не отражает ни реальной сложности общественной позиции Пушкина, ни стремительной эволюции его взглядов? Добавим, что весьма упрощенно, однолинейно изображались при этом и взгляды самих декабристов. В результате облик поэта вновь оказывался до неузнаваемости искаженным.
Еще раз подчеркнем: всеобщее и безусловное распространение, долгое господство этого мифа в нашей стране объяснялось во многом причинами идеологически-конъюнктурными. Но не только ими. Не забудем, что революция открыла исследователям доступ к государственным архивам и секретным материалам. Им удалось выявить и ввести в научный оборот целые пласты неизвестных фактов касательно связи Пушкина с освободительным движением и его конфликта с властью. Немалую роль сыграло и то обстоятельство, что в эпоху господства мифа о Пушкине как стороннике самодержавия тема вольномыслия поэта была не в почете, оставалась полузапретной. Достаточно сказать, что в своей замечательной речи «Пушкин и Царское село», произнесенной в год столетия поэта, И. Анненский (в ту пору директор Николаевской гимназии в Царском Селе), вынужден был обходить многие острые углы пушкинской биографии. Он не мог открыто говорить о дружбе Пушкина с декабристами, о ссылке поэта, о его конфликте с правительством и двором, трагическом финале его жизни [11. С. 342–343]. А выступивший против официальной концепции творчества поэта В. Е. Якушкин, который в своей юбилейной речи «Общественные взгляды Пушкина» говорил о его глубокой связи с освободительным движением и его верности декабристским идеям, был выслан за это на два года из Москвы (см. [6. С. 88]).
Верно и обратное: насильственное насаждение версии о Пушкине-революционере способствовало «второму пришествию» мифа о православии и монархизме поэта, которое мы наблюдаем в наши дни. Словом, одна крайность порождала другую.
Односторонность каждого из трех названных мифов очевидна. Точно также очевидно, что в каждом из них заключена немалая доля истины. Ведь Пушкин на самом деле был и непревзойденным поэтом-художником, и певцом свободы, другом декабристов, и защитником российской государственности… Собственно, это вытекает из самого понятия мифа, если применить его к процессу функционирования литературного творчества (а не к изучению генезиса художественного творения, как это обычно бывает). Можно сказать, что миф в этом смысле основан на принципе синекдохи (часть вместо целого), он абсолютизирует одну грань, одну сторону явления (в нашем случае – творчества писателя) за счет других. И в этом «мифологизме» посмертных истолкований и заключена самая суть того, что мы назвали «драмой непонимания» поэта.
Разумеется, преодолеть односторонность каждой из трех версий совершенно необходимо. Это, можно сказать, насущная задача сегодняшнего постижения Пушкина. Однако простое их суммирование тоже не приведет нас к успеху. Необходимо выявить их внутреннюю, глубинную связь, заложить основы их возможного синтеза. Только так мы сможем уяснить суть трудноуловимой пушкинской позиции. И надо признать, что первые шаги по этому пути уже сделаны.
Еще Ап. Григорьев в статье «Взгляд на русскую литературу по смерти Пушкина» (1859) говорил об удивительной способности поэта вобрать в своем творчестве единство прямо противоположных начал, свойственных русскому национальному самосознанию: и смирение перед реальной действительностью, и ее неприятие, готовность к протесту. Именно в этом смысл его крылатой фразы: «Пушкин – наше всё». В поздней статье П. В. Анненкова «Общественные идеалы Пушкина» (1880) социально-политические воззрения поэта предстают как сложная и парадоксальная, но целостная система, как «домашняя, секретная теория разумного гражданского существования» [12. С. 596]. Секретная, ибо политические взгляды Пушкина были столь взрывоопасными, что даже полвека спустя Анненков вынужден был многое не договаривать, тщательно обходить острые углы. Тем не менее он ясно показал: беда России, по мысли Пушкина в том, что усилиями верховной власти старинное дворянство – главная опора трона – низведено до уровня «среднего состояния» (т. е. «третьего сословия»). Но столь радикальные перемены грозят ответными общественными потрясениями, которые необходимо предотвратить. К сожалению, умная, дельная и спокойная статья Анненкова не оценена по достоинству.
Обратим также внимание на статьи С. Л. Франка «Пушкин как политический мыслитель» [9. С. 396–421] и Г. П. Федотова «Певец империи и свободы» (обе – 1937), в которых сделана попытка нащупать внутреннюю связь между свободолюбием и консерватизмом поэта. Так, Г. П. Федотов, констатируя верность Пушкина идеалам свободы на протяжении всей жизни, говорит также и о преданности поэта идее российской государственности: «Во всяком случае, в его храме Аполлона было два алтаря: России и свободы» [9. С. 356]. «Каким же образом Пушкин мог совмещать служение этим двум божествам?» – спрашивает философ. Возможна ли «свобода, сопряженная с империей?» [9. С. 362, 368]. И хотя ответы на эти вопросы даются весьма осторожные и уклончивые, сама постановка проблемы поистине замечательна.
Между тем механизм сопряжения и взаимодействия обоих начал может быть объяснен более конкретно и определенно. Действительно, зрелый Пушкин – вслед за Карамзиным – рассматривал самодержавие как наиболее естественную для России форму государственного правления. Однако он никогда не был певцом современной ему империи – александровской и николаевской монархии. Его привлекала государственность допетровской Руси, в судьбах которой важнейшую роль играло старинное дворянство. К потомкам этих древних родов Пушкин относил самого себя и своих друзей – декабристов. Именно ситуация вольного дружественного союза монарха и древней аристократии отвечала политическим идеалам Пушкина. Именно по этому пути надеялся он направить и развитие современной ему России.
Соответственно, мятеж декабристов он рассматривал как исторически оправданное и закономерное выступление потомков старинных родов в защиту своих древних прав, несправедливо и незаконно попранных Петром I и его преемниками (потому-то и называл он Петра революционером и уравнителем). Причем выступление против «самовластья» в защиту прежних обычаев и традиционных порядков, полагал поэт, отвечало не только узкосословным интересам старой аристократии, но и всего народа. Ибо истинная аристократия, материально и политически независимая (в отличие от полностью зависимого от царской милости нового дворянства), призвана служить представительницей и защитницей народа перед лицом верховной власти. А ее постепенное уничтожение, все большая утрата ею политического значения (к чему приложили руку Романовы) чреваты социальной катастрофой – русским бунтом, «бессмысленным и беспощадным». Таким образом идеалы свободы органично совмещаются в сознании Пушкина с идеалами русской государственности, а сочувствие мятежу – с защитой общественной стабильности.
Система взглядов на историю и современность высказана Пушкиным во многих заметках, статьях, художественных текстах, по большей части неоконченных. Она получила свое воплощение и в произведениях завершенных – общеизвестных пушкинских шедеврах. К некоторым из них мы сейчас и обратимся.
1999
Литература
1. Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая // Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 7. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955.
2. Чернышевский Н. Г. Сочинения Пушкина. Статья вторая // Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 2. М.: Гослитиздат, 1949.
3. Писарев Д. И. Пушкин и Белинский // Писарев Д. И. Сочинения: В 4 т. Т. 3. М.: ГИХЛ, 1956.
4. Достоевский Ф. М. Пушкин. Очерк // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 26. Л.: Наука, 1984.
5. Незеленов А. И. Александр Сергеевич Пушкин. Первый и второй период жизни и деятельности. СПб., 1882.
6. Пушкин. Итоги и проблемы изучения / Коллективная монография под ред. Б. П. Городецкого, Н. В. Измайлова, В. С. Мейлаха. М.; Л.: Наука, 1966.
7. Ольденбург С. С. Поэт империи // Тайна Пушкина. Из прозы и публицистики первой эмиграции / Сост. М. Д. Филин. М.: Эллис Лак, 1998.
8. «В краю чужом…». Зарубежная Россия и Пушкин. Статьи. Очерки. Речи / Сост. М. Д. Филин. Рыбинск, 1998.
9. Пушкин в русской философской критике. Конец ХIХ – первая половина XX вв. / Сост. Р. А. Гальцева. М.: Книга, 1990.
10. Ходасевич В. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М.: Согласие, 1996.
11. Фридман Н. В. Иннокентий Анненский и наследие Пушкина // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 50. № 4. 1991.
12. Анненков П. В. Общественные идеалы Пушкина // Вестник Европы. № 6. 1880.
«Евгений Онегин»: поэтика подразумеваний
Одна из парадоксальных особенностей «Евгения Онегина», во многом формирующая внутренне противоречивый художественный мир пушкинского романа[5] может быть определена как несовпадение предмета изображения и характера изображения.
Действительно, центральная тема «Онегина» – судьба героя времени, его духовно-нравственное самоопределение, неудовлетворенность сущим и поиски места в жизни. Перед нами – «роман о горестных судьбах молодых людей, умных и страстных, о том, как их ум, талант, пылкость чувств не понадобились обществу» [2. С. 3].
Поразительно, однако, что обо всех этих вещах, важных, серьезных, печальных, говорится как-то беспечно и легко, порой даже легкомысленно, а главное – бегло и вскользь. Поэт едва касается, казалось бы, самого существенного – внутреннего мира своих героев, их взглядов и переживаний, мыслей и чувств. Зато о внешней, бытовой стороне жизни, нравах и обычаях, буднях и праздниках провинции и столицы повествуется обстоятельно, конкретно, детально, как будто для того, чтобы утопить в этих подробностях самую суть дела.
С этим связана и другая важнейшая особенность романа. Как неоднократно отмечалось, повествование ведется в нем от лица условного автора, близкого друга или хорошего знакомца центральных персонажей, а в то же время – человека, коротко знакомого с читателями – «друзьями Людмилы и Руслана». И благодаря этому особому положению автора (которого было бы правильнее назвать героем-автором) он сам, его персонажи и читатели сближаются, оказываются объединенными в общий приятельский круг, что позволяет ему вести рассказ в свободной, непринужденной манере – как бы в расчете «на своих» (см., например, [3. С. 157–159]). Отсюда – тон дружеской беседы, а порой и легкомысленной болтовни, имитирующей устную речь, интонация доверительного разговора, где все понятно с полуслова, полунамека, а многое позволено и вовсе оставить без объяснения. Именно такая поэтика – поэтика подразумеваний – может быть названа определяющей чертой пушкинского романа в стихах.
Как же объяснить столь необычное, парадоксальное строение «Онегина»? Разумеется, определенную роль сыграла здесь оглядка на цензуру: рассказать впрямую о духовных исканиях и свободолюбивых стремлениях своих современников в подцензурной печати было делом чрезвычайно трудным, почти безнадежным. Сам замысел такого произведения выглядел небывало смелым и дерзким. Недаром же, начиная работу над романом, поэт опасался, что ему не удастся завершить, а тем более опубликовать свой труд. В предисловии к отдельному изданию первой главы (1825) он сразу же предупреждал своего читателя: «Вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено» [4. Т. 5. С. 427]. А в письмах друзьям (1823–1824) не раз высказывал опасения, что его роман вряд ли может быть допущен «в небесное царствие печати».
Но такое, отчасти вынужденное решение было исполнено у Пушкина (как у всякого крупного художника) глубокого смысла. Это было в полном смысле слова художественное решение, выражающее сокровенную суть пушкинской позиции. Ибо определяющей чертой своего поколения и его судьбы, смыслом его исторической драмы поэт считал роковое противоречие между скрытыми возможностями, огромными потенциями личности и ее общественной невостребованностью. По словам Л. П. Гроссмана, Пушкин «видел в Чаадаеве, Грибоедове, Николае Раевском, Каверине, Пущине, Лунине, Тургеневе выдающихся русских людей эпического масштаба» [5. С. 224]. И ему казалось ненормальным и трагичным такое положение вещей, когда личности необыкновенные, исключительные, яркие, призванные по своим дарованиям и своему социальному положению к активной, исторически значимой деятельности, вынуждены вести жизнь людей обычных и заурядных – помещиков, чиновников, офицеров.
В стихотворной надписи «К портрету Чаадаева» (конец 1810-х гг.) об этом сказано так:
Он вышней волею небес Рожден в оковах службы царской Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, А здесь он – офицер гусарской. [4. Т. 1. С. 371]То есть, человек масштаба Перикла или Брута может в современной поэту России быть всего лишь гусарским офицером! (ср. [6. С. 317]). И, значит, наоборот: обличье чиновника, офицера, студента, помещика, светского денди, по убеждению Пушкина, может скрывать и нередко скрывает людей незаурядных, выдающихся, таланты замечательные, обладающие задатками крупных общественных деятелей. Но им нет простора, нет возможности проявить свои силы и дарования! В сюжете «Онегина» это противоречие выступает как разрыв между повседневным, бытовым обликом героя и его глубинной сутью. Именно здесь – «нерв» пушкинского романа в стихах!
Можно сказать даже, что автор ведет с читателем искусную и сложную игру. Он намеренно смещает акценты, нарочито занижает вольнолюбивый потенциал своих героев, масштаб их личности, их духовный и интеллектуальный уровень. От читателя требуются определенные усилия, чтобы понять и оценить истинный смысл многозначительных, но как бы случайных деталей, разнообразных намеков, недосказанностей, умолчаний, заведомо неполных, лукавых, а то и просто мнимых мотивировок поступков и действий центральных персонажей. Ограничимся лишь несколькими примерами.
Всем памятно, с какой иронией рассказывает автор в начальных строфах романа о воспитании и образовании главного героя, о его поверхностных и случайных познаниях, его интересах и склонностях. У читателя невольно складывается впечатление, будто «молодому повесе» ведома лишь «наука страсти нежной». Но вскоре, уже во второй главе, выясняется, что Онегин – достойный собеседник и оппонент Ленского, воспитанника одного из лучших и самых либеральных европейских университетов. Причем даже беглый перечень обсуждаемых друзьями тем свидетельствует о широте кругозора и эрудиции Онегина, о его приобщенности к исканиям и достижениям европейской мысли:
Меж ими всё рождало споры И к размышлению влекло: Племен минувших договоры, Плоды наук, добро и зло, И предрассудки вековые, И гроба тайны роковые, Судьба и жизнь в свою чреду, Всё подвергалось их суду. [4. Т. 5. С. 37]В той же первой главе с явной усмешкой говорится, что начитавшийся Адама Смита «глубокий эконом» Онегин «умел судить» о роли «простого продукта» в умножении государственного богатства. Однако автор обходит стороной важнейшее обстоятельство: в своем «Исследовании о причинах богатства народов» Адам Смит обосновывает мысль об экономической неэффективности подневольного труда. И этим в немалой степени объясняется его популярность в кругу русских вольнодумцев. Значит, сам факт обращения к трудам Адама Смита можно считать многозначительным и красноречивым! (см. [7. С. 50]).
Столь же знаковой выглядит и параллель Онегин – Чаадаев, казалось бы, чисто внешняя (франтовство, «педантизм» в одежде). Между тем она призвана продемонстрировать изысканный вкус и, следовательно, внутреннее изящество Евгения, доступное лишь человеку одухотворенному. Ибо особая изысканность одежды и манер Чаадаева, который «искусство одеваться» «возвел почти на степень исторического значения», неразрывно связывалось современниками с его самобытным умом, начитанностью, оригинальностью духовного склада [8. С. 54–57]. Словом, чаадаевский покрой фрака предполагал и чаадаевский «покрой души»! Показательно, что и другой замечательный современник Пушкина, П. П. Каверин, предстает в романе лишь как собутыльник Онегина.
Мы знаем, далее, что в деревне Онегин много читал, что у него была прекрасная библиотека, составленная из новинок европейской литературы, причем книги были испещрены его пометами и замечаниями, свидетельствующими о внимательном, вдумчивом изучении любимых авторов. Мы помним, что его кабинет был украшен изображениями Байрона и Наполеона – «властителей дум» тогдашней молодежи. Но ведь узнаем мы обо всем этом лишь в конце романа, в главе седьмой, когда в опустевший онегинский дом приходит Татьяна. В срединных же главах, где описана повседневная деревенская жизнь героя, об этом не сказано ни слова. Неудивительно, что читателю кажется, будто Онегин в деревне лишь бездельничал, скучал, зевал, да играл сам с собой на бильярде.
Как будто с таким представлением никоим образом не согласуется первый же шаг нового владельца имения, существенно облегчившего участь своих крепостных (значит, уроки Адама Смита не прошли даром!): «Ярем он барщины старинной / Оброком легким заменил; / И раб судьбу благословил». Однако автор снова пытается убедить читателя в несерьезности такого поступка: Онегин совершил его, дескать, исключительно от скуки, «чтоб только время проводить». А ведь подобный шаг по тем временам был незаурядным событием, имевшим вполне определенный либеральный смысл («привел в действие либерализм свой», – скажет по аналогичному поводу о Николае Тургеневе его брат Александр) [7. С. 140]. Более того, такое решение «крестьянского вопроса» прямо отвечало теоретическим установкам и практическим рекомендациям декабристского Союза благоденствия, всячески поощрявшего стремление помещиков жить в деревне ради блага своих крепостных.
Пример мнимой мотивировки находим и в главе восьмой, где автор уверяет читателя, будто Онегин «Начал странствия без цели, / Доступный чувству одному», то есть затем, чтобы забыться после невольного убийства Ленского. Однако маршрут, выбранный Онегиным, не случаен и примечателен. В нем явно видна цель, просматривается определенный умысел. Это путешествие по «горячим точкам» русской истории, по ее героическим страницам, продиктованное желанием увидеть собственными глазами современное состояние России и оценить ее перспективы.
Приведенные примеры (а число их можно множить и множить) бьют, что называется, в одну точку. Они ясно свидетельствуют, что главный герой – словно бы наперекор усилиям автора – предстает в романе как личность незаурядная и крупномасштабная, как человек декабристского круга, а сам роман – как произведение острозлободневное, политически окрашенное.
На сотворчество, соучастие понимающего читателя рассчитаны и постоянные пушкинские обращения к чужим текстам – более или менее откровенное использование отдельных фрагментов, литературных типов, сюжетных ходов и романных ситуаций, заимствованных из произведений других авторов, иностранных и русских. И хотя сами по себе такие заимствования хорошо изучены и тщательно прокомментированы, их художественная функция, их роль в романе прояснена еще недостаточно. Между тем, роль эта весьма существенна. Многочисленные отсылки к чужим текстам позволяют автору лишь слегка обозначить ту или иную сюжетную ситуацию, ограничиться беглой, косвенной характеристикой лица, предмета или явления, а затем углублять, прояснять, конкретизировать их в ходе непрестанных сопоставлений и ассоциаций с произведениями других авторов. Поэт как бы говорит читателю: смотрите – это совсем как у Байрона, Шиллера, Жуковского, Карамзина! И такой способ ведения поэтического рассказа в полной мере соответствует «поэтике подразумеваний» – важнейшему художественному принципу пушкинского романа в стихах.
Бросается в глаза, например, что по ходу повествования Онегин не раз сопоставляется с байроновским Чайльд-Гарольдом, и этот «Гарольдов плащ» – символ байронического разочарования в мире и в людях – становится его важнейшей приметой, главнейшей характеристической чертой. Напомним: «Как Child-Harold, угрюмый томный / В гостиных появлялся он…» (1, XXXVIII); «Прямым Онегин Чильд-Гарольдом / Вдался в задумчивую лень…» (4, ХLIV); «Москвич в Гарольдовом плаще» (7, XXIV); «Гарольдом, квакером, ханжой…» (8, VIII); «Черта охлажденного чувства, достойная Чальд-Гарольда» (из пятого примечания Пушкина к «Евгению Онегину»). Не раз поминается в пушкинском романе и имя создателя «Чайльд-Гарольда» – Байрона, одного из любимых авторов Евгения Онегина.
Смысл этих настойчивых сопоставлений как будто бы ясен: автору незачем сколько-нибудь подробно рассказывать о разочаровании Онегина, достаточно просто указать на общеизвестный образец, как бы отсылая к нему читателя. Более того, в тексте романа пунктирно воссозданы даже основные сюжетные вехи байроновской поэмы, и прежде всего – внезапность пресыщения заглавного героя, внешняя беспричинность его разочарования. Точно так же и путешествие Онегина по России (с его многозначительно-вольнолюбивым подтекстом) должно было вызвать в памяти читателя странствия Чайльд-Гарольда по местам героических битв европейских народов за свободу. Сходным оказывается и итог этих странствий: разочарование обоих героев становится все более безнадежным. Это сходство как бы усиливает впечатление духовного родства обоих персонажей. И не случайно!
Ведь Чайльд-Гарольд – лишь первое звено в цепи разочарованных байронических героев-индивидуалистов. В дальнейшем – в романтических «восточных» поэмах, в драматических философских мистериях («Манфред», «Каин») – их разочарование становится тотальным, всеохватывающим, принимает все более резкие и острые формы. Герои этих байроновских творений – люди не просто охлажденные, но ожесточившиеся, проникнутые ненавистью и презрением к миру и человеку, одержимые жаждой мести, вступающие в борьбу с обществом, которое они отвергают или которое их отвергло, бросающие вызов не только земным, но и высшим, небесным силам.
По сравнению с такими мрачными, демоническими фигурами Чайльд-Гарольд, несмотря на некоторые приступы демонизма, выглядит более мягким и человечным. Это как бы «пассивно-рефлектирующий» вариант индивидуалистического сознания, воплощение начальной фазы разочарования. Причем Байрон сам предупреждает об этом читателя, разъясняя, что перед ним – герой, который лишь отстраняется от общества, а не борется с ним:
To fly from, need not be to hate mankind: All are not fit with them to stir and toil, Nor is it discontent to keep the mind Deep in its fountain, lest it overboil In the hot throng… 3амечу кстати: бегство от людей — Не ненависть еще и не презренье. Нет, это бегство в глубь души своей, Чтоб не засохли корни в небреженье Среди толпы… (III, 69; перевод В. Левика)К тому же нравственно-психологическому типу героев принадлежит, бесспорно, и Онегин. Точно так же и его деревенское уединение означало прежде всего «бегство в глубь души своей», открывало перед ним возможность разобраться в себе самом и окружающем мире, определить варианты собственной судьбы. Вот почему так важно было поэту акцентировать родство Онегина именно с Чайльд-Гарольдом, а не с байроновским героем-индивидуалистом вообще.
Той же цели служит и другая, хотя и скрытая аналогия (она выдвигается на первый план в главе восьмой): Онегин – Адольф, – также весьма существенная для понимания душевной драмы пушкинского героя. Ведь Адольф, по замечанию П. А. Вяземского, «прототип Чайльд-Гарольда и многочисленных его потомков» [9. C. 125]. Не случайно в тексте восьмой главы так много сигналов, призванных напомнить читателю об Адольфе (вплоть до совпадений возраста обоих героев – 26 лет!), прямых цитат из констановского романа (см. [10; 11. С. 117–134]). Но едва ли не самое важное с интересующей нас точки зрения – это финалы обоих произведений.
После внезапной кончины своей возлюбленной Адольф абсолютно свободен. Он может, наконец, избрать любое поприще, вернуться во Францию, помириться с отцом, вступить в гражданскую или военную службу, занять видное положение в обществе. Но именно в этот момент он вдруг сознает, что теперь, со смертью Эллеоноры, жизнь утратила для него всякий смысл, что он обречен в полном одиночестве брести «в пустыне большого света». Адольфу остается только одно: безо всякой цели странствовать по свету и мечтать о скорейшей смерти. И точно так же Онегин понимает: утратив последнюю надежду на счастье, которое «было так возможно», он оказался абсолютно одиноким и никому не нужным. Сопоставление с финалом «Адольфа» позволяет читателю яснее увидеть смысл драмы Онегина, понять, что, подобно Адольфу, он рискует оказаться живым мертвецом.
Выявляя в характере Онегина черты иной, активно-волевой («демонической») разновидности героя-индивидуалиста, автор опять-таки сопоставляет его с литературными персонажами – прежде всего с Мельмотом Скитальцем (встреча «сатанического урода» Мельмота и страстно влюбленной в него ангельски чистой Исидоры, чьи детские и отроческие годы прошли вдали от цивилизации, во многом напоминает встречу Онегина с Татьяной), а опосредованно – с Мефистофелем и Фаустом (напомним, что в Мельмоте как бы сплавлены черты обоих гетевских героев [12. С. 573]).
Словом, сопоставление с другими литературными героями дает автору возможность более полно, ясно и отчетливо раскрыть главнейшие свойства духовно-нравственного мира Онегина, определеннее наметить варианты его судьбы.
В полной мере это относится и к изображению в романе Владимира Ленского.
Существенно, что взгляды и личность «полурусского» Ленского сформировались под сильнейшим воздействием немецкой культуры, и прежде всего – романтической поэзии и философии, под влиянием Канта, Шиллера, Гете. Причем влияние Шиллера было определяющим.
Об этом свидетельствует и «шиллеровская» внешность Ленского («кудри черные до плеч»), и его склонность к патетике («всегда восторженная речь»), и обращение к Шиллеру в критический момент своей жизни (в ночь накануне дуэли он «при свечке Шиллера открыл»). Этот обостренный интерес к творчеству Шиллера позволяет лучше понять духовный облик и нравственный склад пушкинского героя, его экзальтированную восторженность.
Как и всем просветителям XVIII в., Шиллеру свойственна неколебимая вера в прогресс, постоянное совершенствование человечества и грядущую гармонию всемирного братства. Однако эта общепросветительская концепция сочеталась у него с романтическим культом идеала. Восхождение к будущему блаженству, верил он, свершается не само по себе, а усилиями отдельных выдающихся личностей, избранных, высших натур. Их отличает романтически-восторженное стремление к возвышенным идеалам, героическая готовность служить им и погибнуть ради их торжества (хотя бы в далеком будущем), готовность принести им в жертву желание личного блага.
Значит, непрактичность и житейская наивность Ленского – особенность не только возрастная, но и мировоззренческая. Ибо романтическая устремленность к идеалу имеет своей оборотной стороной пренебрежение реальностью, желание отвернуться от нее, закрыть глаза на ее противоречия и повседневные заботы. «Возлети в державу идеала, / Сбросив жизни душной гнет!» – мог бы повторить он завет своего кумира.
Сама гибель Ленского обретает в «шиллеровском» контексте особый смысл. Она – не просто следствие его юношеской наивности, но, так сказать, «программный» шаг благородного героя-избранника, призванного не только спасти честь и добродетель своей невесты, но и вступить в бой с царящим в мире злом. Это – участь человека, сознающего себя, наподобие шиллеровского маркиза Позы, «гражданином грядущих поколений» и обреченного на гибель в несовершенном мире. В сопоставлении с Шиллером, иными словами, раскрывается идеологический подтекст смерти Ленского, подлинный ее трагизм – тот факт, что гибель юного поэта сродни самоубийству.
Как видно, антитеза «байрониста» Онегина и «шиллериста» Ленского выступает при обращении к чужим текстам особенно отчетливо.
Подведем итоги. Не раз говорилось, что мир пушкинского романа не замкнут в себе, что границы его прозрачны и проницаемы для мира реального, что реальное и вымышленное в «Онегине» постоянно смешиваются, легко и незаметно переходят одно в другое (см., например, [13]). Теперь мы можем добавить, что художественный мир романа открыт и для «чужих» произведений – созданий других авторов, которые тоже как бы входят в его сюжет, расширяют и раздвигают его пределы. И не потому только, что каждый из центральных персонажей «Онегина» выступает в роли творца своего романа, строит свою жизнь и судьбу по образцу любимых литературных героев, по законам художественной реальности [14. С. 66].
Не менее существенно, что и автор для прояснения и конкретизации романных ситуаций, мотивов поступков и действий своих героев или же для углубления их психологической характеристики, более полного раскрытия их внутреннего мира, сути их жизненной позиции то и дело обращается к «чужим» произведениям, «чужим» сюжетам и персонажам, отсылает к ним читателя, проводит явные или скрытые параллели между ними и героями своего романа в стихах. В результате реальная действительность, художественный мир пушкинского романа и фрагменты «чужих» текстов образуют некоторое парадоксальное единство, проникают друг в друга и постоянно меняются местами.
Решающую роль в достижении этого эффекта играет та важнейшая особенность стихотворного пушкинского романа, которая может быть определена как «поэтика подразумеваний».
1999
Литература
1. Лотман Ю. М. Своеобразие художественного построения «Евгения Онегина» // Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М.: Просвещение, 1988.
2. Баевский В. С. Сквозь магический кристалл. Поэтика «Евгения Онегина», романа в стихах А. Пушкина. М.: Прометей, 1990.
3. Винокур Г. О. Слово и стих в «Евгении Онегине» // Винокур Г. О. Филологические исследования. Лингвистика и поэтика. М.: Наука, 1990.
4. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 5. 4-е изд. Л.: Наука, 1978.
5. Гроссман Л. П. Пушкин. М.: Молодая гвардия, 1958. (ЖЗЛ.)
6. Никишов Ю. М. «Евгений Онегин»: герой и история (Этапы становления историзма в пушкинском романе) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 50. № 4. 1991.
7. Бродский Н. Л. «Евгений Онегин» роман Пушкина: Пособие для учителя. 2-е изд. М.: Учпедгиз, 1937.
8. Жихарев М. И. Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников. М.: Изд-во Московского университета, 1989.
9. Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1984.
10. Ахматова А. «Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина // Ахматова А. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Панорама, 1990.
11. Вольперт Л. И. Пушкин в роли Пушкина. М.: Языки русской культуры, 1998.
12. Алексеев М. П. Ч. Р. Метьюрин и его «Мельмот Скиталец» // Метьюрин Ч. Р. Мельмот Скиталец. 2-е изд. М.: Наука, 1983. (Литературные памятники.)
13. Бочаров С. Г. «Форма плана» (Некоторые вопросы поэтики Пушкина) // Вопросы литературы. № 12. 1967.
14. Тынянов Ю. Н. О композиции «Евгения Онегина» // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.
История и современность в «Борисе Годунове»
Центральной проблемой «Евгения Онегина» была проблема взаимоотношения личности и общества. В произведениях на тему русской истории, созданных в середине и конце 1820-х гг., на первый план выдвигается проблема власти.
Примечательно при этом видоизменение основной политической коллизии пушкинского творчества. Если в неоконченном «Вадиме» (1821) ядром произведения должен был стать, по-видимому, конфликт республиканца, защитника древней вольности, и сторонника единовластия, то в «Борисе Годунове» в центре оказывается сопоставление и столкновение двух типов самодержавной власти: антинародной, деспотической и аристократически-патриархальной.
Чрезвычайно важен в этом смысле психологический контраст ведущих персонажей трагедии – Бориса и Самозванца. Угрюмому, сумрачному, одержимому одной идеей, одной страстью, преследующему одну-единственную цель Борису, готовому ради ее достижения на любые жертвы, преступления, даже на убийства, противостоит разносторонне одаренный, непосредственный, доверчиво открытый жизни, пылкий и увлекающийся Самозванец. И пусть Борис, умудренный опытом политик, незаурядный государственный деятель, всегда и во всем поступает как должно, принимает, казалось бы, неоспоримо верные решения. Пусть он умен, осмотрителен, расчетлив, хладнокровен, в то время как Самозванец беспечен, неосмотрителен, легкомыслен. Все равно: поражение Бориса неизбежно. Почему?
Обычно победу Самозванца объясняют поддержкой народа. Однако ссылка на «мнение народное» недостаточна и сама нуждается в объяснении. А объяснить симпатии народа к мнимому царю и его устойчивую нелюбовь к Борису можно только тем, что Борис в своей психологии и в своем поведении воплощает дух несвободы, дух насилия. Его политика – это политика тиранической диктатуры (убийство царевича – лишь крайнее выражение этой политики), направленной как против народа, так и против аристократической верхушки – родовитого русского боярства. В этом отношении политика Годунова есть прямое продолжение политики Грозного, нацеленной на истребление и устрашение древнего боярства, на подрыв его политического значения и одновременно на уничтожение остатков народной свободы (отмена Юрьева дня). «Поведение Бориса по отношению к подданным, – справедливо замечает Д. Бернштейн, – подчеркнуто изображено как поведение самодержавно-деспотическое».
Ведь «Борис самовластно диктует боярской думе свои единоличные решения даже в важнейших государственных делах, например в вопросе о защите страны…». Ближайшим сподвижникам, знатнейшим боярам, самому Шуйскому грозит он мучительной пыткой. Что же касается Самозванца, то он всем своим обликом, поведением, своим обращением с князьями, боярами, соратниками противоположен Борису. «В отношениях Самозванца к его сторонникам, – говорится в той же работе, – Пушкин отмечает товарищеский тон, резко отличный от самовластного тона царя Бориса. Он внимателен, ласков, приветлив. Речь его полна дружеских обращений…». И это не случайно: ведь «Самозванец тесно связан с боярской оппозицией и фактически возглавляет ее движение», он воплощает «власть, выдвинутую боярством взамен неограниченной монархии» [1. С. 222, 230].
Скажем больше: во взаимоотношениях мнимого царя с его окружением и прежде всего с родовой аристократией как бы моделируются идеальные отношения монарха и подданных, уходящие корнями в стародавние времена и живо напоминающие отношения средневекового князя со своими дружинниками. Между тем одна из целей «большого террора», развязанного Иваном Грозным, состояла в том, чтобы «уничтожить в корне и без остатка представителей крупных родов со всеми пережитками родовых традиций и старых патриархальных отношений господ к слугам и слуг к господам», превратить «былых вольных слуг в “холопов”…» [2. С. 251–252].
Вот эта верность исконным традициям патриархальной свободы, эта естественная – в глазах поэта – связь самодержавной власти и родовой аристократии и обеспечивают Самозванцу сочувствие и поддержку народных масс. Она, эта связь, является, следовательно, необходимым условием единения сословий, сплочения главнейших сил общества – в противовес их разобщенности и враждебности при деспотическом режиме. Так возникают в «Борисе Годунове» представления о возможности иного, более гуманного варианта самодержавного строя, чуждого деспотизма и самовластия и согласного с духом свободы. Спроецированные на современную поэту действительность, они в значительной степени обусловили злободневный политический подтекст этой исторической трагедии, равно как и поэмы «Полтава».
1
Кто же истинный герой «Бориса Годунова»? Вопрос этот неизменно возникает перед читателем пушкинской трагедии. Уже первых ее критиков поразило отсутствие в ней ярко выраженного центрального персонажа. И они старались понять, как-то объяснить эту «странность» нового произведения [3. С. 436–459; 4. С. 240–260; 5. С. 59–73]. Подводя итоги возникшим вокруг «Годунова» спорам, И. В. Киреевский так суммировал высказанные мнения. Одни, писал он, видят главного героя в Борисе, но полагают, что он заслонен лицом второстепенным – Отрепьевым. «Нет, говорят другие, главное лицо не Борис, а Самозванец; жаль только, что он не довольно развит…». Наконец, третья точка зрения состоит в том, что главным предметом трагедии является не лицо, «но целое время, век» [6. С. 105].
Мысль о том, что «Борис Годунов» – это, в сущности, «пьеса без героя», укоренилась и в современном литературоведении. По мнению Ст. Рассадина, Борис и Самозванец в сценическом действии пьесы играют роль своего рода «калифов на час»: каждый из них является центром лишь одной из ее частей. «Четыре первые сцены трагедии, – пишет критик, – были сплочены вокруг Бориса, хотя сам он появился только в последней из них. Девять следующих сцен объединены вокруг Самозванца, хотя и он является лишь в четырех». С четырнадцатой сцены начинается третья, заключительная часть трагедии – «чистейшей воды хроника», где, как полагает Ст. Рассадин, «важно событие, а не лицо» [7. С. 25, 29].
Вообще, как не раз отмечалось в научной литературе, «Борис Годунов» представляет собой совершенно новый тип драмы, «интерес которой состоит не в отдельных “судьбах”, а в целостном ходе вещей, в логике исторического процесса как единства» [8. С. 234]. Действительно, события, связанные с судьбами Бориса и Самозванца, не охватывают всего действия пьесы, которая начинается и кончается без них (так, Борис появляется только в четвертой сцене и в четвертой сцене от конца умирает; Самозванец появляется в пятой от начала сцене и в пятой от конца исчезает), причем оба героя действуют лишь в немногих сценических эпизодах: Борис в шести, Самозванец – в девяти (фактически даже в восьми) из двадцати трех [9. С. 16–17; 10. С. 119–120]. Главное же – на первый план в «Борисе Годунове» выдвинуты не «индивидуальные герои», а «герои коллективные» основные социальные силы эпохи, их столкновения и борьба. «Трагедия борьбы личностей, – пишет Д. Д. Благой, – перестраивается в трагедию совсем нового типа, трагедию, раскрывающую “судьбу народную”» [10. С. 122].
Особенно настойчиво – и вполне справедливо – подчеркивают исследователи совершенно исключительную роль народа – этого «целостного действующего сверхлица» трагедии [8. С. 235], который выступает у Пушкина не просто как могучая и мятежная политическая сила (по наблюдениям Д. Д. Благого, народная масса в трагедии уподоблена морской стихии, океану [10. С. 123]), но и как верховный нравственный судия – носитель этической нормы [8. С. 235, 240, 242]. Однако, при всей своей потенциальной мощи, народная масса в пьесе обрисована все же как сила, не сознавшая себя политически, и в этом смысле «вполне страдательная» [3. С. 478] – своего рода орудие в руках извечных антагонистов: тиранической власти и старинного боярства (ср. [11. С. 60]).
Действительно, «древнее русское боярство» наравне с народом представлено в пушкинской трагедии как другая мятежная сила, как исконный враг самодержавного произвола, а в то же время – как его жертва, страдающая не только от политического террора верховной власти, но и от насильственного закрепощения крестьян. В одной из важнейших сцен трагедии Афанасий Пушкин, гневно обличая – в беседе с Шуйским – антибоярские репрессии Годунова («Нас каждый день опала ожидает, / Тюрьма, Сибирь, клобук и кандалы, / А там – в глуши голодна смерть и петля»), с неменьшим негодованием говорит и о задуманных новым царем нововведениях:
Вот – Юрьев день задумал уничтожить. Не властны мы в поместиях своих. Не смей согнать ленивца! Рад не рад, Корми его; не смей переманить Работника! – Не то, в Приказ холопий. Ну, слыхано ль хоть при царе Иване Такое зло? А легче ли народу? Спроси его. Попробуй самозванец Им посулить старинный Юрьев день, Так и пойдет потеха. [12. T. 5. С. 222–223]Тем самым, по мысли драматурга, создается почва для единения старинной аристократии и закрепощенного народа в борьбе с самовластьем. Их союз, естественный и закономерный, чреват социальными потрясениями, смертельно опасен для сидящего на престоле узурпатора. Всем ясно: стоит им соединиться – и «быть грозе великой».
Другое дело – и тут мы подходим к центральному пункту наших рассуждений, – что союз старой знати и народа не выглядит у Пушкина сколько-нибудь постоянным и прочным: разобщенные в начале трагедии, обе силы вновь оказываются разъединенными в ее финале. Почему? Ответ на этот вопрос мы находим в первом же сценическом эпизоде – диалоге Шуйского с Воротынским:
В о р о т ы н с к и й:
Не мало нас, наследников варяга, Да трудно нам тягаться с Годуновым: Народ отвык в нас видеть древню отрасль Воинственных властителей своих. Уже давно лишились мы уделов, Давно царям подручниками служим, А он умел и страхом и любовью И славою народ очаровать.Ш у й с к и й (глядит в окно):
Он смел, вот всё – а мы… [12. T. 5. С. 190–191]Как видим, слабость «наследников варяга» объясняется не только объективно-историческими причинами, но и личными их качествами; далеко не всегда они оказываются на должной гражданско-нравственной высоте, не всегда готовы и способны исполнить свою историческую миссию. Аристократической оппозиции, следовательно, необходимы крупные личности, вожди, способные «тягаться с Годуновым», ясно понимающие смысл происходящего, действующие смело, умно, решительно, инициативно. И хотя, по верному замечанию Н. И. Балашова, перед нами «не ренессансная (и не романтическая) ситуация, при которой должно казаться, что герой может попробовать все сделать заново», хотя пушкинская драма «показывает возможность действий в пределах жестко очерченных реальных обстоятельств» [13. С. 206], вопрос об истинном герое трагедии представляется отнюдь не надуманным, но, напротив, чрезвычайно важным, острым, животрепещущим!
Как же решается он в пьесе? Есть ли у боярской оппозиции такой лидер? Бесспорно, есть! Не всегда сообразуясь с историческими фактами, а порой обходясь с ними весьма вольно, поэт отводит важнейшую, первостепенную роль в разыгрывающихся событиях своему «мятежному» роду и прежде всего – своему предку, Гавриле Григорьевичу Пушкину.
Всматриваясь в текст трагедии, сразу же замечаешь, что имена Пушкиных, как правило, упоминаются в ней в определенном контексте – в окружении имен «природных князей», Рюриковичей, наиболее значительных и знатных боярских фамилий.
Знатнейшие меж нами роды – где? Где Сицкие князья, где Шестуновы, Романовы, отечества надежда? —спрашивает Шуйского Афанасий Пушкин [12. T. 5. С. 222], явно причисляя к «знатнейшим» родам и фамилию Пушкиных. Нечто подобное происходит и в соседней сцене, где Семен Годунов доносит Борису: накануне вечером Шуйский угощал
Своих друзей, обоих Милославских, Бутурлиных, Михаила Салтыкова, Да Пушкина… [12. T. 5. С. 226]А в следующей сцене другой Пушкин, Гаврила, представляет Самозванцу князя Курбского – вымышленного поэтом сына «казанского героя». Все это должно создать впечатление, что между Пушкиными и Шуйскими, Пушкиными и Сицкими, Милославскими, Курбскими, между Пушкиными и Романовыми, наконец, нет, в сущности, особой разницы. Точно так же и в предпоследней сцене («Лобное место») народ, по замечанию С. Б. Веселовского, «принимает Гаврилу Пушкина как “боярина”» [2. С. 140]. Можно добавить, что автор трагедии не только не стремится «исправить», эту ошибку московского люда, но как будто даже усугубляет ее. В следующей, заключительной сцене действительно действуют бояре, Голицын и Мосальский, пришедшие в сопровождении чиновников и стрельцов расправиться с семейством Бориса Годунова, как и Гаврила Пушкин, апеллирующие к народу. И этот параллелизм ситуации должен косвенно подтвердить, что и на Лобном месте к народу обращался «боярин».
С другой стороны, используя прием скрытого противопоставления, поэт последовательно выделяет «мятежный» род Пушкиных среди прочих княжеских и боярских фамилий, настойчиво подчеркивает его особую роль, его заслуги в борьбе с Годуновым. Воротынский, скажем, представлен в пьесе человеком честным, прямодушным, но в то же время недалеким, смирившимся с ролью царского «подручника», явно не годящимся в вожди [3. С. 479]. Шуйский, напротив, умен, хитер, изворотлив, дальновиден, но очень уж уклончив, осторожен, двуличен. «Лукавый царедворец», он уже в самом начале действия оказывается скомпрометированным в глазах читателя [7. С. 19–20]. О Романовых в трагедии говорится внешне комплиментарно («отечества надежда»), но сразу же выясняется, что они в опале, в изгнании и, значит, поневоле пассивны.
В сложившейся ситуации «род Пушкиных мятежный» фактически призван возглавить антигодуновскую оппозицию, стать ее душой и движущей силой. Ему прежде всего вручены автором ответственейшие идеологические полномочия. «Пушкины не случайно занимают центральное место в знаменитой трагедии, – пишет Р. Г. Скрынников. – В их речах поэт выразил свое понимание событий “Смутного времени”. Устами Пушкиных поэт осуждает весь режим и образ правления Годунова» [14. С. 131].
В значительной мере это действительно так. В приведенном уже монологе Афанасия Пушкина, поразительном по своей глубине и бесстрашной откровенности, развернута проницательная, меткая характеристика тиранического правления Годунова. Показательно, что в его глазах Борис – едва ли не более страшный и последовательный враг боярства, чем Иван Грозный: жестокие политические репрессии, преследования знатных родов («он правит нами, как царь Иван…») сочетаются в его царствование с антибоярскими проектами, закрепощением крестьян. Причем, в противоположность Шуйскому, Афанасий Пушкин, обличая Годунова, не преследует никаких личных целей. Судьба боярства в целом (отсюда эти постоянные «мы», «нас», «нами») – такова главная тема его монолога (см. [11. С. 64–65]).
Любопытно, что монолог этот получает своего рода продолжение в сцене «Севск». Захваченный в плен «Рожнов, московский дворянин», яркими красками рисует разгул годуновского террора в Москве, воссоздает ту атмосферу подозрительности, сыска, доноса, насилия, в которой живет столица. «О тебе, – отвечает он Самозванцу, –
Там говорить не слишком нынче смеют. Кому язык отрежут, а кому И голову – такая право притча! Что день, то казнь. Тюрьмы битком набиты. На площади, где человека три Сойдутся – глядь – лазутчик уж и вьется, А государь досужною порою Доносчиков допрашивает сам». [12. T. 5. С. 262–263]И эта беспощадная критика установленного новым царем режима тоже принадлежит, в сущности, Пушкиным: ведь дворянская фамилия Рожновых (Пушкины-Рожновы) была одним из ответвлений пушкинского рода [2. С. 107].
Наконец, устами Гаврилы Пушкина, третьего представителя «мятежного» рода, формулируется опорный тезис произведения – о первостепенной важности «мнения народного», обеспечивающего успех антитиранического движения.
Однако политическими обличениями, идеологическими сентенциями дело не ограничивается. Особую, чрезвычайную роль в движении сюжета играют активные, решительные действия Гаврилы Пушкина, продиктованные свойственной всему пушкинскому роду ненавистью к тирании. Ученые не раз отмечали, что поэт преувеличил его роль в трагедии, «выдвигая в качестве главного действующего лица во все важные, решающие моменты истории борьбы самозванца с царем» [11. С. 64].
И в самом деле, это он, Гаврила Григорьевич, извещает московских бояр о появлении в Кракове мнимого царевича Дмитрия. Это он – по воле поэта – одним из первых переходит на его сторону, становится его приближенным, советчиком и сподвижником [15. С. 137]. Это он участвует в битвах под знаменами Самозванца и сохраняет ему верность после поражения. Это он, наконец, умело и бесстрашно исполняет два ответственнейших поручения Лжедмитрия, обеспечивших, по сути дела, успех антигодуновского движения. Сначала он проникает в ставку Басманова и уговаривает его перейти со своими войсками на сторону нового царя – акция, предопределившая военную победу Самозванца. Затем «своей неслыханной дерзостью» [12. T. 7. С. 520] Гаврила Пушкин обеспечивает Лжедмитрию и победу политическую. Появившись на Красной площади (в Москве, находящейся в руках правительственных войск!), он ведет на Лобном месте искусную агитацию в пользу мнимого царевича. Ему удается найти общий язык с московским людом и обратить гнев народа против Годуновых. В то же время, как можно предположить на основании следующей, последней сцены, он предотвращает, казалось бы, неизбежную расправу мятежной толпы с семьей царя Бориса, ограничившись ее заключением под стражу. Короче говоря, главным образом его усилиями династия царей-узурпаторов оказывается низложенной!
И чем ближе к концу трагедии, тем явственней выступает на авансцену Гаврила Пушкин в качестве одного из важнейших ее персонажей, решительно оттесняя в тень и духовно сломленного, умирающего Бориса, и беспечно засыпающего (многозначительная деталь!) Самозванца. И если в начале пьесы интерес был сосредоточен на фигуре Годунова, если в средней части трагедии в центр была выдвинута фигура Лжедмитрия, то ее завершающая часть, ее конец явно «организованы» вокруг Гаврилы Пушкина. Напомним: Самозванец последний раз появляется в пятой сцене от конца, Борис умирает – в четвертой. Пушкин же действует (причем наиболее активно!) в трех последних сценах из пяти – высочайшая концентрация драматического интереса в столь сложном, разветвленном, многогеройном произведении, каков «Борис Годунов»!
Но и Гаврила Пушкин, подобно Борису и Лжедмитрию, тоже становится невольной жертвой разыгравшейся катастрофы. Грубые, откровенно преступные действия бояр Голицына и Мосальского, решившихся, в сущности, на публичное убийство Федора и Марии Годуновых, заставляют народ отшатнуться от Самозванца и поддерживающих его бояр. В результате сложившееся было единство обеих мятежных сил, их временный союз оказывается разрушенным. Тем самым вновь создается почва для появления тиранов и узурпаторов – таков безотрадный, поистине трагический финал пушкинского «Годунова». Но это означает, что вопрос о необходимости достойного вождя – умелого и умного лидера боярской оппозиции – вновь выдвигается на первый план.
2
Вряд ли нужно сейчас доказывать, что в «Борисе Годунове» Пушкин выступает не только и не столько как ученый-историк, озабоченный тем, чтобы возможно более точно воссоздать события минувших времен, но прежде всего как поэт-мыслитель и политический публицист, как творец самостоятельной, вполне оригинальной историко-художественной концепции, не имеющей, как показал еще Г. О. Винокур, «ничего общего с Карамзиным» [3. С. 476]. Именно во имя воплощения этой концепции он последовательно и целенаправленно отбирает, группирует, видоизменяет исторические факты, по-своему расставляет смысловые акценты, а многое попросту придумывает и домысливает.
Причем в изображении своих предков поэт особенно далеко отошел от исторических свидетельств, от «Истории» Карамзина; он, если вспомнить осторожную формулировку С. Б. Веселовского, «довольно свободно и несколько тенденциозно следовал своей творческой фантазии» [2. С. 138]. Действительно, после капитального исследования нашего замечательного историка легенду об особой мятежности пушкинского рода можно считать развеянной[6]. Пушкины в Смутное время, по словам исследователя, «были типичными и неплохими представителями тогдашнего дворянства»; они держались в своем поведении умеренной, средней линии и ничем особенным не выделялись среди других дворянских фамилий. «Само собой разумеется, – подчеркивал С. Б. Веселовский, – что ни о какой “мятежности” рода Пушкиных не может быть и речи. Даже Гаврила Григорьевич, который в изображении А. С. Пушкина должен был представлять мятежный род Пушкиных, в действительности был больше ловким и осмотрительным человеком, чем смутьяном и мятежником» [2. С. 159]. Нарисовав реальную историческую картину деятельности Гаврилы Пушкина в эпоху смуты, ученый убедительно показал, как далека она от воплощенной в трагедии художнической версии.
Конечно же, исторический Гаврила Григорьевич Пушкин не был лицом особо приближенным к Лжедмитрию, ни тем более вершителем исторических судеб России. «В стане самозванца, – читаем в труде С. Б. Веселовского, – Г. Г. Пушкин появляется только в Крапивне (а вовсе не в Кракове! – А. Г.), когда самозванец медленно и осторожно, хотя и беспрепятственно, шел на Москву, рассылая по городам воззвания к населению. Судя по ловкости и осмотрительности, проявленным Г. Г. Пушкиным на всех последующих поворотах его жизненного пути, он, переходя на сторону самозванца, шел в ногу с большинством людей своего круга, не предупреждая событий и не отставая, от них» [2. С. 143]. Как мало похож этот портрет на изображение того Пушкина, что действует в «Борисе Годунове»!
Но и в тех случаях, когда поэт опирается на показания источников и как будто следует Карамзину «в светлом развитии происшествий» [12. T. 7. С. 115], он тоже весьма свободно и целенаправленно преображает исторические факты. Показательна в этом отношении предпринятая им переработка единственного эпизода карамзинской «Истории», где упоминается Гаврила Пушкин. Лжедмитрий, рассказывает Карамзин, «избрал двух сановников смелых, расторопных, Плещеева и Пушкина: дал им грамоту и велел ехать в Красное село, чтобы возмутить тамошних жителей, а чрез них и столицу… Купцы и ремесленники красносельские… торжественно ввели гонцов его в Москву… шумный сонм стремился к лобному месту, где по данному знаку все умолкло, чтобы слушать грамоту Лжедмитриеву» [16. Т. 11. Гл. III. С. 114].
Сопоставляя приведенный отрывок с соответствующим эпизодом трагедии («Лобное место»), Б. П. Городецкий пишет: «Не показав в этой сцене Плещеева, Пушкин вывел одного только своего предка, который к тому же не оглашает грамоты, а держит речь, воспроизводящую основные моменты содержания грамоты Самозванца, пересказанной в выдержках Карамзиным» [15. С. 159]. Следовало бы добавить, что Гаврила Пушкин, вопреки Карамзину, является здесь прямо в столицу, безо всякой поддержки жителей Красного села, и что все эти изменения призваны усилить героический ореол вокруг фигуры мятежного предка поэта. Главное же – значимость этого эпизода в трагедии несравненно выше, нежели в «Истории» Карамзина.
Явно преувеличены в трагедии могущество и знатность пушкинского рода, уже в XV в. утратившего свое прежнее высокое положение. С. Б. Веселовский убедительно показал беспочвенность мнения, будто Пушкины являлись знатным родом «на всем протяжении их 600-летнего дворянства» [2. С. 106]. Именно незаметность положения Пушкиных немало способствовала тому, что их пощадил «гнев венчанный» Ивана IV.
К аналогичным выводам приходит Р. Г. Скрынников: «Пушкины происходили из древней и знатной дворянской фамилии, но их род захудал и пришел в упадок задолго до воцарения Бориса. И только Годуновы да Самозванец допустили Пушкиных в Боярскую Думу» [14. С. 132].
Но если родовитость Пушкиных в пьесе явно завышена, то социальный статус и генеалогия Годуновых, напротив, сознательно занижены. Поэту было, конечно же, известно, что неродовитость Годунова весьма относительна, что он принадлежит пусть не к первостепенной, но к известной и видной боярской фамилии, что многие его предки и родственники играли важную роль в государственной жизни страны. И, разумеется, презрительная характеристика Шуйского «вчерашний раб, татарин, зять Малюты» весьма далека от истины [7. С. 23]. Правда, слова эти вложены в уста «лукавого царедворца», и произносятся они с определенной практической целью – прощупать, какова позиция Воротынского. Однако в дальнейшем драматург не только не опровергает этой характеристики, но, напротив, неоднократно подтверждает ее справедливость. Достаточно вспомнить цитированные монологи Афанасия Пушкина и Рожнова или же угрозы царя Бориса по адресу самого Шуйского в сцене «Царские палаты» (см. также [17. С. 41]). Формула Шуйского намертво «прилипает» к Борису Годунову. Очевидно, безоговорочное противопоставление родовитой и знатной фамилии Пушкиных якобы безродному Годунову, сомнительное с исторической точки зрения, вытекало из самой сути художественной концепции драмы.
В самом деле, посмотрим хотя бы, какова цена брошенного Годунову обвинения в том, что началом его головокружительной карьеры стали малопочтенные связи с опричниной («зять палача и сам в душе палач»). Ведь точно таким же образом началось и новое возвышение пришедшего к тому времени в упадок рода Пушкиных [2. С. 121–136; 14. С. 132–133]. Не этим ли объясняется, в частности, что действующий в пьесе Афанасий Пушкин является персонажем вымышленным? Его вероятный прообраз – Евстафий Пушкин, игравший в опричнине видную роль, – был любимцем Ивана Грозного, лицом, слишком тесно связанным с Малютой Скуратовым и Богданом Бельским, чтобы быть допущенным на страницы трагедии. Такой (реальный!) Пушкин контрастом и укором Годунову быть никак не мог и, следовательно, не был нужен поэту. Другой же герой трагедии, Гаврила Пушкин, как установил Р. Г. Скрынников, находился в близких родственных отношениях с самим Иваном Грозным (был женат на его падчерице [14. С. 133]), что, конечно же, должно было так или иначе отозваться в семейственных преданиях пушкинского рода, тем более что это обстоятельство немало способствовало его возвышению. Но подобные факты слишком уж противоречили пушкинской концепции исконной вражды тиранической власти и родовой аристократии, не вязались с картиной неуклонного падения потомственного дворянства под ударами самодержцев.
Между тем смысл противопоставления обеих фамилий чрезвычайно важен для понимания пушкинской трагедии: именно мнимой худородностью Годунова объясняется и его ненависть к потомственной аристократии, и естественность его союза со столь же неродовитым Басмановым. И если Пушкины в социальном и психологическом отношении сближены в пьесе с рюриковичами и гедиминовичами, с Шуйскими, Воротынскими, Курбскими, то в характерах Бориса и Басманова воплощен социально-психологический комплекс «нового дворянства», представлен тип людей, снедаемых непомерным честолюбием, любой ценой и любыми средствами стремящихся к возвышению, власти.
Вот почему в облике Годунова поэт сгущает черты жестокого деспота, резко усиливает его отрицательную оценку по сравнению с Карамзиным, который видел в новом царе несомненные достоинства, с уважением говорил о его незаурядных государственных способностях, идеализировал первую половину его царствования. Напротив, Пушкин изображает Бориса как человека, чьи деспотические наклонности, лицемерие, притворство, холодный расчет очевидны с самого начала (вспомним точный прогноз Шуйского в первой же сцене), человеком, превратившим в недостойный фарс само избрание его на царство [13. С. 209; 18. С. 299–300]. Даже Грозный, способный к покаянию, искавший, как говорит Пимен, «успокоенья в подобии монашеских трудов», даже он в нравственном смысле оказывается выше Годунова, не раскаявшегося и перед лицом смерти! Еще более поразительная метаморфоза – но только обратного свойства – происходит с пушкинским Лжедмитрием. Карамзин не говорит о нем ни одного доброго слова, изображает его как бесчестного, беспринципного авантюриста, на чьей совести немало тяжких преступлений; развязывание братоубийственной войны, отречение от своей веры, приказ о расправе с семейством Бориса Годунова, позор Ксении. Пушкин же, которого современная ему критика (а позднее и Белинский) обвиняла в рабском следовании Карамзину, не только наделяет Самозванца многими человеческими симпатичными чертами – прямо-таки моцартовской легкостью, импровизационностью, незаурядными способностями, беспечностью, доверием к жизни, даже поэтическим даром (в этом смысле он противоположен сумрачному, подозрительному, захваченному одной идеей, одной страстью Борису), – но и старается отвести или по крайней мере смягчить выдвинутые против него обвинения.
Так, в сцене «Граница литовская» Самозванец, гласит ремарка, «едет тихо с поникшей головой» и печально восклицает: «Кровь русская, о Курбский, потечет…» [12. T. 5. С. 249]. А в сцене «Равнина близ Новгорода Северского» приказывает: «Ударить отбой! мы победили. Довольно; щадите русскую кровь. Отбой!» [12. T. 5. С. 257]. Лишь мимоходом затрагивается в пьесе и важнейший вопрос о перемене веры: в кратком диалоге с патером Черниковским Самозванец обещает легко и быстро обратить в католичество весь русский народ. Но это откровенное бахвальство может быть воспринято и как элементарная хитрость – вынужденный дипломатический ход в расчете на «польскую помогу».
О прочих преступлениях Лжедмитрия в трагедии не говорится вовсе. О том, что Пушкин шел на это совершенно сознательно, свидетельствует известное письмо Н. Н. Раевскому. Видимо, опасаясь критики со стороны своего корреспондента за отступления от исторической истины, поэт с намеренной непринужденностью говорит о «романтическом и страстном характере» своего «авантюриста», подчеркивает его сходство с Генрихом IV, присущее обоим жизнелюбие и широту натуры, а также и то, что «оба они из политических соображений отрекаются от своей веры». Добавляя, что «у Генриха IV не было на совести Ксении», поэт тут же оговаривается: «…правда, это ужасное обвинение не доказано, и я лично считаю своей священной обязанностью ему не верить» [12. T. 7. С. 519–520]. Но ведь точно так же не доказано было и участие Годунова в убиении царевича Димитрия! Тем не менее Пушкин не просто счел возможным поверить обвинению, но и положил его в основу своей пьесы.
Многозначительны пушкинские умолчания в заключительной сцене трагедии. Почему взятые под стражу Федор и Мария Годуновы стали жертвами злодейского убийства? По чьей инициативе действовали бояре Голицын и Мосальский, чей приказ они выполняли? Все эти вопросы, совершенно ясно и недвусмысленно освещенные Карамзиным, остаются в ней без ответа. Очевидно, поэту важно было как-то оправдать и возвысить человека, под знаменем которого бился и в союзе с которым действовал его славный предок – Гаврила Григорьевич Пушкин.
Наконец, обращает на себя внимание еще одна любопытная деталь. Мы видели: представляя душой антигодуновского заговора своих предков, Пушкин вместе с тем подчеркивает вынужденную пассивность опальных Романовых. Между тем из «Истории» Карамзина ему было известно: в пору, когда Годунов подверг романовское подворье жесточайшему разгрому, при дворе Романовых служил Григорий Отрепьев. Спасая свою жизнь, он нашел прибежище за монастырской оградой, переходя из одного монастыря в другой. Однако же читателю не сообщается, где и как жил он мирянином; что вынудило его, полного сил и энергии юношу, откровенно завидующего бурной молодости Пимена, так рано затвориться в монастыре, хотя монастырская жизнь ему явно не по нутру. Очевидно, что поэт сознательно затушевывает ясную для него связь Отрепьева с Романовыми. Тем самым он делает Романовых как бы должниками Пушкиных, которым, по его мнению, принадлежат исключительные заслуги в деле низложения царя-узурпатора.
3
Острейший политический смысл историко-художественной концепции «Бориса Годунова» очевиден. Недаром так засекретил поэт свою работу над трагедией; недаром так раздражало его непонимание друзей и доброжелателей, надеявшихся, что Борис станет поводом для примирения с правительством (ибо в глазах Романовых Годунов, конечно, был фигурой в высшей степени одиозной). В известном письме Вяземскому, признавая антигодуновскую направленность своей трагедии, которая «в хорошем духе писана», Пушкин тем не менее всерьез тревожился, что «уши» будут слишком уж торчать из-под колпака юродивого [12. T. 10. С. 146]. И, конечно же, для таких опасений у него были все основания.
Дело, разумеется, не только в том, что сама тема царя-узурпатора, убийцы наследника престола, была в царствование Александра I по меньшей мере двусмысленной. Пушкину важны были не эти внешние «применения» (каких, видимо, ждал от него Катенин, полагавший, что пушкинская трагедия не для печати [19. С. 215]), но глубинный историко-политический и нравственно-гражданский смысл произведения – его подтекст, скрывавший в себе заряд страшной взрывчатой силы.
В самом деле, если по своему происхождению, как доказывает трагедия, Пушкины ничуть не ниже виднейших представителей потомственной русской аристократии, а их роль в низложении Годунова куда более значительна, это означает, что на опустевший царский трон могли претендовать не только Шуйские и Романовы… И совсем не случайно, что одновременно с «Борисом Годуновым» Пушкин набрасывает не предназначавшийся для печати, глубоко личный «Воображаемый разговор с Александром I» (его текст перемежается с черновиками трагедии [3. С. 477]), где поэт и император как бы меняются местами.
Показательна в этом смысле многозначительная, хотя и шутливая фраза из письма Дельвигу в июне 1825 г., где идет речь об избрании Романовых на царство: «Неблагодарные! Шесть Пушкиных подписали избирательную грамоту! да двое руку приложили за неумением писать! А я, грамотный потомок их, что я? где я?..» [12. Т. 10. С. 117]. В самом деле, имевшие, по мнению поэта, все права на «шапку Мономаха», Пушкины заслуживали в его глазах по меньшей мере того, чтобы занять высокое, видное положение в государстве. Между тем эпоха правления Романовых стала эпохой окончательного падения Пушкиных.
В трагедии, таким образом, был заключен прямой упрек, прямой вызов Романовым. Возведенные на престол усилиями родовой русской аристократии, и прежде всего семейства Пушкиных, сами принадлежащие к старой знати, они тем не менее продолжили антибоярскую политику Грозного и Годунова, политику, направленную на уничтожение древнейших княжеских и боярских родов, уменьшение их влияния.
Иными словами, свою ссылку, свое заточение в Михайловском поэт осмысляет теперь в исторической перспективе, связывает ее с наследственной враждой Александра Романова к Александру Пушкину – достойных и типичных представителей своих дворянских фамилий. Продолжатель политической линии Годунова, как и он, тиран и узурпатор престола, Александр Романов не мог не гнать, не преследовать потомка мятежного рода Пушкиных, хранителей духа аристократической вольницы.
Однако помимо прямых политических путей и возможностей борьбы с тиранией, полагал Пушкин, существуют еще и возможности идеологические, которыми обладают прежде всего писатели. В отличие от литераторов европейских, принадлежащих главным образом к третьему сословию и зависимых от высших классов, лучшие русские писатели в своем большинстве – сами потомки старинных дворянских родов, таланты независимые и неподкупные, которые берутся за перо не ради наживы, а ради того, чтобы высказать правду (см., например, письмо Рылееву – июнь-август 1825 г. [12. Т. 10. С. 139]).
«У нас писатели взяты из высшего класса общества, – доказывал он А. Бестужеву, – аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными» [12. Т. 10. С. 115].
Более того, современные русские писатели, представлялось поэту, образуют своего рода идеологическую оппозицию правительству – некоторое подобие и аналог оппозиции политической. И душой, вдохновителем этой литературно-аристократической оппозиции является он, Александр Пушкин (опять Пушкин!) – наследник традиций своего мятежного рода (см. письмо Вяземскому от 24–25 июня 1824 г.) [12. Т. 10. С. 75].
Этот круг пушкинских представлений, эта мысль о другой, столь же достойной форме борьбы с деспотизмом, также нашла свое воплощение в «Борисе Годунове». Г. А. Гуковский был совершенно прав, отметив особую значимость сопоставления двух типов писателя в тексте трагедии: польского придворного поэта, сочинителя латинских стихов, подобострастно подносящего мнимому царевичу похвальную оду и получающего в подарок перстень, и независимого русского летописца Пимена, смелого, неподкупного обличителя царя-цареубийцы [9. С. 45–47].
Пушкину было близко восходящее к Шатобриану представление о том, что в атмосфере деспотизма, в эпоху всеобщего рабства и молчания общества, на историка, прозревающего истину, возлагается обязанность обличения тирана, мести ему [20. С. 74–75; 21. С. 42–43]. Однако ненависть к царю-тирану, царю-деспоту имеет у Пимена глубокие личные корни. Как явствует из слов Григория, в молодости он занимал видное место при дворе Грозного («воевал под башнями Казани», «рать Литвы при Шуйском отражал», «видел двор и роскошь Иоанна») и лишь во время опричнины оказался в монастыре. И, конечно же, образ опального ссыльного литератора, скорее всего, потомственного аристократа, ставшего неправедной жертвой царского гнева, не мог не наполниться у Пушкина современным, глубоко личным содержанием. Тем более, что само пребывание в Михайловском (как и ранее в Лицее) неизменно ассоциировалось в сознании поэта с заточением в монастыре [11. С. 73–75]. И точно так же, как правдивое обличительное слово заточенного Пимена послужило началом, стимулом активного политического действия, так и свободное слово михайловского изгнанника, – верил Пушкин, – должно претвориться в дело.
Значит, обращение к далекому прошлому, создание трагедии из эпохи смуты ни в коей мере не означало для Пушкина ухода от современности. Напротив, сохраняя по видимости художественное беспристрастие, он сделал все возможное, чтобы у читателей его исторической драмы сложилось впечатление, какое он сам вынес после чтения X и XI томов «Истории Карамзина»: «с’est palpitant comme la gazette d’hier» [12. Т. 10. С. 135] – это злободневно, как свежая газета!
Столь же животрепещуще-злободневным был сокровенный смысл и другого исторического произведения Пушкина 1820-х годов – поэмы «Полтава».
1984, 1993
Литература
1. Бернштейн Д. «Борис Годунов» // Литературное наследство. Т. 16–18. М.: Изд-во АН СССР, 1934.
2. Веселовский С. Б. Род и предки Пушкина в истории. М.: Наука, 1990.
3. Винокур Г. О. «Борис Годунов». Комментарий // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. VII: Драматические произведения. Л.: Изд-во АН СССР, 1935.
4. Городецкий Б. П. Драматургия Пушкина. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953.
5. Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М.: Наука, 1972.
6. Киреевский И. В. Критика и эстетика. М.: Искусство, 1979.
7. Рассадин С. Драматург Пушкин. М.: Искусство, 1977.
8. Непомнящий В. Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине. М.: Советский писатель, 1983.
9. Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М.: ГИХЛ, 1957.
10. Благой Д. Д. Мастерство Пушкина. М.: Советский писатель, 1955.
11. Благой Д. Социология творчества Пушкина. Этюды. 2-е изд., доп. М.: Мир, 1931.
12. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. 4-е изд. Л.: Наука, 1977–1979.
13. Балашов Н. И. «Борис Годунов» Пушкина. Основы драматической структуры // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 39. № 3. 1980.
14. Скрынников Р. Г. Борис Годунов и предки Пушкина // Русская литература. № 2. 1972.
15. Городецкий Б. П. Трагедия Пушкина «Борис Годунов». Комментарий. Л.: Просвещение, 1969.
16. Карамзин Н. М. История Государства Российского. Кн. третья. Т. IX–XII. М.: Книга, 1989. (Репринт изд. 1842–1844 гг.)
17. Филиппова Н. Ф. Народная драма А. С. Пушкина «Борис Годунов». М.: Книга, 1972.
18. Батюшков Ф. «Борис Годунов» // Библиотека великих писателей / Под ред. С. А. Венгерова. Пушкин. Т. II. СПб., 1908.
19. Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1982.
20. Реизов Б. Г. Из истории европейских литератур. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1970.
21. Фельдман О. Судьба драматургии Пушкина. М., 1975.
Потаенный смысл «Полтавы»
Сущность идейно-художественной концепции «Полтавы» не вызывает сегодня особых споров или столкновения разноречивых мнений. Смысл поэмы, главную ее цель видят обычно «в прославлении победы Петра над сильнейшим своим врагом, – в поэтическом изображении Полтавской битвы» [1. С. 95]. Центральная тема произведения раскрывается как апофеоз дела Петра, торжество «преобразованной им России над ее извечным врагом Швецией и королем Карлом XII…» [2. С. 287]. По словам Д. Д. Благого, «героика патриотического подвига, осуществляемого во имя сверхличных задач и целей Петром, его сподвижниками» [3. С. 300], противостоит в поэме устремлениям других ее персонажей, руководствующихся в своих поступках узко личными, эгоистическими страстями. Все они обречены поэтому вращаться «в созданном ими самими душном, мрачном и безвыходном “заколдованном кругу” – вражды, измены, лукавства, свирепости» [3. С. 299].
Тот же, в сущности, взгляд, но в еще более резкой форме высказывает и Ю. М. Лотман: «Осуждению подвергаются все герои поэмы, чьи личные устремления – злодейские или благородные – диктуются не желанием слиться со стихийным движением истории, сделаться, как Петр, ее персонифицированным воплощением, а любовью, ненавистью – человеческими страстями. Все они – от злодея Мазепы до “как агнец” кроткого Искры – осуждены на забвение». И лишь “отказавшийся от всего личного Петр” остается в памяти потомков [4. С. 259]. Вообще, для Пушкина второй половины 1820-х гг., – обосновывает Ю. М. Лотман свою точку зрения, – характерно представление «об исторической оправданности и неизбежности объективно сложившегося порядка. С этих позиций протест приравнивался к романтическому индивидуализму, игнорированию объективных и внутренне оправданных законов истории» [4. С. 257].
Во многом справедливая, характеристика эта представляется все же недостаточно точной, даже если учесть другую, подспудную тенденцию пушкинского творчества – «цепь размышлений о том, что история оправдывается не только объективностью своих закономерностей, но и прогрессом человечности» [4. С. 258]. Невольно возникает вопрос: неужели Пушкин последекабрьской поры безусловно отвергал всякий протест против существующего режима? И разве в облике романтических бунтарей-индивидуалистов представлялись ему лидеры декабристского движения?
Известно, что события 14 декабря поэт склонен был интерпретировать как выступление древней аристократии (к которой причислял он и «род Пушкиных мятежный») в защиту своих интересов, своих неотъемлемых прав против тиранической диктатуры «самовластья», всеми силами стремившейся эту аристократию подавить и опиравшейся на новую знать, полностью от нее зависимую. С этой точки зрения действия декабристов представлялись пусть и не вполне законными формально, но глубоко оправданными исторически и нравственно, имевшими целью восстановление справедливости, традиционного порядка вещей. Политика же правительства, спровоцировавшая выступление, воспринималась как попрание исконных национально-исторических основ. «Все Романовы революционеры и уравнители», – скажет позднее Пушкин в беседе с великим князем Михаилом [5. Т. 8. С. 45] (ориг. по-французски).
Следовательно, нравственно-психологический комплекс, свойственный мятежно-индивидуалистическому сознанию, оказывается связанным теперь в глазах поэта с деспотическим самодержавием и новой аристократией – силами, действующими, казалось ему, наперекор истории! Борьба с ними предстает в творчестве Пушкина – начиная с «Бориса Годунова» – как деяние исторически оправданное и нравственно необходимое, как подлинно героическая акция.
И «Полтава» не является в этом смысле исключением. Поэтому соотношение между двумя группами ее персонажей и, соответственно, между двумя ее основными линиями – «романической» и «героической» – не столь однозначно и просто, как может показаться на первый взгляд. Ведь как будто бы сугубо личный, вполне романический конфликт – столкновение Кочубея с Мазепой – тоже обретает в поэме общегосударственную, социально-историческую значимость. Не тем ли и создается внутреннее единство «Полтавы», не понятое современной Пушкину критикой и не объясненное удовлетворительно по сей день?
Как известно, в «романической» части «Полтавы» – в отличие от «героической» ее части – «Пушкин в значительной мере пошел по пути “вымышленного повествования”» [3. С. 278]. В описании любви Марии и Мазепы он «довольно широко допускает элементы художественного домысла и даже кое в чем отступает от исторических фактов. Зато в изложении и освещении исторических событий поэт полностью опирается на все доступные ему в ту пору и тщательно изученные им многочисленные труды и материалы» [6. С. 330].
И, конечно же, столь разное обращение с историей отнюдь не случайно. Вглядываясь в текст «Полтавы», нельзя не заметить, что конфликт Мазепы и Кочубея, пусть неявно, но все же вполне определенно, спроецирован на современность, что с ним связана важнейшая внутренняя тема поэмы, ее сокровенная суть, определившая злободневно-публицистический смысл этого исторического произведения.
Всем памятно начало первой песни поэмы: «Богат и славен Кочубей» [5. Т. 4. С. 181]. «Славен» означает здесь не просто «известен», но также «знатен», «родовит». Недаром далее поминаются «родовые хутора»[7] Кочубея, его сословная гордость. Еще важнее, что начальная формула вновь возникает в тексте первой песни, но уже в слегка измененном виде: «Богат и знатен Кочубей» [5. Т. 4. С. 184], – как бы проясняя синонимичность «славы» и «знатности».
Итак, Кочубей – владелец наследственных земель, он богат, знатен, славен, родовит, он, можно сказать, украинский аристократ. А Мазепа? Обратим внимание: с прямым упоминанием о знатности Кочубея соседствует мелкая, словно невзначай брошенная, но чрезвычайно важная и многозначительная биографическая деталь его антагониста:
Когда он беден был и мал, Когда молва его не знала… [Там же]Значит, в противоположность Кочубею, Мазепа еще недавно был беден, безвестен, социально ничтожен. Он представлен, следовательно, как человек темного, низкого происхождения, сродный по своим социально-психологическим свойствам тем, кто составляет в России столь ненавистную Пушкину «новую знать». Соответственно и антагонизм Кочубея и Мазепы – это не просто личное столкновение, вызванное бесчестным похищением Марии, но один из эпизодов непримиримой борьбы старой и новой знати, сыгравшей, по убеждению Пушкина, важнейшую роль в отечественной истории.
Скажем более: отстаивание знатным вельможей своих «природных» прав, своей чести, его решимость бросить вызов «малороссийскому владыке», создание им целого антимазепинского заговора (жена Кочубея, Искра, молодой казак), неудача замысла и казнь заговорщиков, подробно, ярко и подчеркнуто эмоционально изображенная в поэме (не случайно описание казни занимает всю центральную часть произведения), – все это, разумеется, не могло не вызвать у читателя ассоциации с недавним восстанием и казнью декабристов.
И уж, конечно, такие ассоциации жили в сознании самого поэта. Недаром на черновых листах «Полтавы» возникает целая «сюита рисунков, посвященная изображениям повешенных» [7. С. 81] (см. также [1. С. 59–60]). Как известно, в тревожное время работы над «Полтавой» (неясный исход дела об отрывке из «Андрея Шенье» и дела о «Гаврилиаде») Пушкин был особенно склонен сближать или даже отождествлять свою судьбу, свою возможную участь с судьбой и участью декабристов.
Необычность «Полтавы», следовательно, в том, что в ней представлено сразу два бунта: бунт Мазепы против Петра и как бы вмонтированный в него бунт Кочубея против Мазепы. И если первый из них автором безусловно осужден, то второй – в полном соответствии с политическими взглядами Пушкина – изображен весьма сочувственно.
Разумеется, напрасно искать в поэме прямых аналогий с современностью и тем более замаскированного изображения недавних политических событий. Речь может идти только о глубинных соотнесениях и ассоциациях, однако ассоциациях отнюдь не случайных, а предусмотренных всем художественным заданием и замыслом произведения.
Вот почему в тексте «Полтавы» существенны сигналы, настраивающие читателя на восприятие ее внутреннего, скрытого плана. Таким сигналом было, конечно, прежде всего само обращение к рылеевскому сюжету, развитие и переосмысление мотивов «Войнаровского» (см. [8. С. 32]), откровенное использование ряда рылеевских деталей, особенно очевидное в сцене казни, упоминание имени Войнаровского в тексте поэмы, не вызванное какой-либо необходимостью и не мотивированное сюжетно (см. [9. С. 80–84]), наконец, скрытая полемика с Рылеевым в предисловии к первому изданию «Полтавы».
Таким же сигналом было и предпосланное поэме Посвящение с его образами насильственной разлуки и «печальной пустыни», что вызывало естественные ассоциации с личностью Марии Волконской – вне зависимости от того, кому оно было адресовано в действительности и был ли такой реальный адресат вообще. Этой же цели служило и само имя героини, использование некоторых деталей внешнего облика Марии Волконской (черные кудри, грация движений, плавная походка) при обрисовке дочери Кочубея, определенное сходство их судеб (любовь к человеку, вовлеченному в политический заговор, значительно старшего по возрасту и т. п. – см. [10. С. 43–52]). «Но главное, что узнаем мы в образе Марии Кочубей, – замечает Т. Г. Цявловская, – это характер Волконской – лирический, страстный, волевой» [11. С. 57]. Чрезвычайно любопытно и устраненное из окончательного текста упоминание имени Волконского в числе сподвижников Петра во время Полтавской битвы [12. Т. 5. С. 282] (см. [1. С. 21–22]).
Многозначительна, наконец, и параллель в первой песни между Карлом и Наполеоном (со ссылкой на «Мазепу» Байрона), развернутая в прозаическом предисловии к первому изданию, – единственное место в поэме, осторожно приоткрывающее ее внутреннюю тему, прямо указывающее на сопоставимость прошлого и настоящего. О важности этого сопоставления свидетельствует замена близкого байроновскому тексту стиха: «Он шел путем, где след оставил / Другой могущественный враг…» [12. С. 178] (у Байрона: «a mightier host» – «могущественный властитель»), – на более далекий от оригинала и, казалось бы, менее совершенный художественно, но точнее выражающий авторскую мысль: «В дни наши новый, сильный враг…» [5. Т. 4. С. 185] (см. [13. С. 120]).
И все же главным средством актуализации исторического материала стало в «Полтаве» изображение Мазепы. Уничтожающая, беспощадно резкая оценка исторического лица, его прямая однозначно-негативная характеристика, предваряющая изображение, Пушкину, вообще говоря, не свойственная (см. [14. С. 280]), едва ли не самая поразительная черта «Полтавы». Создавая образ Мазепы, поэт намеренно, почти демонстративно до предела сгущает черные краски (что вызвало, напомним, недоумение первых читателей «Полтавы»). И хотя Пушкин оправдывал подобное изображение верностью историческим фактам, это не может объяснить необходимости столь прямолинейных, «лобовых» способов обрисовки центрального героя, вернее, антигероя произведения, сознательного сгущения прямых, оценочных эпитетов (см. [15. С. 235]), не имеющего аналогов в других пушкинских поэмах.
По мнению А. А. Лациса, особую остроту и злободневность образу Мазепы придавало то обстоятельство, что «истинной мишенью», в которую метил Пушкин, был граф А. И. Чернышов. Состоявший в пору создания поэмы председателем комитета по донскому казачеству, он занимал фактически «положение, равнозначное упраздненному званию гетмана». Таким образом, беспощадная характеристика Мазепы («Кто снидет в глубину морскую, / Покрытою недвижно льдом?» и т. д.) гневно клеймила «главного следователя, главного обвинителя декабристов, да еще и палача» [16. С. 193].
Действительно, Мазепа предстает в поэме как человек абсолютно аморальный, бесчестный, мстительный, злобный, как вероломный лицемер, для которого нет ничего святого (он «не ведает святыни», «не помнит благостыни»), человек, привыкший любой ценой добиваться поставленной цели. Преступный соблазнитель своей юной крестницы, он обрекает публичной казни ее отца и – уже приговоренного к смерти – подвергает его жестокой пытке, дабы выведать, где спрятал тот свои богатства – «клады». Этим, отмечает Д. Д. Благой, к облику «гетмана-злодея» добавляется еще одна черта, «едва ли не особенно зловещая и отвратительная»: он «не только политический изменник и предатель, но и ни перед чем не останавливающийся стяжатель, корыстолюбец» [3. С. 284].
Столь же беспощадно изображена и политическая деятельность Мазепы. Его слова о свободе Отчизны, о независимости Украины – откровенная политическая демагогия и прямая ложь: ведь отпадение Украины от России означало бы ее зависимость от Швеции и Польши, на помощь которых рассчитывал Мазепа прежде всего. Практическая подготовка заговора недвусмысленно представлена в поэме как польская интрига, как отвратительный политический торг:
С ним полномощный езуит Мятеж народный учреждает И шаткий трон ему сулит. Во тьме ночной они, как воры, Ведут свои переговоры, Измену ценят меж собой, Слагают цифр универсалов, Торгуют царской головой, Торгуют клятвами вассалов. [5. Т. 4. С. 190]Из текста поэмы с несомненностью явствует, что стимулы деятельности Мазепы отнюдь не патриотического свойства. Им руководит желание отомстить оскорбившему его Петру, а главное – безудержное, ненасытимое властолюбие. Недаром Мария мечтает о времени, когда ее возлюбленный будет «царь земли родной», да и сам он надеется: «И скоро в смутах, в бранных спорах, / Быть может, трон воздвигну я» [5. Т. 4. С. 196]. Весь этот нравственно-психологический комплекс: жажду власти, возвышения, личного самоутверждения при полнейшей неразборчивости в средствах – Пушкин считал типичным для новой знати вообще.
Дело, однако же, не только в личных качествах Мазепы. Само его выступление представлено в поэме как враждебное преобразованиям Петра, всецело обращенное в прошлое. В этом отношении «друзья кровавой старины» аналогичны взбунтовавшимся московским стрельцам. И точно так же, как в «Стансах» «буйному стрельцу» противопоставлен преданный Петру, но независимый и честный аристократ Долгорукий, не боящийся говорить правду в глаза царю, так и в «Полтаве» «друзьям кровавой старины» во главе с Мазепой противостоит родовитый и знатный Кочубей, тоже не побоявшийся сказать правду царю о «малороссийском владыке».
Понятно: чем чернее, чем непригляднее выходил образ мнимого героя свободы Мазепы, тем светлее – по закону контраста – выступал образ его антагониста – истинного патриота, «невинного страдальца» Кочубея.
Считается, правда, что донос Кочубея царю – это всего лишь акт личной мести (см., например, [3. С. 299]), поскольку ему и раньше, до похищения дочери, были известны предательские замыслы Мазепы. Согласуется ли такой взгляд с текстом поэмы?
Во-первых, о замыслах Мазепы Кочубей мог только догадываться. Ведь даже в пору их былой близости, подчеркивает Пушкин,
Пред Кочубеем гетман скрытный Души мятежной, ненасытной Отчасти бездну открывал И о грядущих измененьях, Переговорах, возмущеньях В речах неясных намекал. [5. Т. 4. С. 187–188]Естественно, что обращаться к «предубежденному Петру» с одними только подозрениями, в которых он сам не был до конца уверен, Кочубей (тем более будучи другом Мазепы) не хотел и не мог. Вообще, обвинять в чем-либо человека только за его планы, намерения, побуждения Пушкину и людям его круга казалось безнравственным. Вспомним хотя бы негодование Вяземского, возмущенного тем, что декабристы были жестоко наказаны за преступления, «из коих большая часть состояла только в одном умысле» [17. С. 126]. Лишь когда измена Мазепы перестала быть только «умыслом», когда он начал претворять его в дело, у Кочубея появились основания известить об этом Петра.
Во-вторых, у Кочубея были неограниченные возможности свести с Мазепой личные счеты другими, более, верными, скорыми и безопасными способами:
Богат и знатен Кочубей. Довольно у него друзей. Свою омыть он может славу. Он может возмутить Полтаву; Внезапно средь его дворца Он может мщением отца Постигнуть гордого злодея; Он может верною рукой Вонзить… но замысел иной Волнует сердце Кочубея. [5. Т. 4. С. 184]И конечно же, «замысел иной» волновал Кочубея вовсе не потому, что был более прост и надежен. Совсем нет: Кочубей прекрасно сознавал его опасность («Иль сам погибнет, или погубит – отмстит поруганную дочь») [5. Т. 4. С. 188]), связанный с его осуществлением смертельный риск: ведь «донос на мощного злодея» предстояло вручить «предубежденному Петру», то есть расположенному к Мазепе царю! И если из всех способов мести Кочубей выбрал все же самый рискованный, самый ненадежный и самый долгий, объяснить это можно лишь тем, что он стремился не просто отмстить своему врагу, но одновременно исполнить гражданский, патриотический долг – действовать, «усердьем пламенея, ревнуя к общему добру» [Там же]. Как видим, этически двусмысленный акт – донос предстает в поэме в ореоле гражданского подвига, и не случайно в рассказ о нем вкраплена декабристская фразеология (см. [18. С. 354]). Скрытая, «декабристская» тема «Полтавы» снова – на миг – выходит здесь на поверхность!
В-третьих, защита своих «природных» прав и личного достоинства, своей чести (а Кочубей обесчещен!) отнюдь не представлялась Пушкину сугубо частным делом. Она обретала в его глазах важнейший общественно-исторический смысл. Ведь и декабристы, казалось ему, преследовали своим выступлением цели равно общественные и личные. Вернее, их личные цели оказывались одновременно целями общественными.
И все-таки, повторим, решающую роль в нравственном возвышении Кочубея сыграла зловещая фигура его антипода Мазепы. Призванная подчеркнуть, рельефнее выявить благородство и преданность Кочубея Петру, она в то же время напоминала о судьбе других невинных и благородных страдальцев, скорейшее освобождение и возвращение которых необходимо было, по убеждению поэта, прежде всего русскому обществу, правительству, верховной власти. Ибо возмущение декабристов, стремился внушить Пушкин Николаю, – это не бунт «буйных стрельцов», но выступление нынешних Долгоруких, нынешних Кочубеев – потенциальных сторонников и сподвижников царя (вспомним еще раз фигуру Волконского в черновиках поэмы среди соратников Петра).
Недаром же Кочубей косвенно сближен еще с одним «несчастным страдальцем», политическим узником и мужественным гражданином – Радищевым! Ставший хрестоматийным пейзаж «Полтавы» («Тиха украинская ночь…») представляет собой, как подметил М. Г. Харлап, если не прямую цитату, то явное переложение стихотворения Радищева «Сафические строфы» [19. С. 74]. Сходство, действительно, разительное:
Ночь была прохладная, светло в небе Звезды блещут, тихо источник льется, Ветры нежно веют, шумят листами Тополы белы. [20. С. 112] Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут. Своей дремоты превозмочь Не хочет воздух. Чуть трепещут Сребристых тополей листы. [5. Т. 4. С. 198]Но не только пейзаж сближает оба произведения. В стихотворении Радищева как бы намечено сюжетное зерно второй части поэмы, где Мария дает клятву Мазепе, а потом нарушает ее. Хотя, по сути дела, клятвопреступником оказывается Мазепа, соблазнивший Марию, страстно клявшийся ей в любви, обещавший ей счастье, а не деле погубивший ее. Тема клятвопреступления развивается и в стихотворении Радищева:
Ты клялася верною быть вовеки, Мне богиню нощи дала порукой; Север хладный дунул один раз крепче — Клятва исчезла. Ах! почто быть клятвопреступной!..Стихотворение Радищева было опубликовано, известно читателю, и Пушкин вправе был рассчитывать, что цитату узнают, что имя Радищева всплывет в памяти любителей словесности в связи с Кочубеем.
Наконец, как уже отмечалось, в 1828 г. Пушкин особенно настойчиво сближает себя с декабристами – как жертву правительственных репрессий; перед ним маячит призрак насильственной смерти, мучительной и позорной казни. Тем самым он вольно или невольно соотносит свою возможную участь и с участью Кочубея – еще одна внутренняя аналогия!
Образ Кочубея обрастает тем самым ореолом вольнолюбивых ассоциаций и подтекстовых сближений, его поступок все более героизируется, выступает как акт высокого гражданского мужества. Кочубей, Долгорукий, Радищев, декабристы, наконец, сам поэт – все они объединены в глазах Пушкина своей принципиальностью и гражданским мужеством, своей принадлежностью аристократической фронде.
Но если в «Стансах» Петр выступал как идеальный и мудрый государственный деятель, безошибочно отличающий независимого и смелого Долгорукого от «буйного стрельца», то в «Полтаве» он действует уже не столь безупречно. «Казнь Кочубея – это очень отчетливо выявлено в “Полтаве”, – верно отметил Г. М. Ленобль, – была явной и неоспоримой ошибкой… которую Петр потом постарался исправить и загладить» [8. С. 42]. Можно добавить: ошибка эта отнюдь не случайна, но в глазах Пушкина глубоко симптоматична. Петр поверил Мазепе и не поверил Кочубею, ибо, подобно всем Романовым («революционерам и уравнителям»), в большей мере опирался на новую знать, нежели на древнюю аристократию. И эта проблема переориентации верховной власти, изменения ее внутриполитического курса, проблема союза царя и дворянской интеллигенции стала для Пушкина особенно актуальной во второй половине 1820-х гг.
«Полтава», следовательно, обозначила новый этап эволюции политических взглядов поэта. «Во всем будь пращуру подобен», – советовал он Николаю в «Стансах» (1826). Теперь же выясняется, что формула «Стансов» уже недостаточна, что она нуждается ныне в критическом усвоении и серьезной корректировке. «Полтава» должна была стать, таким образом, новым, во многом уже иным политическим уроком царю, также совершившему трагическую ошибку, какой считал Пушкин казнь декабристов, суровую расправу над ними.
Тайная мысль поэмы, ее животрепещущий «декабристский» смысл еще более проясняется, если иметь в виду, как волновала Пушкина судьба «современных Кочубеев», томящихся на каторге, в тюрьме, ссылке. Прощение «друзей, братьев, товарищей» [5. Т. 10. С. 164] было в его глазах не просто актом милосердия и гуманности, в котором поэт был лично, по-человечески заинтересован. Это, был, казалось ему, политический экзамен новому царю и в то же время практическая проверка его собственных политических концепций.
Прощение «наших каторжников» [5. Т. 10. С. 246] свидетельствовало бы, по убеждению Пушкина, что Николай – действительно просвещенный монарх, царь-преобразователь, готовый и способный к союзу с родовитой знатью, дворянской интеллигенцией, достойный преемник лучших традиций и заветов своего «незлобного памятью» «пращура». И тогда сотрудничество с ним благотворно, естественно, необходимо. Напротив, продолжающееся заточение и преследование декабристов – знак того, что и в царствование Николая будет по-прежнему осуществляться характерный для Романовых курс на подавление независимой и гордой аристократии, курс тиранической диктатуры самодержавной власти. И в этом случае союз с царем, в котором «много от прапорщика и немного от Петра Великого» [5. Т. 8. С. 39] (ориг. по-французски), оказывался для Пушкина сложной и мучительной проблемой. Отсюда – напряженное внимание поэта к внутренней политике правительства, целый спектр пережитых им надежд и разочарований[8], приведших в конце концов к пересмотру его прежних воззрений.
У истоков этого процесса и стоит пушкинская «Полтава» с ее сокровенной, жгуче-злободневной «декабристской» темой – произведение, ставшее важным шагом на пути от «Стансов» к «Медному всаднику».
1988, 1995
Литература
1. Измайлов Н. В. Пушкин в работе над «Полтавой» // Измайлов Н. В.
Очерки творчества Пушкина. Л.: Наука, 1975.
2. История русской литературы: В 4 т. Т. 2. Л.: Наука, 1981.
3. Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826–1830). М.: Советский писатель, 1967.
4. Лотман Ю. М. Посвящение «Полтавы» (Адресат, текст, функция) // Лотман Ю. М. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки. 1960–1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб.: Искусство – СПБ, 1995.
5. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. 4-е изд. Л.: Наука, 1977–1979.
6. История русской литературы: В 3 т. Т. 2. М.; Л: Изд-во АН СССР, 1963.
7. Цявловская Т. Г. Рисунки Пушкина. М.: Искусство, 1980.
8. Леноблъ Г. У истоков «Полтавы» // Леноблъ Г. История и литература. 2-е изд. М.: Художественная литература, 1977.
9. Сиповский В. В. Пушкин и Рылеев // Пушкин и его современники. Вып. III. СПб., 1905.
10. Соколов Б. М. М. Н. Раевская – кн. Волконская в жизни и поэзии Пушкина. М., 1922.
11. Цявловская Т. Г. Мария Волконская и Пушкин (Новые материалы) // Прометей. Т. I. М.: Молодая гвардия, 1966.
12. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 5, М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1949.
13. Фридлендер Г. М. Поэмы Пушкина 1820-х годов в истории эволюции жанра поэмы в мировой литературе (К характеристике повествовательной структуры и образного строя поэм Пушкина и Байрона) // Пушкин. Исследования и материалылы. Т. VII. Л.: Наука, 1974.
14. Слонимский А. Мастерство Пушкина. М.: ГИХЛ, 1959.
15. Лотман Ю. М. К структуре диалогического текста в поэмах Пушкина (проблема авторских примечаний к тексту) // Лотман Ю. М. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки. 1960–1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб.: Искусство – СПБ. 1995.
16. Лацис А. А. «Молебнов лести не пою…» // Новый мир. № 1. 1987.
17. Вяземский П. А. Записные книжки (1813–1848) («Литературные памятники»). М.: Изд-во АН СССР, 1963.
18. Поляков М. История и жанр романтической поэмы («Полтава» Пушкина и «Конрад Валленрод» Мицкевича) // Поляков М. В мире идей и образов. Историческая поэтика и теория жанров. М.: Советский писатель, 1983.
19. Харлап М. О стихе. М.: Художественная литература, 1966.
20. Радищев А. Н. Стихотворения. 3-е изд. Л., Советский писатель, 1953. (Библиотека поэта. Малая серия.)
«В вековом прототипе…» (К истолкованию «Пира во время чумы»)
Маленькие трагедии принято считать одной из вершин так называемого «болдинского реализма». «Наиболее полным выражением реализма болдинского периода явились “маленькие трагедии”, – писал, например, Ю. М. Лотман. – В этом отношении они подводят итог всего творческого развития поэта с момента его разрыва с романтизмом. Стремление к исторической, национальной и культурной конкретности образов, представление о связи человека со средой и эпохой позволили достигнуть ему психологической верности характеров» [1. С. 331]. Аналогичные суждения не раз выказывали и другие известные пушкинисты (в их числе Г. А. Гуковский, Г. П. Макогоненко, Н. В. Фридман), равно как и авторы пушкинских разделов в общих курсах истории русской литературы.
Не вдаваясь сейчас в обсуждение сложного теоретического вопроса о сущности реализма и правомерности безоговорочного применения этого термина к болдинским пьесам, отметим лишь их несомненный романтический колорит. Это и обращение поэта к отдаленным историческим эпохам, и исключительные, предельно напряженные сюжетные ситуации, и титанические характеры, и могучие страсти, всецело завладевающие душами героев, и многие другие черты, более свойственные романтической поэтике. Причем наиболее полно, очевидно и ярко это романтическое начало проявилось в последней из маленьких драм – «Пире во время чумы», существенно отличной от трех предшествующих.
Нетрудно заметить: главная внутренняя тема трех первых пьес – это измена героя самому себе. Само собой разумеется, что истинный рыцарь, каким все еще считает себя барон Филипп, не может, не должен быть обманщиком и скупцом. Ведь ему положено оставаться честным и благородным, великодушным и щедрым, даже если он беден. И тем более, если он богат. И потому рыцарское начало, живущее в душе барона, оказывается трагически несовместимым с его маниакальной скупостью и патологической жаждой наживы – чертами, так сказать, антирыцарскими. Вполне закономерно поэтому, что неизбежный конфликт обоих начал завершается гибелью героя. Еще более поразительно и противоестественно выглядит исходная ситуация «Моцарта и Сальери». В самом деле, «гордый» Сальери, жрец высокого искусства и верный «служитель музыки», оказывается «завистником презренным», способным умертвить даже своего друга – величайшего композитора. И наоборот: как заметил Б. В. Томашевский в своем комментарии к «Каменному гостю», в душе Дон-Гуана, поэта чувственной любви, пробуждается вдруг иное чувство – «освобождающее и преображающее» [2. С. 573].
Напротив, главная внутренняя тема «Пира во время чумы» – это верность человека самому себе, причем даже в ситуациях крайних, безусловно трагических, во время общей и непоправимой беды. Вглядимся же более внимательно в завершающую пьесу болдинского цикла.
Итак, в чем же смысл и суть последней из «маленьких трагедий»? Как раскрывается в ней тема жизни и смерти? Каково отношение поэта к самому факту уличного пира во время всеобщего бедствия? Насколько близок ему пафос знаменитого «гимна в честь чумы»? Каков итог финального столкновения Вальсингама и Священника? Ответы на эти вопросы в многочисленных работах, посвященных «Пиру во время чумы», предлагаются разные, порой взаимоисключающие.
Так, В. С. Непомнящий убежден, что «трагическая ситуация, имеющая место на сцене, состоит не в самой чуме, не в эпидемии, не в надвигающейся смерти…, но в поведении действующих лиц, совершающих совместное и согласное духовное отступничество», ибо заклятия Священника не производят на них никакого впечатления, «хотя действие происходит в христианской стране» [3. С. 414]. Еще резче антихристианскую суть поведения и речей героев трагедии характеризует М. Новикова. Даже с языческой точки зрения, замечает она, «пир во время чумы и его центральный акт, Гимн чуме, есть настолько самоочевидный ритуал кощунства, что никаких дополнительных доказательств древнему язычнику и не потребовалось бы» [4. С. 252]. Напротив, Г. П. Макогоненко рассматривает «Пир» как «произведение, раскрывающее поведение человека в условиях, грозящих ему неминуемой гибелью». И потому, полагает он, поэт «предельно обостряет конфликт между обстоятельствами и человеком» [5. С. 235], показывает что «освобождение от страха перед неизбежной смертью» помогает «обрести нравственную свободу» [5. С. 239].
Между этими полярными истолкованиями пушкинского шедевра располагается ряд других, допускающих и обосновывающих совмещение обеих, казалось бы, непримиримых крайностей. «Сложенный Вальсингамом гимн чуме, – утверждает, например, Д. Д. Благой, – раскрывает всю мощь его натуры». Хотя в то же время, замечает исследователь, он означает не что иное, как измену памяти любимой жены – Матильды. И пусть Матильда простила бы своего возлюбленного (ведь «оргией пира» он пытается заполнить «ужас той мертвой пустоты», которая «со смертью жены, а затем и матери воцарилась в его доме»), «сам Вальсингам этого простить себе не может… И горе, овладевшее им, так истинно и глубоко, что даже священник, как бы склоняя перед этим голову, перестает настаивать на его уходе с пира…» [6. С. 153]. «В “Пире во время чумы”, – полагает Ю. М. Лотман, – и Председатель, и Священник – оба в трагическом положении: они оба враги и жертвы чумы и оба выше автоматического следования обстоятельствам. Председатель борется с чумой погружением в безудержную свободу, а Священник – призывом нравственной ответственности. Но свобода и ответственность – две нераздельные стороны единого, и “Пир во время чумы” – единственная из пьес цикла, где борьба враждующих героев заканчивается не гибелью одного из них, а нравственным примирением» [1. С. 332].
Не отдавая сейчас предпочтения ни одной из предложенных интерпретаций, заметим лишь, что им свойственна одна общая черта: слишком прямое, буквальное истолкование пушкинского текста, его художественной образности, недооценка его условно-обобщающего значения и смысла.
В самом деле, как отметил С. Г. Бочаров, «Пушкин прямо в заглавие записал скандальную ситуацию: “Пир во время чумы”» [7. С. 57]. Тем более скандальную, что речь идет о пире уличном, вызывающе-неуместном в разгар всеобщего бедствия. И разве не прав Священник, требуя от собравшихся: «Ступайте по своим домам»?
Увы, не прав! «Дома у нас печальны», – резонно возражает Председатель. И не просто печальны, но и опасны. Ведь едва ли не в каждом из них – зловещие следы эпидемии, неизбежные последствия недавней болезни и смерти людей. Искать спасения поэтому приходится вне дома. «Улица вся наша, – безмолвное убежище от смерти», – резонно замечает Молодой человек. То есть, фактически «дом перенесен на улицу» [8. С. 316].
И все же пир в пору всеобщего горя и бедствия – разве не может, не должен выглядеть и считаться кощунством? Казалось бы, безусловно может. Однако же нельзя не заметить, что Председатель прилагает все усилия к тому, чтобы этого не допустить и придать уличному пиршеству иной, особый характер. Он ясно дает понять, что и сам факт пира, и его смысл – отнюдь не бездумное эпикурейство.
Действительно, сначала он отклоняет предложение Молодого человека почтить память весельчака Джаксона, первого выбывшего из круга пирующих, и «выпить в честь его с веселым звоном рюмок, с восклицаньем, как будто был он жив». Напротив, Председатель настаивает на необходимости почтить его уход молчанием и тем самым «меняет тональность с веселой на печальную» [9. С. 202].
После этого «все пьют молча», что, скорее, напоминает поминки или тризну. Потом, по его просьбе, Мери, как бы продолжая поминать усопшего, поет «протяжно и уныло» жалобную песню об эпидемии чумы «в дни прежние», о силе вечной любви, любви за гробом, а Председатель откликается на ее пение сердечно и сочувственно, а после осторожно, но решительно гасит агрессивную выходку против Мери вечно озлобленной Луизы. Затем он вновь отвергает предложение Молодого человека исполнить «буйную вакхическую песнь, рожденную за чашею кипящей». И вместо нее «для пресеченья споров» исполняет свой знаменитый «гимн в честь чумы», сочиненный минувшей ночью, гимн, прославляющий мужественное противостояние опасности и радость борьбы с враждебными силами.
Результат его усилий очевиден. Как остроумно заметил Ст. Рассадин, перед нами, в сущности, «не пир», а диспут во время чумы. Герои не пьют, а дискутируют, а сам Вальсингам – не Председатель пира, а председательствующий на «диспуте». И далее: «У каждого дискутанта свой голос, своя, как мы бы сказали, позиция» [10. С. 158]. И свое, добавим, отношение к надвигающейся смертельной угрозе. Это и беспечно-легкомысленный эпикуреизм Молодого человека, и чистая, искренняя вера Мери в силу вечной любви, и безумный страх смерти агрессивно-циничной Луизы, и провозглашенное Председателем мужественное противостояние испытаниям, готовность сразиться с судьбой.
Однако Председатель, как мы убедились, не просто выявляет «множественность точек зрения» на происходящее [11. С. 468], но кратко комментирует и осторожно корректирует суждения персонажей, а также их поведение. Свою задачу он видит в том, чтобы сплотить участников пира перед лицом смертельной опасности, добиться их внутреннего согласия, душевного единения. Недаром его знаменитый гимн звучит не как высказывание личное, утверждение собственной позиции, но как своего рода манифест, выражающий общее мнение участников пира («мы»), как призыв к действию коллективному.
Другим безусловным итогом его усилий может быть назван тот несомненный факт что страшное бедствие – «дуновение чумы» – в значительной мере теряет свою исключительность, свою уникальность. Во-первых, потому, что подобные несчастья (как свидетельствует песня Мери и комментирующие ее слова Председателя) случались и ранее, а, значит, могут повториться вновь. Во-вторых, потому, что чума уподобляется другим опасностям, другим угрозам, с которыми приходится сталкиваться человеку. Это и войны, и возможность оказаться на краю страшной пропасти, и вероятность столкновения с разъяренной стихией. Она становится даже как бы их аналогом – тем более, что английское слово «plague» в подзаголовке трагедии «имеет кроме терминологического узкомедицинского еще и расширительное значение (‘мор, эпидемия, ужасное бедствие’)» [12. С. 104]. Словом, катастрофа предстает как неотъемлемая и закономерная грань бытия.
И поскольку смертельная угроза, страшная опасность подстерегает человека в любой момент его жизни, он должен встретить ее достойно и мужественно, быть готовым бесстрашно сразиться с ней и даже ощутить в этом поединке «неизъяснимы наслажденья». Ведь даже столь страшное бедствие, как эпидемия чумы, вовсе не означает всеобщей и неизбежной гибели, хотя, разумеется, вероятность трагического исхода весьма велика.
Именно такое отношение к возможным испытаниям проповедует Вальсингам в своем гимне, именно в этом видит он «бессмертья, может быть, залог» (понимая под бессмертием не загробное блаженство, а жизнь в памяти людей):
Есть упоение в бою, И бездны мрачной на краю, И в разъяренном океане, Средь грозных волн и бурной тьмы, И в аравийском урагане, И в дуновении Чумы. [13. Т. 5. С. 356]Невозможно согласиться поэтому с мнением В. С. Непомнящего что в гимне Вальсингама нет «только одного. Нет веры, нет любви», ибо он – «акт безверия, породившего страсть (страх) смерти, “ужас”, “отчаянье”, “сознанье беззаконья”» [3. С. 417]. Тем более что нравственно-религиозная настроенность Мери ему совсем не чужда.
В свое время Н. В. Фридман проницательно подметил, что «идеи и даже отдельные образы гимна восходят к мыслям Канта о “динамически высоком” в природе». В своей книге ученый приводит обширную выдержку из труда немецкого философа «Критика способности суждения» (где, как известно, изложены его эстетические воззрения), настойчиво подчеркивая сходство кантовских суждений с текстом и общим пафосом Вальсингамова гимна.
Сходство, действительно, разительное. Вот, что пишет Кант: «Смело повисшие, как бы грозящие скалы, громоздящиеся по небу грозные облака, надвигающиеся с громом и молниею, вулканы, во всей их разрушительной силе, ураганы, оставляющие за собой пустыню, безграничный возмущенный океан, могучий водопад на многоводной реке и т. п. явления, в сравнении с своею силою, показывают нам полное бессилие и ничтожество нашей способности к сопротивлению им».
Такие явления, говорит Кант, «мы охотно называем высокими, потому что они поднимают наши душевные силы над обычным уровнем и дают нам возможность заметить в себе совершенно особую силу противодействия, которое дает нам смелость помериться силами с кажущимся всемогуществом природы». Правда, замечает Н. В. Фридман, Кант имеет в виду «художественное удовольствие», доставляемое созерцанием грозных явлений, и потому оговаривает, что сам наблюдатель «должен находиться в безопасности». И все же, убежден философ, мы находим тогда «в своей собственной душе» «перевес силы над природою, даже во всей ее неизмеримости», и это позволяет человеку испытывать «вдохновенное наслаждение» [14. С. 173]. Такого рода идеи Канта, добавляет Н. В. Фридман, базировались «на признании величия человеческой личности» [14. С. 174][9].
«В учении Канта о динамически возвышенном, – разъясняет В. Ф. Асмус, – сказался высокий гуманизм его философского мировоззрения. Человек, испытывающий чувство возвышенного, чувство собственного превосходства перед лицом могучих сил природы, готовых раздавить и уничтожить его своим безмерным могуществом, – не “червь земли”, не человек “рабского сознания”». Чувство собственного человеческого достоинства не только противостоит превосходящим его силам, но одерживает победу над ними. (…)
Такой человек – существо не только эстетическое, но и высокоэтическое» [15. С. 477].
Можно сказать, таким образом, что «Царица грозная, Чума» предстает в пушкинской трагедии и в своем прямом, конкретном, значении – как наименование страшной эпидемии, и в смысле расширительно-метафорическом – как символ зла вообще. Более того, она выступает здесь как некое верховное бедствие. Ибо, по верному замечанию С. Г. Бочарова, «Царица – это власть, и власть абсолютная» [7. С. 59].
Соответственно, и пир понимается не только как веселое дружеское застолье, но и как образ единения людей перед лицом торжествующего в мире зла – символ совместного противостояния ему. Постоянная игра этими контрастными значениями, значениями прямыми и символическими, и составляет важнейшую особенность последней из «маленьких трагедий». Она допускает, следовательно, существование чумы без пира и пира без чумы. Тем самым наименование «пир во время чумы» во многом утрачивает свой конкретный смысл, выходит за рамки единичной ситуации, становится крылатым словом, формулой отношения к жизни вообще [7. С. 57].
Пир, замечают Н. В. Беляк и М. Н. Виролайнен, – «это не только содержание действия, воплощенного в трагедии, но и жанровый способ организации действия, отсылающий к традиции Платона, с одной стороны, и Декамерона – с другой. Именно через пир как симпозиум, как застолье, сопровождающееся диспутом, просвечивает и античность, и Возрождение» [16. С. 83].
Действительно, в «Декамероне», например, чуме вполне реальной противостоит пир чисто духовный – свободное и радостное единение молодых людей, покинувших зачумленную Флоренцию. Напротив, своего рода пиром во время чумы (но без чумы!) может быть названа, скажем, эпикурейская лирика юного Пушкина с ее очевидным вольнолюбивым подтекстом. А в известном стихотворении Б. Пастернака «Лето» (1930), где речь идет о духовно-нравственном противостоянии друзей-единомышленников враждебной и неправедной власти, метафоричны оба члена антитезы («…и поняли мы, / Что мы на пиру в вековом прототипе – / На пире Платона во время чумы»). То есть, на этом пире во время чумы нет ни чумы, ни пира.
Возвратимся теперь к сюжету трагедии.
Итак, Председателю удалось, как будто, добиться своего – превратить уличное застолье в обмен мнениями, своего рода «диспут». А главное – он сумел сплотить собравшихся за столом, убедить их в том, что чума – сродни другим страшным опасностям, с которыми может столкнуться каждый. И потому необходимо преодолеть страх перед ней, почувствовать себя внутренне свободным и даже вызвать ее на поединок, ощутить своего рода азарт и радость противостояния смертельной угрозе, ибо «вызов судьбе, обстоятельствам, “здравому смыслу”, есть высший момент в жизни человека, когда он осознает свое величие, свою силу, свою раскрепощенность от всех навязанных ему норм поведения» [5. С. 239]. Впрочем, вскоре выясняется, что самому Председателю, только что потерявшему любимых и близких людей – жену и мать, – отстаивать такую позицию особенно важно и особенно трудно. Более того, сама эта позиция, отнюдь не безусловна и проблематична.
Тем не менее превосходство Вальсингама над окружающими даже усиливается («Bravo, bravo! достойный председатель!») благодаря невольной ошибке внезапно появившегося Священника. Неожиданно вошедший при последних словах Вальсингамова гимна («Бокалы пеним дружно мы, / И девы-розы пьем дыханье, – / Быть может… полное Чумы»), он решил, что перед ним обычное пиршественное веселье, чудовищно-неуместное и кощунственное:
Безбожный пир, безбожные безумцы! Вы пиршеством и песнями разврата Ругаетесь над мрачной тишиной, Повсюду смертию распространенной! Средь ужаса плачевных похорон, Средь бледных лиц молюсь я на кладбище, А ваши ненавистные восторги Смущают тишину гробов – и землю Над мертвыми телами потрясают! [13. Т. 5. С. 356–357]Понятно, что такая, столь несправедливая оценка происходящего, равно как и требование вернуться в свои дома, дома пустые, печальные и опасные, не могли вызвать сочувствия пирующих и были решительно ими отвергнуты.
Однако последующие речи Священника попадают точно в цель и больно ранят душу и сердце Вальсингама. Мысль, что брошенный им вызов смерти греховен, что он грозит вечной разлукой с матерью и «чистой духом» Матильдой, для него невыносима. Он начинает понимать правду Священника: для воссоединения с ними за гробом необходима молитва, необходимо смирение перед лицом страшной опасности. Но такая позиция для него тоже неприемлема, тем более что его слова нашли живой отклик в душе участников пира, которых он успел убедить в своей правоте. Отсюда – его смятение, его растерянность.
Конечно, реакция Вальсингама на слова Священника выглядит неожиданной. Однако на самом деле она внутренне подготовлена – сюжетно и психологически. Речь идет о песне Мери – с ее темой верности памяти умершей возлюбленной и счастья встречи с ней на небесах. Исполненная по просьбе Вальсингама, она нашла, как уже говорилось, живой отклик в его душе.
По словам авторов статьи «“Песня Мери” и “Голос Дженни”», «песня, звучащая в начале трагедии как некий дополнительный, боковой фабульный ход, в финале оборачивается магистральным сюжетом: Мери рассказывает историю Вальсингама и Матильды – от имени умершей возлюбленной главного героя. Последний монолог Председателя – косвенный ответ, вторая реплика в диалоге с «женой похороненной». Если песня Мери вводит взгляд с небес умершей героини («А Эдмонда не покинет / Дженни даже в небесах»), то Вальсингам устремляет глаза ввысь (“Святое чадо света! Вижу / Тебя я там, куда мой падший дух / Не досягнет уже…”)» [17. С. 126].
И Священник чутко улавливает перемену в душевном состоянии Вальсингама, понимает, что причинил ему невыносимую боль, и смиренно просит у него прощения. Можно сказать даже, что позиции Вальсингама и Священника – при всей их видимой противоположности – в чемто близки друг другу. В самом деле, Священник отнюдь не стремится как можно скорее укрыться от чумы за монастырскими стенами. Напротив, он выходит к людям, к толпе, к пирующим, выходит с проповедью, убеждением, наставлением, то есть, тоже бросает вызов смертельной опасности, остается верен своему призванию и предназначению. Поэтому спор Председателя и Священника в финале трагедии, «их напряженный диалог», замечает Ю. М. Лотман, «лишен взаимной враждебности», ибо «враг у них один – смерть и страх смерти. И завершается их спор уникально: каждый как бы проникается возможностью правоты своего антагониста. Священник благославляет Вальсингама и просит у него прощения, а Председатель, среди пира, “остается погруженный в глубокую задумчивость”» [8. С. 316].
И задумчивость Вальсингама понятна. Ведь он поставлен, в сущности, перед перед необходимостью выбора позиции, выбора сознательного и мучительного, перед решением вечного и рокового «гамлетовского» вопроса:
Что благородней духом – покоряться Пращам и стрелам яростной судьбы Иль, ополчась на море смут, сразить их Противоборством?.. [18. С. 70] (перевод М. Лозинского)В итоге «антитеза Дома и Монастыря», заключает Ю. М. Лотман, «радости вопреки всему и высокой печали, дерзости и покаяния остается не сведенной» [8. С. 316], хотя в каком-то глубинном смысле бунт и смирение сродни друг другу, поскольку предполагают внутреннее неприятие господствующего зла, а значит – и отвержение сущего, столь свойственное романтическому миросозерцанию.
Однако вне зависимости от того, какое решение примет Председатель и примет ли он его вообще, Пир – как способ противостояния смертельной опасности – все равно будет продолжен. Можно сказать даже, что слова заключительной ремарки «Пир продолжается», отчетливо выражают основную идею пушкинской пьесы. Ибо пир – это символ жизни[10]. И он будет продолжен, вопреки всем несчастьям, опасностям и бедам. Продолжен вне зависимости от суждений и призывов Вальсингама или Священника, от позиции того или другого персонажа, поскольку жизнь – это стихия, не стесняемая никакими ограничениями, не укладывающаяся ни в какие заданные рамки, не определяемая любыми суждениями, взглядами или концепциями.
Именно этот символический смысл образов Пира и Чумы, равно и как их противостояния, позволяет рассматривать последнюю из маленьких трагедий как произведение в основе своей романтическое, что и определяет ее особое положение в цикле болдинских пьес.
Остается лишь напомнить, что и для самого Пушкина осени 1830 г. проблема выбора жизненной позиции обрела особую актуальность и остроту. До той поры свободный художник, готовый в любой момент принести «священную жертву» Аполлону, он становился теперь болдинским помещиком, а в недалекой перспективе – и главой семейства, поневоле обремененным материальными заботами и житейскими обязанностями.
«Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я хладею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни», – откровенно признается поэт в известном письме П. А. Плетневу перед самым отъездом из Москвы в Болдино. И далее: «Чёрт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостию, которой обязан я был Богу и тебе. Грустно, душа моя…» [20. Т. 10. С. 238].
К тому же в холерном Болдино поэт остро сознает ненадежность своего существования, ощущает себя на грани жизни и смерти, причем эпидемия холеры живо напоминает ему эпидемию чумы. Отголоском этих колебаний и сомнений поэта, его напряженных раздумий и мучительных переживаний и стала последняя из маленьких трагедий.
2013
Литература
1. Лотман Ю. М. Пушкин // История всемирной литературы. Т. 6. М.: Наука, 1989.
2. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 7: Драматические произведения. Л.: Изд-во АН СССР, 1935.
3. Непомнящий В. Русская картина мира. М.: Наследие, 1999.
4. Новикова М. Пушкинский космос. Языческая и христианская традиция в творчестве Пушкина. М.: Наследие, 1995.
5. Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1830–1833). Л.: Художественная литература, 1974.
6. Благой Д. От Кантемира до наших дней: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1973.
7. Бочаров С. Трагедия и скандал. Вокруг пира во время чумы // Генетическая память литературы. М.: РГГУ, 2012.
8. Лотман Ю. М. Пушкин. СПб.: Искусство – СПБ, 2000.
9. Белый А. А. Пушкин в шуме времени. СПб.: Алетейя, 2013.
10. Рассадин Ст. Драматург Пушкин. Поэтика. Идеи. Эволюция. М.: Искусство, 1977.
11. Рабинович Е. Г. «Пир» Платона и «Пир во время чумы» Пушкина // Античность и современность. М., 1972.
12. Долинин А. «Пир во время чумы» и проблема единства маленьких трагедий // Долинин А. Пушкин и Англия: цикл статей. М.: Новое литературное обозрение, 2007.
13. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 5. 4-е изд. Л.: Наука, 1978.
14. Фридман Н. В. Романтизм в творчестве Пушкина. М.: Просвещение, 1980.
15. Асмус В. Ф. Иммануил Кант. М.: Наука, 1973.
16. Беляк Н. В., Виролайнен М. В. «Маленькие трагедии» как культурный эпос новоевропейской истории // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 14. Л.: Наука, 1991.
17. Капинос Е. В., Куликова Е. Ю. Лирические сюжеты в стихах и прозе ХХ века. Новосибирск, 2006.
18. Шекспир У. Полное собрание сочинений: В 8 т. Т. 6. М.: Искусство, 1960.
19. Поэтическая фразеология Пушкина. М.: Наука, 1969.
20. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 1. 4-е изд. Л.: Наука, 1977.
Поэма без героев (О подтекстах «Медного всадника»)
При всем обилии посвященных ему работ «Медный всадник» остается едва ли не самым загадочным произведением Пушкина. Отчасти трудности истолкования поэмы могут быть объяснены ее смысловой насыщенностью, а также невыявленностью авторской позиции, породившей нескончаемые споры о том, на чьей стороне – бронзового Петра или «бедного Евгения» – симпатии поэта (см., например, [1]). Не менее существенна и другая причина неразгаданности «Медного всадника» – парадоксальность самой художественной структуры произведения, в которой действуют и – главное – взаимодействуют столь разные и, казалось бы, несовместимые феномены, как бронзовая статуя, водная стихия и человек.
Пытаясь объяснить этот парадокс, исследователи зачастую говорят о символическом характере поэмы, где сопоставлены не человеческие индивидуальности, а некие сверхличные «действующие силы» [2], столкновение которых и рождает трагический конфликт. Но если символический характер образов самого Медного всадника и разбушевавшейся Невы сомнений не вызывает, то фигура «бедного Евгения» как будто выпадает из этого ряда.
Казалось бы, уж он-то и есть единственный «нормальный» персонаж, герой в полном смысле слова, если понимать под героем живую человеческую индивидуальность. Показательна в этом смысле позиция Г. А. Гуковского, полагавшего, что в «Медном всаднике» «вообще, кроме Евгения, нет ни одного человека» и что вся поэма построена на столкновении человека и идеи [3. С. 397]. Того же мнения придерживался и Д. Д. Благой, утверждавший, что в поэме «перед нами в сущности лишь один герой» [4. С. 204].
Однако критики и комментаторы поэмы давно обратили внимание на то, что Евгений «бледен как лицо» (А. В. Дружинин) [5. С. 76]). Как писал В. Я. Брюсов, «Пушкин постарался совершенно обезличить своего героя», который «теряется в серой, безразличной массе ему подобных “граждан столичных”» [6. С. 40–43]. А по словам Р. Якобсона, Евгений вообще «лишен всякой индивидуальности» [7. С. 162].
Обстоятельство это должно показаться тем более странным, что Евгений как-никак – потомок старинного дворянского рода, хотя и забывший своих знатных и могучих предков. Правда, иногда обезличенность Евгения объясняют тем, что он представляет всю массу рядовых, обездоленных, маленьких людей (см., напр. [3. С. 400–401]). Но тогда непонятно, зачем нужно было подчеркивать его аристократическое происхождение.
И тут мы подходим к главному пункту наших рассуждений. Известно, что «Медный всадник» вырос из попыток продолжения «Онегина», что его созданию предшествовала оставшаяся незавершенной поэма «Езерский», включавшая родословную героя, и что эту родословную Пушкин предполагал затем ввести в состав «Медного всадника». Известно также, что одним из вариантов фамилии героя незавершенной поэмы был Онегин, а главное, что Пушкин долго колебался в определении его социального статуса – от богатого аристократа до ничтожного чиновника, обитающего в чулане, каморке, «в конурке пятого жилья» (т. е. этажа), на чердаке. И хотя «Медный всадник», в конечном счете, отпочковался от «Езерского», его генетическая связь с ним несомненна, игнорировать ее невозможно. Тем более, что она демонстративно подчеркнута совпадением имени персонажа поэмы с именем главного героя романа в стихах.
Как бы то ни было, аристократ по происхождению, Евгений представлен в поэме до крайности бедным, социально и духовно ничтожным, живущим в каморке, способным думать лишь о хлебе насущном, мечтать как о высшем благе о «мещанском счастье», о женитьбе на безродной и столь же бедной Параше – обитательнице отдаленной петербургской окраины. Возникает естественный вопрос: неужели же Пушкин действительно считал такое положение вещей характерной приметой своего времени? Разумеется, нет! В неоконченной статье начала 1830-х гг.
«Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» поэт, сетуя, что «наши журналисты» «нападают именно на старинное дворянство, кое ныне, по причине раздробленных имений, составляют у нас род среднего состояния» (т. е. третьего сословия. – А. Г.), затем поясняет: «состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного, состояния, коему принадлежит и большая часть наших литераторов» [8. Т. 7. С. 143–144]. Совершенно очевидно, что к «бедному Евгению» характеристика эта никоим образом отнесена быть не может.
Зачем же все-таки понадобилось Пушкину столь странное, парадоксальное соединение в облике Евгения нищеты и знатности? Видимо, для того, чтобы высказать свое представление о дальнейшей судьбе родовитого русского дворянства, обреченного – вследствие политики Петра и его преемников – на всё бо́льшую социальную деградацию. «Дед был богат, сын нуждается, внук идет по миру. Древние фамилии приходят в ничтожество…» – афористически четко формулирует суть дела один из героев «Романа в письмах» (1829) [8. Т. 6. С. 50]. Да и в других своих произведениях поэт не раз возвращается к мысли о печальной участи, ожидающей потомков старинных дворянских родов. Показательна в этом смысле саркастическая концовка «Капитанской дочки» (1836): потомство Петра Гринева «благоденствует в Симбирской губернии», где «находится село, принадлежащее десятерым помещикам» [8. Т. 6. С. 360].
И уже совсем гротескно выглядит картина, нарисованная в «Отрывке» (1830): «Приятель мой происходил от одного из древнейших дворянских наших родов, чем и тщеславился со всевозможным добродушием. (…)Будучи беден, как и почти всё наше старинное дворянство, он, подымая нос, уверял, что никогда не женится или возьмет за себя княжну Рюриковой крови, именно одну из княжен Елецких, коих отцы и братья, как известно, ныне пашут сами и, встречаясь друг с другом на своих бороздах, отряхают сохи и говорят: “Бог помочь, князь Антип Кузмич, а сколько твое княжое здоровье сегодня напахало?” – “Спасибо, князь Ерема Авдеевич…”» [8. Т. 6. С. 392–393]. По верному замечанию В. С. Листова, «Елецкие как бы становятся прозаической параллелью Пушкиным из “Моей родословной”, Езерским из “Родословной моего героя” и неназванным предкам Евгения из “Медного всадника”» [9. С. 56].
Всем сказанным и объясняется полная обезличенность Евгения. Это, действительно, не лицо, не характер, не индивидуальность, но своего рода знак – символ того незавидного будущего, которое ожидает независимых потомков древних боярских родов, если курс на их отстранение от власти, на замену их дворянством новым, т. е. не наследственным, а выслуженным и потому полностью зависимым от правительства и царя, будет продолжен.
Именно поэтому Пушкин и наделяет Евгения чертами не индивидуальными, а типологическими, родовыми, свойственными, как он полагал, потомкам дряхлеющих дворянских родов вообще – всем этим Онегиным, Езерским, Дубровским, Гриневым, Пушкиным… Действительно, и «Моя родословная», и «Езерский», и «Медный всадник», и многие неоконченные произведения, художественные или публицистические, говорят, в сущности, об одном и том же.
Вот, скажем, пассаж, завершающий “Родословную моего героя”:
Езерский сам же твердо ведал, Что дед его, великий муж, Имел двенадцать тысяч душ; Из них отцу его досталось Осьмая часть, и та сполна Была давно заложена И ежегодно продавалась; А сам он жалованьем жил И регистратором служил. [10. С. 101–102]А вот фрагмент рукописного варианта статьи «Опровержение на критики» (1830): «Имя предков моих встречается почти на каждой странице нашей истории. Ныне огромные имения Пушкиных раздробились и пришли в упадок, последние их родовые поместия скоро исчезнут, имя их останется честным, единственным достоянием темным потомкам некогда знатного боярского рода» [8. Т. 7. С. 434].
В подобном контексте обстоятельства оскудения древнего и знатного рода, к которому принадлежал Евгений, представляются совершенно очевидными и сами собой разумеющимися. Объяснять их читателю не было никакой необходимости именно в силу их типичности.
Вполне естественно, полагал Пушкин, что усиливающаяся социальная деградация целого сословия неизбежно приводит потомков старинных родов ко все большему отчуждению от новой знати, от участия в государственной деятельности, побуждает их ограничить круг своих интересов частной жизнью. Соответственно, поведение и образ жизни Евгения, который «дичится знатных», мечтает о женитьбе и тихом семейном счастье, вполне согласуется с многочисленными декларациями самого Пушкина конца 1820 – начала 1830-х гг.:
Под гербовой моей печатью Я кипу грамот сохранил, И не якшаюсь с новой знатью, И крови спесь угомонил. ………………………….. Я не богач, не царедворец, Я сам большой: я мещанин. («Моя родословная», 1830) [8. Т. 3. С. 198](Ср. в «Евгении Онегине»: «Мой идеал теперь – хозяйка, / Мои желания – покой, / Да щей горшок, Да сам большой» [8. Т. 5. С. 174], а также многие высказывания поэта о необходимости обзавестись семьей, зажить собственным домом и вообще искать счастья на обыкновенных дорогах).
Общностью социальной судьбы во многом объясняется и отмеченная Д. Д. Благим [11. С. 262] внутренняя, личная связь Евгения и автора поэмы, более очевидная в черновых вариантах, где Евгений представал как сосед и добрый знакомец автора и даже как «молодой поэт» или «сосед поэт» [10. С. 33]. И хотя в окончательном тексте дело ограничивается лишь намеками («размечтался как поэт», его жилье, «как вышел срок», хозяин «отдал внаймы» бедному поэту), можно сказать, что из-под маски несчастного Евгения выглядывает сам Пушкин.
Но главное, что роднит «бедного Евгения» с автором поэмы, как и другими «обломками» дряхлеющих боярских родов, это мятежный дух, таящийся в их душах под личиной внешнего смирения; способность к протесту, бунту, неожиданным «безумным поступкам», готовность действовать наперекор обстоятельствам[11]:
Упрямства дух нам всем подгадил. В родню свою неукротим, С Петром мой пращур не поладил И был за то повешен им. («Моя родословная», 1830) [8. Т. 3. С. 198]Именно таков, как выясняется в конце поэмы, и Евгений. Казалось бы, ничтожный чиновник, давно забывший о своем происхождении и всецело погруженный в сиюминутные житейские заботы, ни к какому протесту не способен вовсе. И тем не менее из многих тысяч людей, пострадавших от страшного наводнения (но затем «с бесчувствием холодным» вернувшихся к прежней жизни), возмутился только он один, он – потомок старинного дворянского рода! Все сказанное позволяет рассматривать Евгения как фигуру символическую, знаковую, а «Медного всадника» – как «поэму без героев», лишенную «нормальных» персонажей – неповторимых человеческих индивидуальностей.
* * *
Итак, главные участники действия: бронзовый Петр, разбушевавшаяся Нева, несчастный Евгений – символичны; тем самым они соотнесены между собой и как бы «уравнены в правах». Действительно: символический характер всех трех основных образов не только скрадывает, нивелирует их разномасштабность и разноприродность, но и открывает возможность их сближения, взаимоуподобления, приведения к некоему общему знаменателю. Именно на сопоставлении и противопоставлении, столкновении и взаимодействии символических «персонажей» и строится – тоже символический – сюжет поэмы и ее «тройственный конфликт» [12. С. 386]: конфликт власти и природы, природы и человека, человека и власти.
Разумеется, для осуществления столь необычной художественной задачи была необходима столь же необычная, исключительная ситуация, некое чрезвычайное происшествие. Таким экстремальным событием и стало в «Медном всаднике» «несчастье невских берегов» – редкостное по силе и трагическим последствиям наводнение. По словам И. М. Тойбина, «наводнение в поэме предстает как грандиозный, чуть ли не вселенский катаклизм, вызывающий сравнение с библейским потопом, ряд эсхатологических ассоциаций» («Народ / Зрит Божий гнев и казни ждет») [13. С. 226][12], что и определило всю полуфантастическую, почти ирреальную, до предела напряженную атмосферу поэмы.
Как заметил М. Эпштейн: «Выход Невы из берегов, сошествие памятника с постамента и сумасшествие Евгения» – всё это явления одного порядка, стирающие грани вещей [15. С. 58]. Причем в художественном пространстве поэмы события эти внутренне сближены и взаимосвязаны, эстетически однородны: «Как река выходит из берегов, так следом за ней выходит из социально положенных берегов человек – и в ответ приходит в движение статуя» [12. С. 365].
В самом деле, в сюжете «Медного всадника» грани между живым и неживым, одушевленным и неодушевленным, действительным и иллюзорным теряют свою определенность, становятся подвижными, ослабленными, размытыми, а фантасмагория катастрофы позволяет участникам конфликта выявить их общие глубинные свойства: внутреннюю двойственность и потенциальную мятежность.
В первую очередь это относится, конечно же, к образу Петра I. Казалось бы, очевидно: с первых строк поэмы Петр предстает в ореоле величия – как некий полубог, имя которого не произносят («Он»)[13]. Это царь-реформатор, полный великих дум о благе отчизны, способный прозревать будущее, ясно сознающий необходимость сближения России с Европой и двинувший страну по пути европеизации; основатель и защитник сказочно прекрасного города, чудом возникшего как будто из первобытного хаоса. Это, наконец, могучий, самовластный правитель – исполин, сумевший в критические минуты истории удержать державу «над самой бездной».
Однако последствия его (казалось бы, безусловно благих) деяний не однозначны, что находит отчетливое выражение в самом строении поэмы, в ее основном композиционном контрасте – противостоянии одического Вступления, славящего «юный град» и его основателя, и «печального рассказа», составляющего сюжет «петербургской повести».
Но и само Вступление – это не просто апология Петра и созданного им Петербурга. Поэт как будто несколько дистанцируется от произносимого им торжественного гимна, представляя его как набор общих мест и устоявшихся мнений. Недаром он обращается к одической традиции, воссоздает типичные формулы одописцев второй половины XVIII – начала XIX вв. (см. [17. С. 161–169]). Аналогичную роль играет и своего рода переложение статьи-очерка Батюшкова «Прогулка в Академию художеств» (1814). Как показал Л. В. Пумпянский, «первая часть пушкинского Вступления написана как бы на основе батюшковского текста» [17. С. 161]. И далее: «В самом деле, у Батюшкова мы видим краткую картину нынешнего великолепия Петербурга, затем сравнительно более подробную картину “сырого, дремучего бора или топкого болота” и, в-третьих, образ Петра – демиурга, произносящего творческое слово. С разной полнотой развития эти три части сохранились и у Пушкина» [17. С. 161]. Даже наиболее личные, лирические строки Вступления («Люблю тебя, Петра творенье…») сопровождаются «указанием на источник» (примечание 2) – отсылкой к стихотворению Вяземского, адресованного «графине З***» («Разговор 7 апреля 1832 года», где поэт признается в своей любви к северной столице: «Я Петербург люблю с его красою стройной…»).
Еще существеннее, что с первых же строк одического Вступления в нем дает о себе знать и некая контртема. Как показал И. О. Шайтанов, одним из литературных источников Вступления может считаться фрагмент поэмы А. Поупа «Виндзорский лес» (1713) – своего рода гимн Британии, обретающей и несущей мир другим народам. Моря, ранее разъединявшие людей, теперь начинают служить их объединению, и с каждым приливом в лондонский порт могут войти корабли любых стран [2. С. 169]. Показательно и аллегорическое изображение Темзы: в ее хрустальных водах отражаются прекрасные дворцы и шпили Лондона и виллы Виндзора; причем многие детали этого описания, демонстрирующего незыблемую гармонию природы и культуры, напоминают картину пышного и горделивого «юного града» в «Медном всаднике» [2. С. 191].
На фоне этого безусловного сходства отчетливее выступают и существенные различия между обоими текстами. Петр тоже предвкушает, что будущий город-порт будет гостеприимно распахнут для иноземцев («все флаги в гости будут к нам»). Но ведь «юный град» должен быть «заложен» «назло надменному соседу», т. е. в первую очередь для военных целей («отсель грозить мы будем шведу») и, конечно же, не только шведу. Ибо Петербург – это не просто «полнощных стран краса и диво», но прежде всего – «военная столица», место воинских парадов, демонстрации державной мощи, громких салютов в честь боевых побед.
Столь же примечательно и другое отличие. Петр наделен в поэме не только жаждой созидания, неиссякаемой творческой энергией (в начальных эпизодах вступления, повествующих об основании города, он, как уже говорилось, совершает нечто напоминающее сакральный акт и едва ли не уподоблен Богу), но и некоей демонической силой (М. Эпштейн заметил, что в его образе как бы совмещены фаустовское и мефистофельское начало [15. С. 54 и след.]), побуждающей властителя бросить вызов «Божией стихии» и наперекор ей (а вовсе не в согласии с «природой», как ему представляется) основать город «под морем». Недаром в конце поэмы воля царя-основателя названа «роковой»!
В научной литературе не раз отмечалось, что в панегирической «картине великого замысла у Пушкина все же заложена и двусмысленность» [12. С. 350]. Наиболее подробно исследовавший этот вопрос М. Еремин, высказался еще решительнее: «За интенсивной высокостью эпического повествования, а может быть, точнее, в самой этой высокости, так сказать, в недрах ее, вполне различима искусно введенная поэтом тема вины Петра, повелевшего строить город на болотах, решившего в Европу прорубить окно в такой гиблой местности, где оно будет неведомо лучам «в тумане спрятанного солнца» (…)А ведь большей части граждан будущего города предстояло жить в первых этажах или малых домишках – на этих низких берегах, под вечной угрозой наводнения…» [18. С. 164–165]. Поэтому, «если основание города и было победой над стихией, то, очевидно, не полной», поскольку сопротивление природы и «доселе столь угрожающе» [18. С. 158]. Не случайно же поэт буквально заклинает «побежденную стихию» не тревожить «вечный сон Петра».
Но заклинает напрасно. И если Вступление – в духе «Виндзорского леса» Поупа – еще являет нам гармоническую картину единства природы и культуры, то в основной части идиллия безжалостно рушится и оборачивается трагедией. Мятеж Петра против «Божией стихии» вызывает ответный мятеж стихии против Петра.
И, наконец, последний штрих – важнейший полемический и политический намек в тексте поэмы:
И перед младшею столицей Померкла старая Москва, Как перед новою царицей Порфироносная вдова. [10. С. 10]Стремительное возвышение новой столицы, был убежден поэт, неизбежно приводило к упадку Москвы – центра и оплота аристократической оппозиции (ибо не могут две столицы «в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человеческом» [8. Т. 7. С. 189]), а вместе с нею – к утрате политического значения (значит, и упадку) тех старинных и независимых боярских родов, к которым принадлежал и род «бедного Евгения»[14]. Сам факт существования нищего аристократа был в глазах Пушкина живым укором и угрозой Петру. А стремление подорвать значение старой, наследственной и потому независимой знати – безусловным свидетельством его деспотизма, поскольку деспотизм, полагал поэт, «окружает себя преданными наемниками, и этим подавляется всякая оппозиция и независимость» [8. Т. 8. С. 410] (подробнее см. [20. С. 125–126; 21. С. 331]).
Можно сказать, таким образом, что Петр I, «революционер на троне», по формуле Герцена, и «воплощение революции», по словам самого Пушкина, своей радикальной преобразовательной деятельностью готовил почву для новых возмущений, как природно-стихийных, так и общественно-политических. В сюжете «Медного всадника» они оказались сплетенными в единый узел.
Теми же свойствами – мятежностью и двойственностью – наделена в поэме и Нева. Ее «державное теченье» в гранитных берегах, ее прекрасные острова, покрытые «темно-зелеными садами», служат едва ли не главным украшением прекрасного города и способствуют вящей славе Петра. А в то же время, как уже говорилось, она втайне враждебна Петру, не может простить ему утраченной свободы и забыть «плен старинный свой»; она всегда готова к возмущению и бунту. Со всей определенностью об этом говорится в черновой редакции поэмы:
Но побежденная стихия Врагов доселе видит в нас. [10. С. 30]И в окончательном тексте вышедшая из берегов и ринувшаяся на город Нева мгновенно и резко преображается.
Недаром же страшный удар стихии сравнивается в поэме с нападением вражеского войска («Осада! приступ!..»), с битвой («как с битвы прибежавший конь») или с разбойничьим набегом безжалостной злодейской шайки[15], cтановится обобщенным образом катастрофы, всякого бедствия вообще. Можно сказать даже, что бунт Невы (ср. в одном из вариантов: «Нева на площади бунтует» [10. С. 68]) – это как бы эхо недавних потрясений, пережитых русским обществом, – таких, как пугачевщина, война 1812 г., выступление декабристов, польское восстание или бунт в военных поселениях, когда, казалось бы, незыблемая самодержавная власть вдруг заколебалась. Е. Н. Купреянова обратила внимание на то, что «экспрессивное изображение наводнения выдержано в стиле традиционного для русской литературы первой трети ХIХ в., в том числе и для творчества Пушкина, метафорического уподобления исторических потрясений – мятежа, бунта, иноземного нашествия – “грозе”, “буре”, “морскому волнению” или просто “волнам”. Правда, в “Медном всаднике” имеет место, казалось бы, обратное – уподобление разбушевавшейся природной стихии грозному историческому потрясению. Но суть дела от этого не меняется, ибо ассоциативная связь между прямым и переносным значением уподобления остается той же» [22. С. 303].
Не менее важно, что сама разыгравшаяся стихия одушевлена, наделена человеческими эмоциями («Но торжеством победы полны / Еще кипели злобно волны», мрачный вал плескался о пристань, «ропща пени», «буря злилась» и т. п.). Более того, она напоминает больное, обезумевшее существо («Нева металась, как больной / В своей постеле беспокойной»; «И вдруг, как зверь остервенясь, / На город кинулась…»). В одном из черновых вариантов об этом говорилось еще более откровенно: «Неве безумной – в тишине, / Грозя недвижною рукою» [10. С. 68]. Иными словами, бунт Невы против Петра есть следствие ее болезни, ее безумия. Аналогия с Евгением, «безумцем бедным», тут очевидна.
Мало того: убравшись восвояси после «опустошительного набега», Нева оставляет след своего пребывания в затопленном и разоренном городе не только в виде многочисленных бедствий и разрушений. Она воздействует на душу Евгения («…Мятежный шум / Невы и ветров раздавался / В его ушах…»), заражая его своей дикой злобой, «силой черной» и подготавливая тем самым новый мятеж против Петра.
О двойственности фигуры Евгения – ничтожного, смиренного чиновника и потенциального бунтаря – мы уже говорили. Обратим теперь внимание на то, с какой настойчивостью стремится поэт сократить дистанцию между ним и исполином Петром, достичь, по словам Ю. Б. Борева, «соизмеримости, сочетаемости двух, казалось бы, не сопоставимых фигур» [23. С. 136]. Действительно, в самый пик наводнения Евгений оказывается на одном из двух мраморных львов, которые, «как живые»(!), стоят над «возвышенным крыльцом» нового дома «на площади Петровой» – за спиной бронзового всадника. В результате возникает иллюзия, что, «оседлав льва», Евгений «как бы гонится вслед за Петром, сидящим “на бронзовом коне”». И далее: «Погоне Медного всадника за бедным безумцем предшествует “погоня” Евгения верхом на мраморном льве за Петром» [23. С. 136].
Конечно, погоней назвать эту сцену можно только условно: Петр явно не замечает своего «преследователя». Он – и это тоже символично – «обращен к нему спиною», ибо все его внимание привлекает бунтующая Нева – главная, как он полагает, угроза городу, да и ему самому. В отличие от слабовольного Александра, он не сомневается, что сможет укротить стихию. Свидетельство тому – и «неколебимая вышина» его пьедестала, и гордая поза, и властно простертая рука.
Но и Евгений, озабоченный судьбой Параши, тоже видит перед собой не только и не столько спину Петра, сколько бушующую Неву:
Его отчаянные взоры На край один наведены Недвижно были… [10. С. 16]К тому же, оседлав беломраморного льва, он и сам, «недвижный, страшно бледный», на время как будто застывает, становится подобием статуи:
И он, как будто околдован, Как будто к мрамору прикован, Сойти не может… [Там же]Словом, как заметил. Д. Д. Благой, «если при первой встрече – каменеет Евгений, при второй – оживает статуя» [4. С. 220].
Сближение – противостояние Евгения и Петра продолжается во второй части поэмы. Лишившийся рассудка, Евгений, казалось бы, окончательно теряет человеческое обличье, балансирует на грани бытия и небытия, реальности и грезы. Его существование становится призрачным, мнимым:
…Он оглушен Был шумом внутренней тревоги. И так он свой несчастный век Влачил, ни зверь, ни человек, Ни то ни се, ни житель света, Ни призрак мертвый… [10. С. 20]Зато он обретает теперь дар прозрения, способность смотреть в глубь вещей, напоминает отчасти юродивого, что было подчеркнуто красноречиво-многозначительной строкой «колпак изношенный сымал» (замененный в окончательном тексте на «картуз») [10. С. 72, 75][16]. Вспомнивший «прошлый ужас» и испытавший «страшное» прояснение мыслей, он, наконец, понял, кто виновник всех его несчастий. Именно в этот момент Евгений отваживается выйти из-за спины бронзового кумира, стать против него и прямо в лицо бросить ему страшную угрозу. И угроза эта не случайна: Евгений действует «как обуянный силой черной», ибо его душа заражена и заряжена мятежным духом взбунтовавшейся Невы (ср. [21. С. 349]). И эта мятежная вспышка вновь сталкивает и вновь уравнивает – пусть на мгновение – Евгения и Петра.
В. Я. Брюсов обратил внимание на то, как описывает Пушкин состояние Евгения в сцене бунта: «Торжественность тона, обилие славянизмов (“чело”, “хладный”, “пламень”) показывают, что “черная сила”, которой обуян Евгений, заставляет относиться к нему иначе, чем раньше. Это уже не “наш герой”, который “живет в Коломне, где-то служит”; это соперник “грозного царя”, о котором должно говорить тем же языком, как и о Петре. И кумир, остававшийся стоять недвижно “над возмущенною Невою, в неколебимой вышине”, не может с тем же презрением отнестись к угрозам “бедного безумца”» [6. С. 47].
Действительно, прозревает Евгений, но прозревает и Петр. Если раньше он видел главную угрозу городу и царству в бунте Невы и не хотел замечать своего «преследователя», то теперь он не только обращает к нему свой гневный лик, но и покидает пьедестал, дабы покарать безумца. Он понял, наконец, откуда исходит главная опасность! И если бунт Невы он подавил, «не сходя с места», сохранив величественную неподвижность, то бунт Евгения заставил его покинуть пьедестал и пуститься в погоню за мятежником.
Казалось бы, ясно: Евгений совершил свой безумный поступок, поскольку не мог смириться с гибелью близких ему людей («его томил какой-то сон»); он обвиняет «строителя чудотворного» в том, что тот основал город «под морем», т. е. там, где наводнения неизбежны. Однако П. В. Анненков и М. Л. Гофман сумели выявить и другой, скрытый мотив его бунта. По словам П. В. Анненкова, в бронзовом лике Петра Евгений «внезапно открывает того человека, который лишил его фамилию гражданского значения» и «низвел его самого в ряды бездольного служаки» [24. С. 613]. Как бы в развитие этой мысли М. Л. Гофман писал: «К тому же подсознание Евгения “томил” еще и другой “сон”: с Петра Великого начинается упадок дворянства и возвышение “случайных людей”. Таким образом, Петр был виновником не только смерти Параши, но уничтожения всего рода, некогда блиставшего в русской истории, к которому принадлежал Евгений…» [25. С. 444]. Такого рода суждения могут показаться сомнительными, поскольку прямых свидетельств в их пользу в тексте как будто нет. Зато есть косвенные. Еще раз напомним, что Вступление к поэме завершается авторским заклинанием: «Вражду и плен старинный свой / Пусть волны финские забудут». Увы, стихия не забыла. Она разбушевалась и вышла из берегов, когда вспомнила о былой свободе. И поскольку вся поэма основана на взаимоуподоблении главных действующих сил, вполне правдоподобным выглядит допущение, что и Евгений под воздействием мятежного духа Невы вспомнил о том, кто он такой, о былом могуществе своего знатного рода.
Примечательно также, что повесть о судьбе бедного безумца завершается торопливой скороговоркой и обрывается на полуслове. И такая концовка, вернее отсутствие конца, рождает ощущение, что город «под морем» неизбежно ожидают новые страшные наводнения, а значит, и новые выступления потомков старинных родов.
Обращает на себя внимание и место бунта Евгения – Сенатская площадь, и время: поздняя осень 1825 г. – канун 14 декабря! Конечно, было бы недопустимым упрощением видеть в бунте Евгения (а такие мнения высказывались) замаскированное изображение декабрьских событий. Но вряд ли можно считать случайностью, что он предшествовал им! Тем более, что Пушкин был убежден: курс власти на уничтожение старинного дворянства, на превращение его в род «третьего состояния» рождает «страшную стихию мятежей», какой «нет и в Европе» [8. Т. 8. С. 44]. В статье 1830-х гг. «О дворянстве» он писал: «Петр. Уничтожение дворянства чинами. Майоратства – уничтоженные плутовством Анны Ивановны. Падение постепенное дворянства; что из того следует? восшествие Екатерины II, 14 декабря и т. д.» [8. Т. 8. С. 105].
Еще откровеннее был поэт в уже цитированном разговоре с великим князем Михаилом: «Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много» [8. Т. 8. С. 44–45]. Иными словами, дворцовый переворот, возведший на трон Екатерину II, восстание 14 декабря и грядущее, более массовое выступление русской аристократии представлялись Пушкину звеньями одной цепи. С указанной точки зрения внезапная мятежная вспышка несчастного Евгения предстает в поэме как симптом этого важнейшего общественного процесса и как его художественный символ.
Однако «взрывной» характер поэмы этим не исчерпывается. Скрыто намеченная в ней параллель между Евгением и автором легко проецируется на другую: Петр – Николай, бывшую общим местом официальной идеологии. Тем самым угроза Евгения Медному всаднику заключала в себе и скрытую угрозу поэта императору. Своего рода реализацией этой угрозы – дерзким вызовом царю и всему его окружению стала последняя дуэль Пушкина, которую Я. Гордин назвал «14 декабря на Черной речке» [26. С. 476].
* * *
В заключение заметим, что бунт Евгения оказывается важнейшим аргументом в полемике Пушкина с Мицкевичем, которая играет столь значительную роль в «Медном всаднике».
Как известно, в стихотворении «Памятник Петра Великого», занимающем центральное положение в так называемом «Отрывке» («Ustęp») из третьей части «Дзядов», Мицкевич вложил в уста «русского гения», «певца вольности», в котором нельзя не узнать Пушкина, пространный монолог. Содержание этого монолога – страстное обличение Петра I, «царя-кнутодержца в тоге римлянина». Его бронзовое изваяние – конь и всадник на самом краю пропасти – сравнивается здесь с водопадом, который сковал мороз.
Lecz skoro slonce swobody zablysnie I wiatr zachodni ogrzeje te panstwa I coz sie stanie z kaskada tyranstwa? Но если солнце вольности блеснет И с Запада весна придет к России — Что станет с водопадом тирании?[17] [10. С. 144], –спрашивает в финале стихотворения изображенный Мицкевичем Пушкин.
Конечно, Пушкину важно было отмежеваться от приписанной ему тирады, хотя бы из соображений «политкорректности». Своим пятым примечанием: «Смотри описание памятника в Мицкевиче. Оно заимствовано у Рубана – как замечает сам Мицкевич» [10. С. 24], – Пушкин, по справедливому суждению С. Шварцбанда [27. С. 88], сразу же снимает вопрос об авторстве этого текста. Но дело не только в политкорректности.
Мицкевич был убежден, что освобождение России может прийти лишь извне, из Европы, ибо сама по себе Русь – это страна, скованная морозом, – как в прямом, природно-климатическом, так и в общественно-политическом смысле. Она, если вспомнить известную формулу, «забита и неподвижна». Напротив, Пушкин (как явствует хотя бы его знаменитого письма Чаадаеву от 19 октября 1836 г.) видел в российской истории напряженную и многокрасочную жизнь, трагическое столкновение противоборствующих сил, яркие, сильные, самобытные характеры. И, конечно же, его понимание личности и деятельности Петра («который один есть целая всемирная история» [8. Т. 10. С. 689] – ориг. по-франц.) было сложным, мучительно-двойственным и отнюдь не исчерпывалось упрощенной и односторонней формулой Мицкевича.
Более того: Запад для Пушкина начала 1830-х годов – это не только мир европейского просвещения, гуманистических идей и либеральных ценностей, но также – реальный источник военной угрозы, коллективной интервенции, что и показали хорошо памятные ему недавние польские события. Отсюда, как замечает Е. Н. Купреянова, «подразумеваемая семантика» «упомянутой во Вступлении к поэме “вражды” к Петру, “тщетной злобы” плененных им “финских волн”. Финских – значит иноземных…», западных [22. С. 33]. Поэтому и образ западного ветра («wiatr zachodni» в оригинале Мицкевича) обретает у Пушкина прямо противоположный, полемический смысл. Сила этого ветра «от залива» (т. е. с запада) заставляет Неву течь в обратном направлении, затопляя город, он приносит не свободу, не уничтожение тирании, а «злое бедствие» – страшный удар стихии.
Для Пушкина это была не просто метафора. Поэт был убежден, что борьба Польши за независимость обернулась для России трагическими последствиями: крушением преобразовательных планов, задуманных верховной властью, на осуществление которых поэт так рассчитывал (см. [9. С. 202–206]).
Соответственно, и освобождение страны от тирании, столь же ненавистной ему, как и Мицкевичу, Пушкин связывал не с воздействием из-за рубежа, но с «контрреволюцией революции Петра» [8. Т. 10. С. 214], которую должно провести правительство, с восстановлением союза власти и старинного дворянства. Альтернативой этому решению в глазах поэта могло стать чреватое катастрофой стихийное возмущение потомков униженных и обедневших аристократических родов. Но в любом случае, полагал он, это должно быть внутренним делом России.
Следует оговорить, что эти пушкинские соображения не составляли единой и стройной концепции, ибо ясного ответа на вопрос: «Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?», – у него не было. Не было его, увы, и у последующей русской литературы. Достаточно вспомнить хотя бы несущуюся невесть куда гоголевскую тройку или знаменитую тютчевскую формулу о невозможности измерить Русь «аршином общим». Амбивалентная символика Фальконетова монумента – «Всадник бронзовый, летящий / На недвижном скакуне» – вновь оказалась актуальной для разочаровавшегося в революции Александра Блока. Да разве и сегодня можно сказать, что ответ на этот вопрос нам известен?
2007
Литература
1. Макаровская Г. В. «Медный всадник». Итоги и проблемы изучения. Саратов, 1978.
2. Шайтанов И. Географические трудности русской истории (Чаадаев и Пушкин в споре о всемирности) // Вопросы литературы. № 6. 1995.
3. Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М.: Гослитиздат, 1957.
4. Благой Д. Мастерство Пушкина. М.: Советский писатель, 1955.
5. Дружинин А. В. А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений // Литературная критика. М.: Советская Россия, 1983.
6. Брюсов В. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 7. М.: Художественная литература, 1973–1975.
7. Якобсон Р. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987.
8. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1977–1979.
9. Листов В. С. Новое о Пушкине. М.: Стройиздат, 2000.
10. Пушкин А. С. Медный Всадник / Изд. подгот. Н. В. Измайлов. Л.: Наука, 1978. (Лит. памятники.)
11. Благой Д. Социология творчества Пушкина. Этюды. 2-е изд. М.: Мир, 1931.
12. Бочаров С. Г. Филологические сюжеты. М.: Языки славянских культур, 2007.
13. Тойбин И. М. Система образов в «Медном всаднике» // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 44. № 3. 1985.
14. Немировский И. В. Библейская тема в «Медном всаднике» // Русская литература. № 3. 1990.
15. Эпштейн М. Фауст и Петр на берегу моря // Эпштейн М. Парадоксы новизны. М.: Советский писатель, 1988.
16. Анциферов Н. П. Душа Петербурга. Пб., 1922.
17. Пумпянский Л. В. «Медный всадник» и поэтическая традиция XIII века // Пумпянский Л. В. Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы. М.: Языки русской культуры, 2000.
18. Еремин М. «В гражданстве северной державы…» (Из наблюдений над текстом «Медного всадника») // В мире Пушкина: Сборник статей. М.: Советский писатель, 1974.
19. Вацуро В. Э. Пушкин и проблемы бытописания в начале 1830-х годов // Пушкин. Исследования и материалы. Т. VI. Л.: Наука, 1969.
20. Вольперт Л. И. Пушкин после восстания декабристов и книга Мадам де Сталь о французской революции // Пушкинский сборник. Псков, 1968.
21. Макогоненко Г. П. Поэма «Медный всадник» // Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1830–1833). Л.: Художественная литература, 1974.
22. Купреянова Е. Н. А. С. Пушкин // История русской литературы: В 4 т. Т. 2. Л.: Наука, 1981.
23. Борев Ю. Б. Искусство интерпретации и оценки. Опыт прочтения «Медного всадника». М.: Советский писатель, 1981.
24. Анненков П. В. Общественные идеалы А. С. Пушкина // Вестник Европы. Кн. 6. 1880.
25. Гофман М. Л. Проблема сумасшествия в творчестве Пушкина // Центральный Пушкинский Комитет в Париже (1935–1937). М.: Эллис Лак, 2000.
26. Гордин Я. Право на поединок. Л.: Советский писатель, 1989.
27. Шварцбанд С. Логика художественного поиска Пушкина. От «Езерского» до «Пиковой дамы». Иерусалим, 1988.
Авторская позиция в «Пиковой даме»
Ключевой эпизод «Пиковой Дамы» – ночное явление Германну призрака старой графини – и по сей день вызывает разноречивые истолкования и споры. На вопрос, что это: действительно имевший место контакт героя с потусторонними силами или же иллюзия, галлюцинация, горячечный бред – следствие его возбужденного и расстроенного воображения – исследователи отвечают по-разному. Одни (Вл. Ходасевич [1. С. 65–68], а в наши дни – С. Г. Бочаров [2. С. 134–135] или Г. Г. Красухин [3. С. 319–320]) явно склоняются к первому варианту; другие, как М. О. Гершензон [4. С. 78] или Г. А. Гуковский [5. С. 365], твердо отстаивают второй; наконец, третьи, например А. Слонимский [6. С. 519], предпочитают – вслед за Достоевским[18] – говорить о впечатлении неопределенности, двойственности, которое оставляет этот эпизод, а вместе с ним и все произведение в целом.
Именно эта последняя точка зрения стала сейчас доминирующей. Так, Ю. В. Манн находит в пушкинской повести параллелизм реального и ирреального – «разветвленную систему завуалированной фантастики». «Изображение в “Пиковой даме”, – подытоживает он свои наблюдения, – все время развивается на грани фантастического и реального. Пушкин нигде не подтверждает тайну, но он нигде ее не дезавуирует. В каждый момент читателю предлагается два прочтения, и их сложное взаимодействие и “игра” страшно углубляют перспективу образа» [8. С. 60, 62].
Во многом сходную позицию занимает и О. С. Муравьева. «Атмосфера фантастического, – полагает она, – создается в повести за счет непрестанного колебания между фантастическим и реальным объяснением происходящего (…). Дразнящая невозможность выяснить раз и навсегда, замешаны ли в трагедии Германна потусторонние силы, иронически предостерегает от безапелляционных и однозначных суждений» [9. С. 69]. Не останавливаясь на этом, О. С. Муравьева делает следующий шаг. «Непроясненность и двойственность происходящего, – настаивает она, – поддерживается в “Пиковой даме” главным образом благодаря подчеркнутой неопределенности позиции автора» [9. С. 65–66]. Согласиться с таким суждением вряд ли возможно: представляется, что авторская позиция в пушкинской повести выражена вполне ясно и достаточно определенно, хотя, разумеется, не прямолинейно. Именно об этом и пойдет речь в нашей статье.
Заметим вначале, что своеобразие поэтики «Пиковой дамы» нередко связывают с традицией немецкого романтизма и прежде всего – с воздействием творчества Гофмана. Современникам поэта, указывает А. Б. Ботникова, сходство пушкинской повести с произведениями Гофмана бросалось в глаза. Об этом говорил и сам выбор загадочного героя с его страстной одержимостью и огненным воображением, и тема карточной игры, и наличие фантастического элемента [10. С. 93–94]. Между тем Пушкин и Гофман, справедливо говорится в той же работе, «художники принципиально разного миропонимания, мировоззрения и метода» [10. С. 90]. Действительно, пушкинская фантастика во многом отлична от гофмановской и едва ли не полемична по отношению к ней.
В самом деле, одна из характерных для Гофмана исходных сюжетных ситуаций – это внезапное вторжение в изначально чистую человеческую душу некоей посторонней и чужеродной роковой силы.
Так, в «Элексирах дьявола» (1815–1816) череда несчастий обрушивается на героя после того, как он осмелился тайком выпить запретное адское зелье. В «Песочном человеке» (1817) все беды главного героя – Натанаэля начались с момента его встречи с таинственным и зловещим продавцом барометров. «Что-то ужасное вторглось в мою жизнь! – жалуется Натанаэль в письме своему другу Лотару. – Мрачное предчувствие страшной, грозящей мне участи стелется надо мною, подобно черным теням облаков, которые не проницает ни один приветливый луч солнца» 11. Т. 1. С. 227, 228.
И что для нас сейчас особенно важно: как демоническое наваждение, способное увлечь добродетельного, душевно чистого человека в роковую пучину, окончательно погубить его, предстает у Гофмана пристрастие к карточной игре. Вот что говорит герой рассказа «Счастье игрока» (1820) барону Зигфриду его собеседник, называющий себя шевалье Менаром: «О, если бы мой взгляд и в самом деле проник вам в душу, – воскликнул незнакомец, – если бы он пробудил в вас мысль об опасности, которая вам угрожает! С юношеской беспечностью, с веселой душой стоите вы над бездной, а между тем достаточно толчка, чтобы сбросить вас в пучину, из коей нет возврата. Короче говоря, вы на пути к тому, чтобы стать на свою погибель страстным игроком» [11. Т. 2. С. 82]. В назидание Зигфриду шевалье рассказывает ужасную историю жизни своего знакомого (на самом деле – его самого), у которого пагубная страсть к картам угасила все его лучшие качества: «не одержимость игрока, нет, – низменную алчность разжег в его груди сатана» [11. Т. 2. С. 86]. (Курсив наш. – А. Г.)
Любопытно, что в сохранившихся небольших фрагментах рукописной редакции «Пиковой дамы», начало повествования было выдержано именно в гофмановском духе и представляло в своем роде мещанскую идиллию: изображение трогательной, наивной и сентиментальной любви чистых душ – Шарлоты Миллер и Германа (так!). Оба они лишились отцов, были бедны, жили в одном дворе и скоро «полюбили друг друга, как только немцы могут еще любить в наше время». Однако последующие события должны были, судя по всему, эту идиллию разрушить: настал момент, когда «милая немочка отдернула белую занавеску окна» и убедилась, что Герман «не явился у своего васисдаса и не приветствовал ее обычной улыбкою» [12. С. 495–496].
Показательно, что Пушкин решительно отбросил этот вариант. В окончательной редакции жажда быстрого, мгновенного обогащения изначально снедает душу Германна. В карточной игре он видит один из возможных способов такого обогащения, лихорадочно следит за всеми перипетиями игры, хотя и не принимает в ней участия, ибо убежден, что «не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее» [12. С. 210]. Иными словами, игрок в душе, он хотел бы играть только наверняка, только на выигрыш. Но игра без риска, без возможности проигрыша перестает быть игрой. Она не может служить развлечением, волновать сплетением неожиданностей, непредвиденностью исхода. Не способна она и моделировать ситуацию поединка, борьбы человека с роком, судьбой, случаем (о чем так хорошо говорится в известной статье Ю. М. Лотмана; см. [13. С. 793 и след.]). А ведь именно в этом и состояла ее главная притягательность, рождавшая порой сильнейшие страсти. Между тем, Германн «хотел бы изгнать случай из мира и своей судьбы (…)Этический аспект действий его не тревожил» [13. С. 803].
Значит, ночной рассказ Томского о чудесном выигрыше его бабушки лишь обнаруживает скрытые свойства натуры Германна, приводит в действие уже готовый механизм. Он служит не причиной, а лишь толчком, поводом к тому, чтобы стремление любой ценой, любыми средствами выведать тайну трех карт всецело завладело сознанием героя и превратилось в навязчивую идею.
«Анекдот о трех картах, – говорится в конце главы II, – сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. “Что, если, – думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, – что, если старая графиня откроет мне свою тайну! – или назначит мне эти три верные карты! Почему ж не попробовать своего счастия?.. Представиться ей, подбиться в ее милость, – пожалуй, сделаться ее любовником, – но на это все требуется время – а ей восемьдесят семь лет, – она может умереть через неделю, – через два дня!..”» [12. С. 219].
Итак, для достижения своей цели Германн готов на всё; никакие моральные запреты, нравственные ограничения и принципы для него не существуют. Он сразу же предстает перед читателем как «человек без веры и нравственных устоев» (французский эпиграф к главе IV), напоминающий, по характеристике Томского, Наполеона и Мефистофеля одновременно; как человек, на совести которого «по крайней мере три злодейства» [12. С. 228]. И хотя Томский произносит эти слова будто бы в шутку («мазурочная болтовня»), они полны глубокого смысла, ибо «с лапидарной точностью определяют сущность характера» [14. С. 634].
Действительно, неоднократно отмечалось, что с Наполеоном Германна сближает «всепожирающая жажда самоутверждения» 5. С. 343, «отношение ко всему окружающему, к людям только как к средству для достижения своих целей»[19]; с Мефистофилем – «циническое отношение к жизни, ко всему святому для человека: красоте, любви, истине» [14. С. 634]. (Излишне говорить, что речь идет здесь не о масштабе личности, а о самом типе отношения к жизни.)
Более того, якобы шутливая характеристика Томского не только прямо указывает на сатанинское начало в душе Германна, но и проецирует на ситуацию повести сюжет «Фауста». Как заметил А. Л. Бем, в трагедии Гете «по крайней мере три злодейства» совершает по настоянию и при участии Мефистофеля ее заглавный герой [15. С. 197–198]. Это – отравление матери Маргариты, убийство ее брата Валентина, наконец, совращение самой Маргариты, обернувшееся трагическими последствиями. Сбывается, кстати, и предположение Томского о возможном появлении Германна в комнате Лизаветы Ивановны, вызывающее ассоциации со сценой «Вечер», в которой Фауст оказывается в комнате Гретхен[20]. Вообще, полагает А. Л. Бем: «История Лизы – это русская постановка трагедии Маргариты», – ибо Пушкин в «Пиковой даме» «снова посчитался» «с основной для него этической проблемой “Фауста”: допустимо ли перешагнуть через чужую личность для достижения своих личных целей» [15. С. 196].
Правда, «по меньшей мере три злодейства» самому Германну только еще предстоит совершить. Это – искусно разыгранный роман с Лизаветой Ивановной, позволивший ему проникнуть в дом старой графини и сделавший бедную воспитанницу невольной соучастницей преступления; это смерть – по его вине – самой графини; это, наконец, данные ей ложные уверения и клятвы, о которых он тут же забывает. Причем едва ли не самое примечательное в этом эпизоде – кощунственное смешение святого и сатанинского. Умоляя графиню открыть ему тайну трех карт, заклиная ее всем святым, Германн обещает, что он сам, его дети и его внуки будут молиться за нее. А в то же время он высказывает готовность взять на свою душу ужасный грех – дьявольский договор, с которым, возможно, эта тайна сопряжена.
Вообще, Пушкин абсолютно беспощаден по отношению к своему герою: холодность и бесчувственность Германна поистине поразительны. Его ничуть не трогают слезы раскаяния бедной воспитанницы, осознавшей свою вину. Да и сам он «не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, от которой ожидал он обогащения» [12. С. 229].
Казалось бы, ясно: характер героя обрисован и оценен вполне однозначно. Однако же трезвый, холодный и цинический расчет парадоксальным образом сочетается в душе Германна с пламенным и необузданным воображением. Вернемся снова к его внутреннему монологу – реакции на только что услышанный «анекдот» Томского. С точки зрения здравого смысла монолог этот может показаться по меньшей мере странным, если не вовсе безумным. В самом деле, каким это образом он, человек совершенно другого круга, может войти в аристократический дом, быть представленным графине и тем более – «подбиться в ее милость»? С какой стати она вдруг откроет ему, постороннему, тайну, которую свято хранит и ни за что не хочет доверить ни сыновьям, ни внукам? И уж совсем невероятно предположение, что он, молодой, сильный и здоровый мужчина, сделается любовником 87-летней старухи, стоящей на краю могилы. Как будто бы, шансов никаких.
Тем не менее мечта о сказочном богатстве продолжает будоражить воображение Германна, особенно после того, как, бродя по городу, он дважды, будто случайно, оказывается возле дома графини. Уже после первого раза ему во сне «пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман» [12. С. 219–220].
Вообще, чем дальше, тем больше Германн погружается в мир мечтаний и грез, реальное и воображаемое всё настойчивее смешиваются в его сознании. И это обстоятельство во многом определяет развитие событий. Отсюда и проистекает та двойственность пушкинского повествования, то балансирование на грани реального и чудесного, о котором шла речь в начале статьи.
Можно сказать даже, что такое смешение реального и воображаемого в сознании Германна, равно как и его маниакальная одержимость, сродни безумию, сходны с ним. И это дает повод некоторым исследователям «ставить диагноз» – настаивать на изначальном безумии героя, говорить о его душевном заболевании в прямом смысле этого слова.
Так, для Л. И. Вольперт безусловна «размытость границы между здоровой и больной психикой в изображении Германа» [16. С. 273]. «Действительно, – пишет она далее, – на всем протяжении Пиковой дамы разбросаны намеки, дающие возможность составить представление о всё нарастающей болезни Германна…». Правда, «вполне может создаться представление, что Германн сходит с ума неожиданно, внезапно, будто пораженный ударом грома среди ясного неба (…). Однако, чуть заметным редким пунктиром, который проступает все отчетливей по мере развития событий, Пушкин намечает картину нарастающей болезни героя» [16. С. 274].
Наиболее подробно и последовательно эта идея развита в работе М. Л. Гофмана. По его мнению, в пушкинской повести «шаг за шагом прослежена вся эволюция потери разума под влиянием мании, единого чувства-идеи, которое поглотило все другие чувства и мысли, разрушая психику и неизбежно ведя к полному сумасшествию» [17. С. 445]. И далее М. Л. Гофман выявляет три фазы этой эволюции. Первая связана с тем впечатлением, которое произвел на Германна «анекдот» Томского; вторая – с бредом и галлюцинациями Германна (здесь в первую очередь речь идет о «бредовом сне», в котором ему является призрак графини); третья – с поведением героя, узнавшего тайну трех карт, фаза, завершившаяся «его полным и безнадежным помешательством» [17. С. 448–452].
Согласиться с такого рода суждениями решительно невозможно по многим причинам. Начнем с соображений, так сказать, житейского характера. Хорошо известно, что люди психически вполне здоровые, но одержимые какой-то идеей, всецело сосредоточенные на решении какой-либо проблемы, охваченные одной страстью (поэты и художники, ученые и изобретатели, политические фанатики и страстно влюбленные), нередко производят впечатление безумцев. Недаром же сказано: «Влюбленные, безумцы и поэты / Из одного воображенья слиты…» (Тютчев). Кстати, нетрудно заметить, что в ряде произведений Пушкина (и прежде всего в «Маленьких трагедиях») изображены герои, одержимые одной страстью (или «чувством-идеей», если воспользоваться формулой М. Л. Гофмана). Однако ни один из них с ума все-таки не сходит.
Во-вторых, такой «медицинский» подход крайне упрощает суть и смысл пушкинского произведения, уничтожает его этическую проблематику, начисто снимает вопрос о нравственной ответственности личности (в самом деле, какой же спрос с безумца?).
В-третьих, он плохо согласуется и с сюжетом повести. Ведь если явление призрака не более, чем галлюцинация, то выигрыш всех трех названных им карт выглядит простой и почти невероятной случайностью, а ошибка Германна объясняется чисто техническими причинами – слипшимися от свежей типографской краски картами в новой, только что распечатанной колоде (см. [18. С. 459]).
Да и сама интерпретация состояния Германна как бредового сна по меньшей мере сомнительна, особенно, когда его связывают еще и с опьянением героя (см., например, [5. С. 365; 6. С. 519]). Между тем в тексте повести сказано ясно и определенно: «Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко заснул. Он проснулся уже ночью (…). Сон у него прошел…» [12. С. 232]. Трудно не согласиться с Г. П. Макогоненко, который полагает, что опьянение Германна «объясняет его крепкий сон» – и только. «Перед нами, – убежден он, – трезвый, проснувшийся после крепкого сна человек. Он занят одной, единственной тревожившей его думой об умершей графине, которая унесла с собой в могилу тайну трех карт. К этому-то трезвому и хорошо выспавшемуся человеку наяву и приходит видение» [19. С. 208–209][21]. К тому же чудесное явление призрака воспринимается Германном едва ли не как нечто должное. Ведь он старался сохранить отношения с графиней и после ее смерти, отправился на ее похороны, дабы испросить у нее прощения. Во всяком случае, соприкосновение с иным миром не очень удивило и совсем не испугало Германна: спокойно и деловито записал он свое видение. И, конечно, он ничуть не усомнился в том, что тройка, семерка, туз и есть те самые верные карты, которые гарантируют выигрыш и принесут ему счастье. Иначе он не решился бы поставить на них огромную сумму – по всей видимости, весь свой наличный капитал.
Неудивительно, что убежденность в обладании заветной тайной еще более разогрело его воображение: «Тройка, семёрка, туз – скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи. Тройка, семёрка, туз – не выходили из его головы и шевелились на его губах (…) Тройка, семёрка, туз – преследовали его во сне, принимая все возможные виды (…) Все мысли его слились в одну, – воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила [12. С. 234]. Именно эта исключительная сосредоточенность на одной-единственной идее, «неподвижной идее» и оказалась губительной для Германна. «Тройка, семёрка, туз, – замечает С. Г. Бочаров, – вытесняют образ мертвой старухи и все с нею связанные условия: две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе» [2. С. 134].
Действительно, всецело занятый путями и перспективами грядущего выигрыша, Германн совершенно забывает обо всем остальном: о данных еще живой графине обещаниях молиться за нее и взять на свою душу дьявольский грех, забывает даже об условиях, поставленных ему призраком, и прежде всего – о необходимости жениться на Лизавете Ивановне. А условия эти содержали серьезное предупреждение, на которое он не обратил ни малейшего внимания. Ведь если сама графиня, по указанию Сен-Жермена, поставила три карты сряду – одну за другой, то Германн должен был сделать это постепенно – на протяжении трех дней. Иначе говоря, ему было дано время, чтобы выполнить поставленные условия, успеть хотя бы сделать предложение Лизавете Ивановне. Однако Германн так и не сумел одуматься и в итоге переступил роковую черту: невольно бросил вызов тем самым иррациональным и таинственным высшим силам, которые и открыли ему тайну трех карт. Естественно, что расплата была немедленной и жестокой. «В ту минуту, когда Германну кажется, что он играет (причем – наверняка), оказывается, что им играют» [13. С. 805]. Жестокой, но закономерной.
По верному замечанию Г. П. Макогоненко, такой финал «закономерен в жизненной игре Германа»: разразившаяся катастрофа стала «неотразимым свидетельством безумия и бессмысленности его идеала и исповедуемой им философии эгоизма», враждебной пушкинскому идеалу подлинной свободы личности [19. С. 250].
И тут пора выдвинуть еще один, возможно, решающий аргумент против попыток «медицинского» подхода к пушкинской повести. Дело в том, что подобного рода ненасытимые желания, безоглядная страсть к обогащению, возвышению и самоутверждению, не знающие границ и пределов, были в глазах Пушкина не индивидуальной особенностью отдельной личности, но родовым свойством целого социального пласта – так называемого «нового дворянства», или «новой знати», все больше набиравшей силу и оттеснявшей на второй план старинную русскую аристократию[22].
Показательно, что одновременно с «Пиковой дамой» Пушкин создает «Сказку о рыбаке и рыбке», где в иносказательной форме раскрывает психологию человека, попавшего «из грязи в князи», свойственное ему всепоглощающее стремление к богатству и власти, неизбежно оканчивающееся катастрофой.
Н. Н. Петруниной принадлежит убедительное сопоставление Германна и «родовитого бедняка» Евгения – героя «Медного всадника», поэмы, написанной той же осенью 1833 г., что и «Пиковая дама». «В потоке его (Евгения. – А. Г.) размышлений, – пишет она, – независимость сопряжена с честью, и обе они мыслятся как необходимое условие существования». И далее: «Осколок исторического боярского рода, Евгений не тужит об утраченных славе и величии. Кровь предков сформировала его жизненные принципы – “независимость и честь”, наделила безвестного чиновника личным достоинством, которое заставляет его “дичиться знатных”» [21. С. 215–216]. Напротив, Германн «рвется прочь из “смиренного своего уголка”, стремится обрести в “фантастическом богатстве” могущество, стать наравне с Томскими и Нарумовыми, а может быть, – как знать! – увидеть их агонию (…), встать над ними. Самое понятие Германна о независимости – плод его зависимости, – рождено ею» [21. С. 215].
Полностью соглашаясь с этой сравнительной характеристикой, заметим только, что контрастное (хотя и неявное) сопоставление Германна с героями-аристократами играет весьма важную роль и в самой «Пиковой даме». В самом деле, чрезвычайная и фантастическая история Германна разворачивается в повести на фоне повседневной жизни аристократического семейства Томских и окружающих его лиц – людей, как будто вполне обыкновенных, ничем особенно не примечательных[23]. Зато их отличает предсказуемость и естественность поведения. Как и все люди их круга, они исправно служат, получают очередные чины, играют в карты и танцуют на балах, обсуждают светские новости и сплетни, шутят и ссорятся, влюбляются и женятся. Но при этом никто из них не пытается прыгнуть, что называется, выше головы, не мечтает о сказочном богатстве, мгновенном возвышении, стремительной карьере. Скажем, в финале повествования как несомненный служебный успех Томского отмечается его производство в чин ротмистра, чин немалый, хотя и не слишком высокий. И уж, конечно, ни один из сыновей и внуков старой графини не прилагает каких-то чрезвычайных усилий, дабы выведать у нее тайну трех карт. Да и сама она воспользовалась ею не для того, чтобы увеличить свое состояние, но лишь затем, чтобы уплатить долг чести. Словом, в отличие от Германна, никто из них не стремится «подчинить случай, судьбу, саму жизнь своей воле, своим расчетам», «уложить ее в произвольные схемы, противоречащие внутренним, имманентным ее законам» [23. С. 169, 174].
Едва ли не символично в этом смысле Заключение повести. Сошедший с ума Германн, сидя в больнице, «бормочет необыкновенно скоро» одну-единственную фразу, меж тем, как жизнь других персонажей свершается обыкновенным порядком, идет своим чередом. Контраст искусственной «неподвижной идеи» и естественности «подвижной жизни» [2. С. 27] предстает здесь особенно наглядно. И контраст этот весьма многозначителен.
Н. И. Михайловой удалось выявить подспудную, но чрезвычайно важную московскую тему в петербургской пушкинской повести. В частности, она, опираясь на известные труды академика В. В. Виноградова [24; 25], отмечает в социально-психологическом облике живущей в северной столице графини Анны Федотовны, равно как и в ее речи, несомненные старомосковские корни, ибо язык старой графини – «это язык старого московского барства». Соответственно, противостояние Германна и старой графини – «это противостояние петербургского героя нового времени (…)и старой русской аристократии, укорененной в московском жизненном укладе» [26. С. 49].
Вообще, столь волновавшее Пушкина сопоставление московского и петербургского жизненных укладов, как показал В. Э. Вацуро, живо обсуждалось в литературе 1820–1830 гг. Уже к 1820-м гг. эта тема «приобретает философскую историческую и политическую окраску. С московским укладом связана консервативная оппозиция, “старое дворянство”; с петербургским – “новая знать” и бюрократические круги, вызванные к жизни “революцией Петра”. За рассуждениями о двух типах “общежития” неизменно стоит то или иное отношение к разным сторонам петровской реформы» [27. С. 166].
И не случайно, конечно, герои-аристократы пушкинской повести всем своим существом – житейски, духовно, нравственно – противостоят чуждой им стихии своеволия и индивидуализма, безоглядному и безудержному стремлению к возвышению и самоутверждению, столь характерному для новой знати, духовная несостоятельность и катастрофичность сознания которой была Пушкину совершенно очевидна. Показательна в этом отношении отчужденно-ироническая характеристика Германна в «мазурочной болтовне» Томского или уничтожающая реплика потрясенной его коварством Лизаветы Ивановны: «Вы – чудовище!» [12. С. 229][24]. Еще отчетливее эта связь между принадлежностью героя (тоже, казалось бы, человека вполне обыкновенного) патриархально-аристократическому миру и прочностью его нравственных устоев и принципов выступает в создававшейся чуть позднее «Капитанской дочке».
Главное же – семейство Томских оказывается своего рода связующим звеном между разными и уже далекими историческими эпохами. Действительно, фрейлина императрицы Екатерины II, произведшая фурор в предреволюционном Париже; Venus moskovite, за которой волочился Ришелье, с которой играл в фараон герцог Орлеанский, был коротко знаком граф Сен-Жермен, графиня Анна Федотовна, чей дом в Петербурге был убран и обставлен по моде 1770-х гг., предстает как живое воплощение той русско-французской культуры, которая была сметена вихрем революционных событий. «Смотри: вокруг тебя / Всё новое кипит, былое истребя», – печально констатировал Пушкин в стихотворении 1830 г. «К вельможе».
Напротив, Германн – это тип человека послереволюционной поры, нового, уже во многом буржуазного «железного века», вполне чуждого заветам прошлого и всецело поглощенного заботами о немедленном преуспеянии и скорейшем обогащении («Деньги, – вот чего алкала его душа!» [12. С. 229]). Недаром в доме графини, где его окружают «призраки 1770-х годов» [28. С. 261], он чувствует себя как в музее, с отчужденным любопытством и отстраненным вниманием разглядывает старомодное убранство: мебель, картины, безделушки, причем «каждая деталь обстановки говорит о том, что принадлежит эпохе умершей» [23. С. 171]. Именно этот контраст, как заметил В. Э. Вацуро, – «контраст русско-французского XVIII столетия и буржуазного “железного века” определяет собой конфликт в “Пиковой даме”» [29. С. 212].
В подобной ситуации исторического разлома, был убежден Пушкин, роль людей типа Томского, хранителей семейного предания, естественно и органично причастных культурному наследию минувшего столетия, его духовным традициям и ценностям, оказывается исключительно важной. Само их существование служит залогом преемственности исторического развития, поскольку «семейственные воспоминания» родовой аристократии, как говорится в «Романе в письмах», «должны быть историческими воспоминаниями народа» [12. С. 50].
Тем самым тема противостояния старинного дворянства и новой знати, одна из важнейших для Пушкина зрелой поры, обретает в «Пиковой даме» новое измерение, а сама повесть включается в напряженную полемику 1830-х гг. (см. [29]), полемику литературную и идеологическую.
2011
Литература
1. Ходасевич Вл. Петербургские повести Пушкина // Ходасевич Вл. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М.: Согласие, 1996.
2. Бочаров С. Г. Случай или сказка? // Бочаров С. Г. Филологические сюжеты. М.: Языки славянских культур, 2007.
3. Красухин Г. Г. Доверимся Пушкину. М.: Флинта: Наука, 1999.
4. Гершензон М. О. Мудрость Пушкина. Томск: Водолей, 1997.
5. Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М.: ГИХЛ, 1957.
6. Слонимский А. Мастерство Пушкина. М.: ГИХЛ, 1959.
7. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 30. Кн. 1: Письма. 1878–1880. Л., 1988.
8. Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. М.: Художественная литература, 1978.
9. Муравьева О. С. Фантастика в повести Пушкина «Пиковая дама» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. VIII. Л.: Наука, 1968.
10. Ботникова А. Б. Э. Т. А. Гофман и русская литература (первая половина XIX века). К проблеме русско-немецких литературных связей. Воронеж, 1977.
11. Гофман Э. Т. А. Избранные произведения: В 3 т. М.: ГИХЛ, 1962.
12. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. 4-е изд. Т. 6: Художественная проза. Л.: Наука, 1978.
13. Лотман Ю. М. «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века // Лотман Ю. М. Пушкин. СПб.: Искусство – СПБ, 2000.
14. Мейлах Б. Пушкин и его эпоха. М.: ГИХЛ, 1958.
15. Бем А. Л. Исследования. Письма о литературе. М.: Языки славянской культуры, 2001.
16. Вольперт Л. И. Пушкин в роли Пушкина. М.: Языки русской культуры, 1988.
17. Гофман М. Л. Проблема сумасшествия в творчестве Пушкина // Центральный Пушкинский Комитет в Париже (1935–1937). Т. I. М.: Эллис Лак, 2000.
18. Чхаидзе Л. В. О реальном значении мотива трех карт в «Пиковой даме» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. III. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960.
19. Макогоненко Г. П. Творчество Пушкина в 1830-е годы (1833–1836). Л.: Художественная литература, 1982.
20. Алексеев М. П. Пушкин и наука его времени // Алексеев М. П. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л.: Наука, 1984.
21. Петрунина Н. Н. Проза Пушкина. Л.: Наука, 1987.
22. Коровин В. И. Случайность и необходимость в повести А. С. Пушкина «Пиковая Дама» // Коровин В. И. Статьи о русской литературе. М.: МПГУ, 2002.
23. Виролайнен М. Н. Ирония в повести Пушкина «Пиковая дама» // Проблемы пушкиноведения: Сборник научных трудов. Л., 1975.
24. Виноградов В. В.Стиль Пушкина. М.: Гослитиздат, 1941.
25. Виноградов В. В. Стиль «Пиковой дамы» // Виноградов В. В. Избр. труды. О языке художественной прозы. М.: Наука, 1980.
26. Михайлова Н. И. Москва в петербургской повести Пушкина «Пиковая дама» // Известия РАН. Серия литературы и языка. Т. 70. № 1. 2011.
27. Вацуро В. Э. Пушкин и проблемы бытописания в начале 1830-х годов // Пушкин. Исследования и материалы. Т. VI. Л.: Наука, 1969.
28. Эйдельман Н. Я. Статьи о Пушкине. М.: Новое литературное обозрение, 2000.
29. Вацуро В. Э. «К вельможе» // Вацуро В. Э. Пушкинская пора. СПб.: Академический проект, 2000.
«Сказка о золотом петушке»: парадокс сюжета
Небольшая и, как может показаться, бесхитростная «Сказка о золотом петушке» – единственный плод последней болдинской осени (1834) – заслужила тем не менее репутацию сочинения странного, темного, загадочного и обросла плотным слоем разноречивых истолкований. При этом в центре развернувшихся споров оказалась знаменитая статья Анны Ахматовой [1], во многом повлиявшая на восприятие пушкинской сказки как произведения остро-злободневного, политически актуального.
Обличительно-сатирический, даже памфлетный характер «Сказки о золотом петушке» настойчиво подчеркивали в своих работах А. Л. Слонимский [2. С. 424–429], Г. П. Макогоненко [3. С. 184–197] и другие авторы. В то же время С. М. Бонди находил такое толкование ошибочным и сетовал на «неправильное понимание» пушкинского произведения и его «простого смысла». Напрасно искать в нем, считал ученый, «политической темы, намеков на личные отношения Пушкина к Николаю I и т. д. На самом деле Пушкин написал шутливую сказку на тему об опасности, гибельности женских чар» [4. С. 474].
По мысли В. Э. Вацуро, главная ошибка Ахматовой заключалась в том, что она не обратила должного внимания на своеобразие сказочного сюжета, всегда имеющего фольклорную основу, и оценивала характеры и действия сказочных персонажей в соответствии с традициями письменной литературы [5. С. 125–127]. Напротив, В. С. Непомнящий и Д. Н. Медриш полагают, что «Золотой петушок» являет собой полную противоположность традиционной сказке, что это – своего рода «антисказка» [6. С. 236; 7. С. 113–114].
Наконец, в последнее время исследовательский интерес вообще смещается в несколько иную плоскость: все большее внимание уделяется фаллической символике, зашифрованной, по мнению ряда авторов, в тексте «Золотого петушка», как важнейшей грани его содержания или даже ключа к его истолкованию (см., например, [8]).
Не углубляясь сейчас в историю вопроса, обратимся непосредственно к самой статье Анны Ахматовой. Напомним сначала, что Ахматовой удалось установить: главный литературный источник «Сказки о золотом петушке» – это «Легенда об арабском звездочете» Вашингтона Ирвинга из книги новелл «Альгамбра» (1832)[25]. И надо признать, что выявленное ею сюжетное сходство обоих произведений поистине поразительно! Может сложиться даже впечатление, будто в сказке Пушкина просто-напросто воспроизведена – пусть в сжатом виде – сюжетная канва «Легенды» В. Ирвинга.
В самом деле: фигура воинственного правителя, решившего на склоне лет уйти на покой, вызванная этим решением агрессия соседей, с разных сторон начавших угрожать его владениям, обращение царя к волшебному помощнику и обещание щедро его наградить, иноземная царственная красавица, ставшая предметом раздора волшебника и царя, наконец, кара, постигшая правителя, не исполнившего своего обещания, – таковы очевидные совпадения основных ситуаций и опорных моментов развития действия у Пушкина и Ирвинга.
Отмечает Ахматова и некоторые сюжетные расхождения «Легенды» и «Сказки». Это прежде всего «вставной эпизод с царскими сыновьями и поход царя, отсутствующие в легенде Ирвинга» [1. С. 25]. Далее – то обстоятельство, что царь «влюбляется в Шамаханскую царицу над трупами своих сыновей» [1. С. 26]. Наконец, различие финалов: мавританский царь у Ирвинга отделывается тем, что волшебный флюгер «только перестает предупреждать его о приближении опасности. В пушкинской же сказке талисман (золотой петушок) является орудием казни царя-клятвопреступника и убийцей» [1. С. 28].
Тем самым обосновывается главный тезис статьи: «Тема “Сказки о золотом петушке” – неисполнение царского слова» [1. С. 32]. И тема эта, полагает Ахматова, имеет реальные биографические основания: «В 1834 году Пушкин знал цену царскому слову» [1. С. 33].
При всей справедливости и проницательности суждений Ахматовой, сделанный ею вывод представляется все же недостаточным и не до конца объясняющим смысл пушкинской сказки. В самом деле: если Дадон не что иное, как «ленивый самодур», если он, так сказать, по определению «злой царь» [1. С. 29][26], то, значит, и кара, постигшая его, вполне справедлива и оправданна. Но тогда неизбежно возникают вопросы: кто и каким способом вершит справедливое возмездие, каков нравственный облик самого мстителя, каковы истинные мотивы его поступков?
В этом отношении чрезвычайно важны и показательны не отмеченные Ахматовой существенные различия между персонажами Пушкина и Ирвинга.
Действительно, арабский астролог отнюдь не бескорыстен. Оказав мавританскому царю важную услугу, он становится его ближайшим советником и неотступно находится при нем. Царь беспрекословно исполняет все его желания и прихоти, расходует на него огромные средства.
Напротив, в пушкинской сказке мудрец-звездочет не требует от царя ничего – ни денег, ни должностей, ни дворцов. Ему, старику и скопцу, не нужны и женщины. Он, можно сказать, «выше мира и страстей». Заметим: царь сам обещал ему любую награду («Волю первую твою, / Я исполню, как мою»). Мало того: вручив царю золотого петушка, старец вообще исчезает из повествования и возникает вновь лишь в самом финале. Своей независимостью он напоминает кудесника из «Песни о вещем Олеге» («Волхвы не боятся могучих владык, / А княжеский дар им не нужен»)[27].
Еще более существенно другое различие. Арабский астролог исправно исполняет свои обязательства, обеспечивает мавританскому царю спокойное существование, своевременно предупреждает его о готовящихся набегах соседей. Что же касается золотого петушка (которого, как, впрочем, и Шамаханскую царицу, нельзя рассматривать иначе, чем орудие его хозяина), то он, после того, как враги окончательно присмирели («Год, другой проходит мирно, / Петушок сидит всё смирно»), неожиданно подает тревожный сигнал о мнимой угрозе с востока. Тем самым он провоцирует трагическое развитие событий: три бессмысленных военных похода, обернувшихся истреблением войска и смертью сыновей, роковая встреча с Шамаханской царицей и последующая финальная катастрофа – окончательная гибель всего царского дома.
О том, что угроза с востока была мнимой, ибо ни малейшей опасности «иль набега силы бранной, иль другой беды незваной» не существовало вовсе, ясно свидетельствует сама отдаленность роковой точки, до которой первая воинская рать шла целых восемь дней. Столько же навстречу предполагаемому врагу двигалась вторая, а затем и третья рать. Значит, гипотетический неприятель или носитель беды все это время даже не предполагал трогаться с места.
Стало быть: прежде, чем «злой царь» обманул своего благодетеля, вероломно нарушив данное ему обещание, он сам был обманут, обманут жестоко и страшно. Вот почему «ошибаются те, кто думает, что в теме клятвопреступления, нарушения “царского слова” – основное содержание сказки, – справедливо замечает В. С. Непомнящий. – Страшная беда – смерть обоих сыновей, их взаимное братоубийство – постигает Дадона гораздо раньше, чем он успел хоть в чем-нибудь провиниться перед владельцем золотого петушка» [6. С. 233]. К сказанному необходимо добавить: в отличие от мавританского царя в «Легенде», Дадон был жестоко наказан вовсе не за нарушение царского слова. Непосредственной причиной его гибели стало убийство мудреца-звездочета – роковой удар «жезлом по лбу».
Как же объяснить этот обоюдный обман – главный сюжетный парадокс пушкинской сказки? В чем смысл противостояния мудреца и царя? Как оценивает их поведение, их конфликт сам автор?
Для ответа на поставленные вопросы необходимо уяснить сначала, почему – в противоположность астрологу «Легенды», женолюбу и сладострастнику, – главным антагонистом царя в пушкинской сказке оказывается скопец. Ведь, казалось бы, это обстоятельство делает их ссору в финале совершенно абсурдной. «“И зачем тебе девица?» – справедливо недоумевает Дадон.
Как уже говорилось, именно эта особенность пушкинского персонажа обсуждается сейчас особенно оживленно. Нам же важно подчеркнуть, что оскопленность мудреца-звездочета имеет в «Сказке» не сексуально-эротический, а скрытый политический смысл.
В своей содержательной и богатой интересным материалом книге «Содом и Психея» [11] Александр Эткинд показал, сколь важную роль в русской культуре, в духовной, общественной и политической жизни страны играли всевозможные религиозно-мистические секты. И среди них – секта скопцов, отличавшаяся особо радикальными политическими взглядами и стремившаяся к установлению тотального контроля над обществом во имя коренного его переустройства. Причем власть, долгое время относившаяся к скопцам весьма терпимо, проявлявшая к их деятельности определенный интерес и даже оказывавшая им серьезную практическую поддержку, перешла затем (после 1820 г. и особенно – в николаевское царствование) к политике преследований и репрессий. А после присоединения к России (в 1820 г.) Шемахи – области в Закавказье – «туда стали ссылать скопцов из разных мест России, и под Шемахой образовались известные их поселения. Так что шемаханский скопец – никак не восточный евнух, а ссыльный русский сектант» [11. С. 164][28].
Действительно, в сохранившейся части чернового автографа Пушкин называет своего героя шамаханским скопцом или шамаханским мудрецом. Правда, в окончательном тексте эти прямые определения исчезают, а восточный колорит лишь слегка означен: в финале звездочет появляется в арабском головном уборе – «в сарачинской шапке белой». Однако же эта, как будто бы мелкая, случайная деталь, равно как и наименование восточной красавицы Шамаханской царицей (заимствованное из поэмы-сказки Катенина «Княжна Милуша», 1834) косвенно указывает и на принадлежность старца к преследуемой отечественной секте[29]. И это обстоятельство сразу же придает пушкинской сказке актуальное политическое звучание.
Проясняется прежде всего скрытая суть разыгравшегося в ней конфликта. Становится очевидным, что царю противостоит здесь опальный изгнанник, пострадавший за свои убеждения и действия и потому заведомо враждебный власти. А значит, и его возмездие своему антагонисту есть деяние намеренное и целенаправленное.
Сказанное, конечно, не означает, будто поэт разделял взгляды своего персонажа, симпатизировал скопцам или каким-то другим религиозным сектам. В символико-сказочной структуре произведения оскопленность мудреца-звездочета предстает лишь как внятный современникам намек – знак его отверженности, принадлежности к гонимым и ссыльным, что не могло не ассоциироваться с судьбой самого поэта и его отношениями с царем.
Невозможно поэтому согласиться с истолкованием пушкинской сказки, предложенным самим автором «Содома и Психеи». А. Эткинд видит в ней некую антиутопию, предостерегающую власть от опасного и гибельного союза со всякого рода лжепророками и мудрецами-сектантами. По его мнению, «Пушкин рассказал о зловещем союзе царя и скопца – и о том, что могло бы из него выйти» [11. С. 164, см. также с. 135].
Не говоря уже о том, что отношения Дадона и мудреца трудно назвать союзом[30] (особенно, если вспомнить, что один из «союзников» считает возможным хватить другого «жезлом по лбу»), весь ход рассуждений А. Эткинда неизбежно приводит к выводу, будто в конфликте Дадона и скопца симпатии поэта безусловно на стороне царя. Однако это плохо вяжется как с сюжетом пушкинской сказки, так и с обстоятельствами ее создания.
Очевидно, что на самом деле все обстоит как раз наоборот. Достаточно указать хотя бы на контрастно-символические сравнения, характеризующие обоих персонажей: с одной стороны, это «птица ночи» («Как пред солнцем птица ночи, / Царь умолк, ей глядя в очи»), с другой – лебедь («Весь как лебедь поседелый»). Ведь согласно народно-мифологическим представлениям, все ночные птицы (филин, сова, сыч) являются зловещими демоническими существами, дьявольским отродьем, воплощением нечистой силы. Они несут человеку угрозу, предрекают беду, болезнь, смерть (см. [13. С. 347; 14. С. 568, 572–573]). Напротив, лебедь – это символ возрождения, чистоты, целомудрия, гордого одиночества, пророческого и поэтического дара, символический образ самого поэта, певца (см. [15. С. 41]). Более того, он «относится к почитаемым, “святым” птицам. Такое отношение к нему характерно прежде всего для русской народной традиции…». Убийство лебедя считается большим грехом, а кара за это должна пасть “не только на виновника убийства, но и на весь его род… Нередко именно дети становятся жертвой наказания за вину отца, осмелившегося убить лебедя…” [14. С. 677–678]. Аналогия с событиями пушкинской сказки напрашивается тут сама собой.
Недаром же, как не раз отмечали исследователи, мотив возмездия злому царю звучит в финале пушкинской сказки столь зловеще и грозно (см., например, [16. С. 182]). И опять-таки: совсем не случайно расправу с жестоким правителем вершит ожившая статуэтка золотого петушка. Ибо петух, по народным поверьям, воплощает светлое, солнечное начало и призван разгонять нечистую силу (см., например, [17. С. 310; 18. С. 75]). В то же время он символизирует вечное возрождение жизни, воскресение из мертвых, т. е. применительно к сюжету пушкинской сказки – возможность воскрешения мудреца-звездочета, а в более широком смысле – бессмертие поэта-пророка.
Вероятны, впрочем, и литературно-полемические мотивы, побудившие поэта избрать героем своей сказки скопца. Речь идет о давнем споре Пушкина с Катениным, автором «Старой были» (1828). Главный ее герой, напомним, сладкоголосый певец-грек, апологет самодержавной власти и противник свободы, в котором без труда угадывается Пушкин, автор «Стансов» (1826). Ему противостоит русский поэт-воин (читай: Катенин), верный свободолюбивым идеалам и старым боевым друзьям. Для нас же особенно важно сейчас, что сладкоголосие грека и его певческий дар объясняются в стихотворении Катенина тем, что уже в юности он был оскоплен.
Хорошо известно, сколь острой и резкой была пушкинская реакция на «Старую быль» и приложенное к ней стихотворное послание («А. С. Пушкину»). Поэт был глубоко задет недвусмысленными намеками на его измену прежним идеалам и раболепство перед властью. Ясное свидетельство тому – «Ответ Катенину» (1828), полный личных выпадов, а – главное – знаменитый «Анчар» (1828), где смертельное для всего живого «древо яда» предстает разительным контрастом вечнозеленого древа, символизирующего благодетельность самодержавной власти в песне сладкоголосого катенинского грека.
Теперь же, по прошествии долгого времени, Пушкин вновь, казалось бы, неожиданно, возвращается к давней полемике. Скорее всего, его подтолкнули к этому причины внутренние (все усиливающаяся напряженность в отношениях с царем) и внешние (выход в 1834 г. поэмы-сказки Катенина «Княжна Милуша», одной из героинь которой, как уже говорилось, была шамаханская царица). И вот – в противовес образу грека-скопца из «Старой были», льстивого певца, безудержно прославляющего единовластие, – он создает образ оскопленного мудреца-пророка, творящего возмездие злому царю.
Суровая кара, обрушившаяся на царя Дадона, поневоле вызывает в памяти известные строки юношеской оды «Вольность»: «Самовластительный Злодей! / Тебя, твой трон я ненавижу, / Твою погибель, смерть детей / С жестокой радостию вижу». Такая ассоциация не покажется неожиданной или нарочитой, если вспомнить, что за полгода до создания сказки негодующий на царя поэт, как свидетельствовал А. Н. Вульф, говорил, «что возвращается к оппозиции» [19. С. 149].
В научной литературе не раз отмечалось определенная близость «Сказки о золотом петушке» и поэмы «Медный всадник» – обычно со ссылкой на известную работу Р. О. Якобсона [20][31]. В самом деле, действующие лица обоих произведений и важные слагаемые их сюжетов отчасти сходны. Это – царь, затем его антагонист и одновременно его жертва, ожившая статуя, наконец, ужасающая катастрофа. Но если в поэме статуя олицетворяла незыблемую мощь царской власти, была инобытием правителя, то в сказке она стала инобытием его антагониста. И если в поэме взбунтовавшийся Евгений ограничивается лишь угрозой царю («Ужо тебе!..»), то в сказке угроза эта реализуется в полной мере.
Таков был пушкинский ответ на царские «милости», которых к осени 1834 г. скопилось предостаточно. Это и фактическое запрещение «Медного всадника», и перлюстрация личных писем поэта, и подчеркнутое внимание к его жене, и угрозы в связи с прошением об отставке, и – едва ли не самое главное – пресловутое камер-юнкерство, которого, как замечает Ахматова, «Пушкин не простил царю до самой смерти» [1. С. 34]. «Сказка о золотом петушке», таким образом, может быть названа кульминационной точкой в затянувшемся противостоянии поэта и царя.
Да и вообще, внимание Пушкина, историка и художника, неизменно влекли к себе эпохи смуты, эпизоды насильственного устранения монарха. Но это уже – особая тема.
2009
Литература
1. Ахматова А. Последняя сказка Пушкина // Ахматова А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 6. М.: Эллис Лак 2000, 2002.
2. Слонимский А. Мастерство Пушкина. 2-е изд. М.: Художественная литература, 1963.
3. Макогоненко Г. П. Творчество Пушкина в 1830-е годы (1833–1836). Л.: Художественная литература, 1982.
4. Бонди С. М. «Сказка о золотом петушке» // Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 3. М.: Художественная литература, 1975.
5. Вацуро В. Э. «Сказка о золотом петушке» (Опыт анализа сюжетной семантики) // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 15. СПб.: Наука, 1995.
6. Непомнящий В. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. 2-е изд. М.: Советский писатель, 1987.
7. Медриш Д. Н. От двойной сказки – к антисказке (Сказки Пушкина как цикл) // Московский пушкинист. I. М.: Наследие, 1995.
8. Заславский О. Б. «Сказка о золотом петушке» А. С. Пушкина: Сюжет о добывании беды // Russian Literature. Vol. 62. № 2. 2007.
9. Алексеев М. П. Заметки на полях. 6. Пушкин и повесть Ф. М. Клингера «История о Золотом петухе» // Временник Пушкинской комиссии. 1979. Л.: Наука, 1982.
10. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 17 т. Т. 3. Кн. 2. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949.
11. Эткинд А. Содом и Психея. Очерки интеллектуальной жизни Серебряного века. М.: ИЦ-Гарант, 1996.
12. Паперный В. Опыт о «Сказке о Золотом Петушке» А. С. Пушкина // Пушкинский сборник. Вып. 1. Иерусалим, 1997.
13. Топоров В. Н. Птицы // Мифы народов мира: В 2 т. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1982.
14. Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.
15. Топоров В. Н. Лебедь // Мифы народов мира: В 2 т. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1982.
16. Сурат И., Бочаров С. Пушкин. Краткий очерк жизни и творчества. М.: Языки славянской культуры, 2002.
17. Топоров В. Н. Петух // Мифы народов мира: В 2 т. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1982.
18. Красухин Г. Г. Четыре пушкинских шедевра. М.: Изд-во МГУ, 1996.
19. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: В 4 т. Т. 4 (1833–1837) / Сост. Н. А. Тархова. М.: Изд-во СЛОВО/SLOVO, 1999.
20. Якобсон Р. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987.
Вместо заключения
Как было показано, каждое из рассмотренных в этом разделе произведений Пушкина, произведений чрезвычайно важных и значительных, заключает в себе некий потаенный, скрытый смысл, весьма актуальный, злободневный, взрывчатый, необходимый для понимания авторской позиции.
Хотелось бы верить, что постижение этих подтекстов, этих сокровенных смыслов будет способствовать более точному, адекватному прочтению пушкинских творений. Можно надеяться также, что оно ускорит развенчание православно-самодержавного мифа о великом поэте и тем самым поможет избавиться от тяжелого недуга, которым страдает современная пушкинистика.
Постскриптум Особенности отечественной пушкинистики в юбилейный период (Полемические заметки)
Не в моде нынче красный цвет.
А. С. Пушкин. В. С. Филимонову, 1828Посмертная судьба Пушкина едва ли не столь же драматична, как и сама его жизнь. Вокруг имени поэта то и дело вспыхивали (да и по сей день не утихают) ожесточенные споры, сталкивались противоположные мнения, возникали разнообразные легенды и мифы. Читатели и критики видели в Пушкине то поборника «чистого искусства», служителя красоты, отрешенного от злобы дня, равнодушного к насущным общественным потребностям и запросам времени; то пламенного революционера, вольнодумца и атеиста, непримиримого врага самовластья, единомышленника и друга декабристов; то, напротив, смиренного христианина и верноподданного, всей душой преданного царю.
Под знаком возрождения последнего мифа прошел во многом и 200-летний юбилей поэта. «За последнее десятилетие мы пережили бурный расцвет “христианской” пушкинистики, – удовлетворенно констатировала И. Ю. Юрьева на юбилейной пушкинской конференции в Институте мировой литературы РАН (1999). – Трудно даже перечислить всех авторов, обращавшихся к этой тематике». Правда, убеждена И. Ю. Юрьева, могло быть и лучше: «Православие сегодня столь же прочно сопряжено с именем Пушкина, как и народность. Чего нельзя сказать о центре триады – самодержавии» [1. С. 320]. И. Ю. Юрьевой хочется посочувствовать: должно быть, трудно смириться с тем, что триединая уваровская формула не стала еще путеводной звездой для всех нынешних пушкинистов, а самого поэта не превратили пока в полного единомышленника его злейшего врага. Но особенно огорчаться не стоит: можно не сомневаться, что начатая работа «будет сделана и делается уже». Ибо экспансия православно-державного мифа продолжается.
Пришло, кажется, время внимательно вглядеться в аргументацию и логику сторонников усердно насаждаемой ныне концепции пушкинского творчества. Не затрагивая пока вопросы национально-религиозные, попробуем разобраться, насколько корректно, насколько точно излагаются и интерпретируются в их трудах исторические и политические воззрения поэта.
Обратимся для начала к известной книге Л. М. Аринштейна «Пушкин. Непричесанная биография». На первых же ее страницах справедливо говорится, что «вопросы отношения Пушкина к самодержавию, к религии, к декабристам подвергались в советский период наибольшей идеологической деформации» и нуждаются в пересмотре [2. С. 6].
Но пересмотреть – не значит вывернуть наизнанку. Между тем, по мнению автора, нет оснований считать Пушкина приверженцем освободительных идей, ибо поэт всегда был сторонником самодержавной власти, а в зрелые годы – певцом Николая I, автором целого «Николаевского цикла».
Приглашая читателя к объективному, честному разговору о биографии и мировоззрении поэта и предупреждая его естественное недоумение, Л. М. Аринштейн спрашивает: «Разве не писал Пушкин вольнолюбивые стихи? Разве не был он близок к декабристам? Разве не ему принадлежат язвительные строки “Властитель слабый и лукавый…”? Разве не был он, наконец, выслан за оду “Вольность”?». И отвечает: “Между прочим, эта ода, если прочитать ее непредвзято, как раз и дает ответ на эти вопросы. Именно в ней молодой Пушкин изложил свое сrеdо правового государства, основанного на строгой законности и справедливости (…)Идея Закона и необходимости его неукоснительного соблюдения и властью, и народом становится смысловым центром утверждаемой Пушкиным нравственно-правовой культуры – основы общественно-правовых отношений в государстве (…). С этих позиций Пушкин обращается к конкретным историческим примерам и позволяет себе высказать во всеуслышание то, о чем в его время боялись говорить даже шепотом, что царствование Александра I не имело под собой законной основы. Его вступление на трон явилось результатом грубейшей противоправной акции – убийства отца, императора Павла I» [2. С. 148–149]. Совсем иное дело, полагает автор, Николай I: «Только законного Императора мог он (Пушкин. – А. Г.) приветствовать, только на законного Императора мог возлагать свои надежды на просвещенное, справедливое, милосердное царствование» [2. С. 152].
Сразу же бросается в глаза, что Л. М. Аринштейн существенно сужает вольнолюбивый смысл пушкинской оды, политическая острота которой вовсе не сводится к намекам на убийство Павла I и незаконность воцарения Александра. Главное в ней – мысль о необходимости юридического ограничения абсолютной власти монарха, полемика с традиционными представлениями о божественной природе царской власти, которая – уже по одному этому – не может быть стеснена никакими законами.
По словам Б. В. Томашевского (а его Аринштейн, судя по издательской аннотации, числит среди своих учителей), в оде «отрицается основной принцип абсолютизма, в силу которого принадлежность верховной власти царствующей династии обосновывалась “естественно”, в силу рождения (“природы”). Принцип этот выражался обычной формулой “божиею милостию”. Пушкин отрицает прирожденное происхождение права верховной власти и считает подлинным источником такого права только закон. Тем самым злоупотребление верховной властью является преступлением, нарушающим тот закон, в силу которого монарх правит» [3. С. 163].
Да и вообще, трудно, кажется, не заметить, что поэт проповедует законность не саму по себе, а неразрывность ее «сочетанья» с «вольностью святой». Можно, вероятно, спорить о степени пушкинского радикализма, но несомненно, что освободительный пафос оды близок умонастроениям декабристов, по крайней мере, их петербургского крыла (см. [3. С. 170]). И вполне естественно, что они использовали ее в целях революционной пропаганды.
Понятно также, что существенная сторона любой политической программы – представление о перспективах и сроках ее возможного осуществления. Одно дело – ратовать за освобождение крестьян, равенство сословий, введение представительного правления в неопределенно далеком будущем; и совсем другое – призывать к немедленному переустройству общества, выступать за его решительное обновление здесь и сейчас.
Именно нетерпение (вспомним название известного романа Ю. Трифонова) – важнейшая идейно-психологическая черта, отделяющая революционера от реформатора-постепеновца. И если мы обратимся хотя бы к знаменитому посланию Пушкина «К Чаадаеву» (1818), проникнутому нетерпеливым ожиданием грядущих преобразований, ощущением невозможности жить «под гнетом власти роковой», радостной уверенностью в неотвратимости скорых перемен, вопрос о том, отдал ли Пушкин в молодости дань декабристским настроениям и освободительным идеям, отпадет сам собой.
Не будем напоминать Л. М. Аринштейну о других, куда более радикальных пушкинских стихотворениях, ни о том, как болезненно-остро пережил поэт поражение революционных движений в общеевропейском масштабе. Не будем доказывать, что о вольнолюбивых настроениях юного поэта – как о чем-то само собой разумеющемся – писали не только пушкинисты предбольшевистского и большевистского периодов [2. С. 145–146], но и люди иного образа мыслей, которых трудно заподозрить в симпатиях к коммунистической идеологии (например, И. Ильин или С. Франк). Всё это вещи самоочевидные.
Подойдем лучше к поставленной им проблеме с другой стороны. Согласимся: утверждение законности – характерная черта политического мировоззрения Пушкина, а нравственно-правовая культура государства – один из важнейших для него вопросов. Все дело в том, как оценивал поэт – с этой точки зрения – реальность российской жизни, политику русского самодержавия в прошлом и настоящем.
Послушаем самого Аринштейна: «Почему же вопросы правопорядка так остро воспринимались Пушкиным? Да потому, что вся история России предшествовавшего столетия полна заговорами, дворцовыми переворотами, убийствами, порождавшими безнравственность и беззаконие. А в безнравственности и в беззаконии поэт видел источник, многих бед России и настоящих, и будущих» [2. С. 151]. Приведенный автором перечень российских бед нетрудно продолжить: здесь и казнокрадство, и взяточничество, и произвол чиновников, и неправосудие, и бесправие крепостных, и многое другое. Нельзя, следовательно, сказать, что самодержавие как таковое – гарант законности или хотя бы элементарного порядка в государстве (и тогда поиски новых форм правления естественны и оправданны!). Означает ли это, что царствование Николая I – едва ли не единственное исключение на общем мрачном фоне русской истории и что речь может идти не о монархизме Пушкина, но лишь о его личной преданности царю? Или иначе: был ли Пушкин сторонником самодержавия как принципа государственного устройства или же – сторонником того политического режима, который установил Николай?
Увы, ответа на эти вопросы в книге Л. М. Аринштейна мы не найдем. И не только потому, что концепция его внутренне противоречива, но в силу заведомой предвзятости его позиции. Желая создать портрет «непричесанного» Пушкина, автор тоже «причесывает» его, но по-своему, по-иному.
В сущности, на том же месте спотыкается и другой исследователь «державности» Пушкина – В. Д. Сквозников. «Вообще, полное, академически собранное наследие Пушкина не оставляет места для каких-либо иллюзий насчет не только республиканизма, но и конституционных (для России) симпатий Пушкина, – с подкупающей ясностью и спартанской прямотой формулирует автор свои взгляды. – Он адепт абсолютной монархии в ее, безусловно, просвещенной форме, и таковую он готов видеть в лице императора Николая Павловича, которого призывал походить на грозного самодержца Петра, понимая относительную цену таких призывов из-за несоизмеримости сторон сопоставления» [4. С. 220].
В приведенном рассуждении нетрудно обнаружить уже знакомое нам противоречие. В самом деле: приверженность определенному принципу государственного устройства, определенной форме правления вовсе не предполагает безусловного приятия любого конкретного их воплощения – политического режима, существующего в данное время в той или иной стране. Так, убежденный государственник и монархист Н. М. Карамзин в «Записке о древней и новой России» (1811) подверг самой суровой критике царствование Петра и его преемников, Екатерины и Павла, наконец, политику самого Александра, а роялист и безусловный сторонник абсолютизма маркиз де Кюстин был шокирован порядками, царившими в николаевской России. И если мы вслед за В. Д. Сквозниковым признáем, что идеалом зрелого Пушкина была абсолютная монархия в ее просвещенной форме, нам никуда не уйти все от того же главного вопроса: насколько отвечала этому идеалу – в представлении поэта – российская действительность, в какой мере соответствовал идеальному образу просвещенного монарха «император Николай Павлович», да и сам Петр I?
Ведь хорошо известно, сколь сложным было отношение Пушкина к Петру. Уже к концу 1820-х гг. оно «сильно удалилось от официальной апологетики», а затем и «окончательно разошлось с официальной версией» [5. С. 9–11]. Поэтому и не в состоянии был выполнить Пушкин царский заказ – завершить и тем более опубликовать Историю Петра, которая была бы приемлема для власти (см. [5. С. 29]).
Все более критичным с течением времени становится и отношение Пушкина к деятельности и личности «второго Петра» – Николая. Надежды поэта сменялись сомнениями, недоверием, разочарованием, порой новыми надеждами и разочарованиями, о чем свидетельствуют многие его дневниковые записи и ряд эпистолярных текстов. Разумеется, Пушкин всегда имел в виду (согласимся с В. Д. Сквозниковым) несоизмеримость обеих исторических фигур. Чего стоит записанная им в Дневник (21 мая 1834 г.) фраза о государе, в котором много от прапорщика и немного от Петра Великого [6. Т. 8. С. 39].
Очевидно, что выразить суть пушкинской позиции простыми и однозначными формулами (адепт абсолютной монархии в ее просвещенной форме, певец Николая I и его империи) решительно невозможно. Как уже не раз говорилось, зрелый Пушкин подобно Карамзину, видел в самодержавии наиболее естественную для России форму государственного правления, что, однако, вовсе не означает, будто он был апологетом современной ему александровской или николаевской монархии. Его привлекала государственность допетровской Руси, в судьбах которой важнейшую роль играло старинное дворянство. К потомкам древних родов Пушкин, как известно, относил самого себя и своих друзей – декабристов. Именно ситуация вольного дружественного союза царя и древней аристократии отвечала политическим идеалам поэта.
Соответственно, мятеж декабристов он рассматривал как исторически оправданное и закономерное выступление потомственных аристократов в защиту своих древних, исконных прав, несправедливо и незаконно попранных Петром I и его преемниками (потому-то и называл он Петра и Романовых вообще революционерами и уравнителями). Причем выступление против “самовластья“ в защиту прежних обычаев и традиционных порядков, полагал поэт, отвечало не только узкосословным интересам старой аристократии, но и всего народа. Ибо она, материально и политически независимая (в отличие от полностью зависимого от царской милости нового дворянства), призвана служить представительницей народа перед лицом верховной власти. А ее постепенное уничтожение, все бо́льшая утрата ею политического значения (чему всячески способствовала династия Романовых, предпочитавшая опираться на новую знать), чревато социальной катастрофой – «русским бунтом, бессмысленным и беспощадным». Да и сама униженная и подавленная аристократия, искусственно превращенная в некий аналог «третьего сословия» на Западе, представляла, по мысли поэта, грозную революционную силу. «Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе», – убеждал Пушкин великого князя Михаила. «Кто были на площади 14 декабря? – спрашивал он его. – Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много» [6. Т. 8. С. 44–45].
Таким образом, идеалы свободы органично сочетаются у Пушкина с идеями русской государственности, а сочувствие мятежу – с защитой общественной стабильности.
Сложная и парадоксальная система историко-политических взглядов Пушкина отразилась во многих заметках, статьях, журнальных текстах, по большей части неоконченных. Свое воплощение она получила и в завершенных его произведениях зрелой поры – от «Бориса Годунова» до «Капитанской дочки», буквально начиненных жгучим политическим содержанием. Но там оно, разумеется, тщательно закамуфлировано, убрано в подтекст и проступает лишь в виде аллюзий и подразумеваний, а потому нуждается в тщательном анализе и расшифровке.
Между тем, в нашей пушкинистике предъюбилейной и юбилейной поры отчетливо проявилась и другая тенденция: стремление игнорировать острейший злободневный смысл художественных созданий поэта или – в лучшем случае – говорить о нем вполголоса. Показателен в этом отношении «краткий очерк жизни и творчества» Пушкина И. З. Сурат и С. Г. Бочарова. Обратить на него особое внимание побуждает прежде всего то обстоятельство, что написан он, как указано в предисловии, на основе энциклопедической статьи (для пятого тома известного биографического словаря «Русские писатели. 1800–1917»). Тем самым очерк вольно или невольно претендует на нормативность и призван продемонстрировать читателю образец современного прочтения Пушкина. Понятно поэтому стремление авторов сосредоточиться главным образом на проблемах онтологических и духовно-нравственных. И надо сказать, что ряд предложенных ими глубоких, оригинальных анализов и проникновенных характеристик пушкинских текстов свидетельствуют как будто в пользу такого решения. И все же: вечное и общечеловеческое неотделимо у Пушкина от сиюминутного и злободневного. А потому очевидное желание приглушить актуальность и полемическую остроту его произведений неизбежно приводит к односторонности.
Скажем, характеризуя лирику послелицейской поры, авторы говорят, что в ней «звучат по преимуществу эпикурейские и вакхические мотивы, утверждается культ сиюминутных наслаждений» [7. С. 18]. А далее: «Но центральное по силе звучания место (…)принадлежит политической теме» [7. С. 19]. Значит, мотивы политические и вакхические существуют сами по себе и друг с другом не связаны? Но ведь хорошо известно, что эпикурейские стихотворения Пушкина также проникнуты духом вольнолюбия. Взять хотя бы дружеские послания 1819 г. с их тостами за свободу и откровенными разговорами «насчет небесного царя, а иногда насчет земного». Что же касается острейшего политического произведения лицейской поры «Лицинию» (1815), то оно не удостоилось даже упоминания.
Мимоходом говорится в книге и о знаменитом «Анчаре», причем авторы ограничиваются лишь очевидной констатацией: изображенное в нем «древо яда» – это символ мирового зла [7. С. 91]. Между тем, еще в 1930-е гг. акад. В. В. Виноградов указал на полемический смысл «Анчара», направленного против «Старой были» Катенина (1828). Напомним, что в этой балладе Пушкин представлен в облике сладкоголосого певца-грека, который безудержно и самозабвенно восхваляет неувядающее, вечнозеленое древо, символизирующее «милосердие царево». «И вот Пушкин катенинскому древу жизни противопоставляет древо смерти, анчар, все атрибуты и свойства которого диаметрально противоположны катенинскому “неувядающему древу”» [8. С. 425] (см. также [9. С. 143–148]).
Напротив, в поэме «Анджело» (1833) авторов интересует политическая мысль поэта: проблемы личности и общества, свободы, законности и милосердия. Однако и здесь они умалчивают о том, что основная сюжетная ситуация произведения неизбежно вызывала аналогию с нравами царского двора: развратный правитель, лицемерно провозгласивший себя блюстителем нравственности, не мог не ассоциироваться с Николаем – неутомимым соблазнителем придворных дам, хорошеньких фрейлин, обладателем (по ядовитому замечанию Пушкина) целого «гарема из театральных воспитанниц» [6. Т. 10. С. 449] и одновременно строгим хранителем и защитником семейных устоев (см. [10. С. 152; 11. С. 199–200]).
Может быть, всё это мелочи, не заслуживающие серьезного внимания? Но вспомним, сколь важны были для автора «Бориса Годунова» «уши», торчащие из-под колпака юродивого [6. Т. 10. С. 146]. Похоже, что Сурат и Бочарова «уши» не интересуют вовсе: не только в «Борисе Годунове», не только в «Анджело» или в «Анчаре», но и там, где не заметить их решительно невозможно. Мы имеем в виду характеристику Дневника 1833–1835 годов – важнейшего свидетельства политических настроений и взглядов зрелого Пушкина – как документа, фиксирующего лишь внешние события жизни поэта [7. С. 164].
Неужели? Ведь авторы сами не раз цитируют извлеченные из Дневника записи и замечания политического характера: о разговоре поэта с великим князем Михаилом, где Романовы названы революционерами и уравнителями, об истинных причинах своего «пожалования» в камер-юнкеры («…Двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове»), о безнравственности правительства, практикующего перлюстрацию семейной переписки, наконец, об императоре, больше похожем на прапорщика, чем на Петра I.
А ведь это еще далеко не всё. Чего стоят хотя бы саркастические суждения о намерении царя ввести мундиры для фрейлин, о назначении генерала Сухозанета, известного своими гомосексуальными наклонностями, начальником всех кадетских корпусов [6. Т. 8. Т. 23], об огромных суммах, пожалованных Кочубею и Нессельроде на прокормление голодающих крестьян, до которых они, разумеется, не дойдут [6. Т. 8. С. 26], или же настойчивые упоминания о скандале в семействе флигель-адъютанта Безобразова, не без оснований ревновавшего свою жену к Николаю I [6. Т. 8. С. 27, 28 и др.].
Словом, непримиримо-оппозиционный, вызывающе-издевательский характер Дневника «русского Данжо» вполне очевиден. Но говорить об этом считается ныне дурным тоном. Аналогичным образом обстоит дело и в сфере изучения биографии Пушкина, особенно – истории его последней дуэли. Интерес к ней вновь обострился в связи с публикацией писем Дантеса к Геккерну [12], причем внимание исследователей главным образом сосредоточено на вопросах нравственно-психологического свойства: каковы личные качества Дантеса, насколько искренним и серьезным было его чувство к Натали (а Натали к нему), как и почему изменились с течением времени их отношения и т. п. (см., например, [12. С. 14–15; 13; 14]). На этом фоне оказались в тени факты совсем иного рода – свидетельства несомненного сотрудничества Дантеса с властями и тайной полицией. Ни публикаторы и комментаторы писем, ни их истолкователи (за исключением, кажется, одного А. Н. Зинухова [15. С. 175]) не придали им значения. А ведь факты эти красноречивы!
Вот письмо от 14 июля 1835 г. Отметив особое расположение к нему императора и императрицы [12. С. 36], Дантес передает Геккерну следующую информацию: «Вы, должно быть, помните, что в последнем письме я сообщал о некоем генерале Донадье, приехавшем в Петербург под видом путешественника»”[32]. И далее: «Надо вам сказать, что я был выбран посредником между ним и одной значительной персоной (…), чтобы содействовать в решении разнообразных вопросов и в передаче его просьб, но этого я не могу доверить бумаге, поскольку секрет это не мой (…)» [12. С. 38]. Затем мы узнаем, что Дантес представил графу А. Ф. Орлову отчет о своей деятельности и заслужил полное одобрение. Тема эта получает продолжение в письме от 6 января 1836 г. Генерал Донадье, сообщает Дантес, «просил меня писать и рассказывать обо всем, что происходит; я же воздержался и, полагаю, правильно сделал (…)Не получая от меня писем, он недавно написал сам и посетовал на это, затем дал мне новые поручения, которые я в точности исполнил, однако мне посоветовали вежливо порвать с ним, тем паче, что переписка эта совершенно бессмысленна и может только скомпрометировать меня. Кроме того, он дал мне знать о своем намерении приехать летом, а мне поручили ему отсоветовать, причем обиняками…» [12. С. 111–112].
Как видим, Дантес откровенно признается в том, что ведет двойную игру, с готовностью выполняет «особые поручения» весьма деликатного свойства, что он действует по указанию свыше и отчитывается о своей деятельности перед весьма важными персонами. И эти сенсационные саморазоблачения проливают новый свет на смысл и суть разыгравшейся драмы, убеждают в том, что не только дуэль Пушкина с Дантесом, но и роман Дантеса с Натали имели несомненную политическую подоплеку.
В самом деле, будучи агентом спецслужб, Дантес, естественно, находился под их покровительством. Но именно поэтому он был фигурой в высшей степени зависимой, подконтрольной и абсолютно управляемой. Спрашивается, мог ли он, человек благоразумный, осторожный, более всего пекущийся о собственной карьере, мог ли он позволить себе в подобной ситуации дерзкое, наглое, настойчивое, откровенно скандальное ухаживание за женой первого поэта России, интерес к которой (а это было известно всем) проявлял сам император?[33]
Ведь достаточно было шевельнуть пальцем, чтобы его унять. И коль скоро Дантеса не одернули, не остановили, значит, это было кому-нибудь нужно. Кому и зачем – вопрос другой.
Вполне вероятно (такое предположение высказывалось не раз), что «роман» Дантеса призван был отвлечь внимание света от «особых отношений» Николая с Натали (тем более, что в памяти царя была еще свежа скандальная безобразовская история). Но вряд ли возможно исключить и другой мотив – месть строптивому поэту, который все более выходил из повиновения. (Общеизвестно, что после идиллического лета 1831 г. отношения поэта с царем стремительно ухудшались. Пушкин не скрывал возмущения «пожалованием» в «камер-пажи», демонстративно манкировал обязанностями придворного; не стесняясь в выражениях, высказывал негодование по поводу перлюстрации его личных писем. Дважды – в 1834 и 1835 гг. – он пытался выйти в отставку и уехать в деревню, вызвав гнев монарха.) Во всяком случае, ясно одно: так называемый роман Дантеса и Натали был инспирирован или по меньшей мере санкционирован свыше. Лучшим подтверждением тому служит странное бездействие властей, равно как и поведение царя, в преддуэльные дни.
Так, не получило поддержки предложение генерала Адлерберга перевести Дантеса, хотя бы на время, в другой гарнизон [17. С. 68]. Сам же император во время аудиенции, которую он дал Пушкину в Аничковом дворце (23 ноября 1836 г.), потребовал от него обещания не драться на дуэли, о чем вскоре стало известно Геккернам. Казалось бы, в качестве следующего шага следовало немедленно приструнить и Дантеса, но этого сделано не было. То есть: связав честным словом Пушкина, царь одновременно развязал руки Дантесу. Собственно, это и сделало дуэль неизбежной. С отеческими увещеваниями (а они не могли не оскорбить поэта) император счел необходимым обратиться лишь к Н. Н. Пушкиной; он посоветовал ей вести себя осторожнее и не давать повода для светских сплетен (см. [16. С. 196–197]). И тем только подлил масла в огонь!
Решившись на поединок вопреки слову, данному царю, Пушкин совершал, конечно, безумный поступок. Но его дуэль с Дантесом – больше, чем дуэль. Это поединок со светом, двором, властью, со всеми сплотившимися против него силами. Это – акт внутреннего освобождения, стремление одним махом разрубить узел обступивших его неразрешимых проблем и противоречий; избавиться от тягостной зависимости, в какую он попал, пойдя на сотрудничество с правительством и царем; показать всем, что не позволит обращаться с собой как с холопом или рабом[34]. «Это был его мятеж, – писал Я. Гордин. – 14 декабря на Черной речке» [18. С. 476].
Между тем, по мнению наиболее рьяных сторонников истолкования Пушкина в православно-самодержавном духе, осознание божественной природы царской власти является едва ли не главной задачей современной пушкинистики. Так, упоминавшаяся уже И. Ю. Юрьева убеждена: «Признание Царя помазанником Божиим и главой Православной Церкви – необходимая предпосылка дальнейшей научной [sic!] разработки темы “Пушкин и самодержавие”. Только в этом случае снимаются некоторые “вечные вопросы” пушкиноведения и всё становится на свои места…» [1. С. 328]. Не более и не менее!
Не будет, кажется, преувеличением оценить все нарастающее в рядах отечественных пушкинистов движение от «большевизации» облика Пушкина к его «уваризации» как очередную болезненную крайность нашей науки. Оно, конечно: tempora mutantur, et nos mutamur in illis (времена меняются, и мы меняемся с ними – лат.), но меняемся как-то уж слишком быстро и – главное – единонаправленно. Поневоле вспоминается щедринский вариант «перевода» этой крылатой фразы: «Капельмейстер другой темп взял, и мы по-другому восплясали» [19. С. 329–330].
А говорят – плюрализм…
2004
Литература
1. Юрьева И. Ю. Пушкин, православие и самодержавие // Пушкин через двести лет: Материалы Международной конференции юбилейного (1999) года. М.: ИМЛИ РАН, 2002.
2. Аринштейн Л. М. Пушкин. Непричесанная биография. 2-е изд., дополн. М.: Изд. дом «Муравей», 1999.
3. Томашевский Б. Пушкин. Кн. I: (1813–1824). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956.
4. Сквозников В. Державность миропонимания Пушкина // Пушкин и теоретико-литературная мысль. М: ИМЛИ РАН, 1999.
5. Листов В. С. «История Петра» в биографии и творчестве А. С. Пушкина // Пушкин А. С. История Петра. М.: Языки русской культуры, 2000.
6. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978.
7. Сурат И., Бочаров С. Пушкин. Краткий очерк жизни и творчества. М.: Языки славянской культуры, 2002.
8. Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М.: Гослитиздат, 1941.
9. Виноградов В. О стиле Пушкина // Литературное наследство. Т. 16–18. М.: Изд-во АН СССР, 1934.
10. Мейлах Б. Талисман. Книга о Пушкине. М.: Современник, 1975.
11. Гордин Я. Гибель Пушкина // Гордин Я. Три повести. Л.: Советский писатель, 1983.
12. Витале С., Старк В. Черная речка. До и после. К истории дуэли Пушкина. Письма Дантеса / Публ., предисл. и коммент. С. Витале, В. Старка, Ф. Суассо; пер. с франц. М. Писаревой. СПб.: Звезда, 2000.
13. Прожогин Н. П. Письма Дантеса. История дуэли в интерпретации итальянской исследовательницы // Московский пушкинист. IV. М.: Наследие, 1997.
14. Баевский В. Новые документы о жизни и смерти Пушкина // Вопросы литературы. Март – Апрель. 2002.
15. Зинухов А. Медовый месяц императора. М.: Коллекция «Совершенно секретно», 2002.
16. Абрамович С. Предыстория последней дуэли Пушкина. СПб.: Petropolis, 1994.
17. Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы. М.: Книга, 1987.
18. Гордин Я. Право на поединок. Л.: Советский писатель, 1989.
19. Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 16. Кн. 1. М.: Художественная литература, 1974.
Из «Онегинской энциклопедии»
Печатается по изданию: Онегинская Энциклопедия: В 2 томах / Под общей редакцией акад. РАО Н. И. Михайловой. М.: Русский путь, 1999. Т. 1; 2004. Т. 2.
Автор
АВТОР – одна из главных фигур романа. Здесь он не просто «создатель, творец чего-либо», не просто «писатель» – значения, зафиксированные в четырехтомном «Словаре языка Пушкина» (Т. 1. М., 1950–1959. С. 27), но действующее лицо, занимающее особое положение в сюжете произведения. Автор в «Онегине» «неотступно присутствует при всех сценах романа, комментирует их, дает свои пояснения, суждения, оценки. Он присутствует не только как автор, литературно существующий во всяком романе, а именно как персонаж, свидетель, отчасти даже участник событий и историограф всего происходящего. Он “материализован”, имеет биографию, личную судьбу, характер, весьма широкие взгляды» (Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С. 166–167). Поэтому его правильнее называть героем-Автором.
Парадокс в том, что герой-Автор стоит как бы на грани двух миров – реального и вымышленного, служит соединительным звеном между ними. И этим обстоятельством во многом обусловлена необычность повествования в романе. С одной стороны, он выступает в роли близкого друга, доброго знакомого центральных персонажей. Тем самым он принадлежит романному миру. В то же время он коротко знаком и с читателями – «друзьями Людмилы и Руслана». И это связывает его с миром внероманным, действительным. В результате он сам, персонажи произведения и читатели сближаются, оказываются объединенными в общий приятельский круг, что позволяет автору вести рассказ в свободной, непринужденной манере – как бы в расчете «на своих». Так возникает в «Онегине» тон дружеской беседы, а порой и легкомысленной болтовни, имитирующей устную речь, интонацию доверительного разговора, где все понятно с полуслова, с полунамека, а многое позволено и вовсе оставить без объяснения. Именно такая поэтика – «поэтика подразумеваний» – может быть названа определяющей чертой романа в стихах.
К тому же сквозь образ героя-Автора явно просвечивает реальная личность – самого Александра Пушкина. Причем его прототипичность не только не скрывается, но всячески подчеркивается. В тексте то и дело возникают важнейшие вехи пушкинской биографии: отроческие годы «в садах Лицея», высылка из Петербурга («но вреден север для меня»), желание «увидеть чуждые страны», жизнь в Одессе, деревенское уединение и беседы со старой няней. Все это призвано создать иллюзию реальности происходящего, удостоверить житейскую подлинность свершающихся событий, а границу между миром романным и миром действительным сделать неявной, прозрачной, проницаемой. Словом, в «Онегине» «мир, в котором пишут роман и читают его, смешался с “миром” романа; исчезла рама, граница миров, изображение жизни смешалось с жизнью» (Бочаров С. Г. «Форма плана» (Некоторые вопросы поэтики Пушкина) // Вопр. лит. 1967. № 12. С. 118).
Именно поэтому в ходе своего повествования герой-Автор то и дело обращается к читателям, а о центральных персонажах романа говорит как о реальных и близких ему людях, откровенно сопереживает и сочувствует им. Именно поэтому он стремится «документально» подтвердить подлинность их существования, уверяя читателя, что у него хранится письмо Татьяны к Онегину, его французский прозаический оригинал, который он перевел стихами на русский, предсмертные стихи Ленского, письмо Онегина к Татьяне.
Для большей убедительности он время от времени уподобляет литературных героев реальным историческим лицам или даже рассказывает об их «встречах» с ними. Вспомним, например, что Онегин (в главе первой) назван «вторым Чадаевым», что он обедает с Кавериным, что Татьяна (в главе восьмой) беседует с Вяземским и привлекает к себе внимание поэта И. И. Дмитриева («Об ней, поправя свой парик, / Осведомляется старик» – 7, XLIX, 13, 14), а Ленский сопоставляется с поэтами Языковым и Дельвигом (4, XXXI, 1, 9; 6, XX, 14)[35]. Для читателей-современников впечатление достоверности еще усиливалось за счет поглавного издания романа, как бы следующего по пятам героев.
Образ героя-Автора раскрывается преимущественно в форме раздумий, признаний, воспоминаний, душевных излияний, суждений об окружающем мире и действующих лицах романа, иначе говоря – в форме разнообразных «лирических отступлений» от основного действия, а также в самой манере и способе повествования.
Ведь герой-Автор – это не индивидуально-конкретный характер, но, скорее, воплощение определенного миропонимания, особого типа отношения к жизни, к которому лишь постепенно, исподволь, приближаются главные персонажи романа и который сохраняет поэтому значение этической нормы, духовно-нравственного идеала. В самом деле: драматизм судеб Онегина, Ленского, Татьяны во многом обусловлен внешними обстоятельствами, несовершенством общества, в котором они живут, общества, обрисованного в романе весьма критически. А в то же время их печальная участь – в немалой степени результат собственных заблуждений и ошибок, узости и односторонности взгляда на мир, ограниченности жизненной позиции. Беда в том, что они (как показано в романе) не умеют видеть жизнь и людей такими, каковы они на самом деле, в том, что они смотрят на мир сквозь призму привычных представлений, литературных образцов, заранее заданных стереотипов и норм. Недаром с такой настойчивостью соотносят они самих себя и окружающих с известными литературными персонажами, пытаются строить свою личность, формировать свою судьбу наподобие любимых героев. Столкновение с реальной сложностью, непредсказуемостью и противоречивостью жизни для них, воспитанных на «обманах» литературы, оказывается болезненным и трагичным.
В противовес им герой-Автор, возвышающийся даже над лучшими своими героями, утверждает иной взгляд на жизнь – широкий, антидогматический, трезво-критический и возвышенно-идеальный в одно и то же время, – свободный взгляд, которому доступно необозримое богатство мира, его сложность, противоречивость, стремительная изменчивость.
Едва ли не главное свойство героя-Автора – открытость «всем впечатленьям бытия», острый, живой интерес к самым разным его сферам. Красота природы и житейская проза, неприметное существование провинциальных помещиков и блеск большого света, «преданья простонародной старины» и духовные искания современной молодежи – все находит отклик в его душе. Поэтому столь прихотливо-разнообразны авторские отступления, где острая, веселая шутка соседствует с мрачным раздумьем, язвительная ирония – с нежным, интимным признанием, воспоминания «о протекшей юности» – cо светлой мыслью о будущем. В них раскрывается душевное самочувствие человека, бесконечно влюбленного в жизнь, упоенного счастьем ее лучших минут – кратких, но постоянно возникающих вновь «чудных мгновений», счастьем красоты, любви, творчества, созерцания природы.
Вот несколько характерных примеров, взятых наудачу из одной только первой главы: «Я помню море пред грозою: / Как я завидовал волнам, / Бегущим бурной чередою / С любовью лечь к ее ногам!» (1. XXXIII, 1–4); «Цветы, любовь, деревня, праздность, / Поля! я предан вам душой» (1, LVI, 1–2); «Свободен, вновь ищу союза / Волшебных звуков, чувств и дум…» (1, LIX, 3–4).
Показательны в этом отношении и строфы, которыми завершается роман (не восьмая глава, но роман в целом), строфы, рассказывающие о жизни героя-Автора в Одессе. Пронизанные жаждой наслаждения и радости, они заключают пушкинское творение мощным мажорным аккордом, который представляет разительный контраст драматической развязке основного сюжета. Такого рода «стереоскопичность» – восприятие и изображе ние человека, предмета, явления с разных точек зрения – характерная черта героя-Автора. Так, в первой главе Онегин обрисован как пустой светский повеса, модный франт, но и как вольнодумец, причастный духовным исканиям лучших людей своего круга. Читателю-собеседнику предлагаются как будто два разных взгляда на героя, ни один из которых сам по себе не является истинным: верным оказывается и то и другое одновременно. Точно так же «неподражательная странность» Онегина, его непритворное разочарование в жизни могут быть истолкованы – и не без основания – как следование модным образцам («москвич в Гарольдовом плаще»), героям современных романов.
Вообще, характеристика любого предмета или явления в рассказе героя-Автора как бы колеблется, двоится, выявляет в нем разные стороны и грани. Скажем, театр, куда приезжает Онегин, эго и отдельно взятый конкретный театр, место представления балета Дидло – с усталыми лакеями, бранящимися у подъезда кучерами, франтами, лорнирующими незнакомых дам, и Театр вообще – феномен русской культуры, овеянный славой крупнейших драматургов и актеров, «волшебный край», где все «дышит вольностью».
Сходным образом «господский дом уединенный» – место обитания Онегина в деревне – это как будто обычный барский дом, сохранивший точные приметы усадебного быта («пол дубовый», «два шкафа, стол, диван пуховый», «в гостиной штофные обои», «печи в пестрых изразцах», «кувшины с яблочной водой»). А в то же время все эти детали призваны подчеркнуть, что внутреннее убранство дома выдержано «во вкусе умной старины», что это не просто барский дом, но «почтенный замок» – символ былой мощи и политической значимости старинного русского дворянства, к которому принадлежит Онегин (см.: Тойбин И. М. «Евгений Онегин»: Поэзия и история // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 9. Л.: Наука, 1979. С. 95–96).
Характерной чертой авторского повествования является, таким образом, столкновение разных точек зрения на действительность, ироническая демонстрация условности, относительности каждой из них в отдельности (Ю. М. Лотман назвал это «поэтикой противоречий»).
Важнейшим свойством героя-Автора может быть названо обостренное ощущение жизни как процесса, напряженное переживание ее динамики, стремительной изменчивости мира и человека, особой ценности и неповторимости каждого мгновения бытия. Регулярная смена времен года, череда сменяющих друг друга поколений, заново проходящих предначертанный круг жизни, неизбежные фазы человеческого существования, диалектика жизни и смерти, молодости и старости, старины и новизны, круговращение исторических эпох и связанные с ним изменения моды, привычек, вкусов, культурных ориентаций и литературных пристрастий, воспоминания о прошлом и мысли о будущем – все это постоянный предмет лирических раздумий героя-Автора. Потому-то при описании того или иного события, предмета, явления акцент ставится обычно на его изменчивости, переходности.
В самых известных, хрестоматийных «онегинских» пейзажах живет острое ощущение неостановимого бега времени: «Уж небо осенью дышало, / Уж реже солнышко блистало, / Короче становился день…» (4, XL, 5–7); «Но лето быстрое летит, / Настала осень золотая» (7, XXIX, 8, 9); «Дни мчались; в воздухе нагретом / Уж разрешалася зима…» (8, XXXIX, 1–2). Подобное же сопоставление времен, продиктованное сознанием непрерывности и неизбежности свершающихся перемен, обнаруживается при обращении героя-Автора к любой сфере бытия – внутреннему миру, быту, искусству: «Мне памятно другое время!» (1, XXXIV, 1); «Мазурка раздалась. Бывало, / Когда гремел мазурки гром, / В огромной зале всё дрожало (…)/ Теперь не то: и мы, как дамы, / Скользим но лаковым доскам» (5, XLII, 1–3, 6–7). Даже неизбежный уход из жизни переживается героем-Автором просветленно и мудро, как действие вечного закона обновления всего сущего и в этом смысле – как своего рода благо: «Придет, придет и наше время, / И наши внуки в добрый час / Из мира вытеснят и нас!» (2, XXXVIII, 12–14; курсив наш. – А. Г.).
В эту грандиозную панораму подвижного, стремительного, меняющегося мира вписаны и судьбы героев романа, тоже поражающие неожиданностью поворотов и резкостью перемен, как будто не обусловленных прямо ни сутью характеров персонажей, ни взаимоотношениями между ними, ни обстоятельствами их жизни, ни их общественным положением. Достаточно вспомнить ничем, кажется, не мотивированное душевное охлаждение Онегина в самом начале романа и столь же внезапный его отъезд в деревню, или же ни с того ни с сего вспыхнувшую ссору Ленского и Онегина, или же стремительность превращения Татьяны из уездной барышни в великосветскую даму, страстную любовь к ней, вдруг всколыхнувшую душу холодного и, казалось бы, безнадежно разочарованного Онегина. Весь ход событий во второй, «последуэльной» части романа параллельно-контрастен развитию действия в части первой. Схематически это выглядит так. Часть первая: встреча героев в деревне; мгновенно вспыхнувшая любовь Татьяны к Онегину и ее письмо к нему; ее переживания; их свидание и холодная отповедь героя. Часть вторая: встреча героев в Петербурге; мгновенная страсть Онегина и его письмо к Татьяне; его страдания; их свидание и отповедь героини (см.: Гуковский Г. А. Указ. соч. С. 269–271; Благой Д. Д. Мастерство Пушкина. М., 1955. С. 195–198).
Перед нами яркий пример круговращения судеб!
Ту же роль играет и открытый финал произведения, позволяющий ощутить возможность непредвиденных поворотов в судьбе героя – уже за пределами романного текста! Ибо «Онегин» завершается рассказом о жизни Автора в Одессе, который обрывается столь же внезапно, как и рассказ о судьбе героя в главе восьмой. Оба финала тем самым перекликаются, взаимодействуют друг с другом. «Истинный финал романа не отменяет горестно-щемящего финала восьмой главы, но взаимодействует с ним, создает сложное, трагически-просветленное (амбивалентное) звучание» (Чумаков Ю. Н. «Евгений Онегин» и русский стихотворный роман. Новосибирск, 1983. С. 12). Если же иметь в виду, что «день Автора» в «Отрывках из Путешествия Онегина» построен по тому же плану, что «день Онегина» в первой главе: прогулка, ресторан, театр и т. д. (Чумаков Ю. Н. «Евгений Онегин» и русский стихотворный роман. Новосибирск, 1983. С. 28–33), то напрашивается вывод, что такого рода двойной финал вновь возвращает читателя к прошлому героя-Автора и Онегина «с тем, чтобы выявить новый, до поры скрытый, нереализованный вариант судьбы героя, обнажить непредвиденные возможности жизни, иных, чем в восьмой главе, решений» (Тойбин И. М. Указ. соч. С. 98).
Иными словами: даже в момент, когда кажется, что все кончено, герой на краю пропасти, а надежды нет и быть не может, Автор считает необходимым скорректировать наши впечатления, показать, что это не совсем так, что жизнь в своей глубинной сути непредсказуема и таит непредвиденные возможности, что она чревата внезапными поворотами событий и судеб. Доверие творящей силе жизни – важнейшая черта мироощущения героя-Автора.
Но если это так, если судьба героя-Автора – это возможный вариант судьбы Онегина, значит «разность» между ними все же относительна, куда важнее их духовная близость. Тем более, что о происходящих событиях рассказывает изменившийся Автор, который теперь, в момент рассказывания, уже не совсем таков, каким он был прежде – в пору развития действия (см.: Непомнящий B. C. Поэзия и судьба. 2-е изд. М., 1987. С. 318). И напротив: «событийное» время персонажей выступает в «Онегине» как прошлое Автора, как уже пройденный, но все еще дорогой и памятный этап его жизни. Поэтому персонажи раскрываются не только сюжетно – в цепи их поступков, мыслей и чувств, но и лирически – как воплощение прошлого душевного опыта автора, как предмет его раздумий и глубоко личных переживаний.
Действительно, если Онегин – это как бы прошлое героя-Автора (о чем свидетельствуют не только многочисленные автобиографические штрихи в его обрисовке, не только сам факт их дружбы, их былая близость, взаимопонимание, сходство настроений и взглядов, но и многие признания Автора, из которых явствует, что он тоже прошел в своей духовной эволюции этап скепсиса, разочарованности, охлаждения), то ведь и Ленский, в свою очередь, чем-то напоминает Онегина (и тем самым самого Автора), каким тот был в дни своей юности. Показательны некоторые словесные формулы, характеризующие прошлое Онегина: «Воспомня прежнюю любовь, / Чувствительны, беспечны вновь…» (1, XLVII, 7–8); «Быть может, чувствий пыл старинный / Им на минуту овладел…» (4, XI, 9–10); «Нашед мой прежний идеал…» (4, XIII, 10). Очевидно, «прежний идеал» Онегина – это идеал сентиментально-романтический, свойственный юности, когда еще не поколеблена вера в прекрасное, когда она еще не охлаждена горьким жизненным опытом. Тем самым Ленский, Онегин, герой-Автор являют некоторое единство. Они представляют закономерные этапы духовно-нравственной эволюции человека: от наивной восторженности и романтической мечтательности в духе Ленского – к душевному охлаждению, сомнению и разочарованию в духе Онегина и, наконец, органическому синтезу обоих начал, который удалось осуществить герою-автору. В сущности, «линия судьбы» и есть главная тема пушкинского романа в стихах.
Литература
Винокур Г. О. Слово и стих в «Евгении Онегине» // Винокур Г. О. Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. М., 1990.
Семенко И. М. О роли образа «автора» в «Евгении Онегине» // Труды Ленинградского библ. ин-та им. Н. К. Крупской. Т. 2. 1957. С. 127–146.
Лотман Ю. М. Своеобразие художественного построения «Евгения Онегина» // Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.
Степанов Л. А. Автор и читатель в романе «Евгений Онегин» // Пушкинские чтения на Верхневолжье. Сб. 2. Калинин, 1974. С. 43–59.
Грехнев В. А. Диалог с читателем в романе Пушкина «Евгений Онегин» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 9. Л.: Наука (Ленинградское отделение), 1979. С. 100–109.
Билинкис Я. С. Автор в «Евгении Онегине» // Билинкис Я. С. Русская классика и изучение литературы в школе. М., 1986.
Баевский В. С. Сквозь магический кристалл. М., 1990.
Гуревич А. М. Романтизм Пушкина. М., 1993. С. 106–122.
Владимир Ленский
ВЛАДИМИР ЛЕНСКИЙ – один из главных героев романа, сосед Онегина по имению.
Красивый и богатый 18-летний юноша, он представлен, как и Онегин, чужаком среди окрестных помещиков – крепостников и невежд. Блестяще образованный (он учился в Германии), знаток немецкой философии и литературы, восторженный мечтатель-энтузиаст и поэт-романтик, далекий от практической жизни и повседневной прозы, он тоже старается избегать общества «господ соседственных имений», предпочитающих «разговор благоразумный о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне», и хочет покороче сойтись с Онегиным. При всей «взаимной разноте» они становятся вскоре неразлучными друзьями. Общность духовных интересов и вольнолюбивых настроений – вот что сближает Онегина и Ленского. Важная деталь: Ленский учился в Геттингенском университете – одном из самых либеральных в Европе, где получили образование многие русские вольнодумцы, в их числе – братья Тургеневы, лучшие лицейские профессора Куницын и Галич, близкий приятель Пушкина П. П. Каверин (это с ним встречается Онегин в ресторане Талона – в первой главе) и др. Тем самым Ленский тоже оказывается включенным в тесный круг единомышленников Онегина и самого автора. Недаром привез он из «Германии туманной» (т. е. романтической – а романтизм для Пушкина синоним свободы; в первоначальном варианте было сказано прямее: «Из Германии свободной») не только «учености плоды», но и «вольнолюбивые мечты» (см.: ГЕРМАНИЯ ТУМАННАЯ).
Для понимания духовного мира юного поэта, его возвышенно-романтических умонастроений весьма важны имена кумиров, которым он поклонялся, – Канта, Шиллера, Гете. Критическая философия Канта – глубокое исследование границ и возможностей человеческой мысли – была в пушкинской России синонимом опасного вольнодумства и безбожия, а ее изучение и преподавание – свидетельством политической неблагонадежности. Упоминавшийся уже профессор Галич, знакомивший своих слушателей с основами кантовской философии, был отстранен за это от преподавания в Петербургском университете.
Еще более «знаковым» было имя Шиллера, ставшее символом благородных гражданских устремлений и пламенного вольнолюбия, душевной чистоты и бескорыстной жажды добра. Наконец, Гете в глазах русских читателей был крупнейшим поэтом-романтиком, выразившим в своем творчестве безграничность и бескорыстность стремлений человеческого духа. Вот каковы были кумиры и учителя Ленского, которым он стремился подражать! Именно под воздействием идей и образов великих немецких поэтов и сформировались у Ленского представления об идеальной дружбе (такого друга он видел в Онегине), идеальной любви и «родной душе», какой представлялась ему Ольга, о собственном избранничестве – причастности тем немногим высшим натурам, которые призваны одарить мир блаженством.
Словом, Ленский предстает в романе как «поклонник славы и свободы», которого отличают «дух пылкий и довольно странный», «всегда восторженная речь» и «черные до плеч» кудри (шиллеровская прическа!). Ему свойственны «негодованье, сожаленье, ко благу чистая любовь», благородное волненье «бурных дум». Все это иносказательное и беглое обозначение настроений, о которых в черновой редакции говорилось более откровенно: «Крикун, мятежник и поэт». Неслучайно одним из вероятных прототипов Ленского принято считать поэта-декабриста В. К. Кюхельбекера.
Эти возвышенные чувства, благородные стремления, чистые, «девственные» мечты, наивная и трогательная любовь к Ольге и стали главными предметами его собственного творчества. Правда, о стихах Ленского в романе говорится порой достаточно иронично, как о произведениях незрелых, несамостоятельных, изобилующих ходовыми оборотами и поэтическими клише:
Или:
Так он писал темно и вяло (Что романтизмом мы зовем, Хоть романтизма тут ни мало Не вижу я; да что нам в том?)… (6, XXIII, 1–4) Он пел разлуку и печаль, И нечто, и туманну даль, И романтические розы… (2, X, 7–9)Недаром некоторые слова в пушкинском тексте выделены курсивом: это как бы цитаты, общие места сентиментально-романтической поэзии тех лет.
Однако подобные поэтические штампы встречались и в ранних стихотворениях самого Пушкина: ведь это были первые опыты начинающего поэта. Поэтому в романе мы найдем и сочувственные оценки стихов Ленского, полных искреннего чувства:
Его перо любовью дышет, Не хладно блещет остротой; (…) П полны истины живой, Текут элегии рекой. (4, XXXI, 3–4; 7–8)Примечателен интерес Ленского к гражданской поэзии – жанру оды, о чем, правда, в романе тоже говорится с нескрываемой иронией:
Владимир и писал бы оды, Да Ольга не читала их. (4, XXXIV, 3–4)Тем не менее незаурядность личности Ленского, серьезность его гражданских устремлений сомнению не подлежат. Онегин и Ленский – личности сомасштабные, остро чувствующие свое высокое предназначение. И в то же время – во многом разные, прямо противоположные по своим характерам, убеждениям, жизненному опыту:
Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень Не столь различны меж собой. (2, XIII, 5–7)Противоположность героев – это контраст юности и зрелости, наивности и трезвости, восторженной веры и мрачного сомнения, горячего чувства и холодного рассудка. Но за этими индивидуально-личностными и возрастными различиями стоят и различия мировоззренческие. Само сопоставление восторженного романтика-энтузиаста и разочарованного скептика было в ту пору общественно значимым и политически актуальным. Вот почему такой интерес представляют постоянные, едва ли не ежедневные беседы и споры Онегина и Ленского, совместные их раздумья.
Верный своему принципу рассказывать о главном вкратце и вскользь, Пушкин и здесь лишь в самых общих чертах, суммарно, бегло и конспективно говорит о содержании долгих бесед новых друзей:
Меж ими всё рождало споры И к размышлению влекло: Племен минувших договоры, Плоды наук, добро и зло И предрассудки вековые, И гроба тайны роковые, Судьба и жизнь в свою чреду, Всё подвергалось их суду. (2, XVI, 1–8)И все же не может не поразить широта и серьезность обсуждаемых ими вопросов, созвучных интересам и духовным исканиям современников: судьбы цивилизации и пути развития общества, роль науки и культуры в совершенствовании человечества, добро и зло, искусство, религия и мораль, значение страстей в жизни личности. Даже в этом беглом тематическом перечне читатели-современники без труда угадывали волнующие героев идеи, произведения, имена, ощущали внутреннюю напряженность и остроту их дискуссий.
Им было ясно, например, что в беседах друзей затрагивались идеи французских философов-просветителей, видевших главное препятствие на пути общественного прогресса в человеческих заблуждениях и ложных идеях («предрассудки вековые»). Формула «племен минувших договоры» (см.: ДОГОВОРЫ) отсылала к знаменитому сочинению Ж.-Ж. Руссо «Об общественном договоре» (1762) – трактату о взаимоотношениях верховной власти и народа, утверждавшему идею народовластия, право народа на восстание, если власть нарушает принятые ею обязательства. А словосочетание «плоды наук, добро и зло» подразумевало другой трактат Руссо – «Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?» (1750), где на поставленный в заглавии вопрос дан отрицательный ответ. Более того, жизни в современном цивилизованном обществе, лживом и безнравственном, противопоставлялись в сочинениях Руссо патриархальные отношения и естественная жизнь на лоне природы. Эти идеи французского философа оказали сильнейшее воздействие на общественную мысль, на искусство, в особенности романтическое, в частности, на те «северные» – романтические поэмы, отрывки из которых читал Онегину Ленский:
Поэт в жару своих суждений Читал, забывшись, между тем Отрывки северных поэм… (2, XVI, 9–11)Особое место в беседах друзей занимали страсти:
Но чаще занимали страсти Умы пустынников моих. (2, XVII, 1–2)Это была большая и сложная тема. За ней стояли многочисленные теории мыслителей XVIII и начала XIX в., толковавших о страстях в их отношении к разуму, о страстях добродетельных и порочных, высших и низших, о борьбе страстей в душе человека и т. п. Тема страстей живо волновала и писателей-романтиков, в их числе Байрона и самого Пушкина, его предшественников и современников – Карамзина, Жуковского, Баратынского. Слово «страсти» вошло в заглавие хорошо известной в России книги французской писательницы Жермены де Сталь «О влиянии страстей на счастье людей и народов» (1796), писательницы, чье творчество высоко ценил и хорошо знал Пушкин. Именно эта книга и должна была привлечь особое внимание Онегина, ощущавшего себя – в отличие от Ленского, еще не испытавшего их губительного воздействия, – жертвой страстей, надеявшегося обрести в деревенской глуши «вольность и покой».
Можно сказать, что в романе акцентируются не теоретические расхождения героев, но нравственно-психологическая суть и жизненно-практические различия их позиций. Враг иллюзий, Онегин стремится понять, испытать жизнь, узнать, какова она на самом деле. Оборотная сторона его холодного скептицизма – неизбывная скука, хандра, равнодушие к окружающим и бездеятельность. Напротив, романтическая устремленность к идеалу заставляет Ленского пренебрегать реальностью, рождает желание отвернуться от нее, закрыть глаза на ее противоречия. «Возлети в державу идеала, / Сбросив жизни душной гнет!» – мог бы повторить он завет своего кумира Шиллера. Иными словами, непрактичность и житейская наивность Ленского – особенность не только возрастная, но и мировоззренческая! Плохо ориентируясь в повседневности, Ленский и не хочет ее знать. Зато он свято верит в таинство жизни, в конечное торжество добра. Вызвав Онегина на дуэль (справедливо или нет – вопрос другой), он доказал это на деле. Сама гибель Ленского в этом шиллеровском освещении обретает особый смысл. Она не просто следствие его юношеской наивности, но своего рода «программный» шаг благородного героя-избранника, призванного не только спасти честь и добродетель своей невесты, но и вступить в бой с царящим в мире злом. Это – участь человека, сознающего себя, наподобие маркиза Позы, «гражданином грядущих поколений», чужим в несовершенном мире. В сопоставлении с Шиллером раскрывается идеологический подтекст смерти Ленского, подлинный ее трагизм – тот факт, что гибель юного поэта сродни самоубийству. Показательно, что позднее облик и судьба Ленского нередко ассоциировались с обликом и судьбой другого «юноши-поэта» – Д. В. Веневитинова. «Вторым Ленским» назвал Веневитинова А. И. Герцен. И это рыцарско-героическое начало, столь сильно и ярко проявившееся в характере и поведении Ленского, не ведающего разрыва между словом и делом, не могло не поразить Онегина, не подтолкнуть его к пересмотру, переосмыслению своей жизненной программы.
И все же неоспоримо: прекраснодушные мечтания и порывы Ленского не выдерживают малейшего соприкосновения с реальностью. Гибель от руки ближайшего друга и скорое замужество Ольги («родной души») свидетельствуют об этом с беспощадной ясностью. С другой стороны, нравственная катастрофа – невозможность найти применение своим силам – ожидала и Онегина. Позиции героев-антиподов оказываются, таким образом, сами по себе ущербными, но в то же время взаимодополняющими и в этом смысле духовно ценными (см.: Лотман. С. 181–182). Отсюда – двойственность авторской оценки Ленского, иронической и сочувственной одновременно. Отсюда же – и двойственность прогноза о его возможном будущем: опасность «обыкновенного» удела – превращения в заурядного помещика – или же вероятность стать известным поэтом и даже выдающимся общественным деятелем, рожденным «для блага мира» (6, XXXVII). Уже одно это допущение показывает истинный масштаб личности Ленского, важность его места в системе персонажей романа.
Романтическую мечтательность Ленского сурово осудил борец за реализм Белинский, увидевший в фигуре юного поэта характер, «совершенно чуждый действительности». Критик был убежден, что Ленский умер как раз вовремя. Останься он жив, его бы непременно ждал обыкновенный удел – превращение в бездуховного обывателя. (Белинский. Т. 7. С. 479). Напротив, Герцен увидел в Ленском «другую жертву русской жизни, viсe versa [другую сторону (лат.)]. Это – острое страдание рядом с хроническим. Это одна из тех целомудренных, чистых натур, которые не могут акклиматизироваться в развращенной и безумной среде…» (Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 7. М., 1956. С. 205). Особенно проницательно замечание Герцена о духовном родстве Ленского с Онегиным и самим автором: «Пушкин обрисовал характер Ленского с той нежностью, которую испытывает человек к грезам своей юности, к воспоминаниям о временах, когда он был так полон надежды, чистоты, неведения. Ленский – последний крик совести Онегина, ибо это он сам, это его юношеский идеал» (Там же. С. 205–206).
Как натура возвышенно-идеальная и трагическая, наделенная даром глубокой и чистой любви, предстает Ленский и в опере Чайковского, оказавшей сильнейшее воздействие на восприятие этого литературного героя последующими поколениями читателей.
Между тем в пушкинском тексте «романтический» и «прозаический» варианты дальнейшей судьбы Ленского «взаимно уравновешены», и ни один из них не может быть сочтен «более возможным» или «более реальным» (см.: Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. М., 1974. С. 96). Диалектика возможного и сущего – одна из главнейших особенностей художественного мира «Евгения Онегина», где «возможности обладают особого рода реальностью» (Там же. С. 93), а характер человека «раскрывается только в совокупности реализованных и нереализованных возможностей» (Лотман. С. 308). Эта черта пушкинского романа сближает его с эстетикой и поэтикой романтизма.
Литература
Савченко С. В. Элегия Ленского и французская элегия // Пушкин в мировой литературе. Л., 1926.
Соловей Н. Я. Элегия Ленского («Евгений Онегин» А. С. Пушкина) // Анализ художественного текста: Сборник статей. Вып. 3. М., 1979.
Гурвич И. А. Первый вариант судьбы Ленского в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» // Вопросы теории и истории литературы. Самарканд, 1980.
Телетова Н. К. «Душой филистер геттингенский» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. ХIV. Л.: Наука, 1991.
Мурьянов М. Ф. Портрет Ленского // Вопросы литературы. № 11–12. 1997.
Евгений Онегин
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – имя главного героя и название самого романа Пушкина. Это – блестящий столичный аристократ, последний отпрыск знатного дворянского рода и потому «наследник всех своих родных» (один из них – престарелый дядюшка, в чью деревню отправляется Евгений в самом начале романа). Он ведет жизнь праздную, беспечную, независимую, полную изысканных наслаждений и разнообразных «очарований», среди которых едва ли не первое место занимают любовные, ибо Онегин – «гений» в искусстве любви. «Забав и роскоши дитя», он довольствуется лишь домашним образованием и не обременяет себя службой (в реальной жизни это было практически невозможно). Но Онегин не просто «молодой повеса», он – петербургский денди, что создает вокруг него ореол исключительности и загадочности. Как культурно-психологический феномен дендизм «отличается прежде всего эстетизмом жизненного стиля, культом утонченности, красоты, изысканного вкуса во всем – от одежды, от “красы ногтей” до блеска ума». Он предполагает также культ собственной индивидуальности – «соединение неповторимой оригинальности, бесстрастного равнодушия, тщеславия, возведенного в принцип, – и не менее принципиальной независимости во всем» (Тархов. С. 210).
Несомненная внутренняя оппозиционность такого типа поведения («не домогаться ничего, беречь свою независимость, не искать места – все это, при деспотическом режиме, называется быть в оппозиции», – разъяснял как раз в связи с образом Онегина А. И. Герцен. – О развитии революционных идей в России // Собрание сочинений: В 9 т. Т. 3. М., 1950. С. 459) нередко принимала политическую окраску, приводила к вольномыслию, увлечению освободительными идеями. Примером может служить общество «золотой молодежи» «Зеленая лампа» (его членом был Пушкин), находившееся в сфере внимания декабристского «Союза благоденствия». Его участников объединяли шумные дружеские пирушки, романы с актрисами, азартная карточная игра, а вместе с тем – разнообразные духовные интересы: к поэзии, театру, общественной мысли. Не случайно описание времяпрепровождения петербургского щеголя в стихотворном сборнике «ламписта» Я. Н. Толстого «Мое праздное время» (1821) стало одним из импульсов изображения дня Онегина в главе первой. Вообще, на первой главе романа «лежит отчетливый свет “Зеленой лампы”» (Тархов. С. 211).
Таким образом, равнодушие к чинам и служебной карьере, культ праздности, изящного наслаждения и личной независимости, наконец, политическое вольнодумство образуют внутренне единый комплекс, характерный для поколения 1820-х гг. и запечатленный в образе Евгения Онегина.
Разумеется, о вольномыслии героя, о его причастности околодекабристскому кругу говорить можно было лишь намеками, но намеки эти многозначительны и красноречивы. Критическое отношение Онегина к высшему свету и соседям-помещикам, добровольное деревенское отшельничество (своего рода внутренняя эмиграция), облегчение участи крепостных (вполне «декабристский» по духу жест), толки о древнеримском сатирике Ювенале, бесстрашном обличителе общественных пороков, чтение Адама Смита, бывшего в чести у декабристов, долгие беседы и споры с Ленским на самые острые и животрепещущие темы, прямое сопоставление Онегина с вольнодумцем, философом-денди Чаадаевым, упоминание о знакомстве героя с гусаром-свободолюбцем Кавериным, человеком разнообразных духовных интересов, рассказ о его дружбе с героем-Автором, опальным поэтом, и готовность Евгения сопутствовать ему в побеге за границу – всё это свидетельствует об истинном масштабе личности Онегина, о его принадлежности к героям времени, остро ощущавшим свою общественную невостребованность, мучительно решавшим проблему выбора жизненного пути.
Беглость и случайность такого рода намеков – одна из главных особенностей повествования в романе. Ее художественный эффект – в том, что повседневно-бытовой облик и поведение героя раскрываются здесь пространно и подробно, а о его внутреннем мире, его чувствах, переживаниях, взглядах говорится как бы мимоходом и вскользь. Эффект этот возможен потому, что живая, непринужденная, порой шутливая и легкомысленная беседа Автора с читателем, имитирующая дружескую болтовню, предполагает, что и автор, и герой, и читатель – это люди одного круга, «свои», понимающие друг друга с полуслова. Их близость особенно откровенно подчеркнута в главе первой. «Добрый приятель» Автора, Онегин «родился на брегах Невы, / Где может быть родились вы, / Или блистали, мой читатель; / Там некогда гулял и я…» (1, II, 10–13). Или же: «Мы все учились понемногу / Чему-нибудь и как-нибудь…» (1, V, 1–2).
Нарочитое смещение акцентов, несовпадение предмета и характера изображения имеют в романе глубокий художественный смысл, выражающий сокровенную суть пушкинской позиции. Ибо определяющей чертой своего поколения и его судьбы, истоком его исторической драмы поэт считал роковое противоречие между скрытыми возможностями, огромными потенциями личности и ее общественной невостребованностью. Ему казалось ненормальным и трагичным такое положение вещей, когда личности необыкновенные, исключительные, яркие, призванные по своим дарованиям и своему социальному положению к активной исторически значимой деятельности, вынуждены вести жизнь людей обычных и заурядных – помещиков, чиновников, офицеров. «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, / А здесь он – офицер гусарской» (Т. 2. С. 134), – писал Пушкин о Чаадаеве в конце 1810-х гг. И соответственно: обличье чиновника, офицера, помещика, светского денди может скрывать и нередко скрывает людей незаурядных, выдающихся, таланты замечательные, обладающие задатками крупных общественных деятелей. В сюжете «Онегина» это противоречие выступает как несовпадение, разрыв между повседневно-бытовым обликом героя и его глубинной сутью. Именно здесь – «нерв» пушкинского романа в стихах!
Той же цели – выявлению глубинной сути персонажа – служат явные и скрытые сопоставления Онегина с героями европейской и русской литературы: Фаустом, Чайльд Гарольдом, Адольфом (из одноименного романа Б. Констана), Мельмотом Скитальцем (Ч.-Р. Мэтьюрина), грибоедовским Чацким, с действующими лицами романтических пушкинских поэм – Алеко и Кавказским пленником. Эти многочисленные аналогии помогают уяснить истинный облик героя, понять скрытые мотивы его поступков, его переживания и взгляды, они как бы договаривают то, что недоговорено автором. Такой способ изображения позволяет Пушкину отказаться от занимательности действия, внешней интриги и сделать главной пружиной развития сюжета драматические противоречия в характере персонажа.
Уже в главе первой, относительно самостоятельной и служащей предысторией героя, Онегин, вчера еще беспечный повеса и франт, переживает острейший духовный кризис, причины и последствия которого сложны и многообразны. Это и пресыщенность «вседневными наслаждениями», «блистательными победами», это и охлаждение чувств, мучительные воспоминания и угрызения совести, это и усиление оппозиционности, предчувствие конфликта с властью и отчуждение от общества (ожидание грядущей «злобы слепой фортуны и людей», готовность к эмиграции). Наконец, мрачность и озлобленность Евгения, овладевшая им хандра, его равнодушие к жизни и презрение к людям, сходство с байроновским Чайльд-Гарольдом указывают, что душа Евгения во власти демонизма – беспощадно трезвого и острокритического отношения к жизни, приправленного ядом сомнения в безусловности высших духовно-нравственных ценностей и общественных идеалов. Тем самым гражданские потенции героя поставлены под вопрос.
Онегинская хандра – тоска, скука, разочарование в жизни – может быть названа «веянием времени», «болезнью века». Она была свойственна многим выдающимся людям той поры: близким друзьям Пушкина П. Я. Чаадаеву, А. Н. Раевскому, П. А. Вяземскому (каждый из них может считаться одним из прототипов Онегина), декабристу Н. И. Тургеневу – автору дневника «Моя скука», А. С. Грибоедову (в «Путешествии в Арзрум» Пушкин писал о его меланхолическом характере и озлобленном уме) и самому Пушкину, уверявшему К. Ф. Рылеева, что скука – «одна из принадлежностей мыслящего существа» (Т. 13. С. 176). Важнее поэтому не поиски конкретных прототипов Онегина, но осознание колоссальной обобщающей силы созданного Пушкиным образа разочарованного героя, что так остро ощутил и прекрасно выразил Герцен: «Дело в том, что все мы в большей или меньшей степени Онегины, если только не предпочитаем быть чиновниками или помещиками» (Герцен А. И. Указ. соч. Т. 3. С. 450).
В основе подобных умонастроений лежит уже отмеченное противоречие между богатством души, значительностью личности лучших людей эпохи, проникнутых чувством собственной избранности и исторической предназначенности, и невозможностью найти достойное применение своим силам и способностям. Однако в определенные исторические моменты эти настроения особенно обострялись. Характерно, что в предисловии к отдельному изданию первой главы Пушкин точно обозначил время действия – конец 1819 г. Очевидно, столь точная дата не может быть отнесена к «описанию светской жизни петербургского молодого человека» (Т. 6. С. 638), как уверяет нас поэт: ничего специфического, характерного именно для 1819 г., в описании дня Онегина отыскать невозможно. Но дата эта чрезвычайно важна для понимания истоков духовного кризиса героя, она есть «знак истории» (А. Е. Тархов), знак того перелома, который произошел тогда в русском обществе.
1819 г. – это время крушения прекраснодушных мечтаний («Исчезли юные забавы, / Как сон, как утренний туман…», – точно сформулировал Пушкин в знаменитом послании П. Я. Чаадаеву – Т. 2. С. 72), конституционных иллюзий, время укрепления аракчеевщины, время все более ясного осознания необходимости конкретных практических действий и решительных шагов во имя свободы. А с другой стороны, это время усиления политического скептицизма, оппозиционного власти, но ставящего под сомнение целесообразность и эффективность активных политических акций.
Таким моментом был и 1823 г., когда создавалась первая глава «Онегина», – время поражения во всеевропейском масштабе освободительных движений и, казалось, бесповоротного торжества сил реакции – событий, болезненно пережитых русскими вольнодумцами и посеявших серьезные сомнения и мрачные предчувствия даже в душах руководителей тайных обществ.
Взаимоналожение обеих критических ситуаций и образует понятный читателю-современнику конкретно-исторический подтекст болезненно-острого онегинского разочарования. В этой атмосфере противопоставление героя-энтузиаста, готового жертвовать собой во имя идеалов свободы, и героя-скептика – с его сомнениями, неверием, вынужденной пассивностью – обретает особую актуальность и наполняется злободневным общественным содержанием.
Понятно, что именно перед героем-скептиком встают мучительные вопросы о смысле жизни и характере деятельности, о том, что́ делать, когда, кажется, делать ничего невозможно. И Онегин приложил немало усилий, дабы изменить привычный образ жизни, выбиться из духовно-нравственного тупика, в котором оказался. Он пробует себя, пусть безуспешно, в творческой деятельности, обращается к сочинениям ученых и мыслителей, строит планы отъезда за границу. Наконец, отправившись в деревню за получением наследства, он остается там надолго (хотя никакой необходимости в этом не было), как бы отсекая от себя целый пласт петербургской жизни. С таким решением связывает он, по-видимому, определенные надежды. Однако в «деревенских» главах романа (2–6) душевные противоречия Онегина проявляются все более отчетливо и в конце концов приводят его к катастрофе. Уединившись в своем имении, герой явно стремится обрести не только свободу от общества, но и свободу внутреннюю – от самого себя, от власти страстей, охладивших и ожесточивших его душу. Прошедший тяжкое испытание душевными бурями, он ощущает себя «инвалидом» в любви, «жертвой бурных заблуждений и необузданных страстей», в которых перегорела его душа. Теперь же, вдали от большого света и шумного Петербурга, Онегин надеется исцелить душевные муки, усмирить, усыпить свои страсти, «их своевольство иль порывы и запоздалые отзывы». В беседах с Ленским он уже говорит о всевластии страстей «с печальным вздохом сожаленья» – как о далеком прошлом.
Мало-помалу Онегин втягивается в новую для него жизнь – размеренную, спокойную, неторопливую, бедную внешними впечатлениями и во многом обусловленную естественными ритмами природного цикла, – столь отличную от суетливо-пестрой круговерти большого света. Недаром Автор полушутя называет его «мудрец пустынный», именует «анахоретом» (отшельником):
Прогулки, чтенье, сон глубокой, Лесная тень, журчанье струй. Порой белянки черноокой Младой и свежий поцалуй, Узде послушный конь ретивый. Обед довольно прихотливый, Бутылка светлого вина, Уединенье, тишина: Вот жизнь Онегина святая… (4, XXXVIII, XXXIX, 1–9)«Беспечная нега» Евгения, его «задумчивая лень» – это не просто знаки обретаемого или обретенного душевного равновесия, но и осуществление сознательно избранной жизненной позиции. Поскольку для человека, прошедшего через горнило страстей, полагает Онегин, душевное обновление, а значит, и счастье невозможно («Мечтам и годам нет возврата; / Не обновлю души моей», – скажет он в сцене первого объяснения с Татьяной), постольку стремиться можно лишь к некоему подобию, суррогату счастья – к личной независимости и душевному покою. «Я думал: вольность и покой / Замена счастью», – с горечью признается Онегин в конце романа. Спокойная, размеренная жизнь в деревенском уединении способствует внутреннему самоуглублению героя, побуждает к раздумьям о жизни и собственном предназначении, стимулирует напряженные духовные искания. Онегин пытается уяснить свою судьбу в контексте судьбы всего поколения, современного человека вообще. Об этом ясно свидетельствует подбор книг в его деревенской библиотеке, где представлены важнейшие новинки тогдашней европейской литературы – произведения, посвященные герою времени, существу сложному, раздвоенному, противоречивому, не находящему места в жизни, чужому в окружающем его обществе. Причем Онегин не просто читал эти произведения, но внимательно изучал, размышлял над ними, делал на полях пометки и замечания, столь поразившие потом Татьяну, то есть явно соотносил характеры и судьбы литературных персонажей с собственной участью.
Кабинет Онегина украшен изображениями Байрона и Наполеона – кумиров поколения 1820-х гг., ярко выразивших дух нового века: кризис традиционных идеалов, неприятие господствующих общественных порядков, культ сильной личности, жаждущей преобразования мира. Внимание к этим «властителям дум» – знак философско-исторических интересов героя, того, что Онегина волнует вопрос о роли личности в истории, о путях и возможностях изменения действительности, объективности исторических закономерностей. Тем самым ироническое наименование Онегина «философом в осьмнадцать лет» и его, казалось бы, чисто внешнее сопоставление с Чаадаевым в главе первой обретают теперь глубокий смысл и наполняются новым, вполне серьезным содержанием. В связи с этим перед Онегиным неизбежно возникает вопрос о реальных путях и возможностях общественной активности, практически полезной деятельности. А что Онегин такой деятельности был отнюдь не чужд, указывает первый же его шаг в качестве нового владельца имения: облегчение участи своих крепостных. Другое дело, что удовлетвориться этим Евгении не мог: ему требовалось нечто большее. Итак, деревенское затворничество было продиктовано стремлением Евгения к самоуглублению и самоопределению, желанием обдумать на досуге свою судьбу и возможные жизненные перспективы. С другой стороны, он проходит здесь ряд испытаний (отношения с обществом, дружба, любовь), ни одного из которых не выдерживает.
В самом деле: глубоко презирая соседей-помещиков, невежд и крепостников, откровенно избегая поддерживать какие-либо отношения с ними, Онегин тем не менее страшится их суда («Но шопот, хохотня глупцов…»). Приняв вызов Ленского на поединок (поступить иначе, согласно кодексу дворянской чести, он, разумеется, не мог), Онегин не сделал решительно ничего для предотвращения дуэли (а это было вполне возможно) и примирения с обиженным другом. «Всем сердцем юношу любя», он – хотя и невольно – убивает единственного близкого ему человека. Сразу же оценив душевную чистоту, естественность, искренность Татьяны, столь несхожей со светскими красавицами, разгадав незаурядность ее натуры и ощутив свое внутреннее сходство с ней, Онегин, «инвалид в любви» и «враг Гимена», своей холодной проповедью причиняет ей невыносимые страдания, едва не погубившие героиню («Увы, Татьяна увядает, / Бледнеет, гаснет и молчит!»). Не случайно в ее символически вещем сне он предстает в демоническом ореоле – как предводитель «шайки адских привидений».
Разумеется, у Онегина были веские основания именно таким образом ответить на пылкое послание наивной девушки. Решиться на брак значило для него утратить независимость от общества, которого он бежал и которое презирал, смириться с «обыкновенным уделом», подавить кипевшие в нем «неясные стремления» (Белинский) к какой-то высшей деятельности. И надо признать: он прямо, вполне откровенно сказал об этом Татьяне. Лишь позднее – в самом конце романа – Онегин поймет: встреча с Татьяной стала главным событием в его жизни, всю важность которого он не смог тогда оценить.
Уроки и впечатления деревенской жизни не прошли для Онегина бесследно. Прикосновение к миру русской природы, народности и старины, встреча с «русскою душою», Татьяной – натурой цельной, решительной и страстной, дружба со своим антиподом – поэтом-романтиком, мечтателем-энтузиастом Ленским, готовым без раздумья пожертвовать жизнью во имя своих возвышенных идеалов, подготавливают грядущее духовно-нравственное обновление героя. Потрясение, вызванное невольным убийством Ленского, открывает Онегину опасность и гибельность демонического индивидуализма, приводит к новому кризису, необходимости вновь изменить жизнь. Покинув места, «где окровавленная тень / Ему являлась каждый день», он отправляется в странствие по России. И не только для того, чтобы забыться в дороге: жизнь «без цели, без трудов» становится для него невыносимой.
Маршрут Онегина не случаен. Его влекут места, связанные с героическими страницами русской истории: Нижний Новгород – «отчизна Минина», волжские просторы, овеянные легендами о Разине и Пугачеве, «жилище вольности» Кавказ, наконец, «брега Тавриды» – место ссылки Мицкевича и Пушкина. Еще более впечатляющим и откровенным был первоначальный вариант маршрута, включавший также Новгород Великий, окутанный ореолом древнего республиканизма, и Москву, еще полную живых воспоминаний о 1812 г. Онегину необходимо своими глазами увидеть, каково современное состояние России, есть ли в ней источники, возможности и перспективы осмысленной, исторически значимой деятельности. Итоги этих странствий безрадостны («тоска, тоска!..»). Героический период русской истории, убеждается Онегин, остался в прошлом, а в современности повсюду торжествует «меркантильный дух», мелкие, ничтожные интересы. Теперь лишь сфера частной жизни, прежде безоговорочно отвергаемая им во имя неких высших целей, может оказаться для него спасительной. В таком душевном состоянии возвращается Онегин в Петербург, где и происходит его новая встреча с Татьяной, уже чудесно преобразившейся, ставшей княгиней и придворной дамой – «законодательницей зал».
Противоречив и финал романа. С одной стороны, страсть, столь внезапно вспыхнувшая «в глубине / Души холодной и ленивой», знаменует как будто возможность и даже начало духовно-нравственного обновления героя. Онегин настойчиво ищет встреч с Татьяной, пишет ей одно за другим страстные любовные признания, а потеряв надежду на взаимность, тяжело заболевает и едва не умирает от любви. Его первое, написанное «слабою рукой» письмо потрясает не только обнаженной искренностью, силой и глубиной чувства, но и честным признанием своей неправоты, тяжкого груза совершенных ошибок. «Свою постылую свободу / Я потерять не захотел», – горько сожалеет он теперь, объясняя Татьяне, почему не мог тогда откликнуться на ее любовь. Ему ясно, что попытка прожить в полном одиночестве, в состоянии абсолютного покоя, без страстей и душевных бурь оказалась несостоятельной: «Я думал: вольность и покой / Замена счастью. Боже мой! / Как я ошибся, как наказан…»
С другой стороны, безнадежная любовь к Татьяне приводит Онегина на край гибели. Его последний визит к ней – без малейших шансов на успех – акт отчаяния. И без того «на мертвеца похожий», Евгений выслушивает суровую и убийственную для него отповедь Татьяны-княгини, после чего следует внезапное явление мужа-генерала, столь напоминающее явление статуи Командора в «Каменном госте».
Однако Пушкину важна именно принципиальная возможность нравственного возрождения Онегина, ибо подлинный герой романа не он, а некий «сверхгерой» – современный человек вообще. С этой точки зрения Ленский, Онегин и герой-Автор, уже изживший демонический комплекс и как бы синтезирующий черты Ленского и Онегина, представляют собой разные грани этого единого сверхгероя, закономерные этапы его эволюции.
Художественное исследование противоречивого сознания современного человека, его напряженно-конфликтных отношений с обществом и процесса его духовных исканий, впервые предпринятое Пушкиным в «Евгении Онегине», во многом определило магистральную линию развития русской литературы XIX в. и породило целую галерею персонажей, генетически восходящих к Евгению Онегину, – от лермонтовского Печорина до героев Достоевского и Л. Толстого.
Критические оценки Онегина в значительной мере были обусловлены его репутацией родоначальника типа лишнего человека в русской литературе и зависели от отношения критиков к этому типу. Скажем, романтически настроенным современникам поэта представлялось, что «Онегин есть существо совершенно обыкновенное и ничтожное» (Киреевский И. В. Нечто о характере поэзии Пушкина, 1828). Напротив, Герцен (в книге «О развитии революционных идей в России», 1851) оценивал Онегина как незаурядную личность, которая не может смириться с окружающей ее грязью и пошлостью и мучительно переживает свою ненужность, общественную невостребованность.
Мысль о типичности Онегина, неспособного в силу объективных причин и реальных жизненных обстоятельств найти применение своим незаурядным дарованиям, была глубоко обоснована в статьях Белинского (1843–1846), идеи которого во многом предопределили истолкование характера Онегина вплоть до наших дней. Точка зрения Белинского была отвергнута и грубо осмеяна Писаревым (в статье «Пушкин и Белинский», 1865), давшим уничтожающую оценку не только характера Онегина, но и романа в целом. Примитивно-утилитаристская позиция Писарева оказала, тем не менее, весьма сильное и длительное воздействие на читателя.
Лишь во время пушкинских торжеств 1880 г. в Москве в знаменитой речи Достоевского репутация романа как художественного шедевра и произведения общественно актуального была восстановлена. Тем не менее оценка Онегина осталась по-прежнему резко отрицательной. В глазах Достоевского Онегин – тип бездомного скитальца, оторванного от национальной почвы, всецело ориентированного на западную идеологию и культуру, предшественник современных писателю социалистов и революционеров. Отзвук этих суждений Достоевского ясно слышится и в эссе Мережковского «Пушкин» (1896). Указав, что в романе нашла выражение пушкинская тема – противоположность культурного и первобытного человека, Мережковский замечает, что Онегин «вышел целиком из ложной, посредственной и буржуазной культуры». В противоположность Татьяне, он – «чужой, нерусский, туманный призрак, рожденный веяниями западной жизни» (Пушкин в русской философской критике. М., 1990. С. 119). На неорганичность усвоения западной культуры русским дворянством пушкинской поры указал Ключевский в статье «Евгений Онегин и его предки» (1887). И потому Онегин для него «не столько тип, сколько гримаса, не столько характер, сколько поза, и притом чрезвычайно неловкая и фальшивая…». Не отказывая Онегину в типичности, ученый называет его «типическим исключением» (Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. М., 1990. Т. 9. С. 88–89). Начиная с 1890-х гг. – времени официального признания Пушкина – «Евгений Онегин» и его главный герой все больше становятся предметом школьного изучения и академического исследования. Соответственно, крайности критической полемики оттесняются на второй план, а на первый выходит стремление уяснить сложность авторской позиции и своеобразие художественного построения романа, без чего истолкование его центрального персонажа попросту невозможно.
Литература
Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Ст. 8, 9 // Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 7. М., 1955.
Писарев Д. И. Пушкин и Белинский // Сочинения: В 4 т. Т. 3. М., 1956.
Достоевский Ф. М. Пушкин: (Очерк) // Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 26. Л., 1984.
Сиповский В. В. Татьяна, Онегин, Ленский. СПб., 1899.
Поспелов Г. Н. «Евгений Онегин» как реалистический роман // Поспелов Г. Н. Вопросы методологии и поэтики: Сборник статей. М., 1983.
Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. Гл. 3.
Семенко И. М. Эволюция Онегина: К спорам о пушкинском романе // РЛ. № 2. 1960.
Бурсов Б. И. Лишние слова о «лишних людях» // Вопросы литературы. № 4. 1960.
К спорам о «Евгении Онегине»: (Дискуссия в Институте мировой литературы им. А. М. Горького) // Вопросы литературы. № 1. 1960.
Макогоненко Г. П. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина // Медведева И. Н. «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Макогоненко Г. П. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина. М., 1971.
Благой Д. Д. «Евгений Онегин». Примечания // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 4. М., 1975.
Непомнящий B. C. Поэзия и судьба. (Глава «Начало большого стихотворения»). 2-е изд. М., 1987.
Лотман Ю. М. Своеобразие художественного построения «Евгения Онегина» // Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь: Книга для учителя. М., 1988.
Михайлова Н. И. «Собранье пестрых глав». М., 1994.
Бочаров С. Г. Французский эпиграф к «Евгению Онегину» (Онегин и Ставрогин) // Московский пушкинист. I. М., 1995.
Отступления
ОТСТУПЛЕНИЯ (лирические отступления) – речь автора в эпическом или лироэпическом произведении, прерывающая ход повествования ради непосредственного выражения его собственных взглядов, переживаний, его жизненной позиции, для истолкования и оценки изображаемых характеров и событий. Отступления способствуют созданию «образа автора как живого собеседника читателя» (Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 186).
Пространные авторские отступления – важнейшая структурная особенность первого же крупного произведения Пушкина – поэмы «Руслан и Людмила» (1820), построенного на остром противоречии между сказочно-историческим сюжетом и подчеркнуто современной манерой повествования – непринужденной, иронически окрашенной беседой автора с друзьями-читателями. Еще более весома роль отступлений в «Евгении Онегине», поскольку и образ, и функция автора в романе (сравнительно с «Русланом и Людмилой») существенно усложнились. По мысли Г. О. Винокура, авторское я в «Евгении Онегине» триедино: автор выступает здесь как реальная биографическая личность, как персонаж собственного произведения (друг Онегина, добрый знакомец Татьяны и Ленского) и, наконец, как создатель новаторского романа в стихах (см.: Винокур Г. О. Слово и стих в «Евгении Онегине» // Винокур Г. О. Филологические исследования. М., 1990. С. 157–160).
Такого рода тройственностью обусловлено тематическое многообразие авторских отступлений. В них означены прежде всего важнейшие вехи и события пушкинской биографии: отроческие годы «в садах Лицея» и первые поэтические опыты, высылка из Петербурга («Но вреден север для меня»), желание увидеть «чуждые страны», жизнь «в глуши Молдавии печальной» и «в Одессе пыльной», деревенское уединение, общество «старой няни» и т. д.
Исключительно многообразны по настроению, характеру, мотивам отступления, раскрывающие духовно-нравственный мир Автора как персонажа романа (или иначе – героя-Автора), мир богатый, сложный и многоликий. Острая, веселая шутка соседствует здесь с мрачным раздумьем, язвительная ирония – с интимным признанием, мучительные воспоминания o прошлом – со светлой верой в будущее. В отступлениях раскрывается душевное самочувствие человека, бесконечно влюбленного в жизнь, утверждающего широкий и свободный взгляд на мир – трезво-критический и возвышенно-идеальный в одно и то же время.
Именно с этой точки зрения судит автор центральных персонажей, оценивает и обсуждает их поступки, образ мыслей и чувств. Но судит как человек, сам переживший ранее аналогичные увлечения, иллюзии, заблуждения и потому – все понимающий и неизменно доброжелательный. Он оправдывает Татьяну, решившуюся написать письмо Онегину, горько упрекает Онегина и Ленского, не сумевших отбросить ложный стыд и «разойтиться полюбовно», оплакивает смерть юного поэта, с печальной иронией комментирует объяснение Онегина с Татьяной:
Вы согласитесь, мой читатель. Что очень мило поступил С печальной Таней наш приятель; Не в первый раз он тут явил Души прямое благородство… (4, XVIII, 1–5)Не раз говорит автор и о том, как любит он своих героев, как волнует его все, что с ними происходит:
Татьяна, милая Татьяна! С тобой теперь я слезы лью; Ты в руки модного тирана Уж отдала судьбу свою. (3, XV, 1–4)Или же (по поводу предстоящей женитьбы Ленского):
Мой бедный Ленской, сердцем он Для оной жизни был рождён. (4, L, 13–14)Иными словами: центральные персонажи раскрываются в романе не только сюжетно – в цепи их поступков и переживаний, но и лирически – как воплощение прошлого душевного опыта автора (см.: АВТОР).
Наконец, отступления демонстрируют сам процесс создания романа (который будто бы творится прямо на глазах у читателя), раскрывают художественные взгляды и пристрастия автора. Они призваны продемонстрировать прежде всего необычайность «новорожденного творенья», его ориентированность на неупорядоченную и непредсказуемую жизнь во всей ее сложности, изменчивости, случайности. Автор признается, что не только образы героев, но и сам план «свободного романа» долгое время были ему неясны («И даль свободного романа / Я сквозь магический кристал / Еще не ясно различал» – 8, L, 12–14), а в посвящении характеризует свое произведение как «собранье пестрых глав». Смелое новаторство романа предполагает критическое осмысление прошлого художественного опыта – своего и чужого. Поэтому в отступлениях автор ведет полемику с предшественниками и современниками, решительно отвергает устаревшие поэтические условности, иронически отзывается о канонах и правилах классицизма, о нравоучительно-сентиментальных романах ХVIII в., о новейшей романтической литературе и т. д. Постоянно обсуждаются в отступлениях и вопросы языка, способы словесного выражения, обозначения предмета. Таковы, к примеру, авторские соображения о выборе имени главной героини, о возможностях перевода ее письма на русский язык, об употреблении иностранных слов и выражений, о высоком и низком слоге и т. д. Все это вместе взятое призвано создать впечатление, что художественная форма романа не есть нечто застывшее и окостеневшее, что она сродни творящей силе самой жизни (см.: ФОРМА ПЛАНА).
Столь же многообразны и функции авторских отступлений в структуре и организации романного действия. Наряду с примечаниями, пропущенными строфами, вставными текстами, эпиграфами, приложенными к роману «Отрывками из Путешествия Онегина», они способствуют ослаблению фабульного начала и создают впечатление фрагментарности, калейдоскопичности повествования, позволяют автору то и дело менять характер и тональность рассказа, мгновенно и непринужденно переходить от одной темы к другой. Порой они способны даже замещать собой целые сюжетные эпизоды. Так, в главе первой описан приезд Онегина на бал (строфа XXVIII) и его отъезд (строфа XXXV). Между ними – шесть строф лирического отступления. «Повествовательная тема здесь как бы просвечивает сквозь лирическую» (Макаров А. А. «Противоречий очень много…»: (К вопросам поэтики А. С. Пушкина) // Вопр. лит. 1968. № 9. С. 185). Благодаря этому бальный эпизод обретает обобщенный смысл: это не конкретный, единичный бал, но один из многих, на которых постоянно бывал Онегин в течение неопределенно долгого времени.
Аналогичным образом отступления замещают порой и изображение внутренней жизни героя. Скажем, душевное состояние Онегина при виде убитого им Ленского описано очень скупо, буквально в нескольких словах:
В тоске сердечных угрызений, Рукою стиснув пистолет, Глядит на Ленского Евгений. (…) Убит!.. Сим страшным восклицаньем Сражен, Онегин с содроганьем Отходит и людей зовет. (6, XXXV, 1–3, 5–6)Но этой психологической зарисовке предшествуют две строфы авторских размышлений и лирических излияний о том, как страшно стать убийцей друга. Причем драматическое напряжение в них неуклонно нарастает и к концу второй строфы достигает трагической кульминации:
Скажите: вашею душой Какое чувство овладеет, Когда недвижим, на земле Пред вами с смертью на челе, Он постепенно костенеет, Когда он глух и молчалив На ваш отчаянный призыв? (6, XXXIV, 8–14)При этом тождество реакций Онегина и героя-Автора подразумевается само собой.
Зачастую размышления и рассуждения, лирические признания героя-Автора выражены в столь обобщенно-безличной форме, что трудно решить, имеет ли он в виду самого себя, или же Онегина, или их обоих вместе, или даже людей своего круга вообще:
Кто жил и мыслил, тот не может В душе не презирать людей; Кто чувствовал, того тревожит Призрáк невозвратимых дней: Тому уж нет очарований, Того змия воспоминаний, Того раскаянье грызет. (1, XLVI, 1–7)Все это свидетельствует о духовной общности заглавного героя и героя-Автора, несмотря на декларируемую «разность» между ними.
Обилие и разнообразие авторских отступлений, их исключительно важное место в структуре повествования побуждает некоторых исследователей говорить об особом лирическом сюжете (или даже лирических сюжетах), о «романе автора», существующем в «Евгении Онегине» наряду с очевидным для всех «романом героев».
Постоянно перебивая повествование авторскими отступлениями, Пушкин опирался на давнюю литературную традицию (Ариосто, Стерн (см.: СТЕРН), Байрон и др.), причем опыт Байрона – создателя «Паломничества Чайльд-Гарольда», «Беппо» и «Дон Жуана» – стал для него решающим (см.: БАЙРОН).
Для всех этих байроновских созданий также характерны разорванность, фрагментарность сюжета, ослабление фабульного начала. Главное в байроновских творениях – мощный напор чувства, яростный темперамент публицистических и лирических отступлений, проникнутых пафосом свободолюбия и ненавистью к любой форме тирании, – отступлений, бесконечно разнообразных по своей тематике и тональности.
Именно у Байрона Пушкин заимствовал самое главное – тон взволнованно-личной беседы с читателем, непринужденно-доверительной дружеской болтовни, иронической и лирической одновременно, не говоря уже о множестве частных приемов организации «личного» повествования. В частности, обоих авторов объединяют лукавые сетования на обилие отступлений от сюжета и обещания в дальнейшем избавиться от этого «недостатка».
Мой замысел и точный и прямой, В нем отступлений будет очень мало, — (Песнь 1, строфа 7 // Байрон. Т. I. С. 57 / пер. Т. Гнедич)уверяет читателя Байрон в первых строфах «Дон Жуана». Разумеется, это обещание оказывается невыполненным, и в конце третьей песни поэт как бы спохватывается:
Но я грешу обильем отступлений, А мне пора приняться за рассказ; Такому водопаду рассуждений Читатель возмущался уж не раз. (Песнь 3, строфа 96 // Там же. С. 193 / пер. Т. Гнедич)Аналогичный пассаж находим и в «Беппо»:
…Уверяю вас, Мне, как и вам, читатель, надоело От темы отклоняться каждый раз. Вы рады ждать, но все ж не без предела, Вам досадил мой сбивчивый рассказ! (Там же. Т. 3 / Пер. В. В. Левика. С. 198–199)Подобные же иронические обещания и шутливые самоодергивания находим и в «Евгении Онегине»:
Пopa мне сделаться умней, В делах и в слоге поправляться, И эту пятую тетрадь От отступлений очищать. (5, XL, 11–14)Или:
Но полно. Мне пора заняться Письмом красавицы моей… (3, XXIX, 9–10)Во многом опираясь на опыт своего великого предшественника, Пушкин – с присущим ему чувством соразмерности – сумел в то же время преобразовать этот опыт; ему удалось органично, естественно сочетать и гармонически уравновесить оба начала своею романа в стихах: повествовательное и лирическое.
Литература
Рыбникова М. А. Автор в «Евгении Онегине» // Рыбникова М. А. По вопросам композиции. М., 1924.
Тынянов Ю. Н. О композиции «Евгения Онегина» // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
Маймин Е. А. Пушкин: Жизнь и творчество. М., 1981. С. 168–172.
Гуревич А. М. Сюжет «Евгения Онегина». М., 2001.
Чудаков А. П. Сколько сюжетов в «Евгении Онегине»? // Московский пушкинист. VIII. М., 2000.
Татьяна Ларина
ТАТЬЯНА ЛАРИНА – главная героиня романа, в центральных главах (со второй но шестую) – уездная барышня, в главе восьмой – княгиня N.
В отличие от Онегина и Ленского, Татьяна родилась и выросла в провинциально-поместной среде (др. гипотезу см.: МОСКВА); тем не менее она тоже чувствует себя в ней одинокой и непонятой, разительно отличается от окружающих. «Вообрази, я здесь одна, / Никто меня не понимает», – признается она в письме Онегину. Даже «в семье своей родной» она «казалась девочкой чужой», избегала игр с подружками-сверстницами. Причина такого отчуждения и одиночества – в необычности, исключительности натуры Татьяны, одаренной «от небес»
Воображением мятежным, Умом и волею живой, И своенравной головой, И сердцем пламенным и нежным. (3, XXIV, 9–12)В романтической душе Татьяны своеобразно соединились два начала. Сроднившаяся с русской природой и народно-патриархальным бытом, привычками и традициями «милой старины», она живет и в другом – вымышленном, мечтательном мире. Татьяна – усердная читательница иностранных романов, главным образом нравоучительных и сентиментальных, где действуют идеальные герои, а в финале неизменно торжествует добро. Она бродит по полям «С печальной думою в очах, / С французской книжкою в руках» (8, V, 13–14). Привыкшая отождествлять себя с добродетельными героинями любимых авторов, она и Онегина, столь не похожего на окружающих, готова принять за «совершенства образец», как бы сошедший со страниц Ричардсона и Руссо, – того героя, о котором она давно мечтала. «Литературность» ситуации усиливается и тем, что письмо Татьяны Онегину насыщено реминисценциями из французских романов. Однако книжные заимствования не могут заслонить непосредственного, искреннего и глубокого чувства, которое сквозит в письме Татьяны. Да и сам факт ее послания к едва знакомому мужчине говорит o страстности и безоглядной смелости героини, пренебрегающей опасениями быть скомпрометированной в глазах окружающих.
Именно эти свойства ее натуры увидел и оценил Онегин. Но ему остался неведом другой, скрытый пласт душевного мира Татьяны – ее укорененность в народной почве, глубинная, органичная связь с национальной традицией, фольклорно-поэтической стихией, с миром русской старины и русской природы, притом более всего – с русской зимой:
Татьяна (русская душою, Сама не зная, почему) С ее холодною красою Любила русскую зиму, На солнце иней в день морозный, И сани, и зарею поздной Сиянье розовых снегов, И мглу крещенских вечеров. (5, IV, 1–8)Недаром героине постоянно сопутствуют в романе зимние пейзажи, мотивы снега, холода, мрака. Особенно ярко эта слитность с зимней природой и обрядовой традицией зимних праздников выступает в сценах святочных гаданий и навеянном ими сне Татьяны. Мало того, такое сродство обретает здесь символический смысл, ассоциативно связывается с представлениями о мраке и холоде как сущностных свойствах жизни вообще. В результате создается впечатление, что готовность страдать и терпеть, безропотно нести свой крест, уходящая своими корнями в глубины народной этики (свидетельство тому – разговор с няней), для Татьяны столь же естественна, как привычка жить в суровом климате – в царстве льда, холода и снега. Вот почему сон Татьяны – «это ключ к пониманию ее души, ее сущности» (Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С. 214). Заменяя прямую и подробную характеристику внутреннего мира героини, он позволяет проникнуть в самые сокровенные, неосознанные глубины ее психики, ее душевного склада.
Однако он выполняет и еще одну важнейшую роль – пророчества о будущем, ибо «чудный сон» героини – это сон вещий. В символических обрядово-фольклорных образах здесь предсказаны, предугаданы едва ли не все главные события последующего повествования: выход героини за пределы «своего» мира (переправа через ручей – традиционный образ женитьбы в народной свадебной поэзии), предстоящее замужество (медведь – святочный образ жениха), появление в лесной хижине – доме суженого или возлюбленного – и узнавание его истинной, доселе скрытой сути, сборище «адских привидений», так напоминающих гостей на именинах Татьяны, ссора Онегина и Ленского, завершившаяся убийством юного поэта. Главное же – героиня интуитивно прозревает сатанинское, демоническое начало в душе своего избранника (Онегин во главе сонма адских чудищ), что вскоре подтверждается его «странным с Ольгой поведеньем» в день именин и кровавой развязкой поединка с Ленским.
Сон Татьяны – новый шаг в постижении характера Онегина, ибо холодная отповедь Евгения не только причинила ей невероятные душевные страдания, но и заставила задуматься об истинной сущности героя романа. И если раньше – по аналогии с персонажами прочитанных книг – Татьяна видела в нем натуру идеально-добродетельную, то теперь, кажется, она готова впасть в противоположную крайность. Преодоление этих крайностей свершится лишь позднее, в ходе третьего акта разгадки тайны Онегина. Очутившись в опустевшем доме Онегина, Татьяна принимается за чтение книг в его деревенском кабинете, выбор которых поразил ее своей странностью. И немудрено: провинциальная барышня, Татьяна была читательницей с запоздалыми литературными вкусами. Круг ее чтения составляли преимущественно романы второй половины XVIII в. (среди ее любимых произведений Пушкин называет «Новую Элоизу» Руссо, «Клариссу» Ричардсона, «Страдания молодого Вертера» Гете и некоторые другие популярные тогда произведения), где действовали герои благородные и добродетельные, верные законам долга и чести, способные совершить подвиг самопожертвования – такие, как Сен-Пре, Вертер, Грандисон. В пылком воображении Татьяны все они «В единый образ облеклись, / В одном Онегине слились» (3, IX, 13–14).
Теперь же, в библиотеке Онегина, Татьяна находит совсем иные книги, о которых ранее не подозревала. Это новинки европейской литературы, главным образом творения писателей-романтиков: Байрона, Шатобриана. Констана и др. – произведения, –
В которых отразился век, И современный человек Изображен довольно верно С его безнравственной душой, Себялюбивой и сухой, Мечтанью преданной безмерно, С его озлобленным умом, Кипящим в действии пустом. (7, XXII, 7–14)В отличие от романов Ричардсона и Руссо, здесь господствуют герои холодные и опустошенные, разочарованные и эгоистичные, герои, свершающие преступления, творящие зло и наслаждающиеся злом. Неудивительно, что Татьяне «открылся мир иной» – трагически противоречивый душевный мир современного человека. Открылся ей отчасти и характер самого Онегина. С особым вниманием читает она страницы, где встречаются на полях его замечания, «черты его карандаша» и где «… Онегина душа / Себя невольно выражает / То кратким словом, то крестом, / То вопросительным крючком» (7, XXIII, 10–14). Татьяна начинает понимать: если и можно сравнивать Онегина с литературными героями, то не с благородными и восторженными персонажами литературы минувшего века, а с холодными и скучающими героями литературы новейшей. Его душе созвучны образы не Ричардсона, но Байрона, тип демонического героя-индивидуалиста!
Можно сказать, что новейшая романтическая литература в библиотеке Онегина и вся обстановка его деревенского кабинета так же полно раскрывают его потаенный душевный мир, как раскрывает сон Татьяны ее собственную душу. Но, в отличие от Онегина, Татьяна имела возможность проникнуть на «заповедную территорию», получить доступ к тайнам души своего избранника.
Теперь-то, кажется Татьяне, она до конца поняла Онегина, разгадала его тайну: «Ужель загадку разрешила? / Ужели слово найдено?» (7, XXV, 1–2) (имеется в виду слово, зашифрованное в шараде). Отныне он в ее глазах – «москвич в Гарольдовом плаще», едва ли не пародия героя времени. Не этим ли объясняются ее надменность и холодность при новой встрече – в Петербурге? Татьяна, таким образом, вновь связывает Онегина с определенным литературным типом. И вновь ошибается. Ибо разочарование Онегина, его хандра, его душевные муки непритворны и искрении (как вполне искренни и переживания самой Татьяны, почерпнутые как будто из французских романов). Драма героев – в значительной мере драма непонимания или же понимания неполного, ограниченного, хотя теперь – это люди существенно изменившиеся.
Особенно разительно, конечно, изменилась Татьяна, превратившаяся из скромной уездной барышни в величавую княгиню, важную придворную даму – «законодательницу зал». «Как изменилася Татьяна!» – не может не поразиться при новой встрече с ней Евгений. Некоторым критикам, современникам поэта, казалось, что столь быстрая и резкая перемена не совсем правдоподобна и психологически неубедительна (с чем, кажется, готов согласиться и сам поэт). С другой стороны, пушкинскому роману вообще свойственны скупость и беглость житейских и психологических мотивировок, рассчитанных на понимание с полуслова. И здесь, конечно, Пушкин не рисует сколько-нибудь подробно само изменение духовно-нравственного облика героини, но позволяет читателю угадать, как и почему оно произошло.
Нельзя не заметить, как обогатился за короткое время жизненный опыт Татьяны, какие испытания и душевные страдания выпали на ее долю, как расширился ее духовный мир, изменился круг общения: страстная и безнадежная любовь к Онегину, принесшая невыносимые муки, ее отчаянное положение в родительском доме после гибели Ленского, замужества Ольги, отъезда Онегина, брак с нелюбимым человеком, чужая и чуждая ей атмосфера «большого света», где она обрела аристократический лоск, научилась «властвовать собой» (как когда-то советовал ей Онегин) и безупречно исполнять роль сановной дамы (втайне мечтая о деревенском уединении, об «Онегине далеком», которого она по-прежнему любит).
Другая причина чудесного преображения Татьяны – исключительность ее натуры, ее утонченная духовность. Как быстро сумела она постичь тайну души Онегина, приобщиться к совершенно новому для нее кругу понятий и интересов! И это соприкосновение с идеями, умственными исканиями современной европейской культуры немало обогатило ее, облегчило ей переход к другой, новой для нее жизни. Оно помогло ей обрести подлинно аристократический облик и при этом остаться верной себе, сохранить внутреннюю свободу, естественность и натуральность поведения.
Конечно, Татьяне близки и понятны страдания внезапно и страстно влюбившегося в нее Евгения: ведь она сама пережила нечто подобное. Но точно так же, как Онегин до последней минуты не подозревал, что в княгине N живет «простая дева», «прежняя Таня», так и Татьяна не могла знать, что́ произошло с Онегиным после дуэли, что́ передумал он во время долгих странствий по России, что́ пережил в часы добровольного заточения в своем кабинете. Для нее он по-прежнему «москвич в Гарольдовом плаще» – человек холодный, опустошенный, эгоистичный. Этим в значительной степени и объясняется суровая отповедь Татьяны, зеркально повторяющая холодную отповедь Онегина.
Именно «зеркально отраженная» (Г. А. Гуковский) композиция этих сцен позволяет провести между ними и внутреннюю аналогию, а значит – лучше понять и оценить поведение пушкинской героини. Как и в проповеди Евгения, в финальном монологе Татьяны тоже немало справедливого с точки зрения житейской, ибо поступки Онегина нетрудно представить в самом непривлекательном свете. Как бы там ни было, он сначала отверг любовь юной, неопытной провинциалки, но без ума влюбился в нее потом, когда она стала «богата и знатна», заняла высокое положение в свете. Верно и то, что роман с Татьяной мог принести Онегину «соблазнительную честь» и бросить тень на безупречную репутацию героини. Да и что, кроме адюльтера, мог бы предложить теперь ей Онегин?
Но разве сам Онегин не понимает всей слабости и уязвимости своей позиции, разве не предвидит он укоры, которые – не без основания – могут быть брошены ему в лицо? Ответ на этот вопрос самоочевиден. В первых же строках своего письма к Татьяне он предупреждает, что, скорее всего, его «объяснение», его запоздалое признание оскорбит ее и вызовет лишь «горькое презренье». Почему все же решается он «открыть душу» Татьяне, сказать ей о своей страсти? Да просто потому, что только теперь понял главное: настоящая, истинная любовь – это редкое счастье, высшая ценность, которая несравненно важнее всех житейских соображений, расчетов, планов. Бросившись к ногам Татьяны, он нисколько не думает о практических последствиях своего поступка.
Но именно в бескорыстие и благородство страсти Онегина и не может поверить Татьяна. Убежденная, что он стал «чувства мелкого рабом», она, кажется, не допускает даже мысли, что за время их разлуки (а ведь прошло целых четыре года!) Онегин способен был измениться, стать хоть в чем-то другим. В итоге герои снова не понимают, «не узнают» друг друга!
Но в монологе Татьяны звучат и другие ноты. Упреки и укоризны оскорбленной женщины незаметно переходят в исповедь, поражающую своей откровенностью и бесстрашной искренностью. Татьяна признается, что успехи «в вихре света» тяготят ее, что она предпочла бы нынешней мишурной жизни прежней незаметное существование в деревенской глуши. Мало того: она прямо говорит Онегину, что поступила «неосторожно», решившись на брак без любви, что она по-прежнему любит его и горестно переживает упущенную возможность счастья. А такое признание предполагает высочайшую степень взаимного доверия и внутренней близости!
Как видим, и во втором акте драмы вновь происходит «трагическое разминовение» (С. Г. Бочаров) героя и героини, как бы предназначенных друг для друга. И сожаление о том, что «счастье было так возможно», уравнивает их в роли партнеров заключительной сцены, придает ей глубокий драматизм.
Образу Татьяны принадлежит особое место в творчестве Пушкина: синтез утонченной светскости и естественности – органической связи с национальной стихией – наиболее полно воплощает нравственно-эстетический идеал поэта. А такие свойства ее натуры, как жертвенность и чувство долга, решительность и страстность, готовность терпеть и страдать, позволяют говорить о героической подоснове характера Татьяны, хотя Пушкин ограничивается на этот счет лишь глухими намеками. Так, в главе седьмой он косвенно сопоставляет Татьяну с Жанной д’Арк: ее предотъездное прощание с деревенской природой представляет перефразировку монолога героини «Орлеанской девы» Шиллера в переводе Жуковского (1821). Многозначителен и намек в финале романа: «А та, с которой образован / Татьяны милой Идеал… / О много, много Рок отьял!» (8, LI, 6–8). Слова о трагической участи «той» стоят в слишком близком соседстве со словами о «тех» («Иных уж нет, а те далече…» – 8, LI, 3) и явно имеют злободневно-политический оттенок. Правда, речь как будто идет не о самой Татьяне, а лишь о ее возможном прототипе. И все же, все же… Не случайно в числе этих прототипов (Е. К. Воронцова, Е. А. Стройновская, А. П. Керн и А. Н. Вульф) называют и женщин с «декабристской» судьбой – Марию Волконскую и Наталью Фонвизину.
Как идеал русской женщины оценивало Татьяну и большинство критиков (за исключением, разумеется, Писарева, считавшего пушкинскую героиню неумной и сумасбродной, а ее чувство к Онегину – «мелким и дряблым»).
Белинский видел величайшую заслугу Пушкина в том, «что он первый поэтически воспроизвел, в лице Татьяны, русскую женщину» (Белинский. Т. 7. С. 473). Татьяна, писал он, характер сильный и цельный, «существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная» (Там же. С. 484). Покуда «ум ее спал», смысл жизни заключался для нее в жажде любви (Там же. С. 488). Лишь после посещения опустелого дома Онегина и чтения его книг «в Татьяне, наконец, совершился акт сознания; ум ее проснулся. Она поняла наконец, что есть для человека интересы, есть страдания и скорби, кроме интереса страданий и скорби любви» (Там же. С. 497). Однако прикосновение к миру идей и страстей современного человека, полагал критик, ужаснуло Татьяну, убедило в необходимости покориться действительности. Этим определяются ее поведение при встрече с Онегиным в Петербурге и внутренний смысл ее финального монолога. В согласии со своими просветительскими убеждениями Белинский сурово осудил Татьяну за то, что она, продолжая любить Онегина, все же отвергла его, предпочла сохранить верность общепринятым моральным нормам и общественным «предрассудкам», поскольку «некоторые отношения, не освящаемые любовию, в высшей степени безнравственны…» (Там же. С. 501).
Напротив, Достоевский расценил этот поступок Татьяны не просто как высоконравственный, жертвенный, но едва ли не как героический. Женщина истинно русская, говорил он в своей знаменитой речи о Пушкине, Татьяна не могла бросить своего мужа, больного, жалкого старика, и бежать с Онегиным, ибо невозможно строить собственное благополучие на несчастье другого человека (см.: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 26. 1984. С. 141–142). Разумеется, такое прочтение романа совершенно произвольно: муж Татьяны вовсе не был ни больным, ни жалким, ни старым, а Онегин не предлагал Татьяне бежать вместе с ним. Онегин и Татьяна, по мысли Достоевского, принадлежат к двум противоположным типам: «русского скитальца», лишенного национальных корней, оторванного от родной почвы, и типа «положительной красоты» в лице русской женщины, твердо стоящей «на своей почве» (Достоевский Ф. М. Указ. соч. С. 143, 140).
Для Марины Цветаевой Татьяна – воплощение заведомо невозможной, возвышенно-трагической любви, без малейшей надежды на счастье. Татьяна выбрала Онегина, втайне зная, «что он ее не сможет любить» (Цветаева М. Н. Мой Пушкин // Цветаева М. И. Проза. М.: Современник, 1989. С. 33). И поэтому «в отповеди Татьяны – ни тени мстительности. (…)Все козыри были у нее в руках, чтобы отомстить и свести его с ума (…) она все это уничтожила одной только обмолвкой: “Я вас люблю, – к чему лукавить?” (…) Все козыри были у нее в руках, но она – не играла» (Там же. С. 34). Поведение Татьяны для Цветаевой – это образец: «Урок смелости. Урок гордости. Урок верности. Урок судьбы. Урок одиночества. (…) Ибо женщины так читают поэтов, а не иначе» (Там же. С. 33, 35).
Тип сильной и цельной женской натуры – контрастный типу бездеятельного, сомневающегося героя – получил свое продолжение в последующей русской литературе: в творчестве Герцена, Гончарова, Тургенева и др.
Литература
Белинский Б. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья 9 // Белинский. Т. 7.
Слонимский А. Л. Мастерство Пушкина. М., 1959 (раздел «Евгений Онегин»).
Никишов Ю. М. Онегин и Татьяна // Филологические науки. № 3. 1972.
Маркович И. М. Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы: Статьи разных лет. СПб., 1997.
Хализев В. Е. Восьмая глава «Евгения Онегина»: (Опыт интерпретации) // Литература в школе. № 3. 1988.
Чумаков Ю. Н. «Сон Татьяны» как стихотворная новелла // Русская новелла: Проблемы теории и истории: Сборник статей. СПб., 1993.
Эмерсон К. Татьяна // Вестник МГУ. № 6. 1995. (Серия IX. Филология.)
См. также лит. при статье ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН.
Форма плана
ФОРМА ПЛАНА – словосочетание, употребленное автором в связи с шутливым обещанием начать вскоре новое произведение – «поэму песен в двадцать пять» (1, LIX, 14). После чего и следуют строки: «Я думал уж о форме плана, / И как героя назову…» (1, LX, 1–2). Из текста ясно, что речь идет именно о плане предполагаемой поэмы. Между тем ставшая крылатой пушкинская формула чаще прилагается к самому «Евгению Онегину» – для характеристики своеобразия его художественной структуры.
Необычность жанра и построения «Евгения Онегина» действительно бросается в глаза. Об этом свидетельствует даже сам его подзаголовок – «роман в стихах». Ведь словом «роман» обозначается, как правило, произведение прозаическое, а крупную стихотворную форму следовало бы назвать поэмой. К тому же от романа тогдашние читатели ждали прежде всего необыкновенных происшествий, занимательности сюжета, напряженной интриги. Однако уже в посвящении, обращенном к другу поэта П. А. Плетневу, автор недвусмысленно заявляет, что вовсе не стремится «гордый свет забавить», а довольствуется лишь «вниманьем дружбы», т. е. узкого круга читателей-единомышленников (что пристало скорее лирическому стихотворению, дружескому посланию). А в неопубликованном предисловии к предполагаемому изданию двух последних глав (по тогдашнему счету – восьмой и девятой) прямо предупреждает читателей, «которые стали бы искать в них занимательности происшествий», что здесь будет «еще менее действия, чем во всех предшествовавших» (Т. 6. С. 541).
И правда: событий в романе совсем немного, и главным оказывается как раз то, что не произошло. Сначала Онегин не отвечает взаимностью Татьяне, а затем она сама отвергает его запоздалую страсть; не получает естественного завершения взаимная любовь Ольги и Ленского, а Онегину так и не удается обрести дело и место в жизни. Внезапно начавшись, роман так же внезапно, почти на полуслове, обрывается, причем последняя, драматическая сцена ничего не изменяет ни в положении, ни в судьбе героев. Как далеко все это от привычных читательских ожиданий!
Еще более поразительно, что в ходе повествования читателю демонстрируется сам процесс творчества, «механизм» возникновения романа в стихах – произведения откровенно экспериментального, новаторски-программного, само создание которого есть важнейшее событие. Причем обращение к тому или иному элементу романной структуры рассматривается как выбор одного из многих художественных решений. И такой выбор обычно обсуждается, комментируется автором, происходит, так сказать, на глазах у читателя.
Налицо как будто бы откровенная литературность, «сделанность» произведения, намеренная демонстрация условности художественной формы. Но столь же очевидно и обратное – авторское стремление убедить читателя в абсолютной жизненности изображенного, его «всамделишности» и фактической достоверности, а также – в актуальности, сиюминутности происходящего.
Именно новизна и необычность поставленной задачи определила новизну и необычность творимой на глазах у читателя формы романа, которая должна быть максимально адекватна «роману жизни». Ибо Пушкин стремится решить задачу поистине небывалую – создать такое художественное произведение, которое, «преодолев литературность», воспринималось бы как внехудожественная реальность, как сама действительность, «не переставая при этом быть литературой» (Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988. С. 85).
Вот почему на протяжении всего повествования читателю настойчиво внушается мысль о необычности «новорожденного творенья», его ориентации на неупорядоченную и непредсказуемую жизнь во всей ее сложности, изменчивости, многообразии, случайности. Как признается автор, не только образы героев, но и сам план «свободного романа» долгое время были ему не ясны. С этим финальным признанием прямо перекликается начальная – опять же в посвящении – автохарактеристика нового произведения как «собранья пестрых глав», весьма различных по своему содержанию и своей тональности, – «полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных». Отсюда же – импровизационность и видимая «бессвязность» поэтического рассказа, его подчеркнутая мозаичность, дробность.
В самом деле: «Евгений Онегин» разделен на главы, а главы на относительно самостоятельные строфы – как бы завершенные стихотворные миниатюры. К тому же последовательный рассказ о событиях постоянно перебивается лирическими отступлениями, подчас довольно обширными, так что читателю то и дело приходится отвлекаться от хода действия, а затем мысленно восстанавливать прерванную нить повествования. Аналогичную роль играют пропущенные строфы (или части строф), означенные точками, а также примечания к роману – фрагменты инородных и разнородных текстов, поэтических и прозаических, своих и чужих, серьезных или шутливых, нейтрально-информационных или полемических. Той же цели служат постоянные отклонения от основного сюжета, мгновенные и неожиданные переходы от одной темы к другой, сама манера ведения поэтического рассказа. В частности, автор демонстративно прерывает и возобновляет повествование, сетует на обилие лирических отступлений и обещает в дальнейшем их избегать, подгоняет или одергивает сам себя и вообще дает понять читателю, что волен излагать ход событий по своему произволу.
Впечатление пунктирности, прерывности поэтического рассказа усиливается благодаря вставным текстам или эпизодам – таким, как Письмо Татьяны Онегину и Онегина Татьяне, песня девушек, собирающих ягоды, или предсмертная элегия Ленского. Вполне самостоятельную новеллу представляет и сон Татьяны. Добавим к этому посвящение, многочисленные эпиграфы – к каждой главе и роману в целом, приложение («Отрывки из Путешествия Онегина») – и станет ясно, что автор сознательно нагнетает впечатление калейдоскопичности текста, препятствующее последовательному восприятию и прямому соотнесению сюжетных эпизодов. Фрагментарность романа должны были особенно остро ощущать его первые читатели: ведь «Евгении Онегин» выходил сначала отдельными главами на протяжении ряда лет (1825–1832) – со значительными временны́ми интервалами.
Итак, перед нами «рассказ несвязный», воплощенный в «пестрых главах» «свободного романа», «романа в стихах», т. е. живой, непосредственный отклик на разнородные и разномасштабные впечатления бытия; непринужденное повествование, ведущееся не без оглядки на авторитетные литературные «модели», но в то же время никоим образом не укладывающееся в привычные стилевые и жанровые рамки.
Поэтому утверждение новаторской художественной природы создаваемого произведения внутренне полемично. Оно влечет за собой необходимость критического пересмотра прошлого художественного опыта, нередко рождает негативно-ироническое отношение к прежним литературным эпохам и художественным направлениям, устаревшим ограничениям, канонам и правилам, ко все еще живучим поэтическим условностям и «обольстительным обманам».
Примером может служить конец главы седьмой, где автор, явно пародируя обветшалые правила классицизма, помещает «запоздалое» вступление к роману; или же шутливое обещание начать «поэму песен в двадцать пять» (в конце главы первой), напоминающую старомодную героическую эпопею; или ироническое изложение взглядов критиков-«архаистов» на сравнительную ценность элегии и оды (4, XXXIII).
Едва ли не столь же устаревшими представляются автору и нравоучительно-сентиментальные романы XVIII в. Характеризуя круг чтения Татьяны, он особо отмечает, сколь далеки от реальности увлекавшие ее произведения («Она влюблялася в обманы / И Ричардсона и Руссо» – 2, XXIX, 3–4). Поэт откровенно посмеивается над наивным морализированием старых романистов, упрощенным пониманием ими человеческой натуры, односторонним изображением душевной жизни:
Бывало, пламенный творец Являл нам своего героя Как совершенства образец. (3, XI, 2–4)Противопоставляя в следующей строфе этим устаревшим, прошлого века, романам произведения новой, романтической литературы, автор и их оценивает критически – как другую, противоположную крайность. Старые писатели воспевали добродетель, новые (Байрон, Метьюрин, Шарль Нодье и др.) поэтизируют злодейства и порок:
А нынче все умы в тумане, Мораль на нас наводит сон, Порок любезен – и в романе, И там уж торжествует он. (3, XII, 1–4)Автору же, как и его герою, ближе из числа новейших лишь те произведения,
В которых отразился век, И современный человек Изображен довольно верно… (7, XXII, 7–9)Оказывается, однако, что и такое «довольно верное» и трезвое изображение «современного человека» не вполне удовлетворяет автора и тоже кажется ему несколько односторонним. Из поля зрения «трезвых» романистов исчезают поэзия действительности, красота и богатство мира. Вот почему мечтает он когда-нибудь приняться за «роман на старый лад», раскрывающий поэтичность повседневной жизни и душевную красоту обыкновенных людей, «Любви пленительные сны, / Да нравы нашей старины» (3, XIII, 7, 13–14).
Но это – в будущем. Теперь же автора не устраивает ни «поэма песен в двадцать пять» классицистического толка, ни «обольстительные обманы» старых романистов, ни торжество порока в произведениях романистов новейших, ни одно только трезвое изображение героя времени. Не могут удовлетворить его теперь и собственные сочинения – ни шутливо-сказочное повествование в духе «Руслана и Людмилы», ни байроническая поэма типа «Кавказского Пленника» или «Бахчисарайского фонтана» с их возвышенными стремлениями, мечтательностью и экзотикой («гордой девы идеал»). Но и бескрылое изображение мелочей быта («прозаические бредни, / Фламандской школы пестрый сор!» – Отрывки из Путешествия Онегина // Т. 6. С. 201) тоже не отвечает творческим устремлениям поэта.
Критически пересматривая все эти художественные формы, примеривая к себе разные типы повествования, автор безоговорочно отвергает одни, находит нечто ценное в других, считает нужным видоизменить третьи. Т. е. в ходе этих сопоставлений, беспрерывных притяжений и отталкиваний он осмысляет и формулирует свои художественные принципы, свою творческую программу, суть которой – в сочетании трезво-критического и возвышенно-поэтического взгляда на мир, постоянном переключении тональности поэтического рассказа, чутко отзывающегося на разноликость, подвижность и многообразие бытия.
Примерно так же обстоит дело и в сфере словесного выражения, именования предметов и явлений. Решая эту задачу, автор то и дело обсуждает с читателем возникающие варианты, правомерность сделанного выбора, оглядывается на опыт предшественников и современников, а порой вступает с ними в явную или скрытую полемику. Так, едва завершив пейзажно-жанровую зарисовку («Зима!.. Крестьянин торжествуя / На дровнях обновляет путь…» – 5, II, 1–2), он спешит подчеркнуть ее «прозаичность» («Всё это низкая природа; / Изящного не много тут» – 5, III, 3–4). При этом он сразу же указывает на другую возможность живописания зимы – возвышенно-поэтическим «роскошным» слогом, как это делает, например, Вяземский в известном стихотворении «Первый снег» (1819), где зима предстает в нарядно-праздничном обличье, или же Баратынский в «финляндской» поэме «Эда» (1824), изобразивший картину наступления зимы в суровых, величественных тонах.
Конечно, такое сопоставление имеет полемический смысл: автор отстаивает свое право писать о красоте природы просто и буднично, языком, ориентированным на прямое называние и точное обозначение предмета. Вообще же, антитеза прозаического, «низкого» и «возвышенного», «поэтического» слога неизменно привлекает его внимание, становится постоянным предметом его раздумий, сопоставлений, побуждает к демонстрации параллельных решений стилистических задач.
Вспомним хотя бы как «переводит» он на обыденный прозаический язык витиевато-перифрастическую речь романтика Ленского:
Он мыслит: «буду ей спаситель. Не потерплю, чтоб развратитель Огнем и вздохов и похвал Младое сердце искушал; Чтоб червь презренный, ядовитый Точил лилеи стебелек; Чтобы двухутренний цветок Увял еще полураскрытый». Всё это значило, друзья: С приятелем стреляюсь я. (6, XV, XVI, XVII, 5–14)Но и в речи автора обычны стилистические переключения и переходы с одного языка на другой. Так, рассказ о смерти старика Ларина выдержан поначалу в торжественно-перифрастическом ключе: «И отворились наконец / Перед супругом двери гроба. / И новый он приял венец» (2, XXXVI, 2–4), а затем вдруг следует внезапный переход к обыденно-прозаической речи – «простому» слогу: «Он умер в час перед обедом, / Оплаканный своим соседом, / Детьми и верною женой / Чистосердечней чем иной. / Он был простой и добрый барин…» (2, XXXVI, 5–9). То есть одно и то же событие описано дважды, но в разных стилевых тональностях!
Той же цели служит и обсуждение «простонародного» имени главной героини, правомерности его употребления в романе. Сходную роль выполняют полусерьезные-полушутливые рассуждения автора о возможности, трудности или невозможности передать по-русски то или иное иноязычное заимствование – отдельное слово, словосочетание или же целый текст:
Она казалась верный снимок Du сотте il faut… (Шишков, прости: Не знаю, как перевести). (8, XIV, 12–14)Аналогичны жалобы поэта на то, что он не в силах передать всю прелесть написанного по-французски письма Татьяны и вынужден предложить читателям лишь «неполный, слабый перевод».
Постоянное сопоставление разнородных вариантов, многих возможностей, разных способов речевого выражения призвано создать у читателя впечатление, что словесная материя романа, как и вся его художественная структура, как и судьбы героев, да и весь окружающий мир, не есть нечто застывшее или окостеневшее. Напротив, она представляет собой нечто становящееся, формирующееся, бродящее, находящееся в непрерывном бурлении, движении и изменении. Короче говоря, избранная автором манера повествования, «форма плана» свободного романа в стихах сродни творящей силе самой жизни.
Литература
Тынянов Ю. Н. О композиции «Евгения Онегина» // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
Бонди С. М. Литературные вопросы в «Евгении Онегине» // Пушкин А. С. Евгении Онегин. М., 1973. (Школьная б-ка.)
Бонди С. М. Вопросы языка в «Евгении Онегине» // Там же.
Бочаров С. Г. «Форма плана» // Вопросы литературы. № 12. 1967.
Бочаров С. Г. Стилистический мир романа («Евгений Онегин») // Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина: Очерки. М., 1974.
Лотман Ю. М. Своеобразие художественного построения «Евгения Онегина» // Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.
Баевский В. С. Сквозь магический кристалл. М., 1990.
Соловей Н. Я. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 2-е изд. М., 1992.
Чумаков Ю. Н. «Сон Татьяны» как стихотворная новелла // Русская новелла: Проблемы теории и истории: Сборник статей. СПб., 1993.
Примечания
1
Имеется в виду «Божественная комедия» Данте («Ад» – «Чистилище» – «Рай»).
(обратно)2
Здесь и далее в стихотворных текстах курсив наш. – А. Г.
(обратно)3
Тексты Лермонтова приводятся по изданию: Лермонтов М. Ю. Сочинения: В 6 т. М.; Л.: Наука, 1954–1957.
(обратно)4
О примате воли как характерной черте лермонтовского миросозерцания говорится в указанной работе В. Ф. Асмуса.
(обратно)5
Принцип противоречий, как показано в ряде работ Ю. М. Лотмана, «проявляется на протяжении всего романа и на самых различных структурных уровнях» [1. С. 47–48].
(обратно)6
Предложенные Р. Г. Скрынниковым уточнения и поправки (в цитированной ранее статье), если даже принять их безоговорочно, позволяют прийти к выводу, что в число опальных дворян при Годунове попали и некоторые из Пушкиных. Но это еще не дает основания считать их бунтовщиками и мятежниками.
(обратно)7
Здесь и далее в пушкинских текстах курсив наш. – А. Г.
(обратно)8
См., например, письмо Вяземскому от 16 марта 1830 г.: «Государь, уезжая, оставил в Москве проект новой организации, контрреволюции революции Петра. Вот тебе случай писать политический памфлет, и даже его напечатать, ибо правительство действует или намерено действовать в смысле европейского просвещения. Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных – вот великие предметы» [5. Т. 10. С. 214].
(обратно)9
В работе Н. В. Фридмана цитируется издание: Кант И. Критика способности суждения. СПб., 1898. С. 119–120.
(обратно)10
«В конце XVIII – начале XIX века, – отмечает Н. И. Иванова, – в поэзии активизируются перифразы, основанные на представлении жизни как пира, праздника (пир жизни, праздник жизни) или чаши, которую пьет кто-нибудь (чаша, бокал, кубок, фиал жизни)» [19. С. 151]. Ср. у Пушкина: «Мне кажется: на жизненном пиру / Один с тоской явлюсь я, гость угрюмый…» [20. Т. 1. С. 225].
(обратно)11
Вспомним хотя бы находящегося на службе офицера Петра Гринева, решившегося самовольно отправиться в неприятельский стан ради спасения возлюбленной.
(обратно)12
О библейском подтексте картины наводнения см. [14].
(обратно)13
«Кто Он, начертанный с большой буквы? Не названо. Так говорят только о том, чье имя не приемлется всуе. Перед нами дух, творящий из небытия, чьей чудесною волей преодолено сопротивление стихий», – заметил Н. П. Анциферов [16. С. 67].
(обратно)14
Об актуальности проблемы «Москва – Петербург» и своеобразии ее отражения в «Медном всаднике» говорится в статье В. Э. Вацуро [19].
(обратно)15
В научной литературе не раз отмечалась близость описания разбушевавшейся водной стихии в «Медном всаднике» и стихии крестьянского бунта в «Истории Пугачева».
(обратно)16
О значимости темы юродства в «Медном всаднике» говорится в упоминавшейся книге В. С. Листова [9. С. 62].
(обратно)17
Перевод В. Левика.
(обратно)18
Из письма Достоевского Ю. Ф. Абаза (15 июня 1880 г.): «И вы верите, что Германн действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем, в конце повести, т. е. прочтя ее, Вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из природы Германна, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов» [7. С. 192].
(обратно)19
В этом же видел сущность бонапартизма и сам Пушкин: «Мы все глядим в Наполеоны; / Двуногих тварей миллионы / Для нас орудие одно» («Евгений Онегин», гл. II, строфа XIV); ср.: [13. С. 805; 14. С. 630].
(обратно)20
Отмечено в статье В. С. Листова «Образ Лизаветы Ивановны в “Пиковой даме”» // Пушкин: судьба коренного поэта. Большое Болдино; Арзамас, 2012. С. 164–170.
(обратно)21
Позицию Г. П. Макогоненко в этом вопросе всецело разделяет и активно поддерживает Г. Г. Красухин (см. [3. С. 320]).
(обратно)22
Разночинец по происхождению, ставший военным инженером и офицером, Германн имел, по-видимому, право на получение потомственного дворянства (см. [20. С. 123]).
(обратно)23
Что порой подталкивает исследователей к однозначно-прямолинейным суждениям об этих персонажах. Скажем, в интересной и содержательной статье В. И. Коровина Томский охарактеризован как «пустой, ничтожный светский человек, не имеющий ярко выраженного лица, он воплощает случайное счастье, никак им не заслуженное» [22. С. 270].
(обратно)24
Вот почему представляются неприемлемыми суждения исследователей, игнорирующих принципиальное различие в отношении Пушкина к этим персонажам. Например: «История Томских наглядно демонстрирует деградацию старинного дворянского рода. И чиновное и родовое дворянство чуждо народу и не может быть его защитником» [19. С. 229]. Или: «Отрицательно оценив в “Пиковой даме” образы и графини и Германна, Пушкин осудил в их лице как старую, феодальную Россию, так и наступивший “железный век”» [14. С. 637].
(обратно)25
О других возможных источниках пушкинской сказки, а также новеллы В. Ирвинга см. в статье академика М. П. Алексеева [9].
(обратно)26
«Самое имя царя, – поясняет Ахматова в скобках, – взято из «Сказки о Бове Королевиче», где Дадон – “злой царь”». И далее: «В юношеской поэме Пушкина “Бова” Дадон – имя царя “тирана”, которого Пушкин сравнивает с Наполеоном» [1. С. 29].
(обратно)27
Показательно, что в ходе работы над текстом Пушкин стремился подчеркнуть независимость поведения мудреца. Так, строки чернового автографа: «Тот пришел к царю – С поклоном / Стал старик перед Дадоном» [10. С. 1109] – в окончательном варианте заменены на: «Шлет за ним гонца с поклоном. / Вот мудрец перед Дадоном / Стал…». То есть, ситуация меняется на противоположную: теперь царь сам кланяется мудрецу.
(обратно)28
Впрочем, В. Паперный приводит веские аргументы в пользу гипотезы, что герой пушкинской сказки – это как раз восточный мудрец, евнух [12. С. 128]. Однако предложенное им истолкование не проясняет мотивировку и суть конфликта, а главное – не дает ответа на вопрос: зачем же все-таки нужно было представлять антагониста царя скопцом?
(обратно)29
Разумеется, Пушкин был прекрасно осведомлен о судьбе секты скопцов. Достаточно сказать, что один из его ближайших друзей, Александр Тургенев (адресат шутливого послания 1817 г.: «Тургенев, верный покровитель / Попов, евреев и скопцов»), занимал в ту пору (1810–1824) высокий пост директора департамента в Министерстве духовных дел.
(обратно)30
Скорее так можно охарактеризовать (о чем уже было сказано ранее) отношения мавританского царя и арабского астролога у В. Ирвинга. Что касается пушкинского звездочета, то в финале он сам говорит только о том, что оказал царю услугу («Помнишь? за мою услугу…»).
(обратно)31
«Иронический гротеск вытеснил трагическую петербургскую повесть: волшебник-скопец заменил Петра Великого, а петушок на спице… занял место исполинского всадника над скалой» [20. С. 163].
(обратно)32
Речь идет о письме от 20 июня 1835 г., где Дантес уведомляет Геккерна, что часто видится с генералом Донадье, который, вероятно, приехал «с поручением политического свойства, поскольку он чрезвычайно осторожен» [12. С. 32].
(обратно)33
Напомним: по свидетельству М. А. Корфа, за три дня до дуэли Пушкин не побоялся прямо сказать царю, что подозревал его в ухаживаниях за своей женой (см. [16. С. 196–197]).
(обратно)34
В известном письме к жене от 8 июня 1834 г. поэт признавал, что «не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами». И далее: «Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у господа бога» [6. Т. 10. С. 381].
(обратно)35
Здесь и далее текст романа цитируется по изданию: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 6. 1937. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1949. При этом первая арабская цифра указывает на главу, римская – на строфу, вторая арабская – на строку.
(обратно)






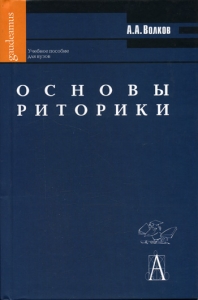
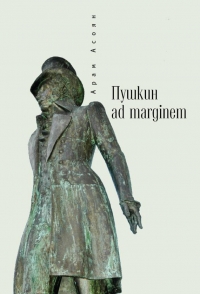

Комментарии к книге ««Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина», Александр Михайлович Гуревич
Всего 0 комментариев