Светлана Ильинична Пискунова От Пушкина до «Пушкинского Дома»: очерки исторической поэтики русского романа
Издание осуществлено при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)»
В оформлении переплета использована картина Питера Брейгеля (старшего) «Несение креста» (1564)
Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.
От автора
Исследования, составившие эту книгу (за исключением статьи «Сервантес и Булгаков», впервые представленной в виде доклада на конференции в ИМЛИ в мае 1991 года), создавались на протяжении последних десяти лет. Все они, в том или ином виде, были опубликованы в журналах и научных сборниках1.
Первоначальный замысел книги был прост и прямолинеен: проследить судьбу романа «сервантесовского типа» (М. Соколянский) в русской литературе XIX–XX веков: именно романа, а не «мифа» о Дон Кихоте, складывавшегося в читательском сознании на протяжении столетий и обретавшего плоть в самых разнообразных художественных (и не только!) дискурсах, в разных жанрах словесного искусства и в разных искусствах2. Под романом «сервантесовского типа» мы понимаем созданную автором «Дон Кихота», с нашей точки зрения, базовую модель новоевропейского романа, которую мы будем именовать «романом сознания», хотя в англоязычной литературоведческой традиции, «с подачи» Р. Алтера3, этот тип романа именуется «самосознательным романом» или «романом, сознающим себя» (a self-conscious novel)4. «Сознающий себя роман» нередко – и не безосновательно – приравнивается к «метароману» (или метаповествованию, к «роману о романе»)5, хотя, строго говоря, «роман сознания» и «роман о романе», а, тем более, «текст в тексте» – это не вполне одно и то же: «текст в тексте» имеет очень древнюю традицию (вспомним хотя бы «Панчатантру») и такой тип организации повествования не обязательно предполагает релятивизацию отношений внутри оппозиций «книга / жизнь», «вымысел / реальность», «автор / герой».
Как правило, роман «сервантесовского типа» в том или ином варианте включает в себя так называемую «донкихотскую ситуацию»6 и тесно связан с традициями смеховой культуры. Последняя определяет сущностно игровой (ритуально-карнавальный, театральный) характер развития донкихотовского7 сюжета, предполагая активное участие читателя в процессе создания романа как эстетического объекта, с одной стороны, и деконструкцию литературного дискурса (литература как жизнетворчество), с другой. Эти особенности «архитектонического» облика романа «сервантесовского типа» обусловливают его процессуальность8, динамичность9, смысловую незавершенность, которая соотносится с особой авторской позицией, для определения которой в сервантистике давно используется слово «двойственность»10, при том что двойственное (или используя конкурирующее с ним «бахтинское» слово «амбивалентное») отношение Сервантеса к своим героям, и прежде всего к своему «взбалмошному сыну» Дон Кихоту, к тексту своего романа не предполагает полного отказа писателя от вертикальной модели мира, неразличение им иллюзии и реальности, света и тьмы, добра и зла, космоса и хаоса, Бога и Дьявола, к чему, в конечном счете, придут некоторые (но далеко не все!) творцы «самосознательных» метаповествований XX века, вроде Ф. Сологуба11.
Конечно, обозначенные здесь черты романа «сервантесовского типа» проявлялись у последователей Сервантеса далеко не в полном «наборе признаков», часто сущностно переосмыслялись и даже полемически переакцентировались, особенно если сервантесовская традиция соединялась под пером романиста с иными литературными формами. Например, «Мертвые души», будучи и «текстом о тексте», и «самосознательным» метаповествованием, лишь к концу первого тома начинают перестраиваться в направлении задуманной писателем, но так и оставшейся не осуществленной, «трилогии» восхождения падшей (пребывающей в состоянии временной смерти) души к Свету. Также далеко не во всех исследуемых нами романах «донкихотская ситуация» является исходным пунктом развертывания повествования, а тема «мудрого безумия» бывает лишь пунктирно намеченной, оставшись – как в «Евгении Онегине»12 – реликтом «возможного» (С. Г. Бочаров) сюжета.
Необходимо, кроме того, учесть, что и в Западной Европе, и в России самые плодотворные попытки создания повествования «по образцу» «Дон Кихота» успешно реализовывались в тех случаях, когда писатель не шел за Сервантесом след в след, а, подобно Г. Филдингу, соединял сервантесовскую «манеру» (для нас – жанр) с «манерами» писателей, творцу «Дон Кихота» вовсе чуждыми, скажем, с техникой плутовского повествования13.
Но случалось (и довольно часто!), что романист, такой цели перед собой вовсе не ставивший, спонтанно ориентировал свое повествование на «донкихотскую ситуацию», на образ героя-«книжника» и потенциального писателя, пускай и не состоявшегося, на включение истории создания романа в сам роман. При этом автор очередной версии сознающего свою литературную природу повествования, двойник и антагонист героя, обретающего себя в процессе чтения-переписывания некоего текста (и его судьбоносного осуществления), мог опираться не на опыт Сервантеса непосредственно, а на творения других писателей, уже проникшихся сервантесовским умонастроением и освоивших сервантесовские принципы письма (так, Пушкин – автор «Евгения Онегина» создает роман «сервантесовского типа», ориентируясь скорее не на «Дон Кихота», а на «Тристрама Шенди»).
Но во всех случаях, уже став «памятью жанра» новоевропейского романа, «Дон Кихот» оказывался включенным в состав сложных многожанровых конфигураций (каковой по сути является и сам жанр романа). И если в каких-то случаях, исследуя сервантесовское начало в конкретном произведении, нам представлялось возможным иными его жанровыми «составляющими» пренебречь, то в других, идя по намеченному самим же романистом сервантесовскому «следу», например, «мифу о Дульцинее», вдохновлявшему Федора Сологуба, мы вдруг обнаруживали, что у создателя «Творимой легенды» был совсем иной непосредственный источник литературного вдохновения…
Поэтому читатель найдет в этой книге главы, в которых о романе «сервантесовского типа» почти ничего и не говорится… А речь идет о пикареске (так называемом «плутовском романе»), о барочной аллегорической «эпопее в прозе» (жанре, столь почитаемом в XVII–XVIII столетиях, у истоков которого – творение того же Сервантеса, его опубликованный посмертно роман «Странствия Персилеса и Сихизмунды» (1617), об античном прообразе этого жанра – эллинистическом романе, о рыцарских романах позднего Средневековья и Возрождения, о французской психологической прозе и новоевропейской утопии, об эпистолярном романе раннего Нового времени и немецком «романе воспитания»…
В результате эта книга оказалась и «шире», и «уже» той, которая могла бы сложиться. Ведь, следуя методу историко-поэтологического ретроспективного анализа14, сервантесовское начало можно найти и в «Шинели», и в «Преступлении и наказании»15, и в «Под ростке», равно как в прозе Лескова16, Алексея Ремизова17, К. Вагинова, в «Даре» и «Лолите» Владимира Набокова18… Модернистский «роман сознания» XX века, представленный на Западе творениями Пруста, Джойса, Кафки, Унамуно, в дореволюционной России – прозой Андрея Белого, в России пореволюционной – антиутопиями Замятина и Платонова, в России изгнаннической – прозой В. Набокова, наглядно демон стрирует способность созданного Сервантесом жанра к кардинальным транформациям (с сохранением «донкихотовской» основы).
Мы решили поставить «условную» точку в своих разысканиях о значении романа «Дон Кихот» для русского романа на «Пушкинском Доме» Андрея Битова, с которым принято связывать начало русского «постмодернизма», хотя нельзя не согласиться с М. Липовецким в том, что этот самый русский «постмодернизм» мало чем от модернизма отличается19. «Пушкинский Дом» – один из характернейших русских образцов «романа сознания», жанра, сложившегося в западноевропейской (Флобер) и русской (Достоевский) литературе еще в середине XIX столетия на скрещении по своей сущности антипсихологического романа «сервантесовского типа» и линии развития психологической прозы, более всего связанной с картезианской Францией.
В России советской, да и постсоветской, творение Сервантеса не стало тем, чем оно, в конечном счете, стало в мировой литературе – чтением для элиты, для писателей, которые, подобно Пьеру Менару Борхеса, читают-«переписывают» «Дон Кихота», чтобы еще и еще раз попытаться понять, «как делается роман» (название одного из творений М. де Унамуно). Андрей Битов, постоянно перечитывающий Пушкина и, хочется думать, перечитавший-таки «Дон Кихота»20, – редкостное исключение. Но ведь и настоящего, смешного и печального, развлекательного и «метафизического» романа в России давно не появлялось.
В процессе работы над каждой из тем нам приходилось погружаться в научную проблематику, достаточно далекую от непосредственного предмета многолетних исследований – творчества Сервантеса. Но и при самом скрупулезном отношении к трудам ученых-предшественников, нами вряд ли могло быть учтено все написанное на интересующую нас тему даже на «день», точнее, по меньшей мере, на год, отданный разработке каждой из ее глав. Возвращаться сейчас к сделанному годы назад означало превратиться в змею, кусающую собственный хвост. Поэтому мы позволили себе лишь в самых необходимых случаях сделать смысловые уточнения и частично обновить цитируемую критическую литературу.
«Дон Кихот» 1605 года и «Дон Кихот» 1615 обозначаются в тексте книги как Первая и Вторая части (с прописной буквы), поскольку нумерация «частей» входит в полное наименование обоих романов: «Первая часть хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского», «Вторая часть хитроумного кабальеро Дон Кихота Ламанчского».
Примечания
1 «Русский роман как сюжет исторический поэтики» – в «Вестнике Московского университета. Филология» (2004, № 6), «Дон Кихот» и «Евгений Онегин» – в «Университетском пушкинском сборнике» (М., 1999), «Капитанская дочка»: от плутовского романа – к семейной хронике» – в «Московском пушкинисте». XI (М., 2005), «"Мертвые души": от романа – к „поэме“» – в сборнике «Язык и культура. Факты и ценности. К 70-летию Ю. С. Степанова» (М., 2001), «Роман и риторическая традиция (случай Гоголя и Сервантеса)» (на исп. яз.) – в «Peregrinamente Peregrinos. Quinto Congreso Internacional de la Asociaciуn de cervantistas. V CINDAC, Lisboa, 1–5 de septiembre» (Alcalб de Henares, 2004), «"Донкихотская ситуация" в ранней прозе Достоевского» – в «Вестнике Московского университета. Филология» (2006, № 1), «Идиот» в зеркале «Дон Кихота Ламанчского» – в «Вопросах литературы» (2007, вып. январь-февраль), «Символистский роман: между мимеcисом и аллегорией» – в «Филологических науках» (2008, № 5), «Символистский роман и его истоки („Творимая легенда“ Ф. Сологуба)» – в «Acta Philologica» (2007, № 1), «"Мы" Евг. Замятина: Мефистофель и Андрогин» – в «Вопросах литературы» (2004, вып. ноябрь-декабрь), «"Дон Кихот" деконструированный („Чевенгур“ Андрея Платонова)» – в «Вестнике Московского университета. Филология» (2009, № 3), «Сервантес и Булгаков» – в «Вестнике Московского университета. Филология» (1996, № 5); «"Дон Кихот" и „роман сознания“» – в сборнике «Культурный палимпсест» (СПб.: Наука, 2011).
2 Этот «миф» подробно исследован в кн.: Багно В. Е. Дорогами «Дон Кихота». М.: Книга, 1988, а также в его новейшем труде: «Дон Кихот» в России и русское донкихотство. СПб.: Наука, 2009. Бытованию образа Дон Кихота в русском культурном сознании посвящено публицистическое сочинение Ю. А. Айхенвальда «Дон Кихот на русской почве» (Т. 1–2. М.; Минск, 1996). Своего рода иллюстрацией к книге Айхенвальда может служит книга «Он въезжает из другого века… Дон Кихот в России». Сост. Л. М. Бурмистрова. (М.: ВГБИЛ, 2006). Новые материалы, касающиеся бытования образа Дон Кихота в Совет ском Союзе, содержатся в кандидатской диссертации Т. Г. Артамоновой «Рецепция сюжета о Дон Кихоте в русской литературе 1920—1930-х годов» (Екатеринбург, 2006).
3 См. Alter R. Partial Magic. The Novel as a Self-Conscious Genre. University of California Press. Berkley; Los Angeles; London, 1975. Наиболее удачный перевод названия книги Алтера, перефразирующего название новеллы Х. Л. Борхеса – «Magia parcial en el Quijote» – тот, что был предложен для Борхеса Е. М. Лысенко: «Скрытая магия» (в «Дон Кихоте»).
4 «Сознающий себя» литературный дискурс под обозначением «литературоцентричный» стал предметом интереса и русской науки 2000-х годов. См.: Хатямова М. А. Формы литературной саморефлексии в русской прозе первой трети XX века. М.: Языки славянской культуры, 2008. Здесь же – библиография по теме, к сожалению, не учитывающая книгу Алтера: М. А. Хатямова считает, что приоритет в теоретической разработке проблемы литературного самосознания принадлежит Д. М. Сегалу (цитируется статья последнего 1979 года), несомненно, прекрасно знакомому с трудами американского ученого.
5 Автором термина «Metafiction» является W. Gass. Однако ввел его в широкий критический обиход Р. Скоулс (см.: Scoules R. Fabulation and Metafiction. University of Illinois Press. Urbana; Chicago; London, 1979; первое издание – 1970).
6 Термин Л. Е. Пинского. См.: Пинский Л. Е. Сюжет-фабула и сюжет-ситуация // Пинский Л. Е. Реализм эпохи Возрождения. М.: Художественная литература, 1961.
7 Прилагательное «донкихотовский» (-ая, – ое) мы, как правило, образуем от названия романа, «донкихотский» – от имени героя, хотя тот же Л. Е. Пинский, да и другие критики, их используют как синонимы. Впрочем, на строгом различении двух обозначений и мы не настаиваем.
8 Это понятие обосновано Г. С. Морсоном. См.: Morson G. S. The Boundaries of Genre. Dostoevsky's Diary of a Writer and the Tradition of Literary Utopia. Austin: University of Texas Press, 1981.
9 См. главу «"Дон Кихот" – I: динамическая поэтика» в кн.: Пискунова С. И. Испанская и португальская литература XII–XIX веков. М.: Высшая школа, 2009.
10 Durán М. La ambigüedad en el «Quijote». Xálapa: La Universidad Veracruzana, 1960.
11 Следующие за ним (как создателем «Творимой легенды») Евг. Замятин и М. Булгаков, как нам представляется, приблизятся к этой черте, но ее не перейдут. Более того: Булгаков – ближе к концу жизни и к концу своего «закатного» романа – от нее явно отступит!
12 Поднявшись (в «Восьмой главе») к высшей точке своего самосознания, Онегин, тем не менее, «не сошел с ума» (как и «не сделался поэтом»).
13 См.: Reed W. L. An Exemplary History of the Novel. The Quixotic versus the Picaresque. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1981.
14 См. о нем в главе «Русский роман как сюжет исторической поэтики».
15 См.: Cascardi A. The Bounds of Reason: Cervantes. Dostoevsky. Flaubert. New York: Columbia University Press, 1986.
16 Эта работа во многом осуществлена В. Е. Багно (см.: Багно В. Е. Указ. соч.).
17 См.: Grachiуva A. El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y los experimentos novelescos de A. Rйmizov en los aсos 30 del siglo XX // Lecturas cervantinas. 2005. San Petersburgo, 2007.
18 Структурное сходство «Лолиты» и «Дон Кихота» замечено Г. Дэвенпортом, автором «Предисловия» к американскому изданию «Лекций о „Дон Кихоте“» (1983), далее цитируемых по русскому переводу (М.: Независимая газета, 2002).
19 См.: Липовецкий М. Паралогии. Трансформации (пост)модернистского дискурса в культуре 1920–2000 годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
20 «Прочитав эти лекции, мне так захотелось перечитать „Дон Кихота“!» – восклицает писатель в небольшом эссе «Музыка чтения», которое предваряет русское издание набоковских «Лекций по зарубежной литературе» (М.: Независимая газета, 1998), включающее – в качестве приложения – сокращенную версию «Лекций о „Дон Кихоте“» (есть и указанный выше полный русский пере вод).
Русский роман как сюжет исторической поэтики
В ситуации кризиса как истории, так и теории литературы1, историческая поэтика является, на наш взгляд, одним из немногих путей развития литературоведения на почве собственно филологической традиции. На почве искусства слова, не растворенного в «гуманитарном знании» или «дискурсивных практиках». Однако, как отмечает С. Г. Бочаров, в России «история античной и западных европейских, а также восточных литератур оказалась более активным полем… выращивания» «нового теоретического знания» в лице исторической поэтики, «чем история русской литературы»2. Феномен, легко объяснимый тем, что в советском литературоведении с конца 1940-х годов доминировала тенденция представлять русскую литературу и русский классический роман в том числе (не говоря о романе современном, что было оправданнее) как нечто, не имеющее почти ничего общего с западноевропейской романистикой. Когда же сравнения с западными романами и проводились, то в первую очередь с целью доказать, что русский роман – и тут рассуждения Льва Толстого о современном ему западном романе в статье «Несколько слов по поводу книги „Война и мир“» (1868) оказались как нельзя кстати! – едва сложившись (на этом этапе отрицать западные влияния было невозможно), тут же пошел по своему особому пути. Поэтому художественная система русского романа выстраивалась по преимуществу изнутри нее самой3 с признанием лишь косвенного влияния на отдельных русских авторов ближайших во времени западноевропейских предшественников и современников4.
Тенденцией противопоставления русской и западноевропейском романной традиции отмечена даже статья Ю. М. Лотмана «Сюжетное пространство русского романа» (1987), в которой ученой задается целью набросать эскиз сюжетной системы русской наррации, ориентируясь на типологию образов героев как основных «сюжетных единиц» романа. Сюжетное пространство русского романа структурируется
Лотманом, апеллирующим на сей раз к авторитету Салтыкова-Щедрина, опять-таки в противопоставлении западного и русского романов как «семейного» и «общественного» (у других исследователей русский роман синтетичен, универсален, эпичен, всемирен, философичен и прочая, и прочая, в отличие от западного – аналитического, камерного, субъективного, натуралистичного и т. д.)5.
Одновременно Лотман выделяет два лежащих у истоков искусства повествования типа сюжетной организации текста: сказочный и мифологический6. «Пространство» русского романа, по мысли Лотмана, организуется по логике мифа, а «сказочный» сюжет западноевропейского романа «состоит в том, что герой занимает некоторое неподобающее (не удовлетворяющее его, плохое, низкое) место и стремится занять лучшее» (97). Однако, якобы, «сказочная» сюжетная схема западноевропейского романа имеет полное соответствие в классическом сюжете романа плутовского, сложившегося как раз в отталкивании от «сказочного» по многим параметрам романа рыцарского. Вместе с тем, история выскочки-пикаро (с разными вариантами развязки) нацелена отнюдь не на сказку, а на пародирование исповедального жанра7, равно как на амбивалентное цитирование христианских образов и таинств: таинства евхаристии, воскрешения Лазаря (исп. Ласаро, уменьшит. Ласарильо – так именуют героя первого образца плутовского повествования – анонимной «Жизни Ласарильо с Тормеса», сохр. изд. 1554), грехопадения (Ласарильо, проникающий, подобно змею, в «хлебный рай» – сундук священника). Вместе с тем, сюжетная схема пикарески и восходящего к ней западноевропейского романа XVII–XIX веков в равной степени сказочна и антисказочна, мифична и антимифична, циклична и линейна, о чем мы скажем немного позже.
Однако западноевропейская романная традиция, помимо пикарески, изначально включала в себя и другую «составляющую» – роман «сервантесовского типа», в котором весьма существенны и тема преображения героя (необходимо включающая в себя момент самопознания), и утопия переделки мира – его возвращения к изначальному блаженному состоянию – к Золотому веку, каковые Лотман выделяет как специфически-русские романные темы.
В том же Дон Кихоте отчетливо просматриваются черты спародированного героя-спасителя8: именно на эту роль претендует герой Сервантеса, подражая героям ренессансных рыцарских романов, постоянно спасающих разного рода дам и принцесс. В свою очередь, в средневековом рыцарском романе архетипический спаситель-богатырь (Тезей, Беовульф, Зигфрид) ассоциируется со Спасителем
Христом: таков, к примеру, Ланселот, которому герой Сервантеса во многом подражает.
К сожалению, Ю. М. Лотман – и он в этом не одинок – практически не учитывал опыт западноевропейской наррации раннего Нового времени, не говоря уже о средневековой.
Кажется, именно этот пробел попытался восполнить Н. Д. Тамарченко, поставивший перед собой задачу построения типологии русского романа с учетом – ни много ни мало – «опыта всего европейского романа от античности до современности»9.
Мысль Тамарченко о «двойственной природе сюжета» романа Нового времени, о двусоставности его структуры, в которой «новые принципы сюжетосложения» соединяются с традиционными сюжетными схемами, заслуживает всяческой поддержки. В зарубежном литературоведении она широко распространена10 и подтверждена, в частности, анализом «Дон Кихота», произведенным М. Дураном11. Однако и «Дон Кихота», и плутовской роман, который для Тамарченко «на „дореалистической“ стадии развития важнее всего» (15), теоретик русского романа почему-то причисляет к традиционалистскому, каноническому этапу в развитии жанра. Хотя именно в «Дон Кихоте» – процитируем вслед за Тамарченко М. Бахтина – воистину «во весь рост» встают «проблемы действительности и возможности человека, свободы и необходимости и проблемы творческой инициативы». Все это, согласно Тамарченко – родовые приметы реалистического романа, но – не романа Сервантеса. К сожалению, почему «Дон Кихот» причислен к жанровой (имея в виду романную традицию) архаике, в книге Н. Д. Тамарченко никак не объясняется. Почему же «добуржуазным» романом назван «Ласарильо», явствует из предлагаемого исследователем самобытного разбора анонимной повести12, не учитывающего тот факт, что вымышленная псевдоисповедь толедского городского глашатая Ласаро, нацеленная не на покаяние, а на самоправдание и даже на самовозвеличивание, стала прообразом одной из двух ведущих романных традиций Нового времени. Но Тамарченко нужно отнести «Ласарильо» к «дореалистической» стадии развития романа, поскольку «реалистическая»13 начинается, судя по всему, с Пушкина. Почему с него, а, если и не с «Дон Кихота» и «Ласарильо», то хотя бы не с Дефо? Не с Филдинга? Не со Стерна? Не с Гёте, наконец, что было бы естественнее для ученого, во многом следующего за М. Бахтиным: по следний, как известно, отводил Гёте особую роль в истории романа – роль создателя «реалистического типа романа становления»14?
Проспект не сохранившейся книги Бахтина о Гёте – «Роман воспитания и его значение в истории реализма» (опубликован издателями под заглавием «К исторической типологии романа») – мог бы дать известные основания для выделения в истории романа двух этапов (добуржуазного и буржуазного, по Н. Д. Тамарченко) – до середины XVIII столетия и после (догётевского и послегётевского). Но при всей убедительности многих положений проспекта, в нем немало сомнительного, вскользь сказанного. Так, Бахтин по какой-то причине здесь даже не упоминает «Дон Кихота», регулярно аттестуемого им самим в других трудах как классический образец жанра романа15. Характеризуя плутовской роман, ученый, судя по всему, ориентируется почти исключительно на Лесажа. Поэтому-то «Ласарильо» и «Гусман», сведения о которых, очевидно, почерпнуты из вторых рук16, представлены как образцы «романа странствований», герой которого – «движущаяся в пространстве точка, лишенная существенных характеристик и не находящаяся сама по себе в центре художественного внимания романиста» (это при том, что и Ласаро, и Гусман де Альфараче в их обеих испостасях (повествователей и действующих лиц) интересны и авторам, и читателю прежде всего).
В действительности, испанская пикареска имеет много больше сходства с биографической разновидностью «романа испытания» (по Бахтину), а еще конкретнее, с исповедальной и житийной формами последнего (как они обозначены Бахтиным в этом же «проспекте»). Именно к пикареске (как роману антивоспитания героя), в конечном счете, через «Симплиция Симплициссимуса», восходит и немецкий «роман воспитания».
Но и выделяя роман Гёте как особый этап в истории романа, Бахтин, все же, не противопоставляет романы «реалистический» и «дореалистический», о чем свидетельствует само название его погибшей книги (в «историю реализма» он включал и «готического» реалиста Рабле). А бахтинская идея «большого времени» плохо согласуется с глобальным членением истории европейской культуры на три эпохи – традиционного творчества, риторическую и постриториче скую, – столь популярным в современных трудах по исторической поэтике17.
Принято думать, что «роковая» граница между XVIII и XIX веками, впрямь очень важная для немецкой литературы и немецких литературоведения и философии, граница в пятьдесят лет, совпадающая по времени с творчеством Гёте и Канта («век Гёте»), прочерчена Э.-Р. Курциусом в труде «Европейская литература и латинское
Средневековье» (1948)18. Но ни в этом труде, ни в публикуемом (начиная с англоязычного издания 1953 года) в качестве приложения к нему докладе «Средневековые основы западного мировоззрения», прочитанном в июле 1949 года. в Аспене (Колорадо, США), ни о каких трех историко-культурных эпохах ничего не говорится. Ссылаясь на английского историка Дж. М. Тревельяна, Курциус лишь походя говорит о том, что начало Нового времени, возможно, следует относить к середине XVIII века: тогда, утверждает ученый, «если… принять во внимание, что средневековое мировоззрение и средневековый стиль сформировались лишь к 1050 году, перед нами открывается период длиной в 700 лет, представляющий собой структурное целое» (1. P. 813). Генеральный смысл главного труда Курциуса – не в новой периодизации европейской истории и истории европейской культуры, а, напротив, в демонстрации изначально (с момента встречи античности и христианства) заложенной в фундамент европейской цивилизации цельности, в доказательстве духовного единства европейского мира (что было столь важно для гуманистически ориентированного немца 1940-х годов!), в прочерчивании линии многовековой преемственности между отдельными эпохами, нациями, европейскими культурами, в выделении константных мотивов, образов, сюжетов, аккумулируемых в латиноязычной традиции (но не в ней одной!). По сути дела, Э.-Р. Курциус движется по пути А. Н. Веселовского с его «великим упростителем» – временем, когда в предисловии ко второму изданию «Европейской литературы…» сравнивает свое стремление «охватить два с половиной тысячелетия истории западной литературы» (но эти два с половиной тысячелетия в истории западной риторики, опять-таки, не объявлены им некой «эпохой») с высоты одной-единственной «универсальной точки зрения», с методом аэрофотосъемки, выявляющем главные линии и стирающем детали. Курциус выстраивает свое исследование поверх эпох, в пространстве своего «большого времени», хотя сегодня подобного рода методологический монизм (столь характерный для западного мышления Нового времени, для того же марксизма) не может не быть поставлен под сомнение.
На самом деле идея большой «риторической» эпохи – изобретение Х.-Г. Гадамера, который, сделав свою «выжимку» из Курциуса, писал в «Истине и методе»: «Когда бросаешь взгляд за пределы искусства переживания, где вступают в действие иные масштабы, в западном искусстве открываются новые широкие горизонты, которые от античности до эпохи барокко подчинялись принципиально иным ценностным масштабам, нежели критерий переживаемости…»19.
Но риторическая «эпоха» и непрерывность риторической традиции на протяжении столетий и «эпох» – разные вещи. При всей вторичной риторизации европейской литературы, которая имела место в XVII веке после «Ласарильо» и Сервантеса20, брешь, пробитая в риторической твердыне «Дон Кихотом», уже никогда не была заделана: она только расширялась. Западноевропейский роман раннего Нового времени полностью разрушает идею «великой» риторической эпохи в границах от Гомера до рубежа XVIII–XIX столетий.
Однако именно на противопоставлении риторической и постриторической «эпох» основывается пренебрежительное отношение многих русских филологов к западноевропейскому роману раннего Нового времени, к тому же мало известному. Ведь, если исключить из числа «романистов» Рабле и Ариосто, то самая ранняя стадия развития новоевропейского романа окажется представленной почти исключительно испанскими авторами (либо их последователями и подражателями, такими как Скаррон, Фюретьер, Гриммельсгаузен). В России же так и не появилась академическая история испанской литературы, из которой ученые, специально испанистикой не занимающиеся, могли бы составить внятное представление о роли испанской прозы в становлении европейского романа. Ведь все иные европейские историки жанра (американские литературоведы здесь – радостное исключение) издавна тяготели к тому, чтобы искать «прародителя» романа у себя на родине: французы таковыми объявляли то Кретьена де Труа, то Антуана де ла Саль, немцы – Гриммельсгаузена, итальянцы – Боккаччо, не говоря уж об англичанах, имевших на то более существенные аргументы. Русским же русистам оставалось за западными коллегами покорно следовать.
Например, Ю. В. Манн в статье «Автор и повествование»21, предлагая свою, во многом весьма убедительную, типологию русской наррации XIX века – от романтической поэмы до рассказов Чехова, – по ходу дела считает необходимым предпринять и «необходимые экскурсы в литературу западноевропейскую»22. Но делает он это, опираясь исключительно на исследования немецких ученых. Манн почитительно цитирует их рассуждения о том, что современный роман представлен «в своих начатках Ричардсоном, Филдингом, Стерном, Геллертом, Виландом и Гёте», что разработчиком так называемой «аукторитальной» стратегии повествования является Филдинг, что у Стерна впервые в истории европейского романа мы находим смешение разных повествовательных форм и, соответственно, первым романом о том, как пишется роман, является «Тристрам Шенди»…
Мысль о том, что история западноевропейского романа начинается с Ричардсона (в лучшем случае, с Дефо) долгие годы господствовала и в англо-американской научной традиции. Но она давно скорректирована в целом ряде трудов, лучшим из которых и по сей день, на наш взгляд, остается книга У. Л. Рида «Образцовая история романа. Донкихотовское против пикарескного»23.
Речь идет о том, что на начальном этапе становления западноевропейского романа внутри этого нового – новоевропейского – жанра повествования, открытого в живую становящуюся современность, воспринимаемую как качественно новую эпоху в истории человечества, отличную и от древности (античности), и от недавнего исторического прошлого (оно уже поименовано «Средними веками»!), сформировалось два, уже упоминавшихся нами, типа романного дискурса: замкнутый в кругозоре героя-рассказчика, сориентированный на его биографию («жизнь») с момента его рождения и до момента рассказывания о пережитом, на сатирическое изображение действительности, равно как и на назидание, плутовской роман – пикареска, и диалогический, организованный на основе всех существовавших до того и всех, которые возникнут в будущем24, повествовательных стратегий, использующий все модусы комического и одновременно просветленно-трагический роман Сервантеса, рассказывающий лишь об одном годе жизни своего престарелого героя и о его смерти, знаменующей приобщение к жизни вечной… «Дон Кихот» и плутовской роман – изначально враждебные друг другу, но друг друга дополняющие романные миры – novels, противостояли восходящей к Средневековью традиции romance. В числе целого ряда черт, отделяющих «Дон Кихота» и пикареску от широко-трактованной традиции romance – антипсихологизм и установка на уничтожение границы, отделяющей вымысел и реальность, литературу и жизнь, письмо и устную речь, текст и акт чтения текста.
Исследование У. Л. Рида существенно дополняет концепцию «двойственной» природы романа, предложенную М. Бахтиным в известном труде «Формы времени и хронотопа в романе». Оказывается, помимо объединениия в романе Нового времени двух стилистических линий («первой», риторической, и «второй», полифонической, по М. Бахтину), двух типов сюжетных схем (сюжета-фабулы и сюжета-ситуации, по Л. Пинскому), а также иных дихотомических сопряжений, в структуре и в истории романа изначально конфликтовали и дополняли друг друга плутовское и «донкихотовское» начала.
Противостояние и взаимодействие этих начал можно проследить и в судьбе русского романа, который, в особенности на начальном этапе своего формирования и ускоренного развития в 20—30-е годы XIX века, воссоздавал типологически и опосредованно, через «память жанра»25, почти все формы западноевропейского романа раннего Нового времени. Но именно они, эти формы (а не миф о Дон Кихоте и донкихотизме, к примеру), остаются вне поля зрения ученых. Исключением является лишь плутовской роман, которому посвящены исследования Р. Леблана26 и труды его последователей из числа американских славистов27.
В исследованиях Р. Леблана – помимо их конкретных историко-литературных и историко-поэтологических выводов – также практически выявлены границы и взаимодополнительность двух методологических подходов к анализу жанровых традиций – сравнительно-исторического и историко-поэтологического: начав с установления влияний, заимствований, источников, форм рецепции и пр., исследователь естественно подходит к черте, когда все данные такого рода «молчат» и начинает «говорить» «память жанра» (случай с Гоголем и Филдингом28). С другой стороны, проникая в структуру художественного целого, снимая в ней «слой за слоем», Леблан не может игнорировать и данные сравнительно-исторических разысканий, касающиеся ближайшего (по времени) литературного окружения.
Вместе с тем, американский славист не абсолютизирует противопоставление «исторической поэтики – I» и «исторической поэтики – II»: так, в годы историко-поэтологического Sturm und Drang И. П. Смирнов маркировал «анализ отношений… непосредственного следования»29 (ИП-I) и анализ произведения под углом зрения установления «последовательности „горизонтов“ его структуры, уходящей в прошлое»30 (ИП-II), то есть область ретроспективной исторической поэтики31. Именно взаимодополнительность всех обозначенных подходов и может, на наш взгляд, лечь в основу широкого сопоставления форм и этапов развития русского романа и западноевропейской наррации раннего Нового времени. Речь идет об исследовании историко-поэтологической ориентации с акцентом на ретроспективном и типологическом подходах, сочетаемых, однако, с генетическим и историческим. . Ретроспективно-генетический подход базируется на своего рода поэтологической «феноменологической редукции», второй – на эволюционистской идее восхождения от простого к сложному. Ретроспективно-генетическая историческая поэтика, «обнажающая слой за слоем» (О. М. Фрейденберг) в анализируемом тексте и доходящая, в конце концов, до его мифоритуальных основ, естественно смыкается и с мифолого-ритуалистической школой в литературоведении.
Мифоритуальные истоки словесности в целом, равно как и отдельных поэтических родов и жанров, – классическая тема ретроспективно-генетической поэтики. Жанр, этот главный «герой» исторической поэтики, сам по себе может быть трактован как ритуал, в котором заранее расписаны «роли» автора, героя и читателя. Оптимальный уровень обобщения, подвластный обеим историческим поэтикам, – жанровая система, открытая в пространство той или иной культурной эпохи. Ядро всякого историко-поэтологического анализа – конкретное словесно-художественное целое: от произведения искусства в его жанровой явленности до системы жанров, трактуемой как «большой» жанр. Именно жизнь жанров в пространстве «большого времени» культуры является главным объектом историко-поэтологических изысканий. Эта установка вполне согласуется с представлением А. Н. Веселовского о том, что задачей исторической поэтики является изучение «соотношения предания и личного творчества» (в Новое время «предание» заменяется «памятью жанра»).
Примечания
1 См.: Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. М.: Изд– во им. Сабашниковых, 2001.
2 Бочаров С. Г. Огненный меч на границах культур // Михайлов А. В. Обратный перевод. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 11–12.
3 Характерный пример: Одиноков В. Г. Художественная системность русского классического романа. Новосибирск: Наука, 1976.
4 Разительным исключением на этом фоне оказалась книга А. А. Елистратовой «Гоголь и проблемы западноевропейского романа» (М.: Наука, 1972), в которой проза Гоголя рассматривалась в проекции на всю историю новоевропейского роман, начиная с Сервантеса. Другое дело, что исповедуемый Елистратовой традиционный компаративизм (прослеживание влияний и заимствований) существенно ограничивал выводы исследовательницы.
5 См., например: Одиноков В. Г. Указ. соч. С. 4.
6 См.: Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. III. Таллинн: Александра, 1993. Цитируемые страницы будут указаны в тексте статьи. В более поздней работе «Происхождение сюжета в типологическом освещении» (1990), сомнительная дихотомия миф / сказка (сказка, тем более волшебная, типа «Золушки», о которой вспоминает Лотман, – непосредственный результат эволюции мифа), будет заменена на противопоставление мифа новелле, хронике и другим типам «линейных» структур.
7 О «Ласарильо» как о пародии на исповедь см.: Пискунова С. И. «Дон Кихот» Сервантеса и жанры испанской прозы XVI–XVII веков. М.: Изд-во МГУ, 1998.
8 Национально-русского типа, по Ю. М. Лотману.
9 Тамарченко Н. Д. Русский классический роман XIX века. М.: Изд-во Российского государственного гуманитарного ун-та, 1997. С. 15. Далее цитируемые страницы указаны в тексте главы.
10 Впервые ее отчетливо проговорил Х. Ортега-и-Гассет в «Размышлениях о „Дон Кихоте“» (1914).
11 См.: Durán М. La ambigüedad en el Quijote. Op. cit.
12 Стремясь, в частности, доказать, что «Ласарильо» – образцовый «кумулятивный» дискурс, который «лишен каких-либо признаков циклической схемы» (69), исследователь не замечает того общепризнанного критикой факта, что «Ласарильо» – это «рассказанное письмо» (К. Гильен), написанное Ласаро с целью дезавуировать слухи о некоем «обстоятельстве» (факте, деле – el caso), порочащем-де «честь» автора письма. Для этого взрослый Ласаро и рассказывает о злоключениях, пережитых им с момента рождения до «благополучного» (с его точки зрения) финала. Таким образом, «завершающая история» помещена автором повести не в ее конце, в седьмой «главке», а в самом начале – в прологе и зачине первого «трактата». Финал истории, разъясняющий, что же это за «факт», порочащий «честь» повествователя, возвращает читателя письма (безымяннную «Вашу милость» и читателя имплицитного) к его началу. Столь же циклично и строение каждого отдельно взятого эпизода из похождений Ласаро, объединенного темой смерти-воскрешения героя (Лазаря!).
Тамарченко характеризует Ласаро-повествователя как шута, который «использует» маску глупца «для шутовского разоблачения себя как рогоносца» (69). Но не Ласаро-рассказчик смеется в анонимной повести над собой-рогоносцем, а не замеченный Тамарченко автор-иронист, таящийся за кулисами вымышленного псевдодокументального повествования от первого лица, имитирующего подлинное письмо. Никакой «наджизненной» позиции Ласаро-рассказчика в повести нет: весь его рассказ нацелен на доказательство сформулированной в начале его послания мысли о трудностях, преодоленных им на пути к «добрым людям».
13 Ясно, что в словоупотреблении Н. Д. Тамарченко это определение соотносится, прежде всего, с современным, нововременным, этапом развития литературы, а отнюдь не с методом (изображением жизни в формах самой жизни, типическими характерами в тиипических обстоятельствах и т. п.). Будем и мы употреблять его в том же широком плане.
14 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 203. Далее цитируемые страницы указыватся в тексте.
15 См. об этом, в частности: Reed W. L. The Problem of Cervantes in Bakhtin's Poetic // Cervantes. 7 (1987).
16 См. об этом: Mancing H. Bakhtin, Spanish Literature and Cervantes // Cervantes for the 21st Century / Cervantes para el siglo XXI. Studies in Honor of Edward Dudley. Newark; Delaware, 2000, а также в монографии: Le Blanc R. The Russia nization of Gil Blas: a Study in Literary Appropriation. Ohio: Columbus, 1986.
17 О подвижности и условности границ между этими «эпохами» в разных европейских странах см. также наше выступление на «Кругом столе» в ИМЛИ РАН 25–26 марта 2003 года: Проблемы сравнительного литературоведения. М.: Наследие, 2004.
18 Curtius E. R. Literatura europea y Edad Media Latina. V. 1–2. Mйxico: Fondo de cultura econуmica, 1995. Цитируемые страницы указаны в тексте по этому изданию.
19 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988. С. 115. В России гадамеровская идея утвердилась благодаря работам С. С. Аверинцева «Древнегреческая поэтика и мировая литература», а также А. В. Михайлова, П. А. Гринцера и других авторов коллективного труда «Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания» (М.: Наследие, 1994). См. также: Аверинцев С. С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой литературы. М.: Наука, 1981. Примечательно, что всегда крайне щепетильный по отношению к научной традиции, С. С. Аверинцев в этой работе Э. Р. Курциуса даже не вспоминает!
20 Едва возникнув в испанской литературе второй половины XVI – начала XVII века, новоевропейский роман в обоих его разновидностях – сервантесовской и плутовской – в границах культуры Барокко вновь оттесняется на периферию, исподволь трансформируется в аллегорический назидательный эпос, в «эпическую поэму в прозе». Сам создатель новоевропейского романа заканчивает свой творческий путь аллегорическим «усовершенствованным рыцарским романом», то есть не «романом» (novel), а вновь возродившимся rоmance – «Странствиями Персилеса и Сихизмунды» (1617). См. главу «Роман и риторическая традиция (случай Гоголя и Сервантеса)».
21 См.: Манн Ю. В. Автор и повествование // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. Указ. изд.
22 Там же. С. 431.
23 Reed W. L. An Examplary History of the Novel. The Quixotic versus the Picaresque. Op. cit.
24 Таких, как нейтральное повествование, которое Ю. В. Манн (см.: Манн Ю. В. Указ. соч.) считает открытием прозаиков второй половины XIX века.
25 «Память жанра» – это «бессознательное» литературного процесса, «высветляемое» путем установления «последовательности „горизонтов“ его структуры, уходящей в прошлое» (И. П. Смирнов).
26 Le Blanc R. Op. cit.
27 Gasperetti D. The Rise of the Russian Novel: Carnival, Stylisation and Mockery of the West. DeKalb, 1998; Morris M. A. The Literature of Roguery in Seven-teenth– and Eighteenth-century Russia. Evanstone, III. 2001.
28 См.: Леблан Р. В поисках утраченного жанра. Филдинг, Гоголь и память жанра у Бахтина // Вопросы литературы, июль-август 1998.
29 Смирнов И. П. От сказки – к роману // ТОДРЛ. T. 27. Л.: Наука, 1972. С. 284.
30 Там же. С. 285. В духе ИП-II Смирнов и трактует сюжет «Капитанской дочки». См. подробнее в гл. «"Капитанская дочка": от плутовского романа – к семейной хронике».
31 Е. М. Мелетинской четверть века спустя попросту называет этот метод «исторической поэтикой „наоборот“» (Мелетинский Е. М. Достоевский в свете исторической поэтики. Как сделаны «Братья Карамазовы». М.: Изд-во Российского государственного гуманитарного ун-та, 1996. С. 5).
«Дон Кихот» и «Евгений Онегин» (Опыт типологического сопоставления)
«Нам недостает исследования, которое бы показало, что в каждом романе тончайшей филигранью просвечивает „Дон Кихот“», – писал Хосе Ортега-и-Гассет в эссе «Размышления о „Дон Кихоте“», опубликованном в 1914 году. Автор «Размышлений…» также заметил, что «Дон Кихот» выступает в роли идеального жанрового образца прежде всего в переломные, ключевые моменты в истории романа. Подтверждает ли, и если подтверждает, то в какой мере, русский опыт правоту слов испанского философа? Ответом на этот вопрос могут стать результаты сопоставления «Дон Кихота» – прообраза европейского романа Нового времени – и «Евгения Онегина», первого русского романа новоевропейского типа. Правомочность и необходимость такого сопоставления обоснованы С. Г. Бочаровым, неслучайно автором статьи «О композиции „Дон Кихота“»1, обозначившей качественно новый этап прочтения романа Сервантеса в русской испанистике. «Особое, уникальное положение „Дон Кихота“ в европейской литературе и ряд его существеннейших отличий, – пишет ученый, – напоминают нам о „Евгении Онегине“. Типологическая параллель между двумя этими универсальными романами-уникумами представляется возможной и глубокой. „Онегин“ также… содержит в собственных поэтических недрах собственную теорию, и также здесь необыкновенно важно, что внутри романа герои читают романы наподобие рыцарских, и не только читают романы, но их „живут“ (Татьяна), люди жизнью своей решают проблему „романа и жизни“… Тема „Евгений Онегин“ и „Дон Кихот“ еще не поставлена в филологии»2.
Действительно, в существующих работах, посвященных судьбе романа Сервантеса в России, начиная от книги Л. Букетоф-Туркевич «Сервантес в России»3 и заканчивая книгой В. Багно «Дорогами „Дон Кихота“»4 (не говоря о сугубо публицистических сочинениях типа «Дон Кихота на русской почве» Юрия Айхенвальда5), речь преимущественно идет о восприятии в русской культуре образа главного героя романа Сервантеса и других сервантесовских образцов, тем и мотивов (независимо от того, в каких формах это восприятие запечатлелось: в эссе, романе, поэзии, живописи, балете и т. п.). В центре нашего внимания, напротив, будет роман «Дон Кихот» как жанровое целое, иными словами – «форма плана» сервантесовского романа (если – вслед за С. Г. Бочаровым – воспользоваться известной формулой Пушкина), спроецированная на «форму плана» «Евгения Онегина», поскольку, как то и представляется С. Г. Бочарову, фундаментальное сходство «Дон Кихота» и «Онегина» нужно искать на самом «высоком», жанрово-тематическом, «метафизическом» уровне, лишь с него переходя на уровень сопоставления сюжетно-композиционного строя двух произведений, а затем – и отдельных мотивов и образов.
Единственное известное нам6, правда, косвенное, сопоставление «Онегина» с «Дон Кихотом» в аспекте жанровой парадигматики было сделано В. Страда в предисловии к антологии трудов советских теоретиков романа, изданной в Турине в 1976 года7 Полемизируя с Виктором Шкловским, автором эссе «Как сделан „Дон Кихот“», В. Страда защищает «органическое единство» «Дон Кихота», «тематическую целостность» сервантесовского романа, создававшегося, по его мнению, отнюдь не спонтанно, не путем механического нанизывания эпизодов на фигуру Рыцаря Печального Образа, а в процессе целеустремленного сознательного творчества Сервантеса8. И здесь В. Страда попутно вспоминает о «Евгении Онегине» – «произведении интенсивного поэтического самосознания»9. «"Евгений Онегин", – пишет итальянский исследователь, – роман, который Пушкин писал продолжительное время, в течение которого литературные воззрения автора и отношение Пушкина к своему герою глубоко изменились, как глубоко изменилась и сама историческая ситуация, – на первый взгляд, может показаться простой последовательностью частей, не только относительно автономных, но подчас противоречащих друг другу, соединенных между собою одной-единственной „осью“ – самим Онегиным. Однако секрет пушкинского „Онегина“ заключается в тонком поэтическом единстве противоречий, единстве исключительно „внутреннем“, насквозь пронизанном сложным потоком времени…»10 В приведенном высказывании итальянского русиста особенно важна формула «поэтическое единство противоречий», поскольку она, на наш взгляд, касается самого существа жанра романа, и не только «Онегина»11. Правда, трактуя жанрообразующее противоречие «Дон Кихота» как противоречие «между иллюзией и реальностью, между иллюзией реальности и реальностью иллюзии»12, Страда не
учитывает, что это противоречие возникает внутри художественного мира истории «хитроумного идальго» как противопоставление текста «романа»13 Дон Кихота (или «романа» любого иного героя, обладающего собственной жанровой точкой зрения на мир) тексту «правдивой истории», принадлежащей перу Сида Ахмета Бененхели. При этом любой из членов противопоставления может быть принят как за «реальность» (жизнь, историю), так и за вымысел (роман)14 любым из участников акта чтения-создания романа: героем (-ями), читателем (-ями), автором (-ами). Потому что роман как жанровое единство создается только в акте чтения, в диалогическом общении его автора, читателя и героя (-ев)15: с последними у автора-романиста складываются особые отношения «взаимозаменимости»16 или нераздельности-неслиянности. Сервантес и Пушкин выстраивают свои отношения с героями по линии максимального сближения-отдаления: Дон Кихот – взбалмошный сын Сервантеса, а тот – его отчим, padrastro; Онегин – «добрый приятель» автора, вместе с тем замечающего: «Всегда я рад заметить разность / Между Онегиным и мной…».
Одновременно сам процесс создания романа, а также сам автор – уже на правах персонажа романа – включаются в его сюжет, что особенно ощутимо в прологе к «Дон Кихоту» 1605 года и в «Дон Кихоте» 1615 года. «Единство "Евгения Онегина", – пишет Ю. Н. Чумаков, цитирующий, в свою очередь, С. Г. Бочарова, – обусловлено образом автора, точнее, образом авторского сознания. Роман движется постоянным переключением из плана автора в план героев и обратно. Планы не отделены друг от друга. Действительность романа – "гибрид: мир, в котором пишут роман и читают его, смешался с "миром" романа, исчезла рама, граница миров, изображение жизни смешалось с жизнью". В результате "читатель чувствует себя свободно в действительности романа"»17. Но то же самое мы можем сказать о читателе «Дон Кихота». Более того, особая соотнесенность в романе плана автора и плана героев, взаимодействие этих планов с планом читательского сознания в акте чтения-создания романа впервые в европейской литературе обрела зрелые и законченные очертания именно в «Дон Кихоте»18. И именно по этой линии опыт Сервантеса-романиста – скорее всего, косвенным путем, через «память жанра»19, через опыт английских романистов, – был унаследован Пушкиным.
Не только автор и читатель, автор и герои «Онегина» «взаимозаменяемы». Эта тенденция распространяется и на персонажей, ведет «к возникновению креолизированных образов, а в конечном счете, к созданию некоего общего духовного основания для всех героев романа»20. Можно согласиться с тем, что Татьяна Ларина – это персонаж-«донкихот»21, то есть персонаж-читатель, живущий в особом «книжном» мире и действующий по его жанровым законам. Причем такой читатель, который то и дело переходит из мира романа в «роман» жизни и наоборот, который выстраивает свою жизнь как «роман»… В этом смысле трансформация Онегина из светского франта в читателя может быть названа «кихотизацией» героя. Однако «читателем» Онегин становится только к концу романа22, в то время как пародийно-сатирическое начало в его образе резко идет на убыль уже в финале первой главы23. В образе же Татьяны это начало вовсе отсутствует, что подводит нас к существеннейшему, на первый взгляд, различию двух романов: всем известно, что «Дон Кихот» – это пародия, а «Евгения Онегина» в таком качестве не рассматривают даже те исследователи, кто вслед за Ю. Н. Тыняновым24 склонны особенно акцентировать пародирование Пушкиным в «Онегине» всего жанрового репертуара эпохи25.
Однако «существеннейшим» это различие является разве что «на первый взгляд». «Дон Кихот» как жанровое целое также не является пародией26, хотя элементы пародийности (и очень значительные) в романе Сервантеса, несомненно, есть. Пародия на рыцарские романы определяет сюжетный строй первых десяти глав «Дон Кихота», после чего повествование перемещается в пасторальный хронотоп, а затем – и в сходный с ним «высокий» план так называемых «вставных» новелл, хотя «вставной» новеллой в строгом смысле слова является только «Повесть о безрассудно-любопытном». Время от времени в него вторгаются травестийно-карнавализованные и театрализованные сцены, в которых в качестве протагониста вновь выступает Дон Кихот (ночная сцена с Мариторнес, потасовка в трактире, битва Дон Кихота с винными бурдюками и др.), но которые не являются литературными пародиями в точном значении этого слова. То, как Дон Кихот своими речами и деяниями пародирует героев рыцарских романов, является предметом, но не модусом авторского изображения, которое с первых строк романа развертывается в аспекте косвенного, иронического дискурса. Не пародия, а ирония является жанрообразующим принципом романа Сервантеса, который в этом смысле вполне сопоставим с романом Пушкина: «доминирующее место иронии в стилевом единстве „Евгения Онегина“ – очевидный… факт»27. В свете сказанного многое (хотя, конечно, отнюдь не все!) из того, что Ю. Н. Тынянов и его последователи из числа пушкинистов или Э. Клоуз, Х. Мэнсинг и другие сервантисты рассматривают как жанровые пародии, мы склонны были бы расценивать как ироническое цитирование, включая сюда и случаи автоцитирования (функция Второй части «Дон Кихота» в Первой, соотнесенность «Путешествия Онегина» и предыдущих восьми глав). Неотъемлемой частью иронического дискурса, формируемого контекстом и интонацией, является ориентация повествования на устное слово, которое в последние годы стало объектом пристальнейшего внимания сервантистов и роль которого в «Онегине» давно выявлена Ю. М. Лотманом28.
Но авторская ирония нацелена на установление дистанции между автором и героем, автором и читателем. У Пушкина же, как и у Сервантеса, двусмысленность повествования сталкивается с энергией авторской солидарности с героями (о которой мы уже говорили), авторского сострадания и авторской любви, авторской дружественной трактовки образа читателя, обращенности самих героев друг к другу, о которой пишет Ю. Н. Чумаков. Поэтому применительно к «Дон Кихоту» мы сочли возможным выделить особую разновидность иронического, которую – вслед за М. Менендесом-и-Пелайо – назвали «благорасположенной иронией»29. В отличие от иронии романтической, царящей в мире монологического слова, смех Сервантеса, равно как печальная веселость Пушкина, возникают в диалоге романиста с читателем, в диалоге автора и читателя с героем (героями), в диалоге творца с самим собой, растянувшемся на время создания обоих романов30 и существенно углубившем их первоначальный замысел: начавшиеся как пародии или сатиры, оба романа по мере развертывания повествования превращаются в «романы сознания» (С. Г. Бочаров). «Роман сознания» по определению является текстом, создающимся во время чтения этого текста: ведь именно этим иносказанием оперируют Мамардашвили и Пятигорский31, когда ищут косвенного ответа на вопрос «Что такое сознание?» (поскольку прямого быть не может). Сознание – это не психология, не «внутренняя жизнь», а нечто, находящееся за границами «и ума, и памяти» (по словам блаженного Августина): в книге, которая становится жизнью («Возьми и читай»!), в жизни, которая развертывается как создаваемая и тут же читаемая книга. Нередко переход книги в жизнь сопровождается комическими эффектами, как комично всякое воплощение, отелеснивание духовного. В этом плане показательно сходство двух центральных эпизодов «Дон Кихота» и «Онегина» – эпизода спуска Дон Кихота в пещеру Монтесиноса, в котором Рыцарь Печального Образа то ли во сне, то ли наяву встречается с героями рыцарских романов и с Дульсинеей, предстающей в обличье грубой крестьянки (II, 22–23), и сна
Татьяны: фабулы обоих соотносимы с ритуалом инициации, оба пронизаны гротескными образами фольклорного происхождения, оба раскрывают глубь сознания – подсознательное – героя Сервантеса и героини Пушкина. И оба сновидения оказываются двусмысленно пророческими, не подлежащими однозначному толкованию, несводимыми к тексту, упорядоченному извне (вроде дополнения к Вергилию Полидору – энциклопедии, которую сочиняет юный лиценциат, провожающий героя Сервантеса ко входу в пещеру, или сонника Задеки). В то же время сон-пророчество строится как подчиненный логике абсурда «текст в тексте», по отношению к которому бессмысленно ставить вопрос, правдив он или нет, поскольку располагается он в виртуальном пространстве сознания. С этой точки зрения сновидение и чтение – процессы взаимообусловленные. Сон Дон Кихота в пещере – подведение итогов его опыта как читателя и знатока романсеро, равно как сон Татьяны – аккумуляция опыта «простонародной» культуры.
Одновременно эпизод в пещере Монтесиноса и сновидение Татьяны могут быть функционально приравнены к XXXVI–XXXVII строфам восьмой главы «Онегина», в которых свой «сон»-откровение видит Онегин:
И что ж? Глаза его читали, Но мысли были далеко; Мечты, желания, печали Теснились в душу глубоко. Он меж печатными строками Читал духовными глазами Другие строки. В них-то он Был совершенно углублен. То были тайные преданья Сердечной, темной старины, Ни с чем не связанные сны, Угрозы, толки, предсказанья… И постепенно в усыпленье И чувств и дум впадает он, А перед ним Воображенье Свой пестрый мечет фараон. То видит он…Приведенный эпизод, о котором мы уже упоминали в другой связи, – вершина самосознания героя Пушкина, точка, в которой он почти вплотную сблизился с автором (чуть было не стал поэтом).
Ориентированность обоих романов на изображение жизни сознания непосредственно соотносится с жанрообразующей темой романа, которую мы применительно к «Дон Кихоту» сформулировали как «формирование самосознания личности в мире распавшихся тождеств», при том что выход (прорыв) героя (и автора) в сферу сознания знаменует восстановление утраченного единства бытия. Как нам представляется, сходным образом определяет жанрообразующую тему «Онегина» В. С. Непомнящий: «Мистерия „скитаний“, пророчество о которой Достоевский увидел в пушкинском романе, – пишет критик, – охватывает в русской литературе огромную типологию. Собственно говоря, вся проблема человека – его духовной жизни или духовной смерти – предстает у Пушкина как проблема русского мыслящего человека послепетровской эпохи… Именно „интерес проблемы“ и является формообразующим и жанрообразующим фактором»32. При этом, по мысли В. С. Непомнящего, «сюжет героев», в том числе и любовный сюжет, подчинен в «Онегине» магистральной теме становления самосознания личности русского человека послепетровского времени.
То, что В. С. Непомнящий называет «сюжетом героев», другие исследователи «Онегина» (В. А. Грехнев, В. Н. Турбин) называют фабулой, акцентируя подчиненность фабулы сюжету (у В. С. Непомнящего сюжет подчинен теме). «Горизонты фабулы в "Евгении Онегине" разительно не совпадают с горизонтами сюжета… Эстетические горизонты сюжета неизмеримо шире его фабулы»33, – пишет В. А. Грехнев, разумея под фабулой «роман героев» и соотнося сюжет с «авторской сферой романа», с тем, что мы бы назвали «романом автора и героя» – поскольку в «авторской сфере романа», на наш взгляд, развертывается своя фабула, которая получает развитие в «Путешествии Онегина»; фабульные линии обоих «романов» – «романа героев» и «романа автора и героя» – сходятся: тема и сюжет, сюжет и фабула совпадают, а автор и герой оказываются слиты почти до неразличимости.
Своя «"мистерия" странствий» и свои любовные истории («фабулы») есть и в «Дон Кихоте», в котором фабула пародийного и вместе с тем мистического «романа» Алонсо Кихано трансформируется в донкихотовский сюжет-ситуацию (Л. Е. Пинский). Сопряженная с этим сюжетом тема самопознания человечества (как определил ее для «Дон Кихота» тот же Достоевский) в процессе развития повествования в Первой части романа Сервантеса пересекается с «романами» «вставных» историй, а во второй – с историей самой Первой части. Знак перехода сервантесовского повествования из плана пародийно-мистериального в план любовно-авантюрный – смена хронотопа дороги на хронотоп идиллический (пасторальный): это – встреча Дон Кихота с пастухами в XI главе, которая первоначально была приурочена к пребыванию Дон Кихота в горах Сьерра-Морены. В трактире, расположенном в предгорьях Сьерры, трактирщик и его постояльцы (в отсутствие спящего Дон Кихота) читают найденную в сундуке «Повесть о безрассудно-любопытном», фабульно восходящую к близнечному мифу и к древнеегипетской «повести о двух братьях», развернувшимся в мировой литературе в многочисленных версиях рассказа о двух друзьях (братьях) и об их трагическом соперничестве (у Сервантеса, заимствовавшего сюжет своей новеллы у Ариосто, безрассудно-любопытный муж, желая испытать верность своей жены, провоцирует друга на участие в «эксперименте», который заканчивается трагически для всех его участников).
По отношению к «роману автора и героя» «роман героев» в «Онегине» оказывается также на положении вставной новеллы: «мистерия странствий» автора и Онегина прерывается в момент перемещения героя из столицы в мир поместной России. В «идиллическом» мире, сосредоточенном вокруг усадеб Лариных, Ленского и Онегина, разыгрывается своя трагическая «новелла» о двух друзьях, один из которых провоцирует невесту друга на испытание глубины ее чувства (провоцирует, чтобы развлечься, рассеяться): проверка-игра также заканчивается вполне всерьез – воскрешением призрака «чести», этого неизменного спутника всех презираемых Пушкиным «испанских» сюжетов, кровью, убийством (пасторальный хронотоп издавна тяготеет к мотивам смерти, похорон, кладбищ, могил и т. д.).
Другая фабульная составляющая «романа героев» в «Онегине» – повесть о «несовпадающей» (вариант: запоздалой) любви, также вполне традиционна34: так, у того же Ариосто, прекрасно известного Пушкину, и у совсем ему не известных авторов испанских пасторальных романов отвергаемый влюбленный (-ая) исцеляется от своего чувства при помощи волшебного средства (например, испив из волшебного источника), в то время, как объект его (ее) чувства, испив волшебной воды из другого источника, вызывающего любовь, влюбляется в того, кого отвергал прежде. Пушкин в качестве преграды между Онегиным и Татьяной вводит в фабулу мотив замужества Татьяны (также достаточно традиционный в западноевропейском любовно-авантюрном романе ход), ставя тем самым Татьяну в положение принцессы Клевской, а Онегина – в положение… трубадура, служителя Прекрасной
Дамы, которая «по определению» должна была быть замужем и занимать высокое положение на социальной лестнице.
Поразившая Онегина любовь к Татьяне – последняя стадия «вочеловечивания» героя Пушкина, превращение его из светского франта, подобия «ветреной Венеры», адепта карнавальной любви-игры в страдающего влюбленного, или – если идти от его функции в сюжете – в «рыцаря», хотя именно этого персонажа нет в номенклатуре персонажей русского романа первой половины XIX века. Зато, согласно классификации Ю. М. Лотмана, в творчестве Пушкина конца 20-х годов нередко встречается антитетическая пара «джентльмен-разбойник»35, каковые, по сути, двумя ипостасями рыцаря и являются36. Сон Татьяны, соединяя «джентльмена» и «разбойника» в гротескное целое, открывает в Онегине первых глав перспективу его движения к Онегину восьмой главы. Подсознательное стремление Татьяны соединить в Онегине «джентльмена» и «разбойника» – это мечта русской культуры (в лице Пушкина и его героини) о русском «рыцаре бедном», о служителе Вечной женственности, так и оставшаяся недовоплощенной на русской почве. В то время как сама Вечная Женственность именно здесь, в России, в «Онегине», в «милом идеале» Татьяны, нашла себе земное пристанище, оставшись на страницах испанской «повести» навечно заколдованной в обличье грубой крестьянки.
Наконец, типологически однотипны – в своей амбивалентности и условной завершенности – окончания испанского и русского романов. Оба романиста – и Сервантес, и Пушкин – с явным трудом, ценой немалого внутреннего усилия – расстаются со своими героями, расстаются вынужденно: Сервантес должен похоронить Алонсо Кихано, чтобы не появился новый Авельянеда, Пушкин – «просто» потому, что пришло время («…Довольно мы путем одним / Бродили по свету…»). Но похороны идальго, возомнившего себя Дон Кихотом, – не смерть Дон Кихота и не конец романа Сервантеса: конец «Дон Кихота» 1615 года – речь Сида Ахмета, обращенная к своему перу и возвращающая нас к моменту рождения Дон Кихота (его сотворения и крещения, осуществленного Алонсо Кихано), то есть к началу повествования («Для меня одного родился Дон Кихот…»). Равно как «окаменение» Онегина – развязка «романа героев», его фабулы, в то время как «роман автора и героя», его сюжет продолжится в «Путешествии Онегина», последняя строка которого также переносит читателя к началу создания «Онегина» («Итак, я жил тогда в Одессе…»)37.
Сказанное – только подступ к решению поставленной С. Г. Бочаровым перед испанистикой и русистикой проблемы. Несомненно, дополнительного рассмотрения заслуживают такие сходящиеся-расходящиеся мотивы двух романов, как безумие-мудрость Дон Кихота и «русская хандра» Онегина, все же не сошедшего с ума, оставшегося на грани, которую так боялся перейти его создатель.
Примечания
1 Впервые она была опубликована в сборнике «Сервантес и всемирная литература» (М.: Наука, 1969). Переиздана в кн.: Бочаров С. Г. О художественных мирах (М.: Советская Россия, 1985). Далее цитируется по последнему изданию, тем более что в первом примечания о сходстве «Онегина» и «Дон Кихота» нет.
2 Бочаров С. Г. Указ. соч. С. 27.
3 Buketoff-Turkevich L. Cervantes in Russia. Princeton, 1950.
4 Багно В. Е. Дорогами «Дон Кихота». Указ. изд.
5 Айхенвальд Ю. Дон Кихот на русской почве. Указ. изд.
6 После первой публикации нашего исследования в 2001 году, во время работы в качестве приглашенного профессора в США, мы смогли познакомиться с неопубликованной докторской диссертацией Б. Т. Холла «"Дон Кихот" и русский роман; сопоставительный анализ» (Hall B. T. Don Quixote and the Russian Novel: a Comparative Analysis), защищенной в 1992 года в университете Висконсин-Медисон. Первая глава диссертации посвящена «Евгению Онегину». В целом анализ Холла развивает линию, намеченную М. Бахтиным и развитую В. Е. Багно, т. е. линию сопоставления образов Татьяны и Дон Кихота.
7 Цит. по изд.: Страда В. Лукач, Бахтин и другие // Бахтинский сборник. III. М.: Лабиринт, 1977.
8 Начиная с Э. Райли, автора ставшей классикой сервантистики книги «Сервантесовская теория романа» (Riley E. Cervantes's Theory of the Novel. Oxford: Clarendon Press, 1962), в сервантистике утвердилась тенденция трактовать творчество создателя «Дон Кихота» как плод целеустремленной, сплошь сознательной, лишенной какой-либо спонтанности деятельности, ориентированной на современные эстетические концепции и школы, неоаристотелизм в первую очередь. Нам она представляется такой же крайностью, как и романтическая концепция «Сервантеса – невежественного гения».
9 Страда В. Указ. соч. С. 51.
10 Там же.
11 Прочтение «Онегина» с точки зрения поэтики противоречий, как известно, – заслуга Ю. М. Лотмана (см., например: Лотман Ю. М. Своеобразие художественного построения «Евгения Онегина» // Лотман Ю. М. В школе поэтического творчества. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М.: Просвещение, 1988). И здесь критики-пушкинисты и сервантисты поразительно единодушны: о «противоречивости» или «двойственности», «амбивалентности» романа
Сервантеса пишут почти все, кто когда-либо писал о «Дон Кихоте» (см., например: Durán М. La ambigüedad en el Quijote. Op. cit.).
12 Страда В. Указ. соч. С. 51.
13 Мы – вслед за С. Г. Бочаровым – закавычиваем здесь слово «роман», чтобы отличить его от романа как такового. В английском языке «роману» (в кавычках) соответствует слово romance, роману в новоевропейском значении слова – novel.
14 Характерна в этой связи двойственная трактовка обоими романистами того термина, который они используют для обозначения жанровой сущности своего сочинения. Сервантес именует его «история» (historia – на русский язык нередко переводится как «повесть»), в которое вкладывает два взаимоисключающих смысла: его «история» – это пародия на псевдоисторичность «книг о рыцарстве» и одновременно – достоверное повествование. То же – у Пушкина: роман – и нечто, рифмуемое с «обман», и одновременно – правда жизни.
15 «Повествуя о многообразных событиях русской жизни 20-х годов XIX столетия, о становлении сознания живущих в условном мире романа людей, – писал об „Онегине“ В. Н. Турбин, – роман предполагает присутствие где-то рядом с повествованием и читательского сознания. Оно-то и есть голос жизни, многообразие которой поминутно стремится жанрово упорядочиться, иначе оно оказалось бы просто хаосом» (Турбин В. Н. Поэтика романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». М.: Изд-во МГУ, 1996. С. 11).
16 Об этой особенности поэтики Пушкина точно и убедительно пишет Ю. Н. Чумаков (см.: Чумаков Ю. Н. «Евгений Онегин» и русский стихотворный роман. Новосибирск: Наука, 1983. С. 19, 41 и сл.)
17 Чумаков Ю. Н. Указ. соч. С. 10.
18 Более подробно о «Дон Кихоте» как «романе сознания», о самом этом жанре и его месте в литературе эпохи Модерна и Постмодерна см. в заключительной главе этой книги.
19 Очевидно, Пушкин, хотя и начал незадолго до гибели изучать испанский язык, не читал роман Сервантеса в оригинале и мог быть знаком только с его неточными и неполными французскими и русскими переводами, судя по всему, не произведшими на него большого впечатления. Поэтому мы скорее готовы допустить интенсивное косвенное воздействие сервантесовских романных новаций на создание «Евгения Онегина» – через «Чайльд Гарольда», «Тристрама Шенди», творения других английских романистов. Но в этой работе мы ограничиваемся типологическим сопоставлением.
20 Чумаков Ю. Н. Указ. соч. С. 41. О духовно-телесной общности людей как идеале Сервантеса, воплощенном в метафоре мистического «тела Христова», см.: Пискунова С. И. «Дон Кихот»: поэтика всеединства // Пискунова С. И. Испанская и португальская литература XII–XIX веков. Указ. изд.
21 Впервые уподобил Татьяну Дон Кихоту Д. Писарев, хотя со своими целями.
22 Две внешне схожие ситуации, в которых изображен Онегин в первой и в восьмой главах («Отрядом книг уставил полку, / Читал, читал, а все без толку…» и «…Что ж? Глаза его читали. / Но мысли были далеко…»), на самом деле имеют принципиально противоположный смысл: в первом Онегин представлен в роли озлобленного судии всего мира, во втором – судит себя.
23 Об эволюции образа Онегина в первой главе см. в указ. соч. Ю. М. Лотмана.
24 «Роман этот сплошь литературен: герои и героини являются на фоне старых романов как бы пародическими тенями» (Тынянов Ю. Н. О композиции «Евгения Онегина» // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 66).
25 По мнению В. Н. Турбина, «о присутствии в романе (Пушкина. – С. П.) какого-либо словесного жанра сигнализирует в первую очередь… пародия на него» (Турбин В. Н. Указ. соч. С. 19).
26 Как нам представляется, значительно ближе к истине был Ю. М. Лотман, который, не отрицая пародийных элементов в «Онегине», предпочитал говорить о цитатности и иронии (см.: Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 55).
27 Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 64.
28 См. раздел указ. соч., именуемый «Проблема интонации». «Роман требует болтовни. Вместе с самоиронией в поэму входит тон откровенного разговора…, подчас болтовни», – пишет Ю. Манн о поэме В. С. Филимонова «Дурацкий колпак», присланной автором Пушкину в 1828 года (Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М.: Наука, 1976. С. 278), вновь подтверждая сближенность иронического дискурса и «болтовни».
29 См.: Пискунова С. И. Указ. соч.
30 Любопытно, что и «Онегин», и «Дон Кихот» 1605 года – оба – создавались частями (главами, блоками глав) на протяжении семи лет писателями-странниками, то и дело менявшими место жительства или пребывания, а время создания каждого романа в целом пришлось на «перелом эпохи» – момент цивилизационного слома.
31 Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символе и языке. М.: Языки русской культуры, 1999.
32 Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. М.: Советский писатель, 1983. С. 284–285.
33 Грехнев В. А. Диалог с читателем в романе Пушкина «Евгений Онегин» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XI. Л.: Наука, 1979. С. 100.
34 Традиционность фабулы «романа» Онегина и Татьяны, как и сюжет «двух друзей», не отменяет того нового, что вносит в их пересозидание Пушкин.
35 Лотман Ю. М. Пушкин и повесть о капитане Копейкине. К истории замысла и композиции «Мертвых душ» // Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 241 и сл.
36 Образование рыцарства как сословия в Западной Европе уничтожило разбойничью вольницу вооруженных всадников, направив их силу на сформулированные духовно-рыцарскими орденами – идеологами рыцарского служения, высшие цели, в том числе и на служение Деве Марии и ее десакрализованному земному «двойнику» – Прекрасной Даме. С другой стороны, рыцарская служба до поры до времени сохраняла для феодальной аристократии (средневековых «джентльменов») дух воинской героики. Этот дух начал стремительно выветриваться из аристократической среды в эпоху Возрождения, когда на смену рыцарству пришла регулярная наемная армия, когда рыцарь стал «придворным» (воистину «джентльменом»), а солдат – грабителем, и когда Сервантес – в укор своему времени – создал рыцаря Печального Образа и рядом с ним – первого в европейской литературе благородного разбойника – Роке Гинарта.
37 «В плане автора, – пишет Ю. Н. Чумаков, – „Евгений Онегин“ заканчивается в 1823 году, в Одессе, когда Пушкин действительно приступил в работе над ним. Создается впечатление, что роман начинается за его концом» (Чумаков Ю. Н. Указ. соч. С. 11).
«Капитанская дочка»: От плутовского романа – к семейной хронике
По мнению Е. М. Мелетинского1, цели и задачи исторической поэтики не только не включают, а исключают традиционную область компаративистских штудий – поиск влияний и заимствований. В последней пушкинистика, впрямь, накопила огромный запас наблюдений. Правда, до сих пор сохраняется крен в сторону сближения Пушкина преимущественно с французской литературой XVIII – начала XIX века, тогда как еще В. М. Жирмунский отмечал, что «отношение Пушкина к западным писателям было различным на разных этапах его творчества»: «Французы XVIII века (в особенности Вольтер), Байрон, Шекспир и Вальтер Скотт2 обозначают последовательные литературные влияния, творчески воспринятые и претворенные в его поэзии»3. Однако в приведенном В. М. Жирмунским списке имен нет Данте, Петрарки, Ариосто, Сервантеса (последнего Пушкин пытался читать в оригинале в последние годы жизни, хотя «Дон Кихот» в пере воде Жуковского, по всей видимости, был ему и до того прекрасно известен). Кроме того, эти и другие, в том числе и приведенные В. М. Жирмунским, имена поэтов и прозаиков западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени не столько обозначают последовательность влияний на Пушкина «западных» писателей, сколько выявляют две характерные и во многом пересекающиеся закономерности расширения его творческого кругозора. Во-первых, еще раз высвечивают тот факт, что творческий рост зрелого Пушкина сопровождался нисхождением, точнее, восхождением пушкинского гения вглубь столетий. «Современностью, – писал о Пушкине В. Вейдле, – его Европа не только не исчерпывалась, но и чем дальше, тем больше ей противополагалась. Он воспитался на литературе восемнадцатого века, но дальнейшее развитие его заключалось не в том, чтобы он старался поспешать за девятнадцатым, а в том, что он как бы возвращался вспять к семнадцатому, к шестнадцатому, к величайшим векам Европы…»4. Во-вторых, движение творческой мысли
Пушкина за пределы Франции, к возрожденческим Италии, Англии и Испании, явно соотносится со взятой им на себя миссией укоренения на русской почве новой трагедии и нового романа. С конца 20-х годов последняя задача – превратить роман и сопутствующую ему и почти не отличимую от него повесть в жанры высокого искусства – все больше выступает на первый план.
Но для создания нового русского романа нужна была опора на западноевропейский опыт, прежде всего на опыт тех стран, где роман как феномен новоевропейской прозы возник и получил развитие. А такими странами были Испания и Англия. В Испании раньше, чем где бы то ни было, в середине XVI – начале XVII века, новоевропейский роман возник в его двух жанровых ипостасях – как роман плутовской (или пикареска) и как роман так называемого «сервантесовского» типа5. Отталкиваясь от пикарески и «Дон Кихота», скрещивая эти две изначально несовместимые романные традиции6, а заодно объединяя их с восходящей к позднегреческим временам традициям жанра romance7, английские романисты XVIII века, от Дефо до Стерна, создали все основные типы и формы новоевропейского романа – любовно-сентиментальный, нравоописательный, семейно-бытовой, заложили основы «романа воспитания» и философского романа8. Уже в романтическую эпоху В. Скотт вторично (после Филдинга) соединил в своем историческом романе опыт romance (в форме «готического» романа) и опыт романистов-просветителей, одновременно учитывая и опыт их предшественников, прежде всего, Сервантеса, которого знал с детства в оригинале. Пушкин же – подчеркнем еще раз – двигался и рос в «обратной перспективе»: от В. Скотта (и Метьюрина) – к Сервантесу, к испанской романной классике.
Однако создатель «Онегина» и «Капитанской дочки», «Повестей Белкина» и «Медного всадника», как нам представляется, искал не какие-то «образцы» для подражания или «учителей», а творцов-едино мышленников, тех, чьи произведения стали бы подтверждением верности его собственных экспериментов в деле создания новых повествовательных жанров. Поэтому, говоря о месте романов Пушкина в общеевропейской романной традиции (а русский роман мог обрести свое особое лицо только внутри нее), надо начинать не с «влияний», и даже не с «взаимодействий», а с типологических сопоставлений. Исследование контактов прямых, непосредственных (какую бы форму они не принимали – заимствования, полемики, отталкивания, пародирования) было бы полезно подчинить изучению того, что М. Бахтин называл «памятью жанра».
Тем самым, из области традиционных сравнительно-исторических штудий мы перемещаемся в область «исторической поэтики наоборот» (Е. М. Мелетинский), в сферу так называемого «ретроспективного» историко-поэтологического анализа9. А в этой области, как уже говорилось, пушкинистика делает только первые шаги. При этом наиболее обойденным вниманием исследователей оказывается центральная проблема исторической поэтики – «жанр»: авторы многих работ ищут в текстах Пушкина следы архетипических образов и сюжетных схем, мифопоэтические и мифоритуальные первоформы художественного сознания (точнее, бессознательного!), воплотившееся в «вещество литературы», не принимая в расчет того, что «сюжет» или «герой» в новых литературах далеко не всегда моделирует «жанр».
Тому доказательство – уже упоминавшееся исследование И. П. Смирнова «От сказки – к роману»10. Оно и по сей день не потеряло своей актуальности, а многие его выводы – убедительности.
Как уже было отмечено, И. П. Смирнов базируется на достаточно жестком противопоставлении «исторической поэтики – I» (ИП-I) и «исторической поэтики – II» (ИП-II): под первой ученый понимает «анализ отношений… непосредственного следования»11, под второй – анализ произведения под углом зрения установления «последовательно сти „горизонтов“ его структуры, уходящей в прошлое»12 (ИП-II), то есть область ретроспективной исторической поэтики. В духе ИП-II Смирнов трактует сюжет «Капитанской дочки» как серию «сказочных» испытаний Петра Гринева и его возлюбленной, пройти которые им помогают «чудесный» помощник – Пугачев и помощники «пародийные» (амбивалентные) – Савельич и Зурин, являющиеся одновременно и «вредителями» («вредитель» безусловный – Швабрин).
На наш взгляд, это положение можно принять, лишь забыв о том, что Пугачев не в меньшей, а то и в большей степени, чем Савельич, выступает по отношению к Петру Гриневу не только в роли «помощника», но и в роли «вредителя»: ведь именно пугачевщина губит родителей Маши, грозит обоим молодым людям гибелью, да и помощь Пугачева, помиловавшего Гринева и защитившего «сироту» Машу от преследований Швабрина, в конечном счете, оборачивается для Гринева угрозой смертной казни, от которого его избавляют героическая инициатива его невесты и прощение Екатерины. Сказочные функции всех персонажей сказки в сюжете романа последовательно релятивизируются, контекстуализируются. Поэтому Ю. М. Лотман был, на наш взгляд, прав, когда писал, что «все опыты расширительного толкования пропповской модели и применения ее к нефольклорным повествовательным жанрам… дали, в общем, негативные результаты»13. Ни сказка, ни древнерусская повесть не являются жанровыми архетипами романа «Капитанская дочка».
Конечно, структурный «костяк» волшебной, точнее, волшебно-богатырской сказки (мотив добывания невесты особенно важен для последней) в «Капитанской дочке» просматривается, что, впрочем, неудивительно. Заново формулируя «смелую» гипотезу о том, что «архетипом одного из классов романа… является волшебная сказка»14, И. П. Смирнов словно забывает о том, что исследователи средневекового рыцарского романа связывают его генезис с волшебной сказкой и ритуалом инициации еще с конца 1920-х годов15. А именно к рыцарской эпике (хотя не только к ней) и к другим модификациям romance, как уже говорилось, восходят сюжетные мотивы романов В. Скотта, включая и «Роб Роя», произведения, многие эпизоды и образы которого, как убедительно показано в исследовании М. Альтшуллера16, были использованы Пушкиным в «Капитанской дочке».
Но для романа важен не столько сюжет, сколько избранная автором повествовательная стратегия. В этом плане сходство «Капитанской дочки» и «Роб Роя» представляется воистину существенным: и тот, и другой романы, как отмечает М. Альтшуллер, «представляют собой автобиографические записки, в которых герои в старости вспоминают свою… исполненную опасностей и приключений молодость»17. К этому наблюдению можно добавить и давнее соображение Д. Якубовича18 о приеме «лестницы рассказчиков» как об одном из «Скоттов ских ухищрений», использованных Пушкиным в «Повестях Белкина»: исследователь имел в виду последовательное введение в текст ряда повествователей. Оно вполне экстраполируется и на «Капитанскую дочку», в которой «лестницу» рассказчиков образуют Петр Андреич Гринев, его близкие, в первую очередь, Маша, и, наконец, Издатель. Повествование от лица Гринева занимает большую часть романа. В последней же главе голос Гринева всего лишь ретранслирует голос «семейного предания». На это же предание, равно как и на доставшуюся ему рукопись, ориентируется последний, обрамляющий и скрепляющий (через заглавие и систему эпиграфов) целое романа голос Издателя: он сообщает читателю о развязке описанных помещиком Гриневым событий и о судьбе его потомков.
Так стоило ли возводить «Капитанскую дочку» к волшебной сказке, целенаправленно отвергая непосредственного предшественника – «шотландского чародея»? Тем более что «сказка» – через romance – прочно вписана в сюжетику вальтерскоттовских романов, которыми зачитывался Пушкин? Стоит ли вообще проникать за «горизонты» или же можно ограничиться результатами тщательного и доказательного исследования ближайшего окружения писателя и оказанных на него прямых влияний? По-видимому, стоит. Поскольку основ ные структурно-композиционные «новации» В. Скотта, как будто бы заимствованные у него Пушкиным, В. Скотту не принадлежат, а унаследованы автором «Роб Роя» из испанской пикарески, а также – и прежде всего – у М. де Сервантеса19. Именно Сервантес первым в истории новоевропейского романа сформулировал проблему «соотношения истории, действительности и художественного вымысла»20, столь важную и для «Роб Роя», и для «Капитанской дочки».
В свою очередь, к испанскому плутовскому роману в конечном счете восходит и используемая В. Скоттом в «Роб Рое» форма повествования, поскольку пикареска была первым европейским фикциональным жанром, в котором повествователь и герой – «почти» одно и то же лицо: повествователь – это умудренный жизнью, пожилой человек, повествующий о себе, молодом, а то и ребенке. Рассказывая о своей жизни, герой-пикаро, точнее, бывший пикаро старается извлечь для читателя своего «послания» (формально оно может быть представлено и как исповедь, как записки-мемуары, адресованные потомкам, и т. д.) из своего жизненного опыта, из собственных «злоключений» и бед определенный нравственный урок (а иногда заодно – как в случае с городским толедским глашатаем Ласаро – похвастаться обретенным социальным статусом).
Таким образом, в самом строении пикарески имплицитно заложена важнейшая для всего романа Нового времени коллизия правдивости, истинности рассказываемой истории и вымысла21: перволичный рассказ вызывает особое доверие слушателя. С перволичным повествованием непосредственно связана анонимность первой пикарески, столь созвучная анонимности «Уэверли» и других выступлений Скотта-романиста, а также анонимности или гетеронимности выступлений Гоголя и Пушкина-прозаика22, носящих сугубо игровой характер.
В этом плане, как уже отмечалось в первой главе этой книги, роман Нового времени, начиная с «Ласарильо» и «Дон Кихота» – качественно новый этап развития вымышленного повествования. Пост-мифологическая сказка – всегда «ложь», рыцарский роман – или сказочный вымысел (увлекательно-поучительная ложь), или «историческое» сочинение, принадлежащее перу древнего хрониста и не нуждающееся в иных доказательствах своей достоверности. Роман
Нового времени – вымысел и «правдивая история» (так именует свое сочинение Сервантес) одновременно. Он – игра в достоверность. Сказка, а также античный или рыцарский роман вошли в строение романа новоевропейского, но это не означает, что последний может быть редуцирован до сказки и даже до рыцарского романа (последний же до сказки как раз легко редуцируется!). Роман как новоевропейский жанр создается на качественно новых основаниях: он включает в себя предшествующие ему литературные и внелитературные жанры (формы высказывания) на правах образов жанров – жанровых миров, пародируемых, травестируемых, иронически парафразируемых, просто цитируемых. Роман моделируется не «костяком функций», а композицией, игрой повествовательных точек зрения, отношениями в треугольнике автор – герой – читатель.
Сохраняя «голую» фабулу romance в той линейной комбинации мотивов, которые мы находим то ли в волшебной сказке, то ли в «Роб Рое», Пушкин-романист одновременно ломает эту перспективу, перемещает интерес читателя из сферы событийной в область сознания героя-повествователя23, частного лица – «честного» потомственного дворянина XVIII века, жанровый строй мыслей и мировосприятия которого и воссоздает целостный образ отошедшей в прошлое исторической эпохи – «века Екатерины». Поэтому, следуя во многом за В. Скоттом, Пушкин не просто совершенствует исторический роман вальтерскоттовского типа, убирая из него «характерные для Скотта недостатки»»24. Элиминируя из своего повествования почти все психологическое, быто– и нравоописательное, этнографическое, историографическое, автор «Капитанской дочки» последовательно деконструирует романистику Скотта, обнажает ее жанровые «стропила». Тем самым реконструируя в их первозданности такие жанровые миры как авантюрно-любовный romance c его сказочно-ритуальной сюжетной формулой, пикареску, сервантесовский роман, т. е. все исходные, жанрово-архетипические, формы европейского романа Нового времени.
Определяющей для жанрового строения пушкинского романа – подчеркнем еще раз – является избранная автором форма повествования от первого лица, изначально характерная, как уже говорилось, для пикарески. Именно под влиянием испанского плутовского романа такие традиционные перволичные формы дискурса, как исповедь, эпистола, автобиография, мемуары, «записки», дневники, многие из которых существовали до «Ласарильо» на правах нефикциональных, внелитературных, «деловых» жанров («первичных» речевых жанров, по М. Бахтину), на протяжении XVII–XVIII веков начали приобретать статус «литературности», включаться в сферу художественного вымысла, втягиваться в орбиту утверждающего себя как достоверный вымысел новоевропейского романа. Таким образом, перволичное повествование на протяжении XVIII века становится элементом литературной игры автора с читателем в истинное / сочиненное25.
Перволичная форма в «Капитанской дочке» продиктована и этой общей для романа игровой установкой на псевдодокументальность, вымышленную достоверность, и весьма важной именно для пикарески, особенно для ее жанрового первообраза – плутовской повести «Жизнь Ласарильо де Тормес», темой самооправдания (в глазах соседей, потомков и т. п.): Ласаро нужно было опровергнуть ходящие о нем в городе слухи, Петра Гринева обвиняли в государственной измене, судили, он бывал в стане Пугачева и сидел с самозванцем за пиршественным столом, а тот перед казнью молчаливо простился со своим любимцем… Защитой от возможных обвинений в измене для рода Гринева служит висящее на стене в одном из барских флигелей «собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке» – «оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына»
(83)26. Но еще более убедительным подтверждением незапятнанности чести Петра Гринева должны стать его «Записки», переданные внуком Издателю, и сам этот жест внука: ведь именно в них излагается вся подоплека особых отношений их автора с самозванцем.
Другая характернейшая тема плутовского романа – тема чести, понятой как общественное достояние, как «имидж». В имплицитном сопоставлении честь – платье она прямо сформулирована в издательском эпиграфе к роману Пушкина. Но сам Петр Гринев понимает честь по-своему – как честность, как открытость, как внутреннее сознание своей правоты, как совестливость. А также как чистоту (недаром Цветаева называет его «беленьким»). Ради защиты чести-чистоты Маши, он готов пожертвовать своей дворянской «честью» (своим «платьем») и отказывается объяснять на суде, что же связало его с Пугачевым.
Получается, что по своему месту в структуре повествования (по своей сюжетной функции) Петр Гринев – персонаж плутовского жанра, но по своей тематической заданности, по своей человеческой сущности он – антипикаро. В этом смысле герой «Капитанской дочки» встраивается в ряд парадоксальных – «добродетельных» – героев плутовских повествований, людей, происходящих от порядочных, честных, но бедных родителей (тема наследуемых грехов, пороков пикаро подлинного – основополагающая для жанра!), которые вынуждены силой обстоятельств вести бродячую жизнь в поисках лучшей доли. Таковы герой романа «Жизнь Маркоса де Обрегон» (1618) Висенте Эспинеля, Алонсо – «слуга многих господ» из романа «Красноречивый послушник, слуга многих господ» (1624, 1626) Херонимо Алькала Яньеса де Рибера, таковы мальчики – герои новеллы Сервантеса «Ринконете и Кортадильо» (до 1604 года), таков, в известном смысле (если не принимать во внимание его происхождения), и Ласарильо-ребенок (само слово пикаро возникает только в романе Алемана). Все они антипикаро, так как лишены главного – специфического плутовского взгляда на мир, разочарованно-цинического и покаянно-назидательного одновременно.
Именно на Висенте Эспинеля и ориентировался Лесаж, создавая свой роман о Жиле Бласе из Сантильяны, герой которого уже даже и не антипикаро, а просто – вполне в согласии с представлениями М. Бахтина о герое плутовского романа – «функция» рассказывания27.
Пушкин, даже если и выстраивал свое повествование с оглядкой на опыт создателя «Роб Роя», не мог не помнить, что от первого лица написаны и «Жиль Блас», и «Тристрам Шенди», и… «Иван Выжигин»28, автор которого явно перехватил у него (и скомпрометировал!) идею создания развернутого авантюрного повествования, которую автор «Онегина» лелеял с конца 20-х годов29.
«Капитанская дочка» создается не только на фоне прозы В. Скотта и многочисленных исторических русских романов 20—30-х годов – как кардинальное переосмысление их опыта, но и в отталкивании от нарождающейся жанровой традиции русских «Жиль Бласов». В противовес герою Ф. Булгарина, с первых же строк именующего себя «сироткой», Петр Гринев сразу же сообщает имена своих родителей – свою родословную (Ю. Н. Тынянов назвал бы это «пародированием»). И – в противовес жалостливо-униженной слезливой интонации рассказа Ивана, по сути ничем не отличного от себя-малолетки, – в «записках» помещика Гринева сразу же складывается образ умудренного жизнью человека, вовсе не тождественный «недорослю» Петруше. Он разглядывает свое детство и бурную молодость из отчетливого временного «далека»: «В то время воспитывались мы не по-нынешнему» (7); «…словом, вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю» (10); «Проигрыш мой, по тогдашним ценам, был немаловажен…». Более того: Гринев-повествователь, более всего сближающийся в этом плане с Автором – творцом романа, оказывается способен иронически взглянуть на вещи: «Бопре… приехал в Россию pour etre outchitel» (7), «Под его надзором в двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля…» (там же); «Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе» (11); «…выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем…» (12)30. В ироничности – еще одно существеннейшее отличие образа Гринева от классического пикаро-лицемера, пикаро, лгущего себе и ближним, и уж к иронии над собой вовсе не склонного. Какой бы жестокий смех ни звучал со страниц псевдо-исповедей пикаро, сам тон их повествований почти всегда исключительно серьезен. (Другое дело, что за фигурой того же Ласаро таится автор-иронист)31.
Вся первая глава романа «Капитанской дочки», в которой И. П. Смирнов видит специфику, состоящую, якобы, в том, что «это – сказочное испытание с элементами травести»32, выстроена по классической фабульной схеме плутовского повествования33: герой рассказывает о своем происхождении, воспитании (чаще всего – анти-воспитании), полученном в родительском доме, о выезде в большой мир и о своем первом столкновении с этим миром. В классическом образце жанра – «Гусмане де Альфараче» Матео Алемана, а затем и в других пикаресках, равно как и у Лесажа, оно происходит на постоялом дворе, в трактире, где еще «наивный» герой получает первый урок – урок недоверия окружающему миру, урок разочарования, который юный Гусман де Альфараче формулирует в словах «С волками жить – по волчьи выть».
В роли такого «учителя жизни» в романе Пушкина и выступает Зурин, подвигающий Петрушу на первый бунт неподчинения власти отцов. Однако в случае с юным Гриневым «трактирный» урок служит и тому, что герой «Капитанской дочки» впервые остро ощущает (вряд ли еще осознает!) пропасть, разделяющую «честь – платье» (бильярдный долг, как и карточный, – долг так понимаемой чести) и совесть, сознание своей вины перед Савельичем.
Пикаро живет и действует в мире хаоса, за границами боже ских и человеческих законов. Лишь создавая свою автобиографию, задним числом он начинает понимать ограниченность такого взгляда (ср. знаменитое религиозное обращение Гусмана де Альфараче). Гринев-повествователь (да и Гринев – действующее лицо) – в глубине души верит в порядок, лежащий в основе мироздания, в неизменность социального целого, к которому он от рождения принадлежит. Именно эта вера обусловливает проходящую через его рассказ тему
Провидения, Высших сил, которые в решающий момент вмешиваются в его жизнь и подсказывают ему выход, помогают найти путь в мире, где по видимости царят хаос и смерть, мире – «комнате, наполненной мертвыми телами».
Апогеем темы мира-хаоса – жанрополагающей для классического плутовского романа, но принципиально «изгнанной» из лесажевской модификации испанской пикарески34, – в «Капитанской дочке», конечно же, является эпизод с бураном во второй главе, где возникает и коррелирующий с хаосом, известный со времен античности мотив «корабля в бушующем море»35, очень популярный в «византийских» романах36.
Название главы – «Вожатый» – последовательно-романтически перетолковывающая «Капитанскую дочку» Марина Цветаева хотела бы сделать названием всего романа. Поэт справедливо ощутил в слове «вожатый» некий притягательно-магический, соблазнительный смысл, заложенную в нем идею притягательного, обвораживающего злодейства. И впрямь, название второй главы, как нам представляется, отсылает читателя к архетипическому дьяволу-вожатому из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», о котором М. Вайскопф пишет: «"…пограничный" статус черта… позволяет сообщить ему и противоположную, медиативно-динамическую функцию… Так из первого черта прорастает второй, черт-даритель, наставник и проводник, словно олицетворяющий принцип романтического транцендирования»37. С образом дьявола-вожатого у Гоголя – а вслед за ним и у Пушкина – связаны и мотив «встречи с демоном-проводником как предварительное (дорожное) испытание38, и мотив «дорожного переодевания»».
В роли такого вожатого и появляется «демонически»-привлекательный» Пугачев на страницах романа Пушкина. Он возникает из мира-хаоса как его воплощение и его владыка, как образ-оборотень («…воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть или волк, или человек» (14))39. В отличие от остающегося в пределах бытового и исторического правдоподобия образа вальтерскоттовского Мак Грегора, образ Пугачева вырастает на страницах романа Пушкина до образа-символа, воскрешающего лежащий в основе плутовской литературы миф о трикстере, травестийном демоническом двойнике культурного героя.
Демоническую, оборотническую сущность Пугачева, резко контрастирующую с его обыденной, «портретной» наружностью, выдают «тонкость чутья», «два сверкающих глаза»40 (в другом месте Гринев-повествователь отметит его «огненные» глаза), загадочная, двусмысленная речь. Знаком его шутовской, плутовской природы является его часто упоминаемая «веселость», склонность самозванца к шуткам (в том числе и жестоким), его «ернический» настрой, его тотально-игровое41, «разбойное» отношение к жизни. Смех соединяет в облике Пугачева две генетически родственные ипостаси – демона и плута42, дьявола и арлекина.
Таким он является в пророческом сне Гринева: «…вижу в постели лежит мужик с черной бородой, весело на меня поглядывая» (15). Таков Пугачев и при встрече с молодым офицером «с глаз на глаз» после разбойничьего пира: «Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз43 с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец, он засмеялся, и с такой непритворной веселостию44, что я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему» (46). Веселость не покидает Пугачева и во время его последней зафиксированной в «записках» встречи с Гриневым: «Пугачев развеселился. „Долг платежом красен, – сказал он, мигая и прищуриваясь…“» (62); «Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие: „Да! – сказал он с веселым видом. – Я воюю хоть куда…“» (64); «И то правда, – сказал смеясь Пугачев. – Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку…» (68).
Так уже во второй главе «Капитанской дочки» роль пикаро передается от героя-повествователя «вожатому», предводителю «бессмысленного и беспощадного» русского бунта, ряженому, «мошеннику»-самозванцу, человеку, стремящемуся занять в социальной иерерхии место, не предназначенное ему от рождения.
Появление в романе Пушкина «вожатого», истинного героя плутовского жанра, в то же время являющегося не повествователем, а объектом повествования, подрывает самые основы плутовского дискурса (герой и повествователь – одно и то же лицо). Поэтому со второй главы пикареска, напоминая о себе и строем пушкинского повествования, и отдельными мотивами-вкраплениями, и симметричным возвращением в сюжет карнавализованного трикстера, плута-вояки Зурина45, уступает место «волшебно-сказочному», «рыцарскому», «разбойничьему» romance, в котором юный Гринев становится свидетелем пугачевщины и героем-заступником (при пособничестве Пугачева), влюбленным и поэтом.
Прямодушие и неизменная последовательность поведения Гринева, а главное, его нежелание видеть «низкие» стороны действительности, в частности, то, что его возлюбленная – «капитанская дочь»46, и подвигают Швабрина в так называемой «Пропущенной главе» окрес тить своего соперника (здесь он именуется Булавиным) «Дон-Кишотом Белогорским»47.
Конечно, Гринев – «донкишот» в той же мере, в какой «донкишотами» являются Фрэнк Осбалдистон и другие «молодые» герои романов В. Скотта: они – не безумны, а просто восторженны. Но, уже в силу одного влияния Скотта, в «Капитанской дочке» – благодаря «памяти жанра» – есть немало от романа Сервантеса. Сама пара героев Гринев-Савельич является очевидной трансформацией «донкихотовской пары», причем сходство Савельича (и характерное, и функциональное) с Санчо еще разительнее сходства молодого Гринева и престарелого «хитроумного идальго» (ясно, что возрастное соотношение здесь просто перевернуто).
Не оруженосец, так стремянной, Савельич сопровождает Гринева в его «испытательных» странствиях, играя роль посредника между восторженным и доверчивым «господином» и полным соблазнов и обманов окружающим миром. На ответственности Савельича, коего Гринев-повествователь, к старости лет успевший прочесть и Фонвизина, именует «и денег, и белья, и дел моих рачитель», – материальная сторона жизни. Он, как и Санчо, знает цену деньгам и озабочен тратами хозяина… Речь Савельича, как и речь Санчо, пересыпана пословицами, а переписка Савельича с родителями Гринева по стилю и жанру (письма из крепости (замка) в деревню и обратно) очень напоминает переписку Санчо, оказавшегося вместе с Дон Кихотом в герцогском замке, с женой. Попытка Савельича вмешаться в поединок Гринева с Швабриным, как и редкие порывы трусоватого Санчо поучаствовать в сражениях господина с врагами, приводит к плачевному результату. И нередко слова или поступки Савельича вызывают у его подопечного добрый смех.
Самоотверженность Савельича, готовность пожертвовать жизнью ради господина даже в чем-то превосходит привязанность к Дон Кихоту его оруженосца: ведь именно Савельич, бросившись к ногам самозванца, спасает Гринева от виселицы. В этот момент, именуя Пугачева «отец родной», Савельич, явно относящийся к Гриневу как к своему сыну, хитроумно (тактически) признает свое поражение в длящемся весь роман споре с Пугачевым за душу (жизнь!) «барского дитяти».
И Пугачев, и Савельич – субституты Гринева-старшего: отсюда – их сходство, их функциональная сближенность в романе, отмеченная, в частности, В. Н. Турбиным48. Для Савельича Гринев – «дитя», и символом, знаком этой детскости становится знаменитый заячий тулупчик – главный пункт столкновений Савельича с Пугачевым. Навязчиво – вплоть до комизма – Савельич при любом удобном случае о тулупе вспоминает, требует его возврата (хотя Пугачев уже возвратил Гриневу ни много ни мало – жизнь). Но Савельич помнит о тулупе – помнит о Гриневе-ребенке, о том времени, когда тулуп был тому впору. Он хочет повернуть время вспять.
Напротив, роль Пугачева в романе – роль свата, роль устроителя брака Гринева, роль разрушителя гриневской невинности. Встречи с Пугачевым, с пугачевщиной – главные условия стремительного взросления Петруши, его вхождения во взрослую жизнь. Но на последнем этапе роль Пугачева-свата по сути дела перенимает так противящийся до того женитьбе «дитяти» Савельич. Так оба героя – Савельич и Пугачев – в очередной раз функционально сближаются. Как совпадают они и по существу: в неприятии всего, что идет с Запада, в трезво-практическом, материальном видении мира, в готовности, ко гда надо, взять грех на душу, примириться с обстоятельствами (как Пугачев мирится со своим окружением).
Но на фоне этих совпадений еще раз отчетливее выступают различия: Савельич – органическая, лишенная индивидуалистического сознания49 часть народа-землепашца, хранитель старины, устоев, традиций. Его антипод – вольный донской казак Пугачев, авантюрист, раскольник (и биографически, и по сути) – отколовшаяся от целого, наделенная самосознанием и волевым (демоническим) импульсом личность. Пугачев – новый Петр, правда, не европеизирующий, а «истернизирующий» Россию («…мы повернемся к вам / своею азиатской рожей!»), эсплуатирующий стереотипичность народного мышления, то, что К. В. Чистов называет «социально-утопическими легендами»: мифы о царях-освободителях, о стране Беловодье и т. п. Как и мифический (присвоенный самозванцем) предок, Пугачев претендует на роль властителя взбаламученной им стихии народной жизни, которая ему так и не подчиняется (в конце концов, она и выбрасывает его на берег, сдает, предает – в лице ближайших сподвижников). Савельич – глубина, придонная тишина этой стихии («Воды глубокие плавно текут…»). Но оба они – два лика народа, две его ипостаси, от которых в равной мере зависит продолжение рода Гриневых, судьба русского дворянства в целом. Судьба русской культуры, которую слагают и сказка, и присказка, и народная песнь, и вирши Тредьяковского, и поэзия Сумарокова… Сознание «правды» каждой из сторон исторического конфликта, изображенного в романе, ценности каждого из полюсов русской культуры, значимости каждого из пережитых Россией «столетий», «перспективистская» широта видения мира – еще одна точка сближения Пушкина и Сервантеса, Пушкина, Сервантеса и В. Скотта.
В последней главе «Капитанской дочки», там, где голос автора «Записок» становится ретранслятором голоса семейного предания, повествование перенаправляется в русло семейной хроники, «семейного романа», кардинально отличающегося от наррации раннего Нового времени интересом к частной, домашней, семейной жизни. Ведь и Дон Кихот, и пикаро – герои, подчеркнуто бессемейные50, хотя во Второй части «Дон Кихота» хитроумный идальго и произносит речь-наставление о супружеской жизни, Санчо изображен примерным семьянином, а образ жизни «помещика» дона Диего де Миранда прямо предвосхищает поместные семейные идиллии Филдинга. Герой авантюрно-любовного романа также представим лишь в роли влюбленного, просителя, но никак не мужа семейства. Жанр «семейного романа», как известно, расцвел лишь в послереставрационной Англии. Используя его опыт, В. Скотт и выработал так привлекавший Пушкина «домашний» взгляд на историю. В этом жанре, в атмосфере приватной обыденности, которая и окружает изначально Екатерину II в рассказе Маши Мироновой, дано обрамляющее завершение «записок» Гринева, что позволило Н. Н. Страхову не без оснований назвать «Капитанскую дочку» «хроникой семейства Гриневых»51.
И подобно тому как голос Гринева-повествователя растворяется в голосе «семейного предания», его собственная участь сводится к тому, чтобы заступить в чреде поколений место свого отца, вернуться в ту органическую жизнь, из которой он был насильно вытолкнут родителем, а затем и Историей52. Конец – делу венец. Он и создает иллюзию безличности, безликости Гринева, во власти которой оказался и чуткий В. Г. Белинский, писавший о «ничтожном, бесчувственном характере героя повести»53. «Бесчувственно»-объективен, в первую очередь, стиль повествования Гринева. Хотя и его характер как таковой – не в кипении чувств и страстей, а в логике пройденного им пути, в его осознании своего места в мире, своего сохраненного во всех испытаниях человеческого достоинства.
В этом плане «Капитанская дочка» – дополнение-опровержение «Евгения Онегина», романа, изображающего становление самосознания русского человека (рождение личности) на сломе эпох, мучительное для него самого и для окружающих выламывание индивидуальности из семейно-родового патриархального мира, с которым Онегина связывали лишь… смерть дяди-помещика, да убийство Ленского – потенциального Гринева «в отставке», окруженного чадами и домочадцами54.
«Путешествие Онегина» трансформировалось в «Путешествие в Арзрум», а последнее – в путешествие Петруши Гринева в оренбургские степи, чтобы, в конечном счете, вернуться на круги своя, в лоно семейного романа и родового предания.
Примечания
1 См.: Мелетинский Е. М. Историческая поэтика новеллы. М.: Наука, 1990. С. 30.
2 Особую роль английской литературы для Пушкина очень точно определил В. Вейдле: «Как бы высоко ни оценивать… значение для Пушкина той французской стихии, которую он с детства в себя впитал, – писал критик, – оно, во всяком случае, не перевесит того, что дало ему свободное и глубокое увлечение литературой английской. Французское влияние было неизбежным и всеобщим, английское он выбрал сам, французское можно сравнить с тем, что дает человеку рождение и семья, английское – с тем, что ему позже может дать любовь и дружба» (Вейдле В. Пушкин и Европа // Пушкин в русской философской критике. Конец XIX–XX век. М.; СПб.: ЦГНИИ ИНИОН РАН, 1999. С. 419).
3 Жирмунский В. М. Избранные труды. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. Л.: Наука, 1978. С. 360.
4 Вейдле В. Указ. соч. С. 423.
5 Однако, в отличие от оставшегося безымянным создателя первого образца плутовского жанра – повести «Жизнь Ласарильо с Тормеса» (сохранились 4 издания 1554 года), и Матео Алемана, автора «Гусмана де Альфараче» (1599–1604), творец «Дон Кихота» в Испании, да и во всей Европе века Барокко, не имел достойных продолжателей.
6 См.: Reed W. L. An Examplary History of the Novel. The Quixotic versus the Picaresque. Op. cit.
7 Так в англоязычном литературоведении именуют даже не жанр, а группу жанров, в которую входят позднегреческий роман испытаний, средневековый и ренессансный рыцарские романы, пасторальные и авантюрно-галантные романы позднего Возрождения и Барокко, «готический роман» и другие повествовательные жанры, в том числе и стихотворные. В целом жанр romance совпадает с тем, что М. Бахтин называл «романами первой стилистической линии». Соответственно, область romance противопоставляется области novel – романам «второй» стилистической линии». Жанру romance посвящена известная монография Н. Фрая «Мирское Писание» (Frye N. The Secular Scripture: a Study in the Structure of Romance. Cambridge, 1982), выросшая из замысла монографии о романах В. Скотта.
8 Французские прозаики, встраивающиеся во «вторую стилистическую линию», также шли по стопам испанцев. Особой популярностью во Франции пользовался испанский плутовской роман. Показательно, однако, что Лесаж, создавший на базе испанской пикарески свою разновидность авантюрного романа – нравоописательно-бытовой роман, ставил автора подложной версии Второй части «Дон Кихота» – Авельянеду – выше Сервантеса. Но ведь были и такие читатели и критики, кто ставил Булгарина выше Пушкина!
9 См. о нем: Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. М.: Наука, 1986. С. 7.
10 Смирнов И. П. От сказки – к роману // ТОДРЛ. Т. 27. Л.: Наука, 1972.
11 Там же. С. 284.
12 Там же. С. 285.
13 Лотман Ю. М. Сюжетное пространство русского романа // Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. III. Таллинн, 1993. С. 91.
14 Смирнов И. П. Указ. соч. С. 289.
15 См., например: Ауэрбах Э. Мимесис. Указ. изд. С. 140 и сл.
16 См.: Альтшуллер М. Эпоха Вальтера Скотта в России. Исторический роман 1830-х годов. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1996.
17 Там же. С. 246.
18 Якубович Д. Предисловие к «Повестям Белкина» и повествовательные приемы Вальтера Скотта // Пушкин в мировой литературе. Л.: Госиздат, 1926.
19 О том, чем обязан В. Скотт Сервантесу, см.: Gaston P. S. The Waverley Series and Don Quixote: Manuscript Found and Lost // Cervantes. 11 (1991); Ter Horst R. Elective Affinities: Walter Scott and Miguel de Cervantes // Cervantes for the 21st Century. Op. cit., а также: Долинин А. История, одетая в роман. Вальтер Скотт и его читатели. М.: Книга, 1988.
20 Альтшуллер М. Указ. соч. С. 245.
21 Пытаясь разрешить эту коллизию, Сервантес, в свою очередь, пародирует традиционный для рыцарского романа мотив «найденной рукописи» и прибегает к сложной системе подставных авторов, унаследованной и В. Скоттом.
22 Стоит напомнить, что впервые «Капитанская дочка» была опубликована в «Современнике» без подписи автора.
23 Здесь непосредственным предтечей Пушкина должен быть назван уже не В. Скотт, а Стерн (о «стернианской манере» Пушкина-повествователя писал В. Шкловский; см. Шкловский В. Заметки о прозе Пушкина. М.: Советский писатель, 1937). Но сам Стерн выработал свою манеру, отталкиваясь от опыта Сервантеса, пародируя автобиографизм пикарески и английских романов XVIII века (см.: Reed W. L. An Examplary History of the Novel. The Quixotic versus the Picaresque. Op. cit.).
24 Альтшуллер М. Указ. соч. С. 256.
25 В то время как сама пикареска в процессе своей жанровой деградации (именно такова ее участь в культуре Барокко), случалось, превращалась в своего рода «жанровую маску» для истинной автобиографии (случай с «Эстебанильо Гонсалесом»).
26 Здесь и далее «Капитанская дочка» цитир. по изд.: Пушкин А. С. Капитанская дочка. 2-е изд., доп. (1-е изд. подгот. Ю. Г. Оксман). Л.: Наука, 1984. Цитируемые страницы указываются в тексте.
27 В свою очередь Лесаж был образцом и для В. Нарежного, и для Ф. Булгарина. См. об этом в монографии Р. Леблана, наиболее полно и адекватно описывающей трансформации пикарески во Франции и развитие жанра плутовского романа в России: Le Blanc R. The Russianization of Gil Blas: a Study in Literary Appropriation. Columbus. Op. cit. О бахтинской характеристике плутовского романа, сориентированной, по сути дела, исключительно на роман лесажевского типа, см.: Reed W. L. The Problem of Cervantes in Bakhtin's Poetics. Op. cit.
28 О В. Нарежном Пушкин-критик нигде даже не упоминает.
29 См.: Лотман Ю. М. Пушкин и «Повесть о капитане Копейкине» (К истории замысла и композиции «Мертвых душ») // Лотман Ю. М. Избранные статьи. III. Указ. изд.
30 Об этом свойстве Гринева-повествователя, как и о строении образа Гринева в целом, очень хорошо писал Г. П. Макогоненко, многие другие рассуждения которого мы были бы готовы и оспорить (см.: Макогоненко Г. П. Исторический роман о народной войне // Пушкин А. С. Капитанская дочка. Указ. изд. Эффектное сопоставление Гринева-повествователя с Белкиным-летописцем «Истории села Горюхина», предложенное В. Шкловским (см.: Шкловский В. Указ. соч.) основано на смешении голоса Гринева-рассказчика и голоса «семейного предания».
31 Существует соблазн отнести иронические пассажи Гринева-повествователя на счет Автора же, но почему тогда они исчезают из второй половины последней главы, где звучит голос «семейного предания»? Из текста «От Издателя»?
32 Смирнов И. П. Указ. соч. С. 307.
33 Кстати, плутовской роман изначально включает в себя травестированный ритуал инициации. Но в отличие от сказочной инициации, происходящей в «ином мире», в качественно измененном состоянии сознания испытуемого, плутовская имеет место в мире посюстороннем, в «жестокой» действительности.
34 См. об этом: Le Blanc R. Op. cit.
35 «Это похоже на плавание судна по бурному морю» (15). См. о предыстории образа: Каждан А. «Корабль в бушующем море». К вопросу о соотношении образной системы и исторических взглядов двух византийских писателей // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. М.: Наука, 1976.
36 М. Альтшуллер (см.: Альтшуллер М. Указ. соч.) вполне точно указывает на сходство фабулы «Капитанской дочки» с фабульной схемой позднегреческого романа.
37 Вайскопф М. Сюжет Гоголя. М.: Радикс, 1993. С. 61.
38 Там же. С. 74.
39 Об оборотнической, протеистической природе пикаро (как героя жанра) свидетельствует уже прозвание Гусмана де Альфараче – «Протей».
40 Ср. «парадный» портрет Пугачева в сцене присяги: «Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза» (43).
41 «Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: „Спасибо, ваше благородие! Награди вас господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей“» (17). Нередко лицедейский дар Пугачева позволяет ему найти выход из затруднительного положения: «Пугачев опустил руку, сказав с усмешкою: „Его благородие, знать, одурел от радости“» (44).
42 Ср. рассуждения Ю. Г. Оксмана об окрашенном в «национальные русские тона» «юморе» Пугачева, о его «веселом лукавом уме» (см.: Оксман Ю. Г. Пушкин в работе над романом // Пушкин А. С. Капитанская дочка, Указ. изд. С. 189), вписывающие жестокий смех Пугачева, его «черный юмор» в рамки почти иконописного лика Пугачева – «подлинного вождя крестьянского движения» (188), все действия которого «одухотворены его волей к победе, сознанием правоты его исторической миссии» (там же, 189). Нам представляется, что «горько» усмехающийся Пугачев, в один из моментов истины, исповедального самосознания, «с диким вдохновением» рассказывающий Гриневу сказку об орле и вороне, точнее определяет смысл своего поведения: «напиться живой крови» (66).
43 Вообще-то эта черта – документально зафиксированная примета самозванца, но в контексте пушкинского обобщения пугачевская «одноглазость» явно коррелирует с одноглазостью хтонических существ, тех же кельтских фоморов.
44 Эта «веселость» – смех облегчения человека, почувствовавшего себя на миг свободным от своего окружения и от взятой на себя роли, тем не менее, вовсе не народный карнавальный смех. При всем том, что смех трикстера-плута отличен от чисто сатанинского, романтического смеха Швабрина, от его «злобной усмешки», «народный» царь никогда не позволяет смеяться над собой.
45 Зурин дублирует Пугачева в его обеих ипостасях: он и покровительствует молодым героям, и верховодит гусарами-«разбойниками», готовыми к насилию над попавшей им в руки молодой женщиной.
46 То есть персонаж известной народной песни, из которой Пушкин и взял заглавие романа, песни вполне фривольного содержания (см. продолжение песни в рукописи романа: «Заря утрення взошла, / Ко мне Машенька пришла»). О чистоте и невинности Маши Мироновой мы знаем из рассказа Петра Гринева. О ее легкомыслии – из слов «клеветника» Швабрина. Словосочетание «капитанская дочка», по нашим наблюдениям, звучит в романе лишь единожды – из уст амбивалентного героя Зурина. О том, что из себя представляла «капитанская дочь» в действительности, мы можем судить столь же «объективно», сколь и о достоинствах Альдонсы Корчуэло, то есть лишь в «пер спективе» той или иной повествовательной точки зрения. «Перспективистски», как сказал бы Х. Ортега-и-Гассет. Отсюда – столь крайние оценки героини: «Маша – пустое место всякой первой любви», «дура Маша» (Марина Цветаева) и «идеальная (выделено автором. – С. П.) Маша Миронова, занимающая совершенно особое место в повествовании» (Гей Н. К. Проза Пушкина. М.: Наука, 1989. С. 208–209).
47 См.: Багно В. Дорогами «Дон Кихота». Указ. изд. С. 322.
48 См.: Турбин В. Н. Незадолго до Водолея. М.: Радикс, 1994. С. 47. Отсюда – особая неприязнь Цветаевой к Савельичу, восхищавшему первых читателей романа: «Савельич чудо! Это лицо самое трагическое, т. е. которого больше всех жаль в повести», – писал В. Ф. Одоевский.
49 Савельича и Миронова, – отмечает на сей раз вполне точно, хотя и не без обличительства, – Г. П. Макогоненко, – объединяет и нечто общее – отсутствие самосознания» (Макогоненко Г. П. Указ. соч. С. 222).
50 Псевдосемья Алонсо Кихано – его племянница и ключница – только подчеркивают его одиночество.
51 Цитир. по указ. изд. «Капитанской дочки». С. 246.
52 Выразительный симптом этого возвращения – любимый пушкинский прием симметрии: у Гринева, как и у его отца, десятеро детей.
53 См.: Пушкин А. С. Капитанская дочка. Указ. изд. С. 241.
54 Тщательное со-противопоставление двух романов Пушкина, как нам кажется, все еще остается на повестке дня современной пушкинистики. См., например, любопытное, не не развернутое наблюдение В. Непомнящего над параллелизмом отношений Гринев – Пугачев и Онегин – Татьяна в восьмых главах обоих романов (Непомнящий В. С. Пушкин. Русская картина мира. М.: Жизнь и мысль, 1999. С. 519): тут – тема отдельного большого исследования.
«Мертвые души»: от романа – к «поэме»
Сопоставление «Мертвых душ» с «Дон Кихотом» имеет большую историю, восходящую еще ко второй половине XIX века, когда попытки сближения этих произведений предпринимались как с русской, так и с испанской стороны1. Мы ограничимся проблемой жанрового сходства гоголевской «поэмы» и сервантесовского романа, оста вив в стороне сопоставление сервантесовского и гоголевского «реализма», а также сервантесовского и гоголевского смеха2.
Решение нашей задачи существенно осложнено тем, что, если «Дон Кихот» со времен романтизма почти единодушно считается первым европейским романом Нового времени, то начавшийся сразу после выхода в свет первого тома задуманной Гоголем трилогии спор о жанре «Мертвых душ» (роман это или же эпическая поэма в прозе? и, если роман, то какого типа?) в гоголеведении не утихает до сих пор. К тому же ученые, – в их числе Ю. В. Манн, – пытающиеся доказать, что «Мертвые души» органично вписываются в общеевропейскую романную традицию3, исходят из того, что Гоголь в своем романном замысле изначально ориентировался на жанр плутовского романа. А плутовской роман, точнее, испанская пикареска (этот термин корректнее применять к определенной совокупности текстов испанских прозаиков Золотого века, включенных романоцентристским XIX веком в историю литературы под грифом «плутовской роман»4) и роман «сервантесовского типа» – исконно антагонистические линии развития романного жанра. И тогда само сравнение «пикарески» Гоголя и романа «Дон Кихот» теряет смысл.
Однако нам мысль об изначальной ориентации Гоголя на плутовской роман, каким он сложился в Испании во второй половине XVI – начале XVII века, представляется спорной. Ведь пикареска – это жизнеописание плута, обязательно берущее начало с момента его рождения, поскольку его судьба во многом обусловлена его происхождением (вопреки представлениям Ю. В. Манна, в происхождении этом не должно быть ничего тайного, хотя оно и весьма сомнительно). Далее пикареска включает в себя повествование о своеобразном «антивоспитании» будущего «пройдохи» и о его попытках «прыгнуть выше головы», вписаться в социум («причалить к добрым людям», как говорит о себе Ласарильо – герой первого образца жанра «Жизнь Ласарильо де Тормес»). Для этого пикаро5 готов воспользоваться любыми нечестными средствами, хитрить и обманывать, одновременно всячески отстаивая свою иллюзорную «честь» (еще одно ключевое для пикарески понятие). Но всякий раз, когда пикаро, казалось бы, добивается желаемого, всемогущая Фортуна низвергает его с вершины успеха на дно жизни – туда, откуда он начинал движение вверх. При этом «пикаро» и «слуга многих господ» – отнюдь не синонимы6, да и подглядывание за чужими жизнями – отнюдь не главное занятие плута-«прихлебалы» (одно из наиболее точных значений слова pícaro).
Нетрудно заметить, что все перечисленные приметы пикарески возникают лишь в ретроспективной биографии Чичикова в одиннадцатой главе первого тома «Мертвых душ»: именно тогда – и не раньше – гоголевское повествование переходит в жанровый регистр плутовского жизнеописания, которое уже в первом классическом образце пикарески – «Гусмане де Альфараче» М. Алемана – включало мощный дидактический план. «По мере движения сюжета, – пишет С. А. Гончаров, рассматривающий „Мертвые души“ в контексте „учительной“ культуры, – риторический принцип (у Гоголя. – С. П.) все более утверждается в своих правах, обретая полноту воплощения в заключительной главе, в которой контрастным (а на самом деле – вполне традиционно-барочным. – С. П.) образом сходится жанрово-стилевой пласт авантюрно-плутовского романа… с риторикой проповеди и поучения»7. Правда, повествование у Гоголя ведется не от первого лица, что является конститутивным моментом классической пикарески, но отказ от Ich-Erzählung в данном случае компенсируется максимальной сближенностью в этот момент точки зрения повествователя и точки зрения героя, так что жизненный путь Чичикова раскрывается в его плутовской псевдоисповеди не только извне, но и изнутри (автор исподволь готовит своего героя к превращению из «человека внешнего» в «человека внутреннего», запланированному на второй том).
Тем не менее, оказавшись на какое-то время во власти пикарескного жанра, Гоголь позволяет себе рассуждение, от которого он в дальнейшем всячески стремился отмежеваться8, – о врожденной склонности человека к пороку, о власти над ним «страстей» (в данном случае – страсти к приобретательству). Все эти мотивы запрограммированы в исповедях пикаро-героев жанра. Но они были глубоко чужды Гоголю.
Впрочем, и в классической пикареске рядом с представлением о зависимости человека от своего происхождения, от своего тела (мотив голода в «Ласарильо»), от чувственных влечений (у Гоголя, как и у русских масонов, – «страстей»), от обстоятельств и от фортуны, звучит тема свободы воли, выбора между добром и злом, дарованном человеку Богом. Она вложена в уста вставшего на путь исправления пикаро-повествователя. Такова композиция классической – барочной – пикарески, достаточно далекой, по мнению современных исследователей9, от жанра романа. Так называемые «плутовские романы» в своем большинстве – это риторические дискурсы, плутовские проповеди10. Произнося их, пикаро или антипикаро черпают аргументы для подтверждения своих моральных и социально-антропологических тезисов из собственного жизненного опыта и иллюстрируют аллегорическими заставками-притчами.
Но пикаро-повествователь (как и пикаро-персонаж) – «человек внешний». Строй гоголевской «проповеди» (так В. А. Недзвецкий неслучайно определяет жанр «Мертвых душ») в этом смысле коренным образом отличается от проповеди «плутовской». «…Автор, – пишет о Гоголе С. А. Гончаров, – стремится эмпирическому изображению придать не только предельное обобщение и символический смысл, но и возвести читателя в область "внутреннего духа", религиозно-символического понимания, которое автор стремится замкнуть на самопознание читателя, на вопросы, обращенные к себе. Поэтому движение читателя подобно "лестнице", пути восхождения от конкретного к духовному, который может прочитываться как путь откровения и спасения»11. Коренное отличие поэмы Гоголя как жанрового целого от пикарески состоит в том, что «поэтический гностицизм Гоголя…соединяет в себе мифологическую интуицию… с религиозно-учительным рационализмом…»12.
В частности, дидактическая нацеленность гоголевского дискурса опирается на мощную традицию «низового» украинского барокко и русскую масонскую традицию, существеннейщей мировоззренческой «составляющей» которого был гностицизм. В вырастающем из гностической мифологии «герменевтическом сюжете» поэмы Гоголя, реконструируемом современными исследователями (М. Вайскопф, С. Гончаров), отчетливо просматривается архетипический сюжет «песен посвящения» (или «просветления», «озарения», как именует этот метажанр К. Наранхо), восходящих к ритуалу инициации и включающих в себя жанрообразующую тему испытания и сопутствующие ей мотивы смерти / воскресения, нисхождения / восхождения, борьбы света и тьмы. В метажанровую пардигму «песен посвящения», как правило, глубоко «законспирированную» в недрах иных жанровых традиций, встраиваются и «Одиссея», и «Божественная комедия», и рыцарские романы (прежде всего о Ланселоте Озерном и поисках св. Грааля). Влияние этой метажанровой традиции можно найти и в «Жизни Ласарильо де Тормес»13, и в последнем романе Сервантеса «Странствия Персилеса и Сихизмунды» (1617). К ней относятся и другие образцы барочных аллегорических «поэм» (или «эпопей»), как стихотворных («Потерянный рай» Дж. Милтона), так и прозаических («Критикон» Б. Грасиана, «Телемах» Фенелона), а также стихотворно-прозаических («Путь паломника» Дж. Бэньяна, «Любовь Психеи и Купидона» Ж. Лафонтена). В России во второй половине XVIII – начале XIX столетия эту традицию замыкает так называемый «масонский роман», в последние двадцать лет все более привлекающий внимание исследователей14.
Именно c этим «романом» (в нашей терминологии он – не novel, а romance) еще в конце 1990-х годов соотнес жанровый замысел «Мертвых душ» М. Вайскопф15. «По существу (хотя и с необходимой поправкой на плутовской роман, а с другой стороны – на амбивалентность гоголевского сюжета), – пишет Вайскопф, – он (Чичиков. – С. П.) подвизается в роли обычного масонского странника, проходящего, на манер героя «Кадма и Гармонии», сквозь строй антиутопических миров – стран или планет, – персонифицируемых их повелителями… Образная система «Мертвых душ»… выросла из барочно-мистической аллегорики… Эккартсгаузеновские «Обитель смирения» и «Храм самопознания», с которых начинается восхождение пилигрима, преобразились в пародийный маниловский «Храм уединенного размышления», а бездушный «Скоточеловек», противопоставляемый грядущему «Духочеловеку», – в Собакевича… По масонскому трафарету, загадочный путешественник Гоголя воплощает в себе историю общечеловеческой души…»16.
Единственное, чего не учитывает (вернее, учитывает мельком – см. пассаж о Манилове) вполне убедительная, на наш взгляд, концепция Вайскопфа – гоголевского смеха, того, что «Мертвые души» – в такой же степени «масонский роман», как и пародия на этот жанр. А также на сентименталистско-предромантическую прозу. И на прозу романтическую на этапе ее превращения в массовое бюргерское чтиво («Ринальдо Ринальдини» Вульпиуса). Вот здесь-то создателю «Мертвых душ» оказывается по-настоящему нужным опыт автора «Дон Кихота», которого Пушкин неслучайно ставил Гоголю в пример, советуя взяться за большой роман: «путь паломника» в романе Гоголя пролегает не просто по пути «духовного рыцаря» (Лопухин), но и по пути рыцаря комического, рыцаря Печального Образа – с выбитыми зубами и растекшимся по лицу мягким сыром… Не случайно, по тонкому наблюдению В. Е. Багно, объектом гоголевской пародии в «Мертвых душах» оказывается сам Дон Кихот: «…Хотя Чичиков, подобно Дон Кихоту, активно вторгается в действительность и действия их одинаково отличаются от обычного поведения, различие между ними состоит уже хотя бы в том, что Гоголь, вероятно, пародирует энтузиазм Дон Кихота энтузиазмом своего героя, придав ему в противоположность первому практический смысл…»17.
И если в композиции барочно-просветительских аллегорических эпосов миф и дидактика сопряжены напрямую, в «Мертвых душах» между ними встроен третий план – гротескный образ современной России. Современность (при всей ее условности)18 опосредует, травестирует архетипический сюжет, разворачивает вертикальную композицию поэмы в горизонтальной плоскости перемещений заурядного отставного чиновника по населенному фантастическими образами-«образинами» «реальному» миру. Сюда же начинает перемещаться и обращенное к читателю, инспирированное свыше авторское слово, так что Гоголь-проповедник оказывается в непосредственном соседстве со своими «странными» героями. В этом пространстве разворачивается и «фиктивная» (Андрей Белый) фабула поэмы, за которой прорисовывается сюжет испытания Чичикова и испытания Чичиковым всех, кто оказывается на его авантюрно-мистическом пути19.
Как мы уже писали, «Дон Кихоте» в классическом виде представлен так называемый сюжет-ситуация, коренным образом отличный от сюжета-фабулы и являющий собой специфический – собственно романный – этап развития европейской сюжетики20. Анекдотическую фабулу мошеннической скупки «мертвых душ» Гоголь вслед за Сервантесом разворачивает в сюжет-ситуацию, в сквозное сюжетное положение, проходящее через вторую-шестую главы первого тома поэмы и возобновляемое во втором. «Без серии приключений, без многочленной композиции романа, – писал Пинский о „Дон Кихоте“, – еще нет фабулы (строго говоря, сюжета. – С. П.) о герое-энтузиасте, упорно игнорирующем опыт жизни…»21. Без методичного упорства Чичикова в осуществлении своего плана, без его одержимости своей мечтой – без серии посещений им помещиков – фигура гоголевского «ловца душ» не выросла бы в сознании читателя до таких масштабов, чтобы в округлом безликом Павле Ивановиче можно было разглядеть не только профиль Наполеона или Ринальдо Ринальдини, но и двоящийся лик Антихриста / апостола Павла22, чтобы прочитанное заставило нас обратить взгляд внуть собственной души.
Знаменательно, что в своем нисходящем развитии сюжет-ситуация в «Мертвых душах», как и в «Дон Кихоте», подводит героя (у Сервантеса – героев) и читателя к пасторальному «аду»: в Первой части «Дон Кихота» он располагается в Сьерра-Морене, во Второй – в пещере Монтесиноса, в «Мертвых душах» – в поместье Плюшкина, с его знаменитым садом, явленным, как во всякой классической пасторали, в двух ипостасях: естественной и искусственной. С пасторальным «адом» в «Дон Кихоте» связано пробуждение самосознания героя, с посещением Плюшкина в «Мертвых душах» – первое пробуждение в Чичикове «человека внутреннего» (в сцене составления купчей): ведь из ада, из крайней точки нисхождения остается лишь один путь – наверх. Но и для героя Сервантеса, и для героя Гоголя этот подъем поначалу оказывается иллюзорным возвышением к вершинам «светской» славы: пребывание Дон Кихота во дворце герцогов во Второй части романа Сервантеса, оформленное как театральное действо, как дворцовая комедия, типологически сходно со второй сценой бала у губернатора в «Мертвых душах», где Чичиков накануне своего разоблачения наслаждается всеобщим (в действительности – иллюзорным) признанием, где перед ним мелькает лик его «Дульсинеи» – губернаторской дочки. Наконец, в состоянии униженности и разочарования герои Сервантеса и Гоголя вновь оказываются на дороге – на пути к своему духовному исцелению, которое успел вполне запечатлеть Сервантес, и лишь частично, в «полувиртуальном» пространстве второго-третьего томов «Мертвых душ» – Гоголь.
Серьезным подтверждением жанрового родства «Хитроумного идальго…» и поэмы Гоголя (из числа аргументов, использовавшихся критиками), могла бы стать и общность позиции авторов по отношению к создаваемым им художественным мирам, с одной стороны, и к читателю, с другой. И Сервантес, и Гоголь, как отметила А. А. Елистратова23, ведут «прямой разговор» с читателем, демонстрируя сам процесс рождения текста романа у него на глазах. Этот прием Гоголь, по мнению исследовательницы, перенял у Филдинга, с чем нельзя не согласиться, хотя сам Филдинг явно заимствовал его у автора «Дон Кихота». Рассказчик у Филдинга, может, подобно Сервантесу, иронически дистанцироваться от рассказываемых событий, может эпизодически вмешиваться в их ход, комментируя происходящее от первого лица, но он утрачивает доминантную сервантесовскую установку на разговор с читателем на равных, на диалогическую синкризу в композиции романа равноценных точек зрения на мир, сервантесовский перспективизм. В жанровом целом «Мертвых душ» роль автора-творца становящегося текста, как и у Филдинга, подчинена законам так называемого «аукториального» повествования24, которое не только ориентировано на саморефлексию, но и ведется от лица незримо присутствующего в тексте романа всесильного и всеведущего рассказчика-«историка». А эта установка диаметрально противоположна авторской позиции Сервантеса, отказывающегося от миссии всезнающего автора и притворно-насмешливо передоверяющего ее Сиду Ахмету Бененхели. Поэтому, следуя за Филдингом, а точнее, выстраивая свое повествование по уже укоренившемуся в европейском просветительском романе филдинговскому канону25, Гоголь монологизирует жанр романа сервантесовского типа.
Возможно, именно для восстановления равновесия между комическим эпосом и эпосом аллегорико-дидактическим Гоголь включает в «Мертвые души» «Повесть о капитане Копейкине» – метатекст, пародирующий, по наблюдению Д. Фэнджера, развитому Б. Холлом, Первый том трилогии как целое. Можно предположить, что при этом Гоголь следует примеру Сервантеса, который, чтобы (по его собственному признанию) разнообразить рассказ о похождениях ряженого Рыцаря, включает в Первую часть «Дон Кихота» любовные истории, герои которых – встреченные Дон Кихотом и Санчо на дороге и на постоялом дворе молодые люди. Особое место среди них занимает «история пленного капитана», основную часть которой рассказывает сам ее протагонист – капитан Руй Перес де Вьедма (развязка истории капитана происходит уже на постоялом дворе). Героическое поведение пленного капитана и его алжирских сотоварищей по несчастью (среди которых – и некий Сааведра) явно контрастирует с «подвигами» героя основного сюжета романа, но – одновременно – подтверждает ценность исповедуемой Алонсо Кихано веры в особую роль рыцарства. В гоголевской «оглядке» на Сервантеса – возможное объяснение тому загадочному факту, что воинское звание героя повести Гоголя – капитан, слишком уж возвышающее «маленького человека» Копейкина (если прочитывать «Повесть…» именно в таком ключе). Ю. М. Лотман26 пытался объяснить возведение героя фольклорного и сентименталистского сюжета – солдата – в капитанское звание, апеллируя к влиянию на Гоголя Пушкина. Но очень уж окольными путями. А что, если Копейкин капитан потому, что именно таково воинское звание героя вставной истории в романе Сервантеса?
Но если история пленного капитана у Сервантеса контрастирует с основным сюжетом как героическое с герои-комическим, то в «Повести о капитане Копейкине» кардинально меняется модальность повествования: остраненно-иронический стиль всеведущего автора-рассказчика сменяется сказовой, сумбурной речью косноязычного почмейстера, не знающего, чью сторону (капитана или петербургского вельможного чиновника) занять в своем изложении истории о «демонической» (символически почти лишенной правой половины тела) личности рязанского разбойника. Возможно, это – последняя попытка Гоголя-романиста освободиться из-под власти монологической риторики и сохранить верность романному диалогизму и перспективизму. Последняя попытка выстроить образ Чичикова по модели героя романа сервантесовского типа: «Чичиков, – писал Ю. М. Лотман, – окружен литературыми проекциями, каждая из которых пародийна и серьезна: новый человек русской действительности, он и дух зла, и светский человек, и воплощенный эгоист Германн, рыцарь наживы, и благородный (грабит, как и Копейкин, лишь казну) разбойник. Синтезируя все эти литературные традиции в одном лице, он одновременно их пародийно снижает»27.
Однако, в следующей – одиннадцатой – главе «поэмы» гротескная, но уникально-целостная фигура Чичикова начивает раздваиваться на героя «плутовского романа» (о чем мы уже писали) и – доверенное лицо и спутника Автора («…Друг наш Чичиков чувствовал в это время не вовсе прозаические грезы…», 209). Более того: в Чичикове обнаруживается надежда на возрождение России. Он – отнюдь не разбойник (эта роль отходит Селифану28), а «хозяин, приобретатель» (227). И хотя Гоголь тут же начинает рассуждать в духе нестяжательства, эти качества «друга» Чичикова (как и «непреодолимая сила его характера») будут востребованы во втором томе. К Чичикову-хозяину будет взывать Костанжогло в своей речи о труде… Но это будет в повествовании совсем иного жанрового типа: в «поэме в прозе», восходящей к тому же Сервантесу. Правда, автору не «Дон Кихота», а «Странствий Персилеса и Сихизмунды».
Примечания
1 См.: Багно В. Е. Гоголь и испанская литература // Гоголь и мировая литература. М.: Наука, 1988, а также главу в его кн.: «Дон Кихот» в России и русское донкихотство». Указ. изд.
2 О смехе Сервантеса мы писали в кн.: «Дон Кихот» Сервантеса и жанры испанской прозы XVI–XVII веков. М.: Изд-во МГУ, 1998; о смехе Гоголя см.: Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М.: Coda, 1996; Багно В. Е. «Дон Кихот» в России и русское донкихотство. Указ. изд.
3 Начатый еще Белинским и Аксаковым спор на тему, поэма «Мертвые души» или роман, продолжается до сих пор. См. подведение итогов этого спора в кн.: Недзвецкий В. А. Русский социально-утопический роман XIX века. Становление и жанровая эволюция. М.: Диалог-МГУ, 1997.
4 Использующий композиционную схему пикарески французский нравоописательно-бытовой приключенческий роман создан Лесажем с оглядкой на очень специфический испанский «плутовской роман» – на «Жизнь Маркоса де Обрегон» В. Эспинеля (1618), в котором… попросту нет героя-пикаро. См. подробнее: Пискунова С. И. Исповеди и проповеди испанских плутов // Пискунова С. И. Испанская литература XII–XIX веков. Указ. изд.
5 К Ласарильо, однако, это не относится: пикаро как герой жанра (да и само его наименование) появляются лишь у Матео Алемана – в «Гусмане де Альфараче» (1 ч. – 1599, 2 ч. – 1604).
6 «Красноречивый послушник Алонсо, слуга многих господ» – герой одно именного романа Х. Алькала Яньеса-и-Риберы – вполне добродетельный по природе человек.
7 Гончаров С. А. Творчество Гоголя и традиции учительной культуры. СПб.: Образование, 1992. С. 129.
8 См.: Смирнова Е. А. Поэма Гоголя «Мертвые души». Л.: Наука, 1987. С. 150 и сл.
9 См., например: Cabo Aseguinolaza F. El concepto de género y la literatura picaresca. Santiago de Compostela, 1992.
10 Получается, что, возводя «Мертвые души» к пикареске, Ю. В. Манн, вопреки собственным намерениям, оказывается среди тех, кто считает, что жанрово-завершающий принцип «поэмы» Гоголя лежит не в романной плоскости, плоскости диалогического сопряжения разных точек зрения на мир, а в плоскости риторической «учительной» литературы и культуры.
11 Гончаров С. А. Указ. соч. С. 20.
12 Там же. С. 39.
13 «Ласарильо» в этом, как и во многих других аспектах, существенно отличается от своих жанровых «потомков». В сюжете первой плутовской повести, возникшей в процессе полемики «новых христиан» с ренессансно-гуманистическим «мифом о человеке», травестируется евангельский сюжет о воскресении Лазаря (исп. Ласаро), сталкиваются жизнь и смерть, разворачивается история омертвления души «частного» человека по мере его превращения в человека «публичного», если пользоваться определениями М. М. Бахтина.
14 См.: Сахаров В. И. Русская проза XVIII–XIX веков. М.: ИМЛИ РАН, 2003.
15 См. его статьи, cобранные в книге: Вайскопф М. Птица-тройка и колесница души. М.: Новое литературное обозрение, 2003 (особенно «Путь паломника: Гоголь как масонский писатель»), а также кн.: Вайскопф М. Сюжет Гоголя. М.: Coda, 1993.
16 Вайскопф М. Птица-тройка и колесница души. Указ. изд. С. 114.
17 Багно В. Е. Указ. соч. С. 77.
18 Изображаемое в романе время столь же фантастично и размыто, как и пространство: действие «поэмы» разворачивается то ли сразу после завершения Наполеоновских войн («Повесть о капитане Копейкине» прямо продолжена обсуждением происхождения и истинной биографии Чичикова, как бы современника капитана), то ли непосредственно в годы ее сочинения.
19 В «Мертвых душах», – отмечает С. А. Гончаров, – «…между фабульным и сюжетным смыслом возникают отношения референта и знака» (см.: Гончаров С. А. Указ. соч. С. 21).
20 См.: Пинский Л. Е. Сюжет-фабула и сюжет-ситуация // Пинский Л. Е. Реализм эпохи Возрождения. Указ. изд.
21 Пинский Л. Е. Указ. соч. С. 299.
22 См.: Вайскопф М. Сюжет Гоголя. Указ. изд.
23 См.: Елистратова А. А. Гоголь и проблемы западноевропейского романа. М.: Наука, 1972. С. 111.
24 Термин К. Штанцеля, при помощи которого Ю. В. Манн успешно анализирует повествовательные стратегии Гоголя – автора «Мертвых душ».
25 Р. Леблан (см.: Леблан Р. Филдинг, Гоголь и «память жанра» у Бахтина. Указ. изд.) убедительно показал, что Гоголю, читавшему английского романиста во французских переводах, был недоступен полный адекватный текст романов Филдинга.
26 См.: Лотман Ю. М. Пушкин и «Повесть о капитане Копейкине» (К истории замысла и композиции «Мертвых душ») // Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. III. Указ. изд.
27 Там же. С. 46.
28 «На большой дороге меня собрался зарезать, разбойник, чушка ты проклятая…?» (Гоголь Н. В. Собрание сочинений: В 7 т. М.: Художественная литература, 1985. Т. V. С. 203).
Роман и риторическая традиция (Случай Гоголя и Сервантеса)1
Как известно, критическая интерпретация литературного произведения в существенной мере зависит от контекста, в котором оно рассматривается. Неизбежная судьба «Персилеса» – как сокращенно именуют последний роман Сервантеса «Странствия Персилеса и Сихизмунды. Северная история»2 – жить в сознании читателей возле «Дон Кихота» и других сервантесовских творений, начиная с «Галатеи». Не имея ни малейшего намерения извлечь «Северную историю…» из этого контекста, я хотела бы расширить его до истории европейского романа в целом, трактованной как история эстетической формы, имеющей собственный смысл и собственное историко-культурное содержание. Это намерение согласуется с методологическими принципами исторической поэтики – филологической дисциплины, сложившейся в России в конце XIX века в трудах Александра Веселовского и получившей продолжение в 20—30-е годы в работах Юрия Тынянова, Михаила Бахтина и других ученых. Самым представительным и известным примером реализации принципов исторической поэтики являются труды Бахтина 30-х годов, посвященные поэтике романа, и четвертая глава второй редакции его книги о Достоевском, в которой ученый развивает мысль о рождении романа (novel) в лоне карнавальной культуры и метажанровой традиции, обозначенной им как «мениппея».
Некоторые из исследователей уже использовали для интепретации «Персилеса» отдельные идеи Бахтина, прежде всего представление о «хронотопе». Я, со своей стороны, хотела бы привлечь внимание к другим, не менее плодотворным, бахтинским идеям. А именно: к идее «памяти жанра» (Бахтин ее сформулировал в противовес инструментарным понятиям классического компаративизма – таким, например, как «влияние»), и к идее «большого времени» культуры.
Основываясь на представлении о «большом времени», которое можно сблизить с построениями Э.-Р. Курциуса, я, несколько упрощая ситуацию3, хотела бы обратить ваше внимание на два творческих принципа, которые необходимо учитывать при изучении судеб европейской наррации: риторический, доминировавший в европейской культуре Европы начиная с 4–5 веков до н. э. вплоть до второй половины XVIII века, и антириторический, антитрадиционалистский, отражающий дух Нового времени (жанр романа, согласно Бахтину, является наиболее ярким воплощением антириторического принципа художественного мышления). Формирование антириторической культуры относится к концу Возрождения, но окончательно она утвердила себя в качестве доминантной в эпоху Романтизма. Что же касается раннего Нового времени, то мы могли бы говорить о борьбе в литературе этого периода духа авторитарности, риторической нормы, ориентирующей писателя на подражание античным образцам, на топосы и клише, с духом свободы, творческого воображения, изобретательства (ingenio), о столкновении установки на универсализацию феноменов и событий со все усиливающейся в искусстве тенденцией к дроблению целого в частностях и подробностях, к охвату в границах единого замысла всего многообразия современной живой действительности. Творчество Сервантеса – в центре этой борьбы. Но жанр романа, рождающийся под пером автора «Дон Кихота», не мог полностью преодолеть риторическую «теорию романа» (Э. Райли), исповедуемую Сервантесом, неоаристотелевский идеал «прозаической эпопеи» или «эпической поэмы в прозе» (здесь нет необходимости говорить о значении для Сервантеса эстетических идей Алонсо Лопеса Пинсьяно, досконально иследованных А. Форсьоне4). А ведь «прозаическая эпопея» – это типично риторический жанр. Иными словами, в этой борьбе «Дон Кихот» и «Персилес» принадлежат к разным лагерям, хотя разделительная линия между риторической поэтикой и поэтикой романной проходит также внутри каждого из этих произведений. Например, между первыми двумя и вторыми двумя книгами «Персилеса»5. Или между речами Дон Кихота и реакцией на них его слушателей. И если мы будем говорить об исходе этой борьбы внутри «эпохи Сервантеса», тогдашней культурной ситуации, мы должны будем признать, что победил в ней именно риторический принцип. Низвергнутый окончательно в Англии Лоренсом Стерном, во Франции – Руссо, в Германии – Гёте, автором «Вильгельма Мейстера», в России – Пушкиным, в Испании он был полностью преодолен лишь усилиями писателей «поколения 98 года».
В обозначенном эпохальном контексте – контексте «большого времени» – я предпочла бы интерпретировать «Персилеса» прежде всего как «результат напряженного противостояния «теории поэмы в прозе» и «романного праксиса»6. Я также почти полностью разделяю предложенную профессором Ромеро хронологию создания «Персилеса» – с единственной оговоркой: на мой взгляд, «Персилес» создавался не в два, а в три этапа. Мне кажется, что Сервантес вернулся к своим «ста страницам» усовершенственного рыцарского романа7, набросанным после знакомства с диалогом Пинсьяно (опубл. в 1596 году), несколькими годами спустя после выхода Первой части «Дон Кихота», то есть во втором десятилетии XVII века, а закончил свой роман в последние месяцы своей жизни (сдав в печать Вторую часть «Дон Кихота»). Так или иначе, создание «Персилеса» шло параллельно с процессом рождения современного романа – «Дон Кихота» – и, в конечном счете, – процитирую еще раз профессора Ромеро – мы читаем «Персилеса» «лишь после „Дон Кихота“», с ощущением возврата к одной из прошедших стадий развития европейских повест вовательных форм, как шаг назад – от novel к romance, используя формулу Рут Эль Саффар8.
Мы могли бы поискать объяснение этому феномену в регрессивном развитии личности Сервантеса, писателя и человека, в логике трансформации его мировоззрения или в комплексе идей, присущих испанцам в начале XVII века. Но мы также могли бы исследовать его рядом с аналогичными случаями в истории других литератур – теми, что типологически сопоставимы с явлением Сервантеса. Тогда мы могли бы лучше понять историко-культурный механизм развития эстетических форм, закономерности культурного возврата к пережитому и прошедшему.
На самом деле, сопоставление двух писателей, как в типологическом аспекте, так и с точки зрения традиционного компаративизма, то есть в плане влияния Сервантеса на прозу Гоголя, в особенности на «Мертвые души», – это достаточно изученная тема. Однако предметами сопоставления были всегда «Дон Кихот» и первый том «Мертвых душ», так как сам Гоголь в своей «Авторской исповеди» писал, что сюжет «Мертвых душ» ему подарил сам Александр Пушкин, советуя ему взять за образец Сервантеса – автора «Дон Кихота». В то же самое время, никто из исследователей – за исключением Всеволода Багно9 – не принимал в расчет второй том «Мертвых душ». Следует напомнить, что последняя редакция этой книги, подготовленная автором к изданию, была сожжена им самим за девять дней до его смерти. Поэтому, чтобы рассуждать о втором томе, у нас есть только пять глав из двух предыдущих редакций и воспоминания друзей Гоголя о чтении некоторых глав второго тома самим писателем в дружеских собраниях. Но именно в этих главах – в отличие от первого тома – непосредственно упоминается герой Сервантеса и сам феномен донкихотизма. Более того, в них фигурирует персонаж (Хлобуев), воплошающий «русское донкишотство» (русских Дон Кихотов от Просвещения) в гоголевском отрицательном использовании этого понятия. Как эти упоминания, так и названный персонаж свидетельствуют о том, что гоголевское восприятие Дон Кихота (именно персонажа, а не романа «Дон Кихот») было негативным, напоминающим отношение к Дон Кихоту большинства читателей XVIII века. А Гоголь, хотя и жил в первой половине XIX-го, в действительности во многих смыслах был человеком предшествующего столетия, одновременно века русского Просвещения и русского Барокко. Ода, эклога, идиллия, эпопея или эпическая поэма были для Гоголя-критика, автора учебника по всеобщей литературе, главными литературными жанрами, в то время как жанр романа занимал в его эстетических представлениях достаточно скромное место. «Дон Кихота», как и поэму Ариосто, как и романы Филдинга, Гоголь относил к «малому роду эпопеи». Когда он начинал писать «Мертвые души», перед его глазами были примеры Сервантеса и Филдинга, но в процессе многолетней работы над романом и особенно после духовного кризиса 1840 года, пережитого в Вене, его первоначальные жанровые ориентиры постепенно сместились в сторону творений Гомера, Вергилия, Данте, Торкватто Тассо, «Путешествиям Телемаха» Фенелона и так называемых «масонских романов», создававшимися русскими писателями XVIII века по образцу позднегреческих и позднеримских романов эллинистической эпохи (тех, что в Испании называют «византийскими»). Уже в 1836 году Гоголь начал характеризовать свой роман и как «прозаическую поэму». По замыслу в ней должно было быть три части, как в «Божественной комедии». И если первый том «Мертвых душ» является комическим произведением, построенным на основе развития сюжета сервантесовского типа – как последовательность сходных ситуаций, спровоцированных Чичиковым, стремящимся к воплощению своего головокружительного плана, то второй том гоголевской «поэмы» как жанровая целостность (речь не идет от отдельных, изъятых из жанрового контекста образах или мотивах!) не имеет почти ничего общего с «Дон Кихотом» (начиная с того, что это – абсолютно серьезное повествование).
Но у него немало общего с «Персилесом», произведением, без сомнения, не известным Гоголю (русский перевод романа появился только в 1961 году10). Совпадение двух «романов»11 – второго тома «Мертвых душ» и «Персилеса» – не сводится лишь к авантюрному сюжету, каковой в одном случае является рассказом о путешествии двух влюбленных – принца и принцессы – к Риму как центру католического мира, а в другом – повествовании о странствиях Павла Чичикова, человека отнюдь не знатного происхождения, лишенного стабильного социального статуса – по поместной России с целью покупки «мертвых душ», то есть умерших крестьян, еще не зарегистрованных официально в качестве таковых. Впрочем, как романы странствий второй том «Мертвых душ», да и «Персилес», недалеко отстоят от того же «Дон Кихота», от плутовских и рыцарских романов… Важно, что во втором томе путь Чичикова-авантюриста, полупикаро и полудонкихота, полудьявола и полуапостола Павла12, трансформируется в аллегорический поиск героем и читателями «прозаической поэмы» духовного воскрешения, которое Гоголь связывает с самопознанием, с превращением героя из «человека внешнего» в «человека внутреннего». В художественном пространстве поэмы в целом этот поиск воплощается также в сюжете о путешествии к духовному центру мироздания, к мистической «святой Руси».
Конечно, путь Чичикова – вовсе не героическое деяние, но персонаж Гоголя – не просто пикаро, а тот, кто должен проникнуть в мир мертвых душ (его эквивалент – спуск в ад, посещение мира варваров), взлететь на небо на крыльях птицы-тройки и выйти к началу второго тома к свету земного рая. (Нет необходимости здесь говорить о том, что мотивы временной смерти, выхода на свет из мрака нижнего мира присутствуют и в многочисленных эпизодах «Персилеса»).
В противоположность персонажам двух первых книг «Персилеса», плавающим по северным морям от острова к острову, Чичиков – персонаж и первого, и второго томов «поэмы» – перемещается по земле, но образ бушующего моря сопровождает его в странствиях: не раз он сравнивает себя с кораблем, носимым по волнам моря житейского13. Соответственно, дома русских помещиков, которые он посещает, играют в повествовательной структуре «поэмы» Гоголя роль тех же островов («твердой земли»), которые либо принадлежат помещикам-«варварам» («мертвым душам», людям, не просвещенным, не просветленным знанием своего предназначения), либо – уже во втором томе – выступают в функции locus amoenus («земного рая»). Вместе с образом «земного рая» в каждом из анализируемых произведений появляется и мотив идеального государства, разумно управляемого мира: поместье Костанжогло в «Мертвых душах», королевство Поликарпа в «Персилесе» (характерен греческий генезис обоих имен!).
«Земной рай» в «поэме» Гоголя – например, описание поместья Тентетникова – очень похож на аналогичные фрагменты «Персилеса». Как правило, речь идет об изолированном месте, отделенном от остального мира горами или морем, в центре которого находится зеленый луг, по которому протекает река или ручей, в водах коего отражаются купы деревьев разных пород. Это – одновременно и искусственный, и естественный «космос», сотворенный Природой и трудом человека, и замкнутое в своем совершенстве, и открытое пространство, с которого открывается широкая перспектива, нередко – гористая местность (в случае с Гоголем, возвышенность, увенчанная куполами и крестами православного храма: «В одном месте крутой бок возвышений воздымался выше прочих и весь от низу до верху убирался в зелень столпившихся густо дерев. Тут было все вместе… мелькали красные крышки господских строений, коньки и гребни сзади скрывшихся изб и верхняя надстройка господского дома, а над всей этой кучей дерев и крыш старинная церковь возносила свои пять играющих верхушек…» (235). Или же – как в эпизоде посещения группой паломников во главе с Персилесом и Сихизмундой (они уже добрались до Франции14) пещеры отшельника-мага15 Сольдино, – горная долина, путь в которую – символическое нисхождение в недра пещеры, которое оборачивается выходом к «чистому и ясному небу» (378).
Следует, однако, иметь в виду принципиальное различие гоголевской и сервантесовской утопии (как она представлена в «Персилесе»). Эпизод спуска в пещеру Сольдино является самым выразительным и значимым эпизодом «Персилеса», в основе которого лежит топос «земного рая». И хотя у нас нет возможности детально проанализировать этот эпизод, хотелось бы подчеркнуть его преимущественно риторический характер (поэтому романтическое прочтение «Персилеса» и этого фрагмента романа в особенности, на мой взгляд, не вполне адекватно). Речь Сольдино, начиная со слов «Yo levantй aquella ermita…»16, – это прозаический парафраз «Песни об уединенной жизни» («Canciуn de la vida solitaria») Луиса де Леон (а разве имя старца Soldino не является анаграммой имени саламанкского поэта?). И несмотря на упоминание «упорного» труда в речи Сольдино, вся она является восхвалением спокойной и созерцательной жизни, жизни человека, чьи глаза постоянно устремлены к небу (преимущественно ночному). Гоголевский идеал совершенной жизни, напротив, в чем-то ближе лютеранскому – протестантской «этике труда» (М. Вебер). Смысл земного существования человека для Гоголя заключен в неустанном труде, в созидательной деятельности. Самым тяжким грехом для создателя второго тома является не сладострастие (как для Сервантеса в «Персилесе»), а лень, русская абулия. Так что просторы России во втором томе – невзирая на псевдолютеранскую подсветку гоголевской системы нравственных ценностей – напоминают чистилище (ни православными, ни протестантами не признаваемое), населенное душами людей, заразившихся этой тяжкой, но исцелимой болезнью, людей, не способных на поступки, деяния, как бы зачарованных. Персонажи второго тома – не мертвые (души), но души спящие, заколдованные сном. Задача Гоголя-проповедника – разбудить их, призвать к деятельной жизни. Поэтому идеальный правитель (управитель) своего поместного «царства» – Василий Костанжогло (таково его имя в последней версии сохранившихся глав) произносит своего рода прозаическую оду, восхваляющую различные виды занятий и ремесел, связанных с сельским трудом17. Слушая Костанжогло, Чичиков начинает думать об изменении своей жизни, хотя затем вновь поддается искушению и ввязывается в очередную аферу, которая приводит его в тюрьму («темницу»). Оттуда его спасает «старик Муразов», еще один идеальный герой, символизирующий союз предпринимательства и христианской этики. Подобно благоразумному Маурисио из «Персилеса», Муразов (поистине мистическое созвучие имен!) играет роль Наставника для персонажей второго тома гоголевской «поэмы». Но, в отличие от Маурисио, ему не дано провидеть будущее. Единственный личностью в художественном мире «Мертвых душ», наделенной этим даром, является сам Автор. Его «субъективные вторжения» в повествование (используя формулу, примененную Х. Б. Авалье-Арсе к «Персилесу»18), характерные для первого тома гоголевской «поэмы», во втором томе только множатся, так что нередко текст «поэмы» превращается в своего рода проповедь, обращенную Автором к читателям.
Как известно, в «Персилесе» многие персонажи, включая героя-протагониста Персилеса-Периандра, также нередко выступают как проповедники. Поэтому, в отличие от Ф. Мерегалли19, мы не склонны считать «Персилеса» всего лишь развлекательным чтивом, адресованным «сеньоритам». Да, «Персилес» является и развлекательным сочинением, особенно в согласии с первоначальным авторским намерением, выраженным в речи толедского канноника, но в то же самое время – и тем более к концу повествования – он является дидактическим сочинением, философским и метафизическим одновременно, адресованным читателю образованному, просвещенному (в этом плане Сервантес-автор «Персилеса» соревнуется с Лопе де Вега-прозаиком, которого сам же высмеивал в Прологе к Первой части за показную эрудицию).
И здесь необходимо вспомнить, что как «Персилес», так и второй том «Мертвых душ», эти «эпические поэмы в прозе», сориентированы на сюжетную схему позднегреческого романа, продолжением которого в Испании был авантюрно-сентиментальный («византийский») роман XVI–XVII веков, а в России – аллегорический масонский роман XVIII века. Ведь сочинения Гелиодора, Ахилла Татия, Ксенофонта Эфесского, Лонга отнюдь не были простонародным развлекательным чтением, «милетскими побасенками». Как показывают исследования последних лет20, эти повествования в символико-аллегорической образности разворачивали те же темы и проблемы, о которых шла речь в диалогах Платона («Федре» и «Пире»), в «Моралиях» Палутарха, в орфических гимнах, в апокрифических евангелиях, в гностических и неоплатонических трактатах: тему изначального Единства Бытия, воплощенного в фигуре Эрота-Андрогина, миф о разрушении этого Единства и падении Души (женского начала, Софии) в материальный мир, рассказ о тоске последней по утраченной небесной Целостности и жажде воссоединения с небесным Отцом после прохождения многочисленных и многотрудных духовных испытаний. В сюжетах эллинистических романов отразились не только эти мифологемы, но и сродственные им ритуалы (орфические, исидические), так или иначе варьирующие ритуал инициации, состоящий, в свою очередь, из таких этапов, как временная смерть, странствия души во мраке в поисках света, воскрешение, финальное воссоединение разлученной мистической пары. Им соответствуют и этапы развертывания сюжета в эллинистическом романе, который уже в поздней античности начал подвергаться христианизации, продолжившейся в Средние века и особенно интенсивно в эпоху Возрождения, благодаря открытию герметического корпуса (прежде всего, в сочинениях Марсилио Фичино и Пико дел ла Мирандола). И если следовать теории «памяти жанра», этого подсознательного механизма развертывания литературного процесса, каждый автор, обращающийся к жанру «византийского» романа (повторю: именно он оказался сюжетно-композиционным прототипом «Персилеса» – первой осуществившейся «эпической поэмы в прозе»), – независимо от того, кем он был по своим сознательным убеждениям и вере, – неизбежно оказывался в зависимости от эклетической, мифопоэтической и одновременно христианской, идеологии позднегреческих и римских романистов.
Мотив идеального брака («совершенной женитьбы») – бракосочетания, которое является земным соответствием небесной мистической свадьбы, ее земным субститутом, сопряженный с ним мотив чистоты помыслов влюбленных (в том числе и супругов) в эллинистическом романе продолжены в мотиве смерти для этого мира и духовном воскресении в жизни вечной: в этой связи можно вспомнить первую, отмененную второй, возможную развязку романа Сервантеса – смерть Персилеса и решение Сихизмунды постричься в монахини. Столь важная для «Персилеса» тема священной свадьбы в поэме Гоголя также представлена, хотя и не в таком объеме. Она сосредоточена в образе помещика Тентетникова и его возлюбленной Улиньки, чье имя по созвучию ассоциируется с русским словом «улей» и превращает Улиньку в аллегорию девушки-пчелы, мистического символа воскресения.
Сходство двух анализируемых текстов проявляется и в парадоксальном жанровом и стилевом строе обеих «эпических поэм в прозе». У каждой из них – и у «Персилеса», и у «Мертвых душ» – есть две стороны, запечатлевшиеся в традиции их критических прочтений: обе поэмы оцениваются с акцентом то на их «реализме», то на «идеализме». Конечно, соотношение «реалистических» и «идеалистических» частей в обоих произведениях зеркально инвертировано: Первый том «Мертвых душ» обычно трактуется как реалистический роман, и как таковой, скорее, соотносим с третьей-четвертой книгой «Персилеса». Напротив две первые, «идеалистические», книги «Северной истории…» следовало бы, скорее, соотнести со вторым томом «Мертвых душ». Однако, как ни парадоксально, именно второй том гоголевской «поэмы», со всем его идеалистическим заданием и учительным пафосом, имеет значительно больше сугубо фабульного сходства с классическим семейно-бытовым романом (как он сложился на английской почве), полон детальных описаний, содержит зачатки психологического анализа образов героев: в целом он, по определению самого Гоголя, «объективнее», «правдоподобнее» первого. В нем нет и следа той, пускай и ушедшей в слово, в стиль, гротескной фантастики, которая заставляет вспомнить видения-аллегории Данте, Кеведо, Гойи. Но именно на фоне правдоподобной симуляции «реальной» жизни аллегоризм отдельных образов и фрагментов второго тома гоголевской поэмы особенно заметен. То же можно сказать и о «Персилесе»:
в последних «реалистических» книгах романа Сервантеса, действие которых разворачивается в «реальном» мире, аллегорический повествовательный план, сосредоточенный, прежде всего, в метатекстуальных эпизодах и образах – аллегорическом портрете Ауристелы-Сихизмунды, живописном полотне, запечатлевшем приключения героев в северных землях, которые они везут с собой как «документальное» изображение ими пережитого, комедии, сочиненной поэтом из Бадахоса, – во всех этих и других мотивах, включая упоминавшееся посещение старца Сольдино, аллегорическое задание поэмы выступает отчетливее. Напротив, в первых книгах аллегорические образы сервантесовских героев-избранников, их друзей и недругов, теряются на сотканном из мифопоэтических мотивов и риторических описаний бурь, кораблекрушений, пожаров и сражений фантастическом фоне. Поэтому мы можем говорить о том, что риторическое слово присутствует в обоих произведениях на всем их пространстве, от первых глав до последних, но располагается на разных повествовательных уровнях: моральные наставления, проповеди, пророчества, чистый катехизис усиливаются к финалу каждой из «поэм».
В заключение я хотела бы упомянуть о мотиве «огня», который, контрастируя с мотивом «воды», – оба в мифопоэтической и ритуальной традиции тесно связаны с темой священного брака, – во всех его вариациях (пожара, извержения вулкана, солнечного света и т. д.) является центральным мотивом «Персилеса». Мы не найдем этого мотива в сохранившихся главах второго тома (он играет важнейшую роль в другой «поэме» Гоголя, создававшейся параллельно с работой писателя над «Мертвыми душами», – в «Тарасе Бульбе»). Но именно огонь, как я уже говорила, поставил точку в судьбе гоголевского романа. Сожжение Гоголем рукописи второго тома было типично гностическим жестом, повторенном в судьбе романа Мастера, героя другого русского романа, взошедшего на той же гностической почве, – «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.
Из пролога к «Персилесу», написанного на смертном ложе, мы знаем, что поведение Сервантеса перед лицом смерти было диаметрально-противоположным: он пытался сделать все, чтобы завершить «Персилеса» и спасти свое последнее творение из бездны забвения – из вод, ставших причиной смерти автора21. В этом и во многих других аспектах «Персилес» был продолжен «Критиконом» Бальтасара Грасиана (повествованием воистину антидокихотовским22), а также аллегорическими романами и поэмами XVII–XVIII веков, например «Путешествием Телемаха» Фенелона. Последние, как и национальные аллегорические «романы» масонской ориентации, были очень популярны и в России, и в Малороссии – на родине Гоголя. И он их прекрасно знал. Таким образом, два произведения, о которых шла речь, оказываются двумя концами одной жанровой цепи, спаянной «памятью жанра».
Примечания
1 В этой главе, представляющей собой русский перевод доклада, сделанного в 2003 году. в Лиссабоне на Пятом конгрессе Ассоциации сервантистов, мы сочли возможным сохранить модальность и стилистику устного выступления, адресованного зарубежным коллегам, не всегда ориентирующимся в методологических установках русской филологии.
2 Есть русский перевод, принадлежащий Н. М. Любимову. Был опубликован (единственный раз!) в 5-м томе русского Собрания сочинений Сервантеса (М.: Правда, 1961). Далее все цитаты из «Персилеса» по-русски даются по этому изданию.
3 Более нюансированную и развернутую оценку роли риторического принципа в истории культуры см. в главе «Русский роман как сюжет исторической поэтики».
4 См.: Forcione A. K. Cervantes, Aristotle and the Persiles. Princeton, 1970. Влия ние идей Пинсьяно на творчество Сервантеса и на судьбу европейской наррации было исследовано мною в кандидатской диссертации «"Высокие жанры" прозы Сервантеса» (МГУ, 1978).
5 См. в главе «Особенности поэтики романа Сервантеса „Странствия Персилеса и Сихизмунды“» в кн.: Пискунова С. И. Испанская и португальская литература XII–XIX веков. Указ. изд.
6 Romero Muсoz C. Introducciуn // Miguel de Cervantes. Los trabajos de Persiles y Sixismunda / Ediciуn de C. Romero Muсoz. Madrid: Cбtedra, 1997. P. 42–43.
7 О них как о своем незавершенном творении упоминает один из персонажей первой части – толедский каноник – в знаменитом диспуте с Дон Кихотом, разворачивающимся в XLVII–XLVIII главах: слова каноника сервантисты почти единодушно интерпретируют как признание самого Сервантеса в желании самому стать автором рыцарского романа, согласованного с требованиями поэтики неоаристотелизма, и в том, что еще до начала работы над «Дон Кихотом» он набросал «страниц сто» будущего «Персилеса».
8 См.: El Saffar R. S. Novel to Romance. A Study of Cervantes's «Novelas ejemplares». Baltimore, 1978.
9 См.: Багно В. Дорогами «Дон Кихота». Указ. изд.
10 См. прим. 2 к наст. гл.
11 Будем называть их так: несмотря на доминирование в обоих произведениях риторического начала, и «Персилеса», и «Мертвые души» можно и нужно читать и в контексте романной (от «романа» как novel) и уж наверняка романической (от романа – romance) традиции.
12 См. об этом: Вайскопф М. Сюжет Гоголя. Указ. изд.
13 «Гость… заговорил о превратностях судьбы; уподобил жизнь свою судну посреди морей, гонимому отовсюду ветрами» (V, 255). Здесь и далее второй том «Мертвых душ» цитир. по изданию: Гоголь Н. В. Собрание сочинений: В 7 т. М.: Художественная литература, 1985.
14 О траектории движения героев «Персилеса» и о композиции романа см. в главе «Особенности поэтики романа Сервантеса «Странствия Персилеса и Сихизмунды» в кн.: Пискунова С. И. Испанская и португальская литература XII–XIX веков. Указ. изд.
15 Еще один характерный персонаж аллегорического эпоса Сервантеса – рыбак, традиционный образ-символ божественной любви и контакта человека со спокойным морем, противопоставленный фигуре пирата-грабителя, связанного с морем бушующим. И в «поэме» Гоголя мы становимся свидетелями живописной сцены ночной ловли рыбы, разворачивающейся, естественно, не на просторах моря, а на реке. Эта мирная река – явный контраст житейскому морю, по которому судьба носит Чичикова.
16 «Я построил себе келью…» и т. д. См. с. 379 указ. изд. «Персилеса».
17 См. его речь в третьей главе последней версии отрывков из второго тома, начинающуюся словами «Да… надобно иметь любовь к труду…» (V, 420).
18 См.: Avalle-Arce J.-B. Los trabajos de Persiles y Sigismunda // Suma cervantina. London, 1973.
19 Meregalli F. Relectura del «Persiles» // Anales cervantinos. XXV–XXVI. 1987–1988.
20 См., например: Протопопова И. А. Ксенофонт Эфесский и поэтика иносказания. М.: РГГУ, 2001.
21 Сервантес, предположительно, умер от «водянки», как тогда говорили, то есть от какого-то почечного заболевания. «Болезнь ваша именуется водянкой, и ее не излечить всем водам океана, если б даже вы стали принимать их по капле» (8), – говорит студент, персонаж пролога к «Персилесу», живописующего вымышленную сцену встречи смертельно больного писателя со своим почитателем-собеседником на дороге из Эскивиаса в Мадрид.
22 См. главу «"Критикон" Бальтасара Грасиана: на стыке эпоса и мениппеи» в кн.: Пискунова С. И. Испанская и португальская литература XII–XIX веков. Указ. изд.
«Донкихотская ситуация» в ранней прозе Достоевского
Проблема «Сервантес и Достоевский» в традиционном компаративистском аспекте разработана достаточно исчерпывающе1. Иное дело – рассмотрение романистики (шире – прозы) Достоевского (да и русского романа в целом) в контексте истории романного жанра. Так, Е. М. Мелетинский, автор труда «Достоевский в свете исторической поэтики»2, отступив от некогда заявленного им самим принципа, согласно которому историческую поэтику не интересуют никакие «влияния»3, как раз «влияния» и прослеживает, лишь избрав – по отношению к традиционной компаративистике – путь вспять: от Бальзака – к Шекспиру. При этом ученый убежден, что творчество Достоевского, «безусловно вырастает главным образом (здесь и далее выделено мной. – С. П.) как продолжение европейской литературы XVIII–XIX веков, то есть от сентиментализма до классического реализма, но иногда находятся и более классические параллели»4. Сервантесу как предтече Достоевского Е. В. Мелетинский уделяет меньше одной страницы, повторяя расхожее сопоставление образов Дон Кихота и князя Мышкина. А ведь в первом по сути историко-поэтологическом исследовании романистики Достоевского – знаменитой статье Вяч. Иванова «Достоевский и его роман-трагедия» (1916), в красноречиво озаглавленном разделе «Принцип формы» Вяч. Иванов вспоминает именно о Сервантесе как о создателе (наряду с Боккаччо – автором «Фьяметты») самого жанра новоевропейского романа – «знаменосца и герольда индивидуализма»5. Вместе с тем, трактуя великое «пятикнижие» Достоевского как воскрешение мифа и древней трагедии, а роман Сервантеса как однозначное осмеяние идеи «ветхой соборности»6, то есть как бы опровергая романтическую апологетику индивидуализма, а по сути дела выворачивая романтическое прочтение «Дон Кихота» «наизнанку», Вяч. Иванов о Сервантесе тут же и забывает: ведь у Сервантеса трагическое «обращается в комическое»7, а задача Достоевского – вернуть роман в лоно трагедии.
Продолжающая историко-поэтологические изыскания Вяч. Иванова и вместе с тем полемичная по отношению к ним, четвертая глава «Проблем поэтики Достоевского» М. Бахтина (для последнего Достоевский – писатель не только и не столько трагический, сколько комический, связанный со стихией «серьезно-смехового»), включает в список жанровых ориентиров Достоевского прозу Платона, Лукиана, мимы Софрона, буколическую поэзию (объединяя эти и другие образцы экспериментирующей фантастики общим понятием «мениппея»), а также «древнехристианскую повествовательную литературу»8, в том числе ее пародийные параллели, и другие примеры карнавализованного дискурса. Говоря о последнем, М. Бахтин особо выделяет «Дон Кихота» как «одного из величайших и одновременно карнавальнейших романов мировой литературы»9, но этой общей оценкой, да еще одним-двумя упоминаниями «Дон Кихота» Бахтин (в «Проблемах поэтики Достоевского») и ограничивается. Строго говоря, «Дон Кихот» интересен философу не как роман, а как классическое воплощение литературной пародии, в своей – наджанровой, даже надлитературной сущности – мало отличное и от так называемого «романа» Рабле, и от «философской повести» Вольтера, и от диалогической прозы Дени Дидро. Собственно западноевропейский роман раннего Нового времени – в границах от «Жизни Ласарильо де Тормес» (1554), прообраза плутовского жанра, до «Жизни и мнений Тристрама Шенди» Стерна, – как «модельная мастерская» используемых Достоевским жанровых структур находится вне поля зрения и Бахтина, и большинства современных ученых10. Имена писателей второй половины XVIII столетия – позднего Вольтера, Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, Шиллера, а также менее значительных, таких, как Н. Леонар, фигурируют в исследованиях о Достоевском значительно чаще. Для нас же эти прозаики важны и интересны преимущественно как посредники между Достоевским и романной классикой раннего Нового времени, на которую русский классический роман – в особенности роман пушкинско-гоголевской поры – в значительной мере сориентирован. Это – подчеркнем еще раз – отнюдь не дает оснований говорить об «архаичности», «отсталости», «заторможенности» развития жанра романа на русской почве: теперь мы понимаем, что архаика может быть одной из самых актуальных, востребованных тенденций развития искус ства. Достоевский – не единственный (тут можно было бы вспомнить и Лескова, и «мистическую» прозу Тургенева, и утопию Чернышевского), но самый крупный романист второй половины 40-х – 70-х годов, сохранивший приверженность традициям романной «архаики», своего рода модернист-архаист (что, впрочем, вещь, вполне естественная!).
Конечно же, традиции раннеевропейской наррации (а также наррации сентименталистской, предромантической и романтической11) навсегда законсервировались в европейской массовой беллетристике, оформившейся как социокультурный феномен в 30-е годы XIX столетия (к ее фабульным схемам Достоевский, как известно, имел большое пристрастие). Но для писателей-реалистов второй половины столетия даже Вальтер Скотт (не говоря о Лесаже, Филдинге и Ричардсоне, а тем более, об испанских прозаиках века Барокко) казался безнадежно устаревшим. Если Сервантес (у которого тот же Скотт столькому научился) в «архаику» и не попал, то лишь как канонизированный романтиками создатель образа Дон Кихота, зажившего своей отдельной жизнью, независимой от замысла его создателя, от «плоти» сервантесовского слова.
Но именно «Дон Кихот», как и роман «сервантесовского типа» в целом (а не образ Дон Кихота и, тем более, миф о Дон Кихоте), для построения исторической поэтики романа – и романа русского в том числе! – представляет особый интерес. Тому доказательство – первый же и во многом также парадигматический (для «раннего» периода творчества Достоевского12) роман – «Бедные люди», на страницах которого – в отличие от созданного почти одновременно неприкрыто-пародийного «Романа в девяти письмах» – о «Дон Кихоте» упоминания нет, но тень «отца» Сервантеса то тут, то там возникает. О сходстве героев раннего Достоевского, и Макара Девушкина в первую очередь, с Дон Кихотом писал еще в 30-е годы прошлого столетия итальянский критик У. Л. Джусти13. Позднее – и независимо от Джусти – об этом писала Л. Розенблюм в очень точно проблемно сориентированной статье «Юмор Достоевского»14, правда, трактуя и героя Сервантеса, и героя Достоевского в аффектированно-романтической (а значит, односторонней) манере.
«Что могло быть "смешного"… в "Бедных людях"? Кто и кому мог показаться комическим лицом?», – вопрошает, полемизируя (весьма бесцеремонно и непрофессионально) с Л. Розенблюм, но в первую очередь с М. Бахтиным, А. Пекуровская15. Когда автор этих строк, опираясь на свой многолетний опыт сервантиста, взялся перечитывать «Бедных людей» и дошел до строк, откровенно пародирующих «Желание» Лермонтова – «Зачем я не птица, не хищная птица…»16, – ему тут же стало смешно. И веселость не оставляла его до конца чтения писем Девушкина. В «Бедных людях» – это еще Белинский почувствовал! – «избыток юмора»: это – роман комический, точнее, трагикомический («серьезно-смеховой», если пользоваться классификацией античных риторов), трагический в каких-то своих аспектах (судьба семейства Горшковых), но отнюдь не в трактовке центральной сюжетной линии – повести об амбивалентной, корыстно-бескорыстной, платонически-эротической псевдо-отцовской влюбленности пожилого чиновника Девушкина в его дальнюю родственницу, – обесчещенную помещиком Быковым Вареньку Доброселову, о его провалившейся попытке не то чтобы защитить девушку от жизни, а из жизни ее «изъять», превратить во вне– и наджизненного «ангельчика» – адресата его все более и более переполняемых литературными амбициями посланий. Ну нет ничего трагического в том, что Вареньке пришлось выйти замуж не за одного нелюбимого человека, а за другого, а Макар остался с надеждой получать от нее письма из степи… Правда, с сознанием, что у него «слог теперь формируется».
Модальность, в которой создан образ Девушкина, на наш взгляд, точно определяют слова Достоевского, обращенные извне – с точки зрения повествователя-автора физиологического очерка – на другого персонажа того же периода – «шута» Ползункова: «комический мученик». Но «физиологический очерк» «Ползунков» представляет героя в аспекте завершающего авторского взгляда, в то время как Макар Девушкин – что давно показано Бахтиным – как персонаж эпистолярного романа, как субъект Ich-Erzählung – такого «овнешняющего» определения, казалось бы, избежал. Тем не менее, в «Бедных людях» все же действует мощный фактор «овнешнения» – стиль, который постепенно вырабатывает Девушкин, персонаж, взыскующий литературного воплощения, примеривающий к себе, на себя роли-маски различных литературных героев, от анти-Ловласа (Ловласом он видится Ратазяеву) до Самсона Вырина. И этот стилевой маскарад воистину комичен. За чередой жанрово-стилевых «масок» Девушкина и более «серьезных», рассудительных писем Вареньки, столь же «олитературенных», как и письмо Татьяны Онегину17, автор и стремился, по его собственному, не раз цитировавшемуся, признанию спрятать собственную «рожу».
Но, как уже говорилось, и в сугубо фабульном плане ничего трагического в первом романе Достоевского нет. Какая там трагическая (да еще взаимная, как видится иным критикам) любовь?! Сюжет «Бедных людей» является парафрастической контаминацией фабульных схем двух романов Ричардсона18 – «Памелы» и «Клариссы Гарлоу»: подобно Клариссе Варенька становится жертвой насильника-соблазнителя, но – в отличие от Клариссы – не погибает, а – подобно Памеле – благополучно выходит замуж за богача-искусителя, г-на Быкова. Имитируя мелочную деловитость Памелы (особенно проявляющуюся во второй части романа Ричардсона), она и адресует Макару пресловутое предсвадебное письмо с указаниями насчет блондов, тамбура и канзу (ничего иного в него вчитывать не стоит!). «Бедные люди» – антисентименталистский и антироманический роман, пародийно сориентированный не только на массовую беллетристику типа романа Леонара19, но и на литературную классику от романов Ричардсона до «Онегина» (тоже ведь в своем роде «романа в письмах»), от Шиллера, на языке которого изъясняется Варенька, имитирующая Елизавету Валуа, возлюбленную дона Карлоса20, – до писем Карамзина. А вот «Станционный смотритель» и «Шинель» в «Бедных людях» не пародируются, а включаются в текст на правах контр-структур, «зеркал», в которых, как правильно замечает Кэтрин Рутсала21, Девушкин пытается разглядеть собственное «я». Однако пародия и контржанр – не одно и то же. Между романом Достоевского и повестями Пушкина и Гоголя установливаются интертекстуальные, контекстуальные отношения (то, что Ю. М. Лотман называл «внетекстовыми связями»), в то время как пародия включает в себя пародируемое на правах «текста в тексте», тем самым сохраняя в себе характерные мотивы и эстетические установки того же сентиментализма – апологию «слабых сердец», апелляцию к чувствительному читателю, идеализацию простоты и невинности сельской жизни, воспевание природы как воплощения гармонического устроения Божьего мира, обличение жестокостей нарождающейся буржуазной (городской, денежной) цивилизации…22 Подобно тому, как «Дон Кихот» включает в себя пародируемые рыцарские романы, функционирующие в Первой части романа Сервантеса как «материальное наполнение» сознания героя. «…Идеальный рыцарский роман у Сервантеса – пишет автор лучшей работы о „Дон Кихоте“, созданной в России, – С. Г. Бочаров, – представлен самим Дон Кихотом, точнее – его сознанием. Дон Кихот не только лишь начитался романов, но в своем сознании он в романе живет. Он совершает роман, как жизнь, и он живет, как в романе… Мир романа Сервантеса объединяет изображенный „реальный“ мир, эмпирический, и мир сознания Дон Кихота, этот роман сознания. Роман Сервантеса – сопоставление этих реальностей, и по отношению к каждой из них есть реальность другого порядка…»23. Это конструктивное сопоставление – а не пресловутое романтическое столкновение иллюзии и реальности («реальность» у Бочарова – в кавычках), и, тем более, не противопоставление героя-мечтателя и пошлой толпы – и есть «донкихотская ситуация». Л. Е. Пинский – автор термина – понимал под ней проходящее через весь роман Сервантеса типическое сюжетное положение, моделирующее взаимоотношение героя и мира. В сегодняшем нашем восприятии «Дон Кихота» понятие «донкихотская ситуация» несколько шире: «мир» в первом романе Нового времени, в отличие от романа средневекового, замкнутого в своем «сказочном» времени24, открыт в текущую современность и поэтому распадается на «книгу» и «жизнь», при том что граница между ними оказывается чрезвычайно размытой: герой проживает жизнь как роман, претворяет задуманный, но не написанный роман в жизнь, становясь автором и соавтором романа своей жизни, в то время как автор – под маской подставного арабского историка Сида Ахмета Бененхели – становится персонажем романа, не выходя в то же время из своих других ролей – автора-издателя и автора-творца тек ста: начиная с Пролога к каждой из частей он – собеседник читателя, которому также предлагается включиться в игру с текстом книги и текстом жизни. Таким образом, «донкихотская ситуация» развертывается не в плоскости имитирующего реальность психологического романа, а в стереометрическом пространстве трагифарсового «романа сознания», в сотворение которого вовлечены три основных субъекта: Автор – Герой – Читатель. И такого типа «донкихотская» ситуация явственно прослеживается в ранней прозе Достоевского, вплоть до «Униженных и оскорбленных», хотя потенциальная ориентация на Сервантеса обнаруживает себя лишь в «Романе в девяти письмах»: «…сими строками объявить вам нужно, – пишет Петр Иваныч Ивану Петровичу, – что видеть вас когда-либо в моем доме мне будет неприятно, равно и жене моей: она слаба здоровьем и запах дегтя ей вреден. Жена моя отсылает вашей супруге книжку ее, оставшуюся у нас, – „Дон-Кихота Ламанчского“, с благодарностью»25.
Конечно, «донкихотская ситуация» как жанрообразующее зерно «романа сознания» могла быть «подсмотрена» Достоевским и в произведениях-посредниках, у того же Стерна или у Пушкина – создателя «Евгения Онегина», но приведенная цитата, инвертирующая ситуацию «Бедных людей» (для Девушкина разрыв есть повод не вернуть книгу, в «Романе…» – причина требовать возврата данной для прочтения книги), доказывает, что «Дон Кихот» был настольной книгой начинающего писателя.
«Роман в девяти письмах», сочиненный для «Зубоскала», – по сути вовсе не «роман», – наглядно опровергает распространенное представление о том, что обращение Достоевского к жанру эпистолярного романа напрямую связано с его стремлением создать психологическое повествование, стать на точку зрения героя, погрузиться в его «внутренний мир», продемонстрировать, что и бедные чиновники «чувствовать» умеют (именно такой подход к своей особе более всего возмущает Макара в «Шинели» Гоголя). Форма «романа в письмах» преспокойно используется Достоевским для исключительно «зубоскальских» целей, делитературализуясь до бурлескной бытовой переписки. Мы были бы готовы присоединиться ко многим наблюдениям и соображениям К. Исупова – автора статьи «Читатель и автор в текстах Достоевского»26, если бы Исупов последовательно не элиминировал смеховое – а вместе с ним и романное, литературное – начало в творчестве создателя «Бедных людей»: «Читатель, – пишет философ, – последняя инстанция смысла произведения в той же мере, в какой создатель произведения – первая инстанция авторства. Между этими полюсами… развернута эстетическая действительность тек ста – пространство жертвенного обмена опытом трагической жизни (выделено мной. – С. П.). А всякий жертвенный обмен, если он идет в условиях взаимоответной серьезности, предполагает «гибель всерьез» обоих – и автора, и читателя (эстетическое успенье)… Достоевский строит отношения «автор / герой» и «автор / читатель» по общему принципу или, если угодно, жанру, который именуется мистерией… Герой Достоевского – герой мистерии по преимуществу… Искусство мистерии состоит в развоплощении голгофы в реальную жизнь; текст пытается сделать невозможное: забыть, что он – всего лишь текст. Происходит самоопределение условности как таковой вплоть до упразднения «художественности» ее средств…»27. Задача «самосознательного романа» – романа сознания – диаметрально противоположна: напомнить жизни, реальности – что она «текст», который каждый из читателей – тот же Дон Кихот или Девушкин – декодирует по законам своего жанра, того же рыцарского романа или «вымыслов» Гоголя и Пушкина. Задача романа сервантесовского типа – напомнить литературе, что она есть не реальная жизни, а лишь образ жизни, подражание жизни, мимесис, неизменно содержащий в себе элементы комического (Х. Ортега-и-Гассет). Тексты Достоевского – не просто мистерия28, но мистерия-буфф.
Характерно, что обращаясь непосредственно к роману «Бедные люди», К. Исупов признает, что здесь «Достоевский превращает карамзинскую поэтику и типажи сентименталистской прозы в предмет эстетической игры»29 («Б. Л. – последний вздох классического сентиментализма в России»). Критик очень точно характеризует сам стиль писем Девушкина: «Девушкин создает танцующую, с юродским прискоком и ужимкой фразу. Она скоморошничает, гримасничает и краснеет за себя… В письменном поведении героя БЛ – источник словесного эстетства ставрогинского типа»30. (Мы бы сказали: источник «словесной эстетики» самого Достоевского.) Вместе с тем, определяя жанрообразующую тему романа «Бедные люди» как «трагедию неприобщенности»31, его героя (вразрез с интерпретацией Бахтина) – как персонажа, лишенного самосознания, «возможности самовыхода» (а он есть, он Достоевским найден – в смехе, в жанровом модусе трагикомического романа «сервантесовского типа»32!), а сам роман – как формально классический эпистолярный роман монологического плана33, философ отказывает поэтике в способности определить место в нем «партии» читателя»34: по его мнению это – задача изобретенной самим Исуповым «фасцинативной» эстетики чтения35, по сути дела уничтожающей в прозе Достоевского (да и в прозе его последователей – писателей XX века) художественное (литературное) начало, «убивающей», отправляющей на заклание и автора, и читателя (да и героя): так православный модернизм удивительным образом смыкается с постмодернизмом Ролана Барта.
Между тем, отвергаемая Исуповым поэтика – и тем более поэтика историческая – объясняет, что «Бедные люди» – не эпистолярный роман как таковой (как и «Дон Кихот» не роман рыцарский!), а спародированный образ жанра эпистолярного романа, то есть эпистолярный метароман, который создается при активном участии читателя, и смеющегося над литературными потугами Девушкина, и сострадающего ему как «униженному и оскорбленному», читателя, помятующего о том, что такое настоящий эпистолярный роман (та же «Новая Элоиза» или «Вертер»). Сам выбор формы метаромана, приглашающий читателя в соавторы, – свидетельство и авторского самоумаления, и его же самоутверждения в собственном «стиле».
Читатель Достоевского, с одной стороны, толкаем к самоотождествлению с субъектом эпистолярного дискурса – героем (в меньшей степени – с героиней), а с другой, отделен от «бедных людей» иронической дистанцией, которая разделяет автора и Девушкина, лицо и «рожу» (маску). Во многом похожее состояние нераздельности-неслиянности с героем (и героиней) переживают, по мысли Ю. Чумакова, автор – и читатель – «Евгения Онегина», что дает ученому основание обозначить главную, фундаментальную черту романа Пушкина словом «единораздельность»36.
Как нам представляется, в ранней прозе Достоевского продолжается прежде всего пушкинская, а затем уже – гоголевская традиция, причем первая по линии приближения к ней, а вторая – по линии отталкивания. И здесь еще раз необходимо указать на роднящий Пушкина и Достоевского особый – благорасположенный к герою – смех37. Смеющийся Достоевский – вовсе не тот «Хохочущий», о котором сам писатель вспоминает в «Петербургских сновидениях в стихах и прозе 1861 года», явно, впрочем, стилизуя процесс рождения у него замысла «Бедных людей». Хохочущий – это, скорее, Гоголь38. Мысль о том, что Девушкин (как и пушкинский Вырин) – «брат твой» – рождается у читателя в атмосфере освобождающего и исцеляющего смеха. Не на языке унижающего риторического увещевания, а в пространстве встречи равных сознаний. И никого для этого не надо приносить в жертву – ни автора, ни читателя.
Примечания
1 См.: Buketoff-Turkevich L. Cervantes in Russia. Princeton, 1950; Serrano Plaja A. Realismo «mбgico» en Cervantes. Madrid: Gredos, 1967; Багно В. Дорогами «Дон Кихота». Указ. изд.
2 Мелетинский Е. М. Достоевский в свете исторической поэтики. Как сделаны «Братья Карамазовы». М.: Изд-во РГГУ, 1996.
3 «Впрочем, сама по себе проблема влияния нас не интересует, поскольку мы исходим из типологии, в рамках которой только и мыслима историческая поэтика» (Мелетинский Е. М. Историческая поэтика новеллы. М.: Наука, 1990. С. 68).
4 Мелетинский Е. М. Достоевский в свете исторической поэтики. Как сделаны «Братья Карамазовы». Указ. изд. С. 18.
5 Иванов Вяч. Собрание сочинений. Т. IV. Брюссель: Foyer Oriental Chretien, 1987. С. 405.
6 Там же.
7 Там же. В действительности, донкихотская ситуация развивается в противоположном направлении: от комизма – к трагическому осознанию героем Сервантеса своего одиночества, бренности и иллюзорности человеческого существования, что подвигает его перед смертью отказаться от горделивого донкихотовского «проекта» (но не самой идеи «ветхой соборности»!). См. подробнее: Пискунова С. И. «Дон Кихот»: поэтика всеединства // Испанская и португальская литература XII–XIX веков. Указ. изд.
8 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советский писатель, 1963. С. 171.
9 Там же. С. 171.
10 Исключение – статья Стефано Алоэ, проницательно вспомнившего об испанской пикареске как жанровом прообразе «Записок из подполья» (см.: Алоэ С.
Достоевский и испанское барокко // Достоевский и мировая культура. № 11. М., 1998). О «стернианстве» в русской литературе 30—40-х годов, в том числе и у Достоевского, в свое время писал В. В. Виноградов. Но Стерн – это фактически рубеж раннего и зрелого Нового времени: 1760-е годы.
11 Об их значении, в особенности о значении просветительской эстетики для русской классики XIX столетия см.: Померанц Г. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М.: РОССПЭН, 2003. С. 23 и сл.
12 Границы этого периода разные исследователи прочерчивают по-разному. Для нас «ранняя» проза Достоевского – все, вошедшее в первые три тома его академического Собрания сочинений.
13 Giusti W. L. Sul Donchisciottismo di alcuni personaggi del Dostojevski // La Cultura. 1931. X.
14 См.: Розенблюм Л. Юмор Достоевского // Вопросы литературы, январь-февраль 1999.
15 Пекуровская А. Страсти по Достоевскому. Механизм желаний сочинителя. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 263. Вообще-то, сии «страсти» больше говорят о самой сочинительнице и о «тайнах» ее геростратовского комплекса (если текст самой Пекуровской деконструировать «по Фрейду»), нежели о Достоевском-человеке и, тем более, о Достоевском-художнике.
16 Объект пародии – «Зачем я не птица, не ворон степной…» – нам кажется столь очевидным, что удивляют попытки соотнести цитируемые стихи то с Новым Заветом (см.: Ветловская В. Роман Достоевского «Бедные люди». Л.: Художественная литература, 1988), то с переводом стихотворения М. Н. Петренко «Недоля» (Якубович И. Д. Достоевский в работе над романом «Бедные люди» // Достоевский. Материалы и исследования. Т. IX. Л.: Наука, 1991).
17 «Уже давно было замечено, что облик Вареньки Доброселовой связан с пушкинскими женскими типами» (Кошелев В. А. Пушкин и Записки Вареньки Доброселовой // Пушкин и Достоевский. Материалы для обсуждения. Новгород Великий – Старая Русса. 1998. См. там же: Иванникова Е. А. Пушкин и Достоевский: «Мышление литературными стилями»; Смирнов С. В. Пушкин и Достоевский. Традиции использования народного календаря).
18 О связи «Бедных людей» с «Клариссой Гарлоу» писал Г. Померанц, хотя философ соотносит героев Достоевского и героев Ричардсона иначе, чем мы: «Варенька и Макар противостоят господину Быкову совершенно так же, как Кларисса и Грандисон… – развратному лорду Ловласу…» (Померанц Г. Борьба с двойником // Достоевский и мировая культура. № 11. СПб., 1998. С. 12). Но Грандисон – не герой «Клариссы Гарлоу»: он – герой совсем другого романа!
19 См.: Якубович И. Д. Поэтика романа «Бедные люди» в свете европейской традиции эпистолярного романа: Н. Леонар – Пушкин – Достоевский // Достоевский. Материалы и исследования. XVI. СПб.: Наука, 2001.
20 Ср. начало «записок» Вареньки и монолог Елизаветы: «Мне жаль с чудесной местностью расстаться, / Я здесь как дома, – все желанно сердцу. / Меня объемлет сельская природа, / Подруга милой юности моей. Я детским играм предаюсь беспечно…» (Шиллер Ф. Собрание сочинений. Т. 2. М.: Художественная литература, 1956. С. 24).
21 О «Бедных людях» и о других романах Достоевского как о метапародиях пишет Кирстен Рутсала, прямо апеллируя к не раз упоминавшейся нами книге Р. Алтера (см.: Рутсала К. Картина и зеркало // Достоевский и мировая культура. Альманах № 14. М., 2001). Над американскими славистами не тяготеет столь живая в России традиция эстетики «вчувствования», патетика «филантропического гуманизма».
22 О связи прозы раннего Достоевского (не только «Бедных людей») с поэтикой сентиментализма см., в частности: Абрамович И. С. Карамзин – Пушкин – Достоевский. Три вариации идиллического сюжета // Пушкин и Достоевский. Указ. изд.
23 Бочаров С. Г. О композиции «Дон Кихота» // Бочаров С. Г. О художественных мирах. М.: Советская Россия, 1985. С. 6.
24 См.: Ауэрбах Э. Мимесис. М.: Прогресс, 1976.
25 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 1. Л.: Наука, 1972. С. 238.
26 Исупов К. Читатель и автор в текстах Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. Т. XVI. Указ. изд.
27 Указ. соч. С. 5.
28 Так пытался определить их жанровую сущность А. Ковач. См.: Ковач А. Структура и жанр романа Достоевского в исследованиях по поэтике // Studia Russica V. Budapest, 1982.
29 Исупов К. Указ. соч. С. 7.
30 Там же. С. 9—10.
31 Там же. С. 17.
32 Имя Сервантеса в статье К. Исупова неизбежно всплывает, но в несколько странном контексте – в мемуаре о некоем «цикле новелл» Борхеса (вероятно имеется в виду знаменитая новелла «Пьер Менар, автор «Дон Кихота»? —
С. П.), как если бы Борхес ориентировался на Достоевского или Достоевский на Борхеса, а Сервантес тут вовсе и не при чем.
33 «Эпистолярный жанр играм такого типа препятствует» (Исупов К. Указ. соч. С. 13).
34 Там же.
35 В принципе, в ней нет ничего того, чего нельзя вычитать из статьи Андрея Белого «Магия слова».
36 Чумаков Ю. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина. В мире стихотворного романа. М.: Изд-во МГУ, 1999. С. 44 и др.
37 См.: Кунильский А. Е. Смех, радость и веселость в романе «Бедные люди» // Новые аспекты в изучении Достоевского. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского ун-та, 1994.
38 Впрочем, тональность смеха Гоголя на разных этапах его творчества существенно изменялась. См. о смехе Гоголя в «Ревизоре» у Абрама Терца (А. Синявского) в эссе «Два поворота серебряного ключа в «Ревизоре». Сегодня, в период наката антибахтинских (а значит, антиренессансных, антисервантесовских) настроений, рассуждения А. Синявского о смехе и христианстве кажутся нам весьма актуальными, вполне применимыми в разговоре и о смехе Сервантеса, и о смехе Достоевского. «Как-то так получилось, – писал А. Синявский, – что смех в религиозном значении потерялся и не звучит уже в мире. Может быть, человечество настолько погрязло в грехах и несчастьях, смеяться над которыми было бы слишком жестоко, да и грешно для тех, кто надеется выскользнуть из его западни? Может быть, мы очерствели в жажде собственного спасения? Мертвы? Окаменели? Боимся испакостить ризы прикосновением к слишком на нас влиятельному праху? Или в самом деле Дьявол сошел на землю и взял в свои руки смех, и запасники ада пусты, оттого что все его воинство ходит между нами и покатывается от хохота?» (Абрам Терц. В тени Гоголя. М.: Старт, 2003. С. 126).
«…Кроме нас вчетвером» («Идиот» в зеркале «Дон Кихота Ламанчского»)
Как известно, роман – жанр, живущий в постоянном самоотрицании, самопародировании, автодеконструкции, развивающийся за счет кардинальных сдвигов жанровой парадигмы, выстроенной первыми западноевропейскими романистами – анонимным автором «Жизни Ласарильо де Тормес» и Сервантесом – творцом «Дон Кихота». Роман – образцовый пограничный жанр1, сложившийся и существующий на подвижном рубеже литературы и не-литературы, слова и жизни, голоса и письма, истории и мифа, повествования и ритуала. Возникающий из безграничной стихии становящегося бытия, роман, случается, начинает претендовать на замену собой самой жизни или же, по меньшей мере, на манипулирование ее течением. Впрочем, сказанное относится не только к роману. По наблюдению В. Марковича, «одной из отличительных особенностей русской литературы XIX века было стремление вырваться за пределы искусства и стать „теургической“ (или, говоря иначе, жизнетворческой) силой, способной практически преобразить реальную действительность…»2. «"Теургические" претензии русской классики, – отмечает ученый, – создали колоссальную перегрузку художественного слова, а затем, на фоне неосуществленности утопических надежд, вызвали острое ощущение несостоятельности искусства…»3. Одним из первых ярких проявлений русского теургизма В. Маркович, как и многие другие ученые, считает автокомментарии и духовные сочинения позднего Гоголя. Но своего апогея претензия русской (и не ее одной4) литературы на жизнестроительство достигла в творчестве символистов5. Именно тогда в статьях Вяч. Иванова складывается интерпретация великого пятикнижия Достоевского (и творчества писателя в целом) как трагического ритуала, выходящего за пределы литературы как таковой: «Посредством понятия вины, – пишет Вяч. Иванов в статье „Достоевский и роман-трагедия“, – все трагическое в искусстве погружается в область, внеположную искусству»6. А в обобщающем труде 1933 года «Достоевский.
Трагедия – Миф – Мистика», трактуя роман уже не как новоевропейский феномен, не как «герольда индивидуализма»7, а как древний эпос, Вяч. Иванов подчеркивает, что последний «еще не был отделен от музыкально-орхестрического священного действа и лицедейства»8. Особое внимание поэт уделяет «Бесам» и «Братьям Карамазовым» как образцовым трагедийным действам, преодолевшим собственную «литературность» (правда, взамен этого формалистского термина поэт-критик оперирует понятием «фабулизм»).
Сегодня, на новом витке устремленности культуры в целом и филологии в частности за обозначенные эстетикой Нового времени пределы, предметом особого внимания исследователей стал роман «Идиот»9, герой которого князь Мышкин – после десятилетий восприятия в качестве «серьезного» Дон Кихота – стал однозначно и исключительно идентифицироваться с «князем Христом»10 и уже в качестве такового подвергаться то хвале, то хуле11, забавнейшим образом по вторяя участь Рыцаря Печального Образа12. При этом никто из сторонников «христоцентристского» прочтения романа, как правило, и не задается вопросом: а возможно ли вообще написать роман о Христе? Насколько такой замысел соотносим с кругозором романного жанра?
Впрочем, Г. Г. Ермилова, автор одного из апологетических истолкований образа Мышкина как «князя Христа»13, касается этой проблемы, когда спорит с К. В. Мочульским, в свое время писавшим: «Изображение „положительно прекрасного человека“ – задача непомерная. Искусство может приблизиться к ней, но не разрешить ее, ибо прекрасный человек – святой. Святость – не литературная тема. Чтобы создать образ святого, нужно самому быть святым… Свят один Христос, но роман о Христе невозможен…»14. Опровергая К. В. Мочульского, Г. Г. Ермилова апеллирует к опыту агиографии, тем самым сдвигая проблему из плоскости споров о жанре («роман о Христе невозможен») в плоскость споров о литературе, расширяя область последней до безмерного пространства «литературы» средневековой, когда литературы в современном значении слова не было вовсе. Но роман – тот, что в англоязычном литературоведении называют novel, в отличие от средневекового romance, – литературный жанр Нового времени. Д. Лукач не без основания писал о нем как об «эпопее оставленного Богом мира»15, хотя и явно преувеличивал, характеризуя Новое время целиком как «эпоху абсолютной греховно сти»: последнее определение в особенности трудно отнести к раннему Новому времени, когда вера лишь «собралась» «в дорогу» и предоставленный самостоятельному выбору своей судьбы человек еще не перестал ощущать присутствие в мире Высшей Силы. Тем не менее герой романа – не трагедии, не эпопеи, не мистерии, не жития, не оды или апологии – это человек, живущий в посюстороннем мире, в истории, начало которой было положено грехопадением. Поэтому в романе Нового времени – не в «милетских сказках» вроде «Эфиопики» Гелиодора и не в рыцарском сказочно-авантюрном эпосе с его мистическим символизмом – «положительно прекрасный человек», «святой» (даже в метафорическом значении слова), не говоря уже о «князе Христе», как главный герой повествования – и здесь К. В. Мочульский совершенно прав – в принципе немыслим. Только очень романтизируя образ Дон Кихота, можно – вслед за создателем «Идиота» – назвать «безобразного, взбалмошного сына»16 творца «Хитроумного идальго…» «положительно прекрасным», хотя несомненна симпатия, которую испытывают к нему и автор, и читатель (что касается обоснования этого чувства, то здесь Достоевский очень точен: Дон Кихот привлекателен именно тем, что смешон, но ведь комизм – производное от уродства и безумия героя). И все персонажи, созданные по образу и подобию Дон Кихота, – пастор Адамс и Том Джонс Филдинга, пастор Йорик Стерна, пастор Примроуз Голдсмита, Пиквик, упоминаемый Достоевским в одном ряду с героем Сервантеса, – отнюдь не святые. И даже не праведники, хотя Г. К. Щенников и попытался выстроить их ряд, чтобы установить литературную родословную князя Мышкина17.
Герой романа – проблемное амбивалентное существо, которое Г. Лукач готов уподобить «демону» в специфическом, гётевском, понимании этого слова18. Впрочем, демоническое начало характеризует, скорее, героев плутовской линии развития романного жанра, по отношению к которому роман, созданный Сервантесом, изначально антагонистичен. С Дон Кихотом в большей степени согласуется другое рассуждение венгерского философа: «содержание романа, – писал Лукач, – составляет история души, идущей в мир, чтобы познать себя, ищущей приключений ради самоиспытания, чтобы в этом испытании обрести собственную меру и сущность»19. «Хитроумный идальго», обретший, в конце концов, свою меру в образе доброго христианина Алонсо Кихано, должен умереть в конце романа (или, напротив, роман должен закончиться с его смертью), так как добродетельный разумный Алонсо Кихано на роль героя романа никак не подходит.
Конечно, в романах могут быть герои-идеалы, но – не в качестве главных: Татьяна Ларина и не смешна, и «положительно прекрасна» (воистину – «милый идеал»!), но романа «Татьяна Ларина» быть не может. Как не может быть романа «Наташа Ростова». Или «Соня Мармеладова». Или «Платон Каратаев».
«Положительно прекрасные» герои и героини пришли в современный роман-novel не только из агиографии, но и из уже упоминавшейся до– и околороманной традиции romance. Безусловно «положительно прекрасны» все три героя «ромэнс» мадам де Лафайет «Принцесса Клевская». Или персонажи барочных пасторалей, как словесных, так и живописных: Асис и Галатея, столь заинтересовавшие Достоевского, – в их числе. Пастораль или идиллия, эта важнейшая, наряду с авантюрным «романом испытания», разновидность romance, вошла в состав новоевропейского романа на правах «тек ста в тексте», особого жанрового измерения бытия, особой подсветки романной по вседневности: «…мой идеал теперь – хозяйка да щей горшок…». Это и есть романная пародическая (или же заключенная в иронический контекст) идиллия… Таков жанровый ракурс20, в котором предстает жизнь стариков Лариных, быт старосветских помещиков, идиллическое существование обитателей Обломовки, довоенная жизнь семейства Ростовых…21
В английской литературе XVIII столетия симбиоз романа и идиллии вызвал к жизни особую разновидность романа – семейный роман, который, опять-таки благодаря Пушкину, утвердился в русской литературе к концу 1830-х – началу 1840-х годов. Но романы Достоевского – и это широко известно – романы по своему существу антисемейные. И в этом они могут быть уподоблены «Дон Кихоту», с которым было бы полезно сопоставить «Идиота» именно как роман, выйдя за пределы уже исчерпавшего себя внеконтекстуального сопоставления образов князя Мышкина и Дон Кихота22.
Ведь чисто характерологического сходства между двумя героями не так уж много. Как справедливо отмечает И. Л. Альми, «лик Дон Кихота» «непосредственно просматривается» «в лице книзя Мышкина» только в сцене вечера у Епанчиных в четвертой части, когда в очередной раз «переламывается» характер отношений князя с окружающими» и «с несвойственной ему ранее глухотой князь не чувствует реакции тех, с кем говорит», когда он, «подобно герою Сервантеса, видит несуществующее, принимает одно за другое»23.
Конечно, Мышкина и Дон Кихота роднят утопизм их личностных и общественных проектов, проходящий через оба романа, в своих истоках францисканский24, мотив «подражания Христу», гностическая тема нисхождения (падения Софии) и гностический же по происхождению идеал служения Вечной Женственности25, а также то, что Г. К. Щенников именует «христианским гуманизмом» Достоевского26.
Но значительно большее сходство можно обнаружить в строении двух романов. В этом плане интересны наблюдения, сделанные над структурой «Идиота» К. Степаняном27, который, развивая мысль М. Дунаева о том, что в «Идиоте» «мир двоится, теряет отчетливость», очень точно выявляет и анализирует пародийные образы, сцены, смыслы романа, в том числе и сориентированные на сцены и образы Евангелия. «…Случаи воскресения в романе, – отмечает исследователь, – выглядят или пародийно… или откровенно демонически: как в случае с „замороженным“ младенцем Сурикова… Это – как бы кульминация столь частых в этом романе видений, снов, смешений иллюзии и яви. Вплоть до полного отождествления их»28.
С предложенным К. Степаняном описанием структуры романа «Идиот», с его точными и тонкими наблюдениями над текстом Достоевского нельзя не согласиться. Нельзя не согласиться с тем, что повествователь в «Идиоте» (начиная со второй части романа) выглядит светским собирателем «слухов», «посторонним наблюдателем», имеющим «довольно мало сведений», гадающим, что из сообщенного им – правда, а что – ложь, иллюзия или выдумка»29. Именно таков многоликий автор в «Дон Кихоте», который сначала представляется перелагателем сведений о герое, сохранившихся в сочинениях неких «хронистов» из Ламанчи, а затем публикатором перевода купленной им на улице Толедо арабской рукописи, принадлежащей перу лживого толедского мавра Сида Ахмета Бененхели (при том что история, излагаемая мавром, аттестована как «доподлинная»). Роман Сервантеса выстроен в зоне неопределенности, пролегающей между областями «история» и «поэзия», истина и вымысел, слово и молчание… Эта зона и определяет строй романа как жанра, в особенности романа «сервантесовского типа», в котором само существование реальности (посюсторонней, земной, хотя Сервантес знал, что есть и иная) по ставлено в зависимость от устремленного на нее взгляда. Естественно, что перемещающиеся по плоскости романного повествования фигуры ряженого Рыцаря и его Оруженосца в совокупности с фигурами Росинанта и Серого (эта квадрига и держит путь по ламанчской равнине!) обрастают двойниками и пародийными подобиями, воспринимаются то в комическом, то в трагическом ракурсе, то как личины карнавальной глупости, то как воплощение христианско-гуманистической мудрости и крестьянского здравого смысла. Сама же «реальность» открывается читателю «Дон Кихота» то как пыльная ламанчская дорога, то как фантастическое государство Кандайя… Сплошная двойственность, амбивалентность художественного мира «Дон Кихота» давно зафиксирована и описана в сервантистике30. Так что выявленные К. Степаняном структурные особенности романа Достоевского по всем основным параметрам совпадают с поэтикой канонического образца романного жанра – «Дон Кихота».
Но К. Степанян воспринимает эти особенности «Идиота», если не как явные недостатки романа, то как отступление Достоевского от некоего, якобы присущего писателю-христианину принципа воссоздания действительности, «при котором метафизическая реальность… постоянно просвечивает сквозь происходящее» и тогда «воссоздаваемая реальность становится частью мира, центром которого является Бог»31. Однако «в центре» «Идиота» (к вопросу об этом «центре» мы еще вернемся) – не Бог, а христоподобная фигура (уподобление же – и здесь критик совершенно прав! – провоцирует пародию), «всего лишь человек». Именно поэтому «Идиот» является романом, а не иконой, какие бы иконические мотивы и образы ни использовались Достоевским в процессе реализации своих романных замыслов. Характерно, что в сохранившихся подготовительных материалах к «Идиоту» – кроме помет на полях «Князь Христос» и записи от 16 марта 1868 года «евангельское прощение в церкви блудницы» – никаких следов «метафизической реальности», которая в интерпретации К. Степаняна должна поглощать все другие (земной мир романа является-де «частью» метафизического), нет: есть свидетельства напряженного поиска романической интриги, сюжетных сцеплений, психологических казусов… Есть отголоски газетных публикаций и политических споров. Есть приметы постепенного вызревания идеи – сориентировать роман на донкихотскую ситуацию – но не непосредственно на образ Дон Кихота, а на комизм донкихотского положения: в заметке от 31 марта «Синтез романа. Разрешение затруднения» Дон Кихот упоминается вместе с Пиквиком как пример «добродетельного лица»; значит, для Достоевского важен не герой Сервантеса и не герой Диккенса как таковые, а то, что объединяет обоих персонажей – повторяющееся сюжетное положение, в котором проявляется комическое несовпадение мировидения и поведения героя и условностей окружающего мира. «Невинность» Мышкина должна была, по замыслу писателя, произвести на читателя тот же эффект, что и несообразности облика и поступков Дон Кихота (или Пиквика).
При этом ясно, что писатель в записи в рабочей тетради уясняет для себя уже сложившийся строй романа, первая часть которого не только написана, но и опубликована. Следы донкихотского сюжета-ситуации обнаруживаются уже в ней, где, по наблюдению В. Викторовича, «ощутима ситуативная однородность составляющих ее сюжетных эпизодов… Это – ситуации встреч Мышкина с Рогожиным, с семейством Епанчиных, семейством Иволгиных и, наконец, с Настасьей Филипповной»32. Явление Мышкина в Петербург так же нарушает сложившийся ход жизни его обитателей, как и выезд Дон Кихота на ламанчскую дорогу в поисках приключений. Но князь ищет не приключений, а хоть какого-нибудь заработка, имея в кармане… письмо-извещение о том, что он стал наследником огромного состояния. Необъяснимость поведения князя вызывает у окружающих естественную защитную реакцию: «Идиот!». Идиот – не безумец, не тот, кто утратил разум: идиоту утрачивать нечего.
Мышкин, однако, никак не встраивается в ряд персонажей-книжников33, из числа коих выходят «донкихоты»-безумцы. «Идиотизм» Мышкина – его наивность и незнание мира, даже в парадоксальном сочетании с глубоким умом и проницательностью, мало схожи с безумием-мудростью Дон Кихота, так как имеют совсем иное – некнижное – происхождение. Князь читал в Швейцарии какие-то русские книги, а в промежутке между первой и второй частями, во время загадочной жизни в Москве и в провинции, вместе с Рогожиным прочел «всего Пушкина». Он читает и газеты34, но в своем жизнеощущении и в своих суждениях о жизни он идет не от книжного и, тем более, не от газетного опыта, а от непосредственного восприятия мира и человека (в этом и сказывается его «материализм»), от доверия увиденному. Конечно, эта «непосредственность» также во многом моделируется взглядом на мир сквозь текст: только текстами в случае с Мышкиным являются не книги, не слова-знаки, а визуальные образы35, играющие главную роль в движениях его внутреннего мира: поэтому написанное слово, составляющие его буквы для князя – не условный знак, а – иероглиф, живописное изображение, картина, что вполне проявляется в его восторженном отношении к искусству каллиграфии. В слово-знак, написанное или произнесенное, как в средство проговаривания последней истины князь в принципе не верит, хотя вопреки всему и пытается при помощи все тех же слов в своих речах-проповедях пробиться к «я» другого и других: всего русского аристократического сословия, например, как в «донкихотовской» речи, произнесенной на приеме у Епанчиных. И, тем не менее, всякое словесное облачение истинного чувства жизни для князя – «не то»: все вокруг него «не то» говорят, он сам нередко говорит «не то»36. Зато он верит изображению, которое может дополнить своим воображением, верит образу Настасьи Филипповны, который прозревает на ее портрете-фотографии. Верит изображению на картине Гольбейна-младшего, при этом с ужасом сознавая, что от лицезрения зрелища разлагающейся плоти Бога у иного человека вера «пропасть может». У того «иного», кто не в состоянии увидеть больше видимого. Но и от увиденного трудно отделаться…
Визуализация художественного мира «Идиота» в тех его многочисленных частях, в которых повествование строится в ракурсе восприятия князя Мышкина, играет существенную роль в организации сюжета романа: картины, портреты, буквицы, любые эмблематические изображения суть артефакты, изъяты из потока времени. Они неподвижны. Статичны. И эта статичность распространяется и на образ князя в целом, мало изменяющегося внутренне37 и оказывающегося участником каких-то событий лишь в силу чрезвычайных обстоятельств, при которых Мышкин вынужден предпринимать какие-то действия, что и случается, к примеру, в последних главах первой части, когда он чувствует настоятельную потребность разрушить планы Ганиной женитьбы на Настасье Филипповне, или в начале второй сразу же по прибытии в Петербург. Но после эпилептического «озарения» и падения с лестница «героическая» инициативность князя почти сходит на нет.
Как и Дон Кихот во Второй части романа Сервантеса38, князь во второй-четвертой частях «Идиота» – фигура преимущественно пассивная. Определяющая его существование цель – «восстановление» Настасьи Филипповны – напоминает главную заботу героя Сервантеса в «Дон Кихоте» 1615 года – расколдование Дульсинеи. Но если Дон Кихот движется по пути разочарования и прозрения, то князь Мышкин, напротив, частично утрачивает ту проницательность, которой был наделен изначально: ее хватает на то, чтобы разгадать замысел кающегося Келлера (попросить под сурдинку исповедальной речи денег), но недостает на разгадку замыслов Настасьи Филипповны, на то, чтобы понять причины ее «вызывающего» поведения, как и подоплеку «выходок» Аглаи. Что-то происходит вокруг Мышкина, но нередко помимо участия и понимания самого князя… То же посещение дома Рогожина князь совершает, находясь в каком-то сомнамбулическом состоянии, ведомый посторонней «демонической» силой39. Все остальное, что с ним происходит, начиная с самого его приезда в Петербург – результат инициативных действий других лиц. Поэтому, если про него вместе с К. В. Мочульским и можно сказать, что «он везде присутствует», то согласиться с тем, что он «во всем участвует»40, трудно. Значительную часть времени Мышкин лежит на диване41 или сидит в кресле на дачной террасе в арендуемом им домике Лебедева в Павловске, занимая позицию зрителя, перед которым то разворачивается фарсовое явление «сына Павлищева» с друзьями, то рецитируется исповедь Ипполита, то звучат апокалиптические пророчества Лебедева… Главный источник развития центрального (любовного) сюжета второй половины романа – донкихотовская ослепленность своими фантазиями двух героинь, перекликающаяся со сходным умонастроением многих других персонажей, начиная от генерала Иволгина, его сына Коли и заканчивая старой генеральшей Епанчиной.
«Нам недостает книги, в которой было бы детально показано, что в каждом романе, подобно тончайшей филиграни, заключен «"Дон Кихот", – писал Х. Ортега-и-Гассет42, приводя в качестве доказательства образ «донкихота в юбке» – Эммы Бовари. Случайно ли, что именно роман «Мадам Бовари», раскрытый для чтения, находит Мышккин в комнате Настасьи Филипповны, когда мечется по Петербургу в ее поисках, еще не зная о ее гибели? Эпизод с книгой, заложенной князем на открытой странице (князь без позволения уносит ее с собой) – знак не ему (судя по всему, Мышкин романа Флобера не читал), а читателю: Настасья Филипповна, как и Эмма, мертва, и она добровольно пошла на смерть, найдя лишь в ней спасение от своих высоких фантазий. «Была ли она женщина, прочитавшая много поэм, как предположил Евгений Павлович, или просто была сумасшедшая, как уверен был князь, во всяком случае эта женщина, – иногда с такими циническими и дерзкими приемами, – на самом деле была гораздо стыдливее, нежнее и доверчивее, чем бы можно было о ней заключить. Правда, в ней было много книжного, мечтательного, затворившегося в себе и фантастического, но зато сильного и глубокого… Князь это понимал…»43 (473). Процитированное размышление князя, поданное в ракурсе косвенной речи, приходится на самый драматический момент рокового выяснения отношений Настасьи Филипповны и Аглаи, итожа не раз звучавшее до того в романе определение Настасьи Филипповны как «книжной женщины», как мечтательницы, ожидающей спасителя – «доброго, честного, хорошего» (144) и самой стремящейся к подвигу. «…Вам просто вообразилось, что вы высокий подвиг делаете всеми этими кривляниями…» (472), – злобно, но метко бросает Аглая. Именно из книг, из чтения – больше-то воистину неоткуда! – составился образ мира Настасьи Филипповны, произрос ее собственный внутренний мир, внезапно открывшийся ничего не подозревающему Тоцкому: «…Надо было глубоко удивляться, откуда она могла приобрести такие сведения, выработать в себе такие точные понятия. (Неужели из своей девичьей библиотеки?)» (8, 36), – недоумевает Тоцкий, определяя про себя душевное состояние Настасьи Филипповны как «какое-то романическое негодование бог знает на кого и за что…» (37). Ясно, что Тоцкий, чьи мысли иронически сообщает читателю повествователь, ни в какие книжки не верит и «романическое» для него – слово уничижительное. Евгений Павлович в своих суждениях на этот счет (как и во многих других) значительно ближе к истине. Истине не противоречит и представление князя Мышкина о «сумасшествии» Настасьи Филипповны, подтверждаемое ее хохотом44, но ясно, что сумасшествие это – совсем не то, что его «идиотизм»: нечто головное, игра воображения, которая сродни игре ума «хитроумного идальго», в сельском уединении зачитывающегося рыцарскими романами. Настасья Филипповна читала и в Отрадном, и в Петербурге, где в течение пяти лет жила «уединенно, читала, даже училась, любила музыку» (8, 39). Настасья Филипповна оказывается постоянной читательницей газеты «Indépendence», откуда другой донкихотствующий фантазер генерал Иволгин заимствует сюжеты своих «правдивых» историй. Да и за русскими газетами45 Настасья Филипповна следит внимательно. Вместе с Лебедевым – истинным организатором интриги второй-четвертой частей – она увлеченно предается толкованию Апокалипсиса и даже пытается – в минуту снисхождения к Рогожину – и его сделать читателем46. Судя по сцене последнего посещения Мышкиным ее дома, читать она продолжала до последних часов жизни… Мысль о мщении и восстановлении справедливости, которой столь часто одержимы герои романтических книг, наследующие милтоновскому Сатане и шиллеровскому Карлу Моору, донкихотовская идея утвердить свое место в «ордене» «честных женщин»47 толкают Настасью Филипповну на спонтанные, далеко вперед не просчитываемые поступки48.
По той же донкихотовской схеме выстроена и линия поведения другой «фантастической» (у Достоевского это прилагательное означает то же, что «книжная», «мечтательная») героини – Аглаи. Именно в ее представлении происходит совмещение образов двух литературных героев – Дон Кихота и «Рыцаря бедного», рыцарей комического и мистического: проецируя сотворенный образ на князя Мышкина, Аглая хочет одновременно и высмеять, и возвысить князя.
Отмечая, что в «Идиоте» «почти все герои ведут себя в соответствии с разыгрываемыми ими ролями рыцарского романа», Г. Ермилова подчеркивает, что «рыцарский» сюжет «Идиота» выстраивается прежде всего и главным образом Аглаей, что «истинной его героиней стала она сама»49. Само выделение в композиции «Идиота» «рыцарского» сюжета могло бы стать весьма продуктивным – особенно в плане сопоставления романов Достоевского и Сервантеса, – если бы не противопоставление этого сюжета «потаенному», «христианскому», и не его абсолютно одиозная интерпретация: рыцарский сюжет «Идиота», согласно Г. Ермиловой, является средоточием демонической энергии и «изуверского мрака католической мистики»50 (соответственно, носителем всех этих свойств является «светоносная» (!?) Аглая). Согласись мы с Г. Ермиловой, эту самую изуверскую католическую мистику надо было бы искать и в «Дон Кихоте», центральная мифологема которого – мистическое странствующее рыцарство – базируется как раз на тотальном отождествлении «идеи» рыцарской и «идеи» христианской. Очевидно, из этого же отождествления исходил и Достоевский, изображая в известном эссе из «Дневника писателя» (февраль 1877 года) «Меттернихи и Дон-Кихоты» православную Россию в образе героя Сервантеса, обретшего, однако, разум и даже «ужасную хитрость» (см. 25, 49). Но он (русский «Дон Кихот») «остался верным рыцарем» (там же), подчеркивает Достоевский, явно не вкладывая в понятие «рыцарство» ничего изуверского. Более того: предваряя другое, обращенное к роману Сервантеса, эссе Достоевского «Ложь ложью спасается», опубликованное в «Дневнике писателя» в сентябре 1877 года, Аглая во время тайного свидания с Мышкиным на зеленой скамейке рассуждает о том, что «ложь становится гораздо вероятнее», если «когда лжешь…ловко вставишь что-нибудь не совсем обыкновенное» (360). И как бы Г. Ермилова ни стремилась доказать, что читательница Аглая думает одно, а Достоевский другое51, слишком много совпадений в их мыслях получается.
Впрочем, круг чтения Аглаи, которая «очень много книг прочла, и все запрещенные» (358), романом Сервантеса и томиком Пушкина не ограничивается. В него входит тот же Поль де Кок (источник «сексуальной» просвещенности русских девиц) и – судя по содержанию ее великих планов насчет будущей жизни замужем за Мышкиным – немалое число «нигилистических» романов (включая «Что делать?» Чернышевского?) с их эмансипированными героинями, стремящимися к получению университетского образования и служению общему делу. «Падение» Аглаи (в роковом выяснении отношений с Настасьей Филипповной) – следствие все того же, рожденного книгами о «новых людях», восприятия людей и мира: ее унижающий ее самое совет
Настасье Филипповне идти в прачки связан с идеей женской эмансипации, с утопическим представлением о том, что труд освобождает и облагораживает человека, и с проистекающим отсюда выводом, что Настасья Филипповна свободно выбрала свою участь (в действительности, обвинение Аглаи – это изнанка ее собственных надежд освободиться от опеки родных и обрести независимость). Все эти мотивы в «рыцарский» сюжет никак не вмещаются.
Аглая видит в Мышкине «рыцаря»-избавителя, но избавитель этот больше похож на Лавласа (увозящего Клариссу из дома ради того, якобы, чтобы защитить от притеснений со стороны семьи) или на благородного разбойника из романтической прозы, чем на средневекового рыцаря или Дон Кихота. Конечно, архетипические черты героя-спасителя просматриваются и в шиллеровских борцах за справедливость, и в Дон Кихоте, и в Ланселоте Озерном. Но на роль героического спасителя Мышкин – персонаж второй половины «Идиота», как уже говорилось, мало подходит (кажется, весь его героический пыл иссяк в эпизоде предложения руки и сердца Настасье Филипповне в конце первой части да в загадочных полугодовых скитаниях-испытаниях где-то в провинции). Поэтому Аглае и приходится брать инициативу на себя. Инициативу, которая, казалось бы, совпадает с целью, поставленной перед собой Настасьей Филипповной… Однако донкихотские замыслы обеих героинь входят друг с другом в непримиримый конфликт: так в романе Сервантеса не могут договориться «двойники» – Рыцарь Печального Образа и Рыцарь Леса – безумный Карденио: Дон Кихот может и должен быть только один!
Ориентация мыслей и поступков героинь романа Достоевского, а также других его персонажей на книжные образцы, шире – на печатное слово (на романы разного рода, включая романтическую беллетристику, газетные и журнальные статьи и заметки) обусловливает интертекстуальную и метатекстуальную структуру романа «сервантесовского типа». «Дон Кихот» 1605 года (Первая часть романа Сервантеса) надстраивается над рыцарскими романами и романсами, над другими предшествующими ему литературными жанрами, а его Вторая часть включает в себя Первую на правах интертекста. Точно также соотносятся первая и вторая «половины» романа Достоевского52: вторая-четвертая части «Идиота» также не столько продолжают первую53, сколько надстраиваются над ней, представляя собой своего рода метатекст, кардинально переформатирующий конфигурацию сложившегося в первой части любовного конфликта. Последний основан на причудливо совмещенных любовных треугольниках:
1) Аглая – Ганя – Настасья Филипповна (Ганя, мечущийся между Аглаей и Настасьей Филипповной при полном равнодушии и даже презрении к нему обеих женщин, объективно поставленных в положение соперниц), 2) Настастья Филипповна – Ганя – Рогожин, в котором один из претендентов символизирует сомнительную «честь», другой – бесчестие). Совпадая по одной из сторон (Ганя – Настасья Филипповна), треугольники образуют квадрат – фигуру, наиболее характерную для сюжетной организации прозы Достоевского, тяготевшего, как и Сервантес, к числу «четыре»54, к разного рода кватерниорным структурам как моделям построения художественного мира55. Потому-то, строго говоря, ни в первой, ни во второй «половинах» романа Достоевского нет «правильно построенных любовных треугольников», о которых пишет – в числе многих других критиков – Г. Померанц, оговаривающий, однако, что эти любовные треугольники как-то «смяты»56. Мы бы сказали, не «смяты», о совмещены – в любовный квадрат:
Одна из его вершин – Ганя Иволгин – к концу первой части романа «провисает», так как весь содержательный потенциал, заложенный в этом персонаже, оказывается почти исчерпанным. Его место неожиданно занимает князь Мышкин, в результате чего образуется новая – иначе соотнесенная – четверица героев, связанных отношениями притяжения-отталкивания, чувством любви, соединенным с ненавистью или, хуже того, с безразличием, а то и презрением57.
Восходящее к книге К. В. Мочульского, распространенное в критике представление о «единодержавии» героя романа «Идиот» (необходимое условие «христоцентризма») порождено несоответствием реликтового «единоличного» названия романа, сохранившегося от в корне изменившегося первоначального замысла, и его реальной многогеройностью. Обычно мысль о том, что целое романа держится на фигуре князя, подкрепляется обрываемым на полуслове известным признанием писателя, содержащимся в письме А. Н. Майкову от 31 декабря 1867 года (12 января 1868): «Но целое? Но герой? Потому что целое у меня выходит в виде героя. Так поставилось…» (28, кн. 2, 241). Однако пафос письма заключается не столько в отождествлении романного целого и героя (в этом ни для автора письма, ни для адресата нет ничего нового: такой принцип построения Достоевским был выдержан в «Преступлении и наказании»), а в последующем признании: «И, вообразите, какие, сами собой, вышли ужасы: оказалось, что кроме героя, есть и героиня, а стало быть, ДВА ГЕРОЯ! И кроме этих героев есть еще два характера – совершенно главных, то есть почти героев… Из четырех героев – два обозначены в душе у меня крепко, один еще совершенно не обозначился, а четвертый, т. е. главный, т. е. первый герой – чрезвычайно слаб…» (там же). Из письма явственно следует, что «держателем» единства романа изначально оказывается не один Мышкин. По крайней мере, не он один. Достоевский ясно сознает, что при наличии главного героя, целое романа держится не на нем одном, а, по меньшей мере, еще на троих героях, на всех четверых. В конечном счете, на тех самых, которые в кульминационный – непосредственно ведущий к трагической развязке – момент развития действия во второй половине романа сойдутся в доме Дарьи Алексеевны в Павловске: «…поджидавший Рогожин впустил князя и Аглаю и запер за ними дверь. „Во всем доме никого теперь, кроме нас вчетвером“, – заметил он вслух и странно посмотрел на князя…» (468). Между ними – четырьмя – все и решится. Развитие взаимоотношений фигурирующих в вершинах квадрата лиц58 и создает динамику «главного сюжета» романа, какие бы эзотерические смыслы исследователи в эту формулу Достоевского из подготовительных материалов к роману ни вкладывали.
Однако нельзя не признать, что в «кватерниорный» любовный конфликт, на котором держится сюжет «Идиота», фактически включен фантом Мышкина, его образ, по-разному складывающийся в глазах разных персонажей, посюсторонний мифический двойник князя («идиот», потенциальный богатый жених, классовый враг-аристократ, романтический герой-спаситель и т. п.). Подлинный, реальный князь находится над любовным сюжетом, на вершине пирамиды, для которой обозначенный выше квадрат является основанием.
Так что если Мышкин и «стоит в центре как композиционный стержень»59, то не в сюжетном центре романа, не в скрещении романных судеб, а в центре смысловом, символическом. На вершине пирамиды он – один: подле – никого, за исключением разве что автора60, да детей (в так и не осуществившемся замысле развития повествования).
Основанию и вершине пирамиды соответствуют два плана романа, о которых пишут многие его исследователи, именующие эти планы по-разному: реальный и метафизический, реальный и фантастический, реалистический и мистический, явный и потаенный. Мы предпочли более широкое и структурно-ориентированное разграничение – план горизонтальный и план вертикальный. С любовным сюжетом, разворачивающимся в горизонтальном плане, в реальном мире (Петербурге и его пригородах, Москве и провинции), скрещиваются пролегающие с ним в одной плоскости сюжеты авантюрно-плутовского повествования (история с сыном-самозванцем Павлищева, интриги Лебедева и т. п.), идеологического романа (судьба и бунт Ипполита), журнального фельетона и газетной хроники. План вертикальный, мистический, включает в себя не только евангельские ассоциации, мотивы Апокалипсиса, гностическую и иную мифопоэтическую образность (мотивы земного рая, творца-демиурга), но является местом развертывания рассказа-исповеди Мышкина о его жизни в Швейцарии.
Весь вопрос в том, как рассматривать соотношение двух планов. Для большинства исследователей, видящих в Мышкине христоподобное существо или воплощение авторского намерения сотворить таковое, чтобы продемонстрировать тщетность любых человекобожеских притязаний, план мистический практически полностью заслоняет план романный: «Сюжет "Идиота", – пишет в другой работе Г. Ермилова, – …двуплановый: на поверхности – "бесконечность историй в романе", в глубине – течение "главного сюжета"»… «Главный», «неисследимый сюжет "Идиота" раскрывается в глубочайших пластах поэтической метафизики романа, в его христианской эзотерической символике»61. То есть «главный сюжет» романа – нечто бессюжетное, скопище эзотерических и посему достаточно вольно и изощренно трактуемых символов, что отличает подход не только Г. Ермиловой, но и Т. А. Касаткиной, интерпретирующей образ князя Мышкина в совершенно отличном от Г. Ермиловой духе: «У Достоевского совокупность символических деталей, – пишет Т. А. Касаткина, – создает весь смысловой объем текста… Доступный для прочтения лишь из сюжета смысл произведений Достоевского или простоват, или нелеп. Ибо он не там, не в сюжете заключен»62. Правда, тут же Касаткина оговаривает, что у Достоевского (в отличие от Гоголя) смысл – и в детали, и в подтексте, и в сюжете. Но сам сюжет – основание пирамиды – интерпретаторами романа в аспекте «религиозной филологии» практически игнорируется. Все их внимание – к вершине (или к глубине, что одно и то же). События, описываемые в романе, все иные герои, окружающие Мышкина, – мельтешенье теней, заслоняющих подлинный – христианский – смысл повествования. Как ни парадоксально, но именно при таком подходе две ипостаси образа князя Мышкина – «реальная» и «идеальная» – «слипаются», и героя начинают судить и как несостоявшегося жениха, и как не реализовавшего своих целей пророка.
Как нам представляется, адекватнее воспринимают роман Достоевского те ученые, для которых два плана романа по меньшей мере равноправны. На диалогическом сопряжении этих планов и выстраивается художественное целое романа «Идиот», но и – художественное целое романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», а также большинства романов раннего Нового времени. Сопоставление романов Сервантеса и Достоевского предоставляет нам возможность еще раз оспорить распространенное заблуждение относительно самой природы романа как жанра. «Роман, ведущий и, я бы сказал, специфический жанр Нового времени, – пишет Г. Померанц, – чрезвычайно упорно сопротивлялся всякому „прикосновению мирам иным“. Попыток было много, но ни одна не получила серьезного признания. Только Достоевский пробил брешь в этом сопротивлении жанра…»63. Однако раннеевропейский роман (как затем – роман романтический или символистский) существует именно на линии соприкосновения этого, посюстороннего, и «иного» мира. Так, в «Дон Кихоте» есть свое «метафизическое» измерение, наличие которого читатель-христианин Достоевский не мог не ощущать. Сам герой Сервантеса (о чем уже упоминалось) сотворен с оглядкой на идею «подражания Христу». На образ Голгофы. Но одновременно и на карнавальный образ Великого Поста, а также – и прежде всего – на новохристиански пере осмысленную семантику жатвенного ритуала, соотнесенного с одной из ключевых мифологем раннеевропейского романа – с таинством евхаристии, которое постоянно пародируется (речь идет о сакральной пародии!) европейскими романистами64. В «Дон Кихоте» в глубине авантюрно-пародийного сюжета и иронического повествования о похождениях Рыцаря Печального Образа заключен христианско-гуманистический идеал единения людей во Христе, переведенный на своего рода ритуально-мифологический код. Таким кодом в «Дон Кихоте» является растительная символика, включающая в себя мотивы зерна, обмолота, последнего снопа и другие элементы жатвенного ритуала65, переосмысленного в духе превращения собранного на библейских полях урожая в хлеб Нового Завета, в плоть Христову. Но этот символический план романа никак не заслоняет план комических похождений Рыцаря Печального Образа, а лишь придает ему глубину. История безумного ламанчского идальго интересна и автору, и читателю не меньше, чем судьба соборного целого.
Трагическая судьба Льва Николаевича Мышкина – человека, увы, не вполне «положительно прекрасного», грешного, сознающего свою вину (перед Аглаей в первую очередь), су́дьбы Настасьи Филипповны, Аглаи, одержимого Рогожина, смертельно больного Ипполита, «бессмертного» шута и интригана Лебедева и его детей – су́дьбы героев романа Достоевского – интересны читателю Достоевского (да и самому автору) не меньше, чем судьба человечества.
Раздираемый любовью к Аглае, жалостью к Настасье Филипповне, братской привязанностью к Рогожину и сознанием необходимости всячески препятствовать осуществлению надежд «побратима», князь Мышкин – персонаж горизонтального плана – выглядит обреченным (на нем лежит трагическая вина!), несостоятельным, невоплотившимся… Неслучайно после слов о том, что образ князя в романе составляет «духовный смысл действия», Мочульский вынужден признать: «А между тем Мышкин для нас неуловим…»66.
Главный парадокс романа Достоевского состоит в том, что сюжетно недовоплощенный герой, герой-«недоносок», по жесткому и точному определению С. Г. Бочарова67, занимает смысловой (но не композиционный!) центр в романе о воплощении. При этом тему воплощения в «Идиоте» ученый трактует как «центральную христологическую идею романа»68. Но и в «Дон Кихоте» тема воплощения (книжного слова – в жизнь, жизни – в печатное слово) является жанрообразующей. При этом акт воплощения словесной «реальности» рыцарских или пасторальных «ромэнс» в деяния сошедшего с ума престарелого идальго сопровождается у Сервантеса карнавальным, снижающим и вместе с тем возвышающим героя смехом. Этот праздничный смех, объединяющий персонажей романа Сервантеса в народное целое, сменяется в «Идиоте» антикарнавальным барочным хохотом или потаенной, недоброжелательной насмешкой. Кардинальное различие в тональности и в направленности смеха Сервантеса и Достоевского-создателя «Идиота»69 устанавливает границы сходства двух романов, созданных на заре и на закате Нового времени.
С. Г. Бочаров очень точно определяет князя Мышкина как «обратную проекцию идеальному образу»70. Такой же «обратной проекцией» по отношению к роману Сервантеса – за исключением сохраняющейся и в проекции «формы плана» – оказывается во многом и сам роман Достоевского, в котором представлен «серьезный» Дон Кихот, в качестве оруженосца Рыцаря выступает еще больший донкихот – подросток Коля, а «побратим» князя из народа Рогожин воплощает не бытийное веселье, а смертный страх, не плотские утехи, а извращенно-аскетическую чувственность, роман, в котором донкихотствуют прекрасные дамы, взрослые кажутся детьми, а дети – состарившимися взрослыми…
Роман Достоевского возвращает читателя в зооморфный Древний (до рождества Христова существовавший) мир, мир Ветхого Завета и греческой трагедии, выстроенный вокруг образа приносимой в жертву плоти, заклания, разъятия, разложения… Взамен полей колосящейся пшеницы, среди которых держат путь герои Сервантеса, на страницах «Идиота» лишь мелькнут ворох срезанных красных камелий, деревья в кадках на террасе дачи Лебедева, цветы, разбросанные вокруг кровати, на которой лежит убитая Настасья Филипповна, да горшки с цветами матери Рогожина, которые убийца думал было перенести в спальню, да побоялся71… В то же время дохристианский природный мир трансформируется у Достоевского в мир «равнодушной природы», в постхристианскую современность. В мир кануна Страшного суда.
Поэтому и входящий в евхаристический сюжет, наряду с мотивом хлеба, мотив вина, метафорически претворяемого в кровь на постоялом дворе в эпизоде сражения Дон Кихота с винными бурдюками, обращается в «Идиоте» разгульными возлияниями в честь «епископа Бурдалу», а красной «бордо» оказывается «бурдой», из которой возникает несчастный двойник Мышкина Бурдовский. «Все нравственно пьяны» (9, 277), – отмечает Достоевский в записной книжке от 8 сентября 1868 года72. Это состояние, согласно замыслу, должно было охватить даже князя – состояние, в котором весь окружающий мир утрачивает четкие очертания, расплывается, развоплощается.
Тема развоплощения – оборотная сторона темы воплощения – присутствует как у Сервантеса, так и у Достоевского. Но у Сервантеса она в полную силу звучит под занавес, в финале Второй части – там, где Алонсо Кихано сбрасывает с себя облачение Дон Кихота Ламанчского. Там, где подставной автор Сид Ахмет Бенехели прощается со своим пером, запечатлевшим похождения рыцаря Печального Образа, сведения о которых были погребены в «архивах Ламанчи». Роман Сервантеса рождается из Письма, в конечном счете вновь становящегося достоянием печатного станка.
Судьба Мышкина и других героев «Идиота» – предмет слухов (устного, летучего слова) или же переписки тех или иных лиц (способ распространения слухов на расстоянии). Даже запечатлеваясь в «плоти» романного слова, история князя тут же развоплощается, поскольку, как прекрасно показано в уже упоминавшейся работе Г. С. Морсона, само существование романа «Идиот» в читательском восприятии «процессуально». Роман Достоевского, по мысли американского ученого, незавершен, недовоплощен. «Идиот», – пишет Г. С. Морсон, – бросает вызов по существу всем поэтикам от Аристотеля до наших дней, постольку поскольку поэтики разных школ настаивают на некоторой версии целостности и единства построения, необходимости каждой детали для целого и такой формы завершения, которая разрешает всякую неопределенность»73. Правда, при этом Морсон отмечает, что произведения, подобные «Идиоту», встречаются в мировой литературе, приводя в пример «Тристрама Шенди» и «Евгения Онегина». Открывается же этот ряд «Дон Кихотом»74, о котором Морсон на сей раз почему-то не вспомнил.
Но в «незавершенности» «Дон Кихота» и «Идиота» есть свои нюансы. Смерть «доброго» христианина Алонсо Кихано знаменует его духовное спасение. Однако его предсмертное отречение от роли Дон Кихота не связано с авторским развенчанием самой сути донкихотовских упований. Образ Дон Кихота обретает свое бессмертие – в «теле» и духе романа Сервантеса.
Духовная смерть Мышкина – его неизлечимое безумие – сопряжена с сохранением лишь физического тела князя. Повествование о дальнейшей участи других героев романа полностью перемещается на плоскость. Тут-то и происходит акт, если не отречения от донкихотизма, то кардинального переформулирования его сути. Лизавета Прокофьевна, чей образ сориентирован не только на Дон Кихота, но и на его потомков – классических чудаков английского романа XVIII столетия, нелепых добряков, живущих сердцем, – восклицает решительно: «Довольно увлекаться-то, пора и рассудку послужить» (8, 509). Слова Лизаветы Прокофьевны, перекликающиеся все с тем же эссе о Меттернихах и Дон-Кихотах, апеллируют к Дон Кихоту не только серьезному, но и разумному. Они адресованы Евгению Павловичу Радомскому, воплощению здравого смысла, играющему в романе роль резонера, а под конец и Deus ex machina. При сем присутствует совершенно не узнающий Лизавету Прокофьевну князь, от лицезрения которого всякий донкихотизм, впрямь, «пропасть может».
Примечания
1 См.: Morson G. S. The Boundaries of Genre. Dostoevsky's Diary of a Writer and the Tradition of Literary Utopia. Austin: University of Texas Press, 1981.
2 Маркович В. О соотношении комического и трагического в пьесе Гоголя «Ревизор» // Гоголь как явление мировой культуры. М.: ИМЛИ РАН, 2003. C. 149.
3 Там же.
4 Характеризуя особый латиноамериканский тип творческой индивидуальности, известный культуролог-латиноамериканист В. Б. Земсков утверждал, что в Латинской Америке «художник выполняет демиургическую роль», поскольку «латиноамериканский творец – это, прежде всего, жизнесозидатель, и Слово для него является орудием мироустроения» (История литератур Латинской Америки. Очерки творчества писателей XХ века. М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 13).
5 См. след. главу этой книги, а также: Пискунова С. И., Пискунов В. М. Культурологическая утопия Андрея Белого // Вопросы литературы. 1995. Вып. III.
6 Иванов Вяч. Собрание сочинений. Т. IV. Брюссель: Foyer Oriental Chretien, 1987. С. 427.
7 Там же.
8 Там же. С. 491.
9 См., в частности, подготовленный Т. А. Касаткиной сборник работ русских и зарубежных исследователей: Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения. М.: Наследие, 2001.
10 С учетом известной (далее дважды повторяющейся) пометы Достоевского от 9 апреля 1868 года. на полях одной из тетрадей, содержащих подготовительные материалы к роману «КНЯЗЬ ХРИСТОС» (см.: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 9. Л.: Наука, 1974. С. 246).
11 Об этом хорошо сказано в книге Г. К. Щенникова «Целостность Достоевского» (Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2001. С. 24 и сл.). Его критику «христоцентристского» подхода к интерпретации романа «Идиот» мы в целом разделяем, не соглашаясь, впрочем, с идеализирующей интерпретацией образа князя Мышкина, предлагаемой ученым.
12 Столь же поразительно двойственны (если брать критику в целом) или антагонистичны оценки всех других героев романа, прежде всего Настасьи Филипповны, Рогожина, Аглаи, Лебедева, Радомского.
13 См.: Ермилова Г. Г. Тайна князя Мышкина. Иваново: Изд-во Ивановского ун-та, 1993.
14 Мочульский К. В. Достоевский. Жизнь и творчество // Мочульский К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М.: Республика, 1995. С. 390. Г. Ермилова, в конечном счете, соглашается: «Достоевский поставил перед собой задачи, превышающие литературные…» (Ермилова Г. Указ. соч. С. 38).
15 Лукач Д. Теория романа // НЛО. 1994. № 9. С. 47.
16 Так звучит данная автором в Прологе к Первой части характеристика героя Сервантеса в пер. Н. М. Любимова.
17 См.: Щенников Г. К. Указ. соч. С. 24 (в этом ряду оказываются, к примеру, и Татьяна Ларина, и Белкин, и некрасовский Влас). Не будем говорить и о персонажах советских житийных эпосов типа Павла Корчагина, а также житийных эпосов контрсоветских, вроде доктора Живаго.
18 В современной культурологии персонажи, подобные гётевскому «демоническому существу», именуются «трикстерами». Лебедев – блестящий пример такого амбивалентного персонажа, творящего и зло, и добро, связующего своими интригами и проказами всех и вся, способного и к духовному взлету, и к нравственному падению. Потому-то он у Т. А. Касаткина – демонический «хозяин князя», а у Г. Ермиловой – «почитающий Oтца Небесного» (см.: Касаткина Т. Лебедев – хозяин князя // Достоевский и мировая культура. 1999. № 13; Ермилова Г. Восстановление падшего слова, или о филологичности романа «Идиот» // Достоевский и мировая культура. 1998. № 12).
19 Там же.
20 С точки зрения стилевой или «направленческой» типологии историко-литературного процесса, следует говорить о сентименталистской (а также рокальной) традициях, отказываясь, вместе с тем, от историцистского представления о смене направлений в литературе, схожей с мельканием вагонов в поездном составе, наблюдаемом с платформы: вагоны шли привычной линией… Прошел «классицизм»… Потом – «сентиментализм»… Потом – «романтизм»… Ничего не проходит. Все остается. Тот же сентиментализм, который и в 1840—1860-е годы, как показано в глубоком исследовании М. В. Иванова (см.: Иванов М. В. Судьба русского сентиментализма. СПб.: ФКИЦ «Эйдос», 1996), оставался вполне продуктивным стилем (или направлением).
21 Предлагаемое Г. Лесскисом (см.: Лесскис Г. Лев Толстой (1859–1869). Вторая книга цикла «Пушкинский путь в русской литературе». М.: ОГИ, 2000) определение жанра «Войны и мира» как идиллии кажется нам очень точным и не менее правомерным, чем общепринятое «роман-эпопея».
22 Трансформация мифологемы «Дон-Кихот» в восприятии Достоевского досконально исследована Ю. Айхенвальдом (См.: Айхенвальд Ю. Дон Кихот на русской почве. Т. 1–2. М.; Минск: Ю. Айхенвальд (наследники), 1996).
23 Альми И. Л. О сюжетно-композиционном строе романа «Идиот» // Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения. Указ. изд. С. 442.
24 О францисканской «составляющей» «Дон Кихота» см.: Пискунова С. И. «Дон Кихот» Сервантеса и жанры испанской прозы XVI–XVII веков. Изд-во МГУ, 1998, о францисканских темах и мотивах «Идиота» см.: Попова И. Л.
Другая вера как социальное безумие «частного человека» («крик осла» в романе Ф. М. Достоевского «Идиот») // Семиотика безумия. М.; Париж: Европа, 2005.
25 О гностической традиции в мировоззрении Достоевского впервые заговорил Вяч. Иванов в упоминавшихся работах. Точнее: заговорил на языке гностицизма. Из новейших работ на эту тему следует отметить: Тихомиров Б. Достоевский и гностическая традиция // Достоевский и мировая культура. СПб.: Серебряный век. 2000. № 15; Степанян К. «Сознать и сказать»: «Реализм в высшем смысле слова» как творческий метод Достоевского. М.: Раритет, 2005.
26 См.: Щенников Г. К. Указ. соч. С. 27. Возможно, что при этом Г. К. Щенников и не принимает во внимание, что «христианский гуманизм» – это традиционное научное обозначение конкретного историко-культурного явления, имевшего место в Западной Европе в XVI столетии. В контексте этой работы важно, что автор «Дон Кихота» был христианским гуманистом или эразмистом, то есть последователем Эразма Роттердамского, создавшего свою версию гуманистического «мифа о человеке», совместив его с «соборным» идеалом единения человечества во Христе, символом которого для нидерландского гуманиста явилось мистическое «тело Христово». Тем знаменательнее совпадение оценки мировоззрения Достоевского, данной известным специалистом, с достаточно влиятельной в сервантистике концепцией Сервантеса-эразмиста (см.: Пискунова С. И. Указ. соч.).
27 Работа К. Степаняна «Юродство и безумие, смерть и воскресение, бытие и небытие» цитир. по кн.: Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения. Указ. изд.
28 Степанян К. Указ. соч. С. 153–154.
29 Там же. С. 155.
30 См. классический труд на эту тему: Durán М. La ambigüedad en el Quijote. México; Xálapa, 1961.
31 Степанян К. Указ. соч. С. 147.
32 См.: Викторович В. Сюжет и повествование в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» // Вопросы сюжета и композиции в русской литературе. Горький: Горьковский гос. ун-т, 1988.
33 См., например: Карпов А. А. «Повести Белкина» и мотив «книжного сознания» в русской литературе конца XVIII – первой трети XIX века // Ibérica. К 400-летию романа Сервантеса «Дон Кихот». СПб.: Наука, 2005.
34 «Мышкин, так же как Настасья Филипповна, Лебедев и Коля, читает газеты…», – справедливо отмечает Г. С. Морсон (см.: Морсон Г. С. «Идиот», поступательная (процессуальная) литература и темпика // Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»… Указ. изд. С. 21.
35 См. о них: Криницын А. Б. О специфике визуального мира Достоевского и семантике «видений» в романе «Идиот» // Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»… Указ. изд.
36 Так, в разговоре с Радомским после рокового объяснения Настасьи Филипповны и Аглаи (Евгений Павлович представляет князю все произошедшее в свете посюсторонней нравственности и человечности), Мышкин, пытаясь объясниться, восклицает: «все это не то, а совершенно, совершенно другое!» (8, 483). «Не то», «не так» – слова, которые не раз произносит князь.
37 Ср.: Янг Сара. Картина Гольбейна «Христос в могиле» в структуре романа «Идиот» // Роман Достоевского «Идиот»… Указ. изд. С. 35 и сл. («…он утратил-таки долю своего милосердия», – отмечает, в частности, английская исследовательница).
38 Нельзя не отметить изоморфности соотношения Первой и Второй частей «Дон Кихота» и неоднократно привлекавших внимание исследователей первой и второй «половин» «Идиота», подразумевая под второй «половиной» вторую-четвертую части романа, составляющие своего рода целое, противостоящее первой части. Первая и вторая части «Идиота» разделены загадочными (очень туманно обозначенными в повествовании) шестью месяцами отсутствия князя Мышкина, Настасьи Филипповны и Рогожина в Петербурге, так что события второй-четвертой частей начинаются со второго появления внешне преобразившегося князя Мышкина в северной столице, где он теперь принят в обществе (в том числе как богатый жених), где ему чуть ли не навязана роль «рыцаря бедного», где всякий по-своему пытается использовать уже известные (и теперь никого не шокирующие) особенности его личности… Это появление Мышкина в Петербурге напоминает третий выезд Дон Кихота, отправляющегося в путь уже в качестве всемирно прославленного героя Первой части: многие из тех, с кем встречается герой Сервантеса на страницах Второй части, узнают в нем героя Первой. Его принимают в высшем обществе, у него появляется соперник-узурпатор (бакалавр Самсон Карраско). В него «понарошку» влюбляется девица-зубоскалка Альтисидора, мнимо умирающая от тоски по рыцарю, покинувшему герцогский замок… Герой Сервантеса во Второй части чаще всего вынужден играть роль героя Первой.
39 О душевной слепоте князя и его демоне-водителе см.: Касаткина Т. А. Роль художественной детали и особенности функционирования слова в романе «Идиот» // Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»… Указ. изд. Мы, однако, не склонны разделять слишком форсированное обличение поступков и мыслей князя с позиций ортодоксального богословия: нам кажется, такого рода обличение не входило в намерения автора.
40 Мочульский К. Указ. соч. С. 394.
41 Как известно, сходство Мышкина с Обломовым к концу жизни осознавал и сам Достоевский.
42 Ortega-y-Gasset J. Meditaciones del Quijote. La Habana, 1964. P. 160.
43 Роман «Идиот» цитир. по Полному собранию сочинений в тридцати томах. Т. 8. Цитир. страницы указываются в скобках в тексте главы.
44 «…И как безумный, захохотал»: связь мотивов хохота и безумия – общее место творчества Пушкина, столько раз явно и неявно цитируемого в романе. Как справедливо отмечает Г. Ермилова, «Идиот» – один из самых пушкинских романов писателя, он буквально насыщен прямыми и скрытыми пушкинскими цитатами» (Ермилова Г. Пушкинская «цитата» в романе «Идиот» // Роман Достоевского «Идиот»: раздумья, проблемы. Иваново: Изд-во Ивановского ун-та, 1999. С. 66).
45 См. прим. 35 к наст. ст.
46 Сойдя с ума, он обставит убийство любимой женщины предметами-цитатами из газетной хроники.
47 Нетрудно заметить, что Настасью Филипповну мало волнует, что думают о ней мужчины: она уязвлена поведением дам – Иволгиных, Епанчиных и прочих. С Рогожиным ее примиряет только то, что он подвел ее (как и Мышкина) под благословение своей матери.
48 О том, как это связано с гордостью, см.: Скафтымов А. Тематическая композиция романа «Идиот» // Скафтымов А. Нравственные искания русских писателей. М.: Художественная литература, 1972.
49 См.: Ермилова Г. Указ. соч. С. 72, 77.
50 Там же. С. 84.
51 Ср.: «…авторское понимание „рыцаря бедного“ совершенно отлично от той интерпретации, которую получил пушкинский образ в сознании героев „Идиота“, и прежде всего Аглаи» (Ермилова Г. Указ. соч. С. 66–67).
52 См. также прим. 39 к наст. статье.
53 Ср.: Альми И. Л. Указ. соч. С. 438.
54 О роли числа «четыре» и функции кватерниорных структур в «Дон Кихоте» см.: Piskunova S. El arquetipo de la «cuaterna» en el «Quijote» // Cervantes y las religiones. Actas del Сoloquio internacional de la Аsociaciуn de cervantistas (Universidad Hebrea de Jerusalйn, Israel, 19–21 del deciembre de 2005). Universidad de Navarra. Iberoamericana. Vervuert, 2008.
55 Об особом интересе культуры позднего модерна к кватерниорным структурам пишет А. С. Степанов, приводя в качестве примера и творчество Достоевского (см.: Степанов А. С. М.: Языки славянских культур, 2004. С. 286 и сл.). О роли числа «четыре» в «Преступлении и наказании» см.: Есаулов И. А. Пасхальный архетип в поэтике Достоевского // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского ун-та, 1998. С. 357).
56 «…Правильно построенный любовный треугольник сминается общим тяготением к Мышкину, общим желанием причаститься ему, исповедаться, заставить себя слушать… И все эти линии… разрушают систему… отношений, так красиво сложившуюся в первой части» (Померанц Г. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М.: РОССПЭН, 2003. С. 98). Но нельзя не разделить пафос мыслителя, подчеркивающего, что Мышкин занимает в любовных коллизиях не свое, формальное место (тут уж не важно, каким образом эти коллизии обрисовываются – треугольниками или квадратами).
57 «Приглядевшись к отношениям, которые складываются у князя с Настасьей Филипповной и Рогожиным, мы убедимся, что они совершенно особые, не подходящие под категории простой любви, ревности или ненависти, – пишет А. Б. Криницын. – Эти герои притягиваются друг к другу, будто „закованные“ „странной близостью“, общаются на каком-то интуитивном уровне, понимая друг друга без слов…» (Криницын А. Б. Указ. соч. С. 191). Но такое же «понимание» и «странная близость» связывают и князя с Аглаей… Настасья Филипповна, в свой черед, пишет Аглае письма, объясняясь в любви к ней, хотя двух женщин разделяет то же взаимное непонимание, которое отличает отношения князя и Рогожина…
58 Сторона «Аглая – Рогожин» – в нем самое слабое звено, так как тематические взаимоотношения этих героев сведены почти к нулю (их объединяет общая сюжетная функция – привести действие романа к трагической развязке), хотя Аглая и вовлекает Рогожина в свой книжный миф, аттестуя его «благородным человеком».
59 Мочульский К. Указ. соч. С. 394.
60 Того, кто ведет повествование в ракурсе несобственно-прямой речи, ориентируясь преимущественно на точку зрения князя, в то время как рассказ о том, как создается роман, ведет его двойник, хроникер, собиратель слухов и фактов, тот, кто в числе других персонажей романа вписан в основание пирамиды.
61 Ермилова Г. Трагедия «русского Христа», или о «неожиданности окончания» «Идиота» // Роман Ф. М. Достоевского Идиот»… Указ. изд. С. 452–453.
62 Касаткина Т. А. Роль художественной детали и особенности функционирования слова в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» // Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»… Указ. изд. С. 62.
63 Померанц Г. Указ. соч. С. 74.
64 О пародии на евхаристию в «Ласарильо» и о связи «Дон Кихота» с евхаристической образностью и с празднеством Дня Тела Христова см.: Пискунова С. И. «Дон Кихот»: поэтика всеединства. Указ. изд., а также в главе «"Дон Кихот" деконструированный („Чевенгур“ Андрея Платонова)» этой книги.
65 См.: Пискунова С. И. Путь зерна: «Дон Кихот» и жатвенный ритуал // Пискунова С. И. Испанская и португальская литература XII–XIX веков. Указ. изд.
66 Мочульский К. Указ. соч. С. 394.
67 Бочаров С. «О бессмысленная вечность!». От «Недоноска» к «Идиоту» // Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»… Указ. изд.
68 Там же. С. 132.
69 Сопоставление смеха Сервантеса и Достоевского – особая, еще мало разработанная тема. Как нам представляется, смех в произведениях раннего Достоевского, да и у Достоевского первых послекаторжных лет (в «Дядюшкином сне», «Селе Степанчикове…») еще очень близок «сострадательному» смеху Сервантеса. Сам Достоевский прекрасно понимал направленность такого смеха (см. его слова из известного письма С. А. Ивановой о том, что «возбуждение сострадания и есть тайна юмора…» – 9, 358). Но в «Идиоте» смех имеет явно иную окраску. Поэтому, задумав Мышкина как комического персонажа, Достоевский и приходит к образу героя, «отклоняющего» смех.
70 Бочаров С. Указ. соч. С. 132.
71 Горшки с цветами, фигурирующие в конце первой части романа (в рассказе Тоцкого) и в его финале, – реплики цветочного горшка, который выставляла в своем окошке Варенька Доброселова по указаниям Девушкина. Отголосок сентименталистской утопии, с которой Достоевский прощается в «Идиоте» (см.: Иванов М. В. Указ. соч.).
72 Тут же – по контрасту – упоминание о речи Дон Кихота перед пастухами, обозначеннной Достоевским словами «За здоровье солнца».
73 Морсон Г. С. Указ. соч. С. 8.
74 См.: Пискунова С. И. «Дон Кихот»-I: динамическая поэтика // Вопросы литературы. 2005, январь-февраль.
Символистский роман: Между мимесисом и аллегорией
Наибольшие сомнения в существовании романа как жанра собственно символистской прозы вызывает общеизвестный факт: символизм в классической фазе своего развития, символизм наиболее типологически показательный, воплощенный в творчестве (и жизнетворчестве) так называемых «младших» символистов, вплоть до известного «кризиса символизма», вполне выявившегося к концу первого десятилетия XX века, никакими новациями в области романного жанра не отмечен. Романы, во многом еще следуя литературной моде предшествующих десятилетий, создавали преимущественно «старшие» символисты или «декаденты» (согласно традиционной классификации) – Д. Мережковский, З. Гиппиус, Ф. Сологуб, В. Брюсов, и уже позднее – прозаики, представляющие, согласно типологии русского символизма, предложенной А. Ханзен-Леве1, гротескно-карнавальную модель символизма, или Символизм-III (австрийский славист противопоставляет его Символизму-I и Символизму-II, именуемым, соответственно, «диаволическим» и «мифопоэтическим»2). Символизм-III, который, по определению Ханзен-Леве, является продуктом кардинальной внутренней трансформации символизма, его «самопереваривания»3, сложился после 1907–1910 годов и представлен преимущественно творчеством Белого – автора «Серебряного голубя» и «Петербурга», а также творчеством Блока после 1907 года, тяготеющим к драматической сюжетности и циклизации, а тем самым и к романизации спонтанно сложившегося лирического корпуса. Вопрос о символистской составляющей творчества А. Ремизова и других прозаиков (в том числе «новых реалистов»), оказавшихся в эти годы – наряду с акмеистами и футуристами – в центре литературного процесса, остается открытым4, как, впрочем, и сам факт существования СIII в границах собственно символистской историко-культурной парадигмы.
Роман конца 1900-х – 1910-х годов создается на фоне крушения центрального символистского мифа о Красоте, воплощенной в гностическом мифообразе Вечной Женственности: феномен, объяснимый, в частности, тем, что миф и наррация, мифология и мифопоэзия находятся, как подчеркивает Ханзен-Леве5, в «обратной связи» (формула С. А. Неклюдова). Нарративизация не отделима от демифологизации6. «Подчеркиваемая Лотманом не-дискретность, не метафоричность, несюжетность (архаического) мифа…, – пишет Ханзен-Леве, – в основном свойственна… модели CII…в то время как метафоризация и даже нарративная метонимизация соответствуют уже модели гротескно-карнавального СIII… В модели СIII (первобытный) миф нарративизируется и тем самым актуализируется, пародируется, цитируется, превращаясь в составную часть полувоображаемого, полувымышленного повествовательного мира – например, в романах Белого…»7.
В контексте этого построения роман «Петербург» – по сути дела единственный роман, созданный Белым-символистом8, – выглядит своего рода исключением, подтверждающим правило. А состоит оно в том, что роман как жанр литературы Нового времени по самому своему существу чужд символистской ментальности, наиболее адекват но воплощенной в теории и практике «мифопоэтического» символизма.
Тому свидетельство – письменные и устные выступления Вяч. Иванова, относящиеся к 1904–1916 годам, включая его труды о романистике Достоевского. Они дают немало оснований говорить о «родовой» несовместимости символистской ментальности и жанрового кругозора романа. Ивановское понимание (и оценка!) романа как «демотического» жанра, как одного из типов «малого искус ства» Нового времени – в противоположность «истинному большому искусству» Древности и Средних веков – намечено уже в эссе «Копье Афины» (1904). В исследовании «Достоевский и роман-трагедия», складывавшемся на протяжении 1911–1916 годов, казалось бы, достаточно сочувственно и объективно характеризуя жанр романа со стороны «принципа формы», Вяч. Иванов, тем не менее, предрекает его неизбежный конец: «роман будет жить до той поры, пока созреет в народном духе единственно способная и достойная сменить его форма-соперница – царица-Трагедия…»9. Роман, этот «герольд индивидуализма»10, обречен, как обречены гуманизм и индивидуалистическая культура постренессансной Европы: такова подспудная мысль юбилейного эссе, написанного Вяч. Ивановым к трехсотлетию выхода в свет «Дон Кихота»11 – события, ознаменовавшего рождение новоевропейского романа. Эссе выразительно озаглавлено: «Кризис индивидуализма». Символисты стремились преодолеть этот кризис то ли ценой принесения отдельного «я» в жертву соборному целому (путь самого Вяч. Иванова), то ли за счет расширения личностного сознания до безграничного сверхличностного «Я» (путь Ф. Сологуба). Но ни соборное «я», ни сверх-«Я» не вписываются в жанровый кругозор классического романа, в котором любые глобальные конфликты и темы – эпохальные сдвиги, апокалиптическая участь человечества (магистральная тема пятикнижия Достоевского), «мысль народная» (предмет изображения в «Войне и мире»), трагедия исторического поколения («Герой нашего времени») – неизменно преломляются в жизни конкретных людей, в их личной, отдельной, судьбе, в самосознании «я», впервые в истории становящегося предметом художественного изображения.
Впрочем, тотальная отчужденность героя-индивидуума от Бога и человечества становится магистральной темой западноевропейского романа (да и то не во всех его национальных и авторских вариантах) лишь в эпоху романтизма. Для романа раннего Нового времени, в особенности для той его ветви, которая восходит к «Дон Кихоту» Сервантеса, путь самосознания героя проходит под аккомпанемент «народного хора» (если воспользоваться образом Вяч. Иванова) и приводит его к воссоединению с целым, воплощенным для писателя-эразмиста в символе мистического Тела Христова12.
На раннем этапе формирования романа складывается и особая модель взаимоотношений автора и читателя, оказывающегося включенным в романный сюжет, в проблемное поле повествования как потенциальный участник диалога, идущего между героями повествования, между персонажами и автором. Тогда же вырисовывается парадоксальная, двойственная роль создателя романа по отношению к своему произведению: с одной стороны, он – всесильный Творец романного мира, кукловод в раешном «театре мирозданья», с другой – скромный публикатор случайно обретенной им рукописи. В классических образцах жанра – в «Дон Кихоте», в «Ласарильо де Тормес» – обе ипостаси автора гротескно совмещены. Символист же либо ощущает себя всесильным Демиургом (авторская позиция Сологуба в «Творимой легенде»), либо, напротив, мечтает о коллективном анонимном творчестве, о возвращении культуры к архаическому ритуалу, к дионисийскому действу с его доминантным хоровым началом (Вяч. Иванов).
Наконец, – а, быть может, прежде всего – роман возник на границе эпох (Средневековья и Современности) и культур (в поликультурной Испании), в момент эпистемологического сдвига, связанного с распадом «великой цепи бытия», с формированием субъектно-объектной «картины мира», с возникновением «перспективистской» (Х. Ортега-и-Гассет) семиореальности. Но именно в раздробленности новоевропейской культуры, в утрате современным человеком способности воспринимать мир как целое видел тот же Андрей Белый главный симптом глобального гносеологического кризиса, который и должен был быть преодолен символистским творчеством жизни.
Но можно ли преодолеть расколотый образ мира в жанре, проросшем из расщелин средневеково-ренессансной целостности? Как согласуется символистская нацеленность на восстановление разрушенного единства мироздания, на реставрацию архаического мифопоэтического образа мира с художественным миром того же «Петербурга», в котором «реальность» оказывается распыленной, гротескно преломленной в субъективном восприятии повествователя-Демиурга и его ипостасей – персонажей воплощенного в романном сюжете трагифарсового действа?
В поисках ответа на этот вопрос нельзя забывать и об основной коллизии, возникающей из попыток подчинить романный жанр требованиям символистской эстетики. Ее суть – невозможность выстроить любую наррацию, любую связную последовательность событий на основе символа, даже если он трактуется не как Символ, к которому устремлен символистский дискурс, а как «эмблематический ряд», система образов-иносказаний – символов с маленькой буквы13. Ведь наррация немыслима вне времени, а символ – «окно в вечность», зияние в течение времени, отсутствие времени как такового.
Это прекрасно понимал Андрей Белый, писавший в статье «Символический театр» (1907): «Символическая драма говорит о символическом действе. Но что такое символическое действо? Символическое искусство имеет целью показать в образе его внутренний смысл, независимо от того, будем ли мы признавать за этим смыслом выражение нашего переживания или некоторый вечный смысл (как говорят – Платонову идею). Символ с этой точки зрения есть образ, выражающий собою пересечение двух порядков последовательностей, как бы пересечение двух прямых в одной точке. Но точка пересечения двух прямых одна… Образ в таком случае выражает всецело творческое мгновение как нечто, в самом себе законченное, целостное (здесь и далее выделено мной. – С. П.) Но символическое действо, обусловленное драмой, требует выявления не только символического смысла образов, но и связи их. Образуется… символизм второго порядка… и потому-то здесь мы имеем дело как бы с пересечением двух прямых во многих точках: такое пересечение, как известно, невозможно. Или оно есть совпадение двух линий в одну, совмещение двух порядков последовательностей уже не в созерцании или переживании, а в реальном… жизненном акте… Такая драма разрушила бы театр: она стала бы бытием символов»14… «Если формы символизма воплотимы в драму в условиях современного уклада жизни, то или символизм – не символизм, или драма – не драма, и потому-то драмы Ибсена – драматический эпилог, разыгранный действующими лицами. И потому-то драма Метерлинка – условно разыгранная лирика, а не драма. И потому-то попытка А. Блока подчеркнуть элемент символического действа в лирических сценах Метерлинка разлагает драму на неудачную аллегорию…, нежную лирику и грубый реализм в символизации…»15, – жестко фиксирует Белый реальную многосоставность символистской драмы, не могущей и не знающей, как претворить символ в действо иначе, чем уничтожив хронотоп театра как таковой. Мистериальное действо разворачивается на фоне вечности, театральное действо – во времени. Ведь вечность – о чем не раз твердили символисты – тот же миг16.
Но ни миг, ни вечность не могут стать основой повествования либо действа: для сцепления событий или деяний, для «рассказа» необходимо время (П. де Рикер). Поэтому в классических средневековых мистериях, разворачивающихся в трех сценических пространствах (небо – земля – преисподняя) и двух временных планах (время и вечность), вечность фигурировала лишь иносказательно – в аллегорических материально-воплощенных образах, причастных временному, посюстороннему. Именно в отношении ко времени (изображения. – С. П.) видел главное отличие символа от аллегории Ф. Кройцер (в русской огласовке нередко – «Крейцер»), чье имя не раз с почтением поминается и Вяч. Ивановым, и Андреем Белым. «Различие между двумя формами, – писал Ф. Кройцер, – следует усматривать в моментальности, которой лишена аллегория. В символе идея раскрывается мгновенно и целиком, воздействует на все струны нашей души. Это луч, который вырывается из темных глубин сущего и мыслящего и прямо падает нам в глаза, пронизывая все наше существо. Аллегория побуждает нас внимательно следовать за ходом мысли, скрытой в образе. Там мгновенная целостность. Здесь последовательность моментов. По этой причине к аллегории, а не к символу относится миф, которому как нельзя более соответствует постепенно развертывающаяся эпопея и который стремится сконденсироваться в символе лишь в теомифии…»17.
«Подведение под решающую категорию времени – привнесение ее в эту область семиотики было большим романтическим прозрением этих мыслителей, – комментирует труды Кройцера, и его последователей Герреса и Зольгера, В. Беньямин в классическом труде "Происхождение немецкой барочной драмы" (1920-е годы). – Привлечение категории времени позволяет установить соотношение символа и аллегории с достаточной глубиной и выразить его формулой»18.
То, что символ не мог быть основой для построения сколь было развернутых фабульных схем, осознавал и Вяч. Иванов (что частично и послужило его скептическому отношению к жанру романа, немыслимому без событийного ряда). «"Die Lust zu fabulieren" – самодовлеющая радость выдумки и вымысла, ткущая свою пеструю ткань разнообразно сцепляющихся и расплетающихся положений, – когда-то являлась главною формальною целью романа»19, – справедливо отмечал поэт в эссе «Достоевский и роман-трагедия», тут же констатируя, что «пафос этого беззаботного, „праздномыслящего“, по выражению Пушкина, фабулизма, быть может, невозвратно утрачен… нашим временем». И хотя Иванов не отвергает наличие в романах Достоевского развитого «фабульного» плана, он спешит оправдать эту «техническую» особенность повествования Достоевского тем, что романист «использовал его механизм для архитектоники трагедии»20; очевидно, что фабулизм как таковой в глазах критика-символиста является приметой искусства, если не самого «низшего», то в лучшем случае среднего, «демотического» толка. «Основное событие» в романах-трагедиях Достоевского в глазах Иванова – единый, неподвижный центр художественного мира писателя. Событие-символ, событие-ознаменование21.
Зачарованный символом-мигом, прозаик-символист естественным образом тяготеет к «симфоническому», антифабульному, анти-нарративному, в конечном счете, построению текста. Из свободной последовательности вневременных22, одномоментных, завершенных в себе событий-ознаменований, как мистического, так и комического свойства, складывается «2-я симфония» Андрея Белого, первая из опубликованных (190223), обозначившая сам факт рождения русской символистской прозы (отнюдь не сводимой к жанру романа). Ведь романы «старших» символистов, в частности Федора Сологуба, в большей степени аллегоричны, нежели символистичны24, что, кстати, вполне согласуется с эстетическими воззрениями их кумира – Шопенгауэра. Для Сологуба, как и для его культурных наставников, трактат «Мир как воля и представление» был не столько критикой «критик» Канта, сколько «учебником жизни» и – пособием по искусству письма. И не столько этика Шопенгауэра, сколько шопенгауэровская эстетика и поэтика стали почвой для возникновения в России новой (а по существу достаточно старой) разновидности наррации – натуралистической аллегории25 (таковыми, по существу, являются и все так называемые «романы идей», и исторические романы, в которых романное действие развертывается как «живописное» воплощение историософских концепций (романы Д. Мережсковского) или шифрует (аллегория – всегда шифр) узнаваемые для «посвященных» отношения современников («Огненный ангел» В. Брюсова).
При этом – что нередко случается в истории литературы с концепциями художников, опровергаемыми их же творчеством, – именно «старшие» символисты (правда, прежде всего поэты), особенно настаивали на неполноценности аллегории как художественного тропа, противопоставляя ее «органическому», многосмысленному символу26. Случалось, и символисты «младшие» (Вяч. Иванов, А. Блок) высказывались в том же плане. Характерно, однако, что Андрей Белый слово «аллегория» использовал отнюдь не только в уничижительном смысле слова27. Так, в статье «Генрих Ибсен» (1906) Белый оценивал «аллегорические» черты драматургии Ибсена не просто снисходительно, но даже восторженно: «Драмы Ибсена построены совершенно: в них совмещается зараз множество смыслов. Они, во-первых, являют нам поразительно верную картину быта современного нам человечества. Здесь Ибсен – реалист; но за первым данным смыслом нас поражает второй, идейный смысл: действующие лица являются совершенными аллегориями какого-нибудь научного, философского или морального положения Ибсена; наконец, сквозь аллегорию мы начинаем видеть нечто, не могущее уложиться в ней; тут открывается нам, что аллегория у Ибсена – оболочка символа. Действующие лица являются символами несказанных чаяний и опасностей, стерегущих нас»28.
То, что аллегория является одной из сторон сложно устроенного образа-символа29, четко обговорено в известной трехчленной формуле символа, предложенной Белым в статье «Смысл искусства»: «И отсюда-то развертывается трехчленная формула символа….трехсмысленный смысл его: 1) символ как образ видимости, возбуждающий наши эмоции конкретностью его черт, которые нам заведомы в окружающей действительности; 2) символ как аллегория, выражающая идейный смысл образа: философский, религиозный, общественный30; 3) символ как призыв к творчеству жизни. Но символический образ есть ни то, ни другое, ни третье. Он – живая цельность переживаемого содержания сознания»31.
Представление о трехсмысленном смысле символа лежит в подтексте и известного письма А. Белого Р. В. Иванову-Разумнику от 12/25 декабря 1913 года, в котором обрисован трехсоставный, миметико-аллегорико-символический строй уникального символистского романа (или антиромана?) – «Петербург». При этом особый акцент сделан на аллегорико-символическом аспекте повествования – в противовес миметическому, который прежде всего будет выискивать в романе критика, сориентированная на опыт социально-реального романа предшествующих десятилетий. В особенности критика ангажированная: она будет крайне недовольна тем, как представлены в романе революция 1905 года, народ, живущий за пределами Петербурга (он-де вовсе не представлен), деятельность революционеров-подпольщиков. «Революция, быт, 1905 год и т. д. – пишет, как бы заранее оправдываясь, Белый Иванову-Разумнику, – вступили в фабулу случайно, невольно… Весь роман мой изображает в символах места и времени подсознательную жизнь искаженных мысленных форм… "Петербург" есть, в сущности, зафиксированная мгновенно (здесь и далее выделено мной. – С. П.) жизнь подсознательная людей, сознанием оторванных от своей стихийности. А быт, «Петербург», провокация с происходящей где-то на фоне романа революцией только условное одеяние этих мысленных форм…»32.
Таким образом, предметом изображения в «Петербурге», по мысли Белого, является нечто, что можно воссоздать лишь иносказательно, символико-аллегорически, в «условном одеянии» фиктивных событий, происходящих в условном времени и месте с некими условными фигурами33 (преимущественно, но не обязательно антропоморфными): «…подлинное место действия романа, – подчеркивает Белый, – душа некоего не данного в романе лица, утомленного мозговой работой…»34. С утомлением (а значит, с потерей самоконтроля) автор письма и связывает особый режим функционирования «мозга» имплицитного Творца художественного мира романа – «мозговую игру».
Многосмысленность концепта «мозговая игра», на котором базируется архитектоника «Петербурга», связана с тем, что, с одной стороны, он отвечает пародийно-полемической нацеленности романа против по-риккертовски критикуемого шопенгауэровского солипсизма35. Развенчанная как инструмент познания мира, «мозговая игра» под пером Белого гротескно трансформируется в комически преподносимый принцип его творения. «Мозговая игра» онтологична36. Персонифицируясь в Авторе-Демиурге и его ипостасных «двойниках» – персонажах романа37, она творит художественный мир «Петербурга», точнее, его «видимый» план, тот самый, что, согласно Белому, составляет миметико-репрезентативную сторону образа-символа. Иными словами, «мозговая игра» порождает одно из пространств иерархически структурированного романного целого – планиметрическое плоскостное пространство Петербурга38 как места протекания ряда событий, складывающихся в некое подобие романного сюжета (его наиболее «складный» пересказ-реконструкцию можно найти у К. Мочульского39). Выходы за пределы этого пространства во «второе», астральное, пространство, уходы из него (из иллюзорного пространства Империи – в деревенскую Россию, из мертвой цивилизации Европы – к источнику живой мудрости, сочинениям Г. Сковороды), переход границы, разделяющей петербургский «морок» и мир «жизни подлинной», составляют «второй», герменевтический (он же – герметический) «смысл» романа Белого, его потаенный сюжет. И разворачивается этот сюжет параллельно: 1) в сфере действия прямого авторского слова (тема, к которой мы еще вернемся); 2) через систему символов-иносказаний, интерпретируемых, к примеру, Л. Силард как указание на путь посвящения, который проходит Николай Аблеухов, изживающий, по мысли исследовательницы, масонскую «кубическую» эзотерику и приближающийся к постижению розенкрейцеровской «пирамидальной» Истины40.
Миметический сюжет романа может служить отправной точкой и для других дополняющих друг друга, друг в друга переходящих символико-аллегорических прочтений «Петербурга»: историософского, антропософского, любовно-автобиографического, семейно-фрейдистского и т. п.
Историософское41 – наиболее согласуется с барочно-аллегорическим модусом повествования42 и соответствующей ему тематикой и проблематикой. Центральная тема культуры Барокко – судьба государств и государей43 – является жанрообразующей темой «Петербурга» как повествования о свершившейся судьбе основанной Петром I Империи и ее метонимического репрезентанта – града Петра (тема эта прямо заявлена в первых же строках романа). Поэтому и главными героями романа являются два государственных мужа, носители идеала порядка, противостоящего хаосу, – Петр и сенатор Аблеухов. Одновременно они воплощают два начала Империи – Западное и Восточное (хотя в каждом того и другого, условно говоря, поровну).
А так как Петр представлен в сюжете своим «заместителем» – оживающим Медным Всадником44, то и «живой» сенатор, в свою очередь, изображен в почти завершившемся процессе окаменения: «Дом – каменная громада – не домом был; каменная громада была Сенаторской головой…» (36)45. У каждого из государственных мужей есть сын-наследник: в одном случае – кровный (Николай Аполлонович Аблеухов-младший), в другом – духовный, в конце концов превращающийся в кровного46, – террорист Дудкин. Сыновья объединяют свои усилия для свержения власти отцов (драматические отношения отцов и сыновей – одна из генеральных тем драматургии Кальдерона). И в обоих случаях бунт заканчивается подчинением Авторитету47. Барочному образу руин – аллегорическому символу победы природы над историей – в «петербургском мифе» соответствует мотив поглощения города водами Невы48. Наконец, жанром «Петербурга» (в более узком, нежели роман, смысле) – оказывается трагифарс49, имеющий идиллическую развязку. Таким образом, барочная аллегория, базирующаяся на восприятии истории как природного катаклизма («в аллегории facies hippocratica истории простирается перед взором зрителя как окаменевший доисторический ландшафт»50) в развязке «Петербурга» трансформируется в символ, в котором, по мысли Беньямина, «с просветлением гибели преображенный облик истории на мгновение приоткрывается в свете избавления»51.
Так оба «смысла» «Петербурга» – миметический и аллегорический – оказываются сопряженными в символическом целом романа. Пытаясь выявить логику объединения его «двух аспектов» – «художественного» и «символического», – Л. Долгополов писал: «Сочетание видимой, осязаемой материальности и мистической нереальности и составляет главное в поэтической структуре "Петербурга"… Она-то и объединяет разрозненные, казалось бы, сцены романа в одно целое…»52. Очевидно, понимая, что сочетание двух начал не есть способ создания целого, что необходимо найти, что же эти два начала объединяет, исследователь далее пишет: «Решающую роль здесь сыграла та общая идея, которая лежит в основе его художественно-философской концепции в целом… Принадлежность любого явления, факта, самого человека к двум мирам одновременно – миру эмпирической действительности и миру бытийственного, космогонического существования – решается в „Петербурге“ на широком материале жизни столицы огромной империи, столицы могущественной и призрачной одновременно…»53. Ясно, что предложенное уточнение первого утверждения – лишь его развернутая тавтология, сводящая целое романа все к тому же, миметическому, плану – широкому показу жизни столицы.
Очевидно, что целое «Петербурга» (если оно имеет место быть, что далеко неявно) может возникнуть не в процессе редукции символического к миметическому, а лишь в преодолении исходного дуалистического мировоззрения, что и было главной задачей Белого-философа символизма. В годы, предшествующие созданию романа, ему казалось, что такую, опровергающую присущий западноевропейскому сознанию (кантианскому прежде всего) дуализм, философию он нашел. Нашел, как справедливо подчеркивает Л. Силард54, у Риккерта.
Именно влиянием риккертовского «Введения в трансцендентальную философию» объяснима настойчиво проводимая в письме к Иванову-Разумнику и уже отмеченная нами мысль о том, что главным предметом изображения в «Петербурге» является сознание, каковое, как указывал Г. Риккерт, «вообще не есть реальность, ни трансцендентная, ни имманентная, а только понятие». «Это понятие, – писал неокантианский наставник Белого, – мы образуем всегда с принадлежащим ему содержанием сознания, а содержание есть единственное, чему присуща действительность, именно действительность имманентного бытия»55. Поэтому «подсознательная жизнь искаженных мысленных форм», сознание, замкнувшееся на самом себе, изображается Белым так, как оно только и может изображаться, – через свое содержание. Содержание же это, как уже отмечалось, представлено плодами деятельности «мозговой игры» повествователя и его «соавторов». Но тогда содержание и форма изображения в романе Белого при определенном ракурсе прочтения романа должны совпасть (что является, согласно воззрениям писателя, одной из базовых характеристик символа).
Так, не просто символически, а символистски прочитал «Петербург» Вяч. Иванов. В известной рецензии на роман вместо изложения его содержания поэт разворачивает перед читателем цепь одномоментных ситуаций-состояний, продиктованных оцепенением Ужаса: «В этой книге есть полное вдохновение Ужаса. Ужас разлился в ней широкой, мутной Невой, "кишащей бациллами"; принизился заречными островами; залег на водах серо-гранитной крепостью; вздыбился очертанием Фальконетова коня; подмигивает огоньком со шхуны Летучего Голландца; застыл кариатидами дворцов; опрокинулся в зелено-тусклые зеркала аблеуховских зал; "цокает" в их лунном просторе копытцами геральдического единорога… мчится сановничьей черной каретой, охваченной той самой паникой, какую она же внушает окрест… Во все эти обличья и знамения спрятался Ужас, перед тем как окончательно прикинуться тикающей своим заведенным часовым механизмом бомбой, помещенной в четыре тесных стенки, имя которым – человеческое "я"»56. Достаточно сравнить его «пересказ» «Петербурга», схваченного в основных символических «точках», и изложение романной фабулы у Мочульского57, чтобы увидеть два возможных прочтения романа – буквально-реалистическое и символистское58.
Вяч. Иванов также описал условия восприятия «Петербурга» как символического целого: «…Брался я за чтение этого романа и по напечатании его в альманахе "Сирин" – и наконец только что перечитал его сызнова в недавно вышедшем отдельном издании, а полная трезвость аналитической мысли ко мне так и не пришла, только углубилось синтетическое постижение (здесь и далее выделено нами. – С. П.); и какое-то полусознательное чувство по-прежнему повелительно заставляет меня без оглядки и колебания следовать за головокружительным темпом поэмы, в уверенности, что, только отзвучав, прозвучит она в душе цельно и что единое, что здесь потребно, это – синтетический охват целого»59. Иными словами, символизм «Петербурга» – не в отдельных образах-символах, каковыми могут стать любые повествовательные единицы (мотивы) структуры повествования, и не в его дуальном мироустройстве. «Петербург» как символическая живая цельность – это целостное же переживание-прозрение, рождающееся у читателя в момент завершения чтения, в момент выхода (вместе с автором и его героями) за пределы текста в пространство бытия, целиком заполненное расширившимся до бесконечности «я»60, в пространство вне времени, этого второго «символа» сознания, по Белому, т. е. в область под– и сверх-сознательного. Символический смысловой (не значит «композиционный») план «Петербурга» открывается читателю, понимающему, что роман Белого как художественное целое организован по антинарративному, антироманному приципу мгновенного запечатления, отмеченному автором в цитировавшемся письме. Другое дело, что так, символистски, прочитанный «Петербург» перестает восприниматься как повествование, как роман. Или же – должен восприниматься как своего рода уникальный символистский антироман, возникающий как отрицание базовых принципов романного повествования.
То, что далеко не каждый, даже самый проницательный и доброжелательный читатель может (или предпочтет) увидеть в романе
Белого «синтетическое» целое, демонстрирует ставшая более востребованной в потомстве аналитическая интерпретация «Петербурга», предложенная Н. А. Бердяевым61. Если Вяч. Иванов устремлен к поиску символического единства сочинения Белого (невзирая на все его формальные, с точки зрения критика, несовершенства) и находит это единство в статической завершенности «мига», то Бердяев принципиально отказывается от поиска столь чаемой символистами целостности и опирается, напротив, на принцип пронизывающего произведение Белого движения, на его динамическую незавершенность (явно предваряя М. Бахтина с его идеей незавершенности романа как жанра). «У А. Белого, – утверждал Бердяев, – есть лишь ему принадлежащее художественное ощущение космического распластования и распыления, декристаллизации всех вещей мира, нарушения и исчезновения всех твердо установившихся границ между предметами. Сами образы людей у него декристаллизуются и распыляются, теряются твердые грани, отделяющие одного человека от другого и от предметов окружающего его мира. Твердость, органичность, кристаллизованность нашего плотского мира рушится. Один человек переходит в другого человека, один предмет переходит в другой предмет, физический план – в астральный план, мозговой процесс – в бытийственный процесс. Происходит смещение и смешение разных плоскостей… Стиль Белого в конце концов всегда переходит в неистовое круговое движение»62. «Космический вихрь», который в представлении Бердяева все сметает на своем пути на страницах «Петербурга», лишен какого бы то ни было ритмообразующего начала63. Бердяевское, как ни парадоксально, дотошно миметическое прочтение романа, скрупулезно воспроизводящее узоры «мозговой игры» на поверхности бытия, также вполне отражает одну из сторон замысла Белого. Даже не одну – а две стороны: описание фантасмагорического развоплощения бытия философ сопровождает аллегорическими комментариями («Белый художественно раскрывает особую метафизику русской бюрократии», «…Он хочет художественно изобличить призрачный характер петербургского периода русской истории»64). Новый стиль Белого Бердяев, как известно, соотносит с кубизмом (усматривая в последнем то же «распластование всякого органического бытия»65) и с футуризмом, который, впрямь, вполне сопоставим с по-бердяевски прочитанным «Петербургом» в плане тяготения к беспредметности и теософско-космическим фантазиям. Но заканчивается «Петербург» – вопреки мысли Бердяева о его безысходности – отнюдь не футуристически, не «черным квадратом» или же взрывом, подобным тому, что сметет с лица земли воистину авангардистский мир «Масок», а псевдо-катастрофой и всепримиряющим эпилогом.
Идиллический «исход» романа прямо апеллирует к третьему (в интерпретации Белого) «смыслу» символа – «призыву к творчеству жизни». В свете не раз заклинаемого, призываемого в романе будущего (связанного с осуществлением апокалиптических чаяний, что для Белого – кратчайший путь к реализации этого призыва)66, а также в свете темы воспоминания, столь важной для раскрытия «второго пространства» романа67, его глубинной смысловой перспективы, предапокалиптическое настоящее (отнюдь не тождественное «мигу»-вечности) обнаруживается как иллюзия, как то, что должны изжить герои романа, сопротивляясь наступающей современности (в которой видимость и сущность, ложь и истина неразличимы). В чем можно согласиться с глашатаем этой современности68, так это с тем, что Белый значительно ближе, чем Гоголь, подошел к пределу, за которым искусство репрезентации, демонстрируя размытость грани между видимым и реальным, перестает осознавать эту грань. Но грань эту творец «Петербурга», все же, думается, не переступил.
«Петербург» – произведение, в основе которого лежит впервые осознанное и освоенное культурой Барокко противопоставление видимости и кажимости, сущего и мнимого, истинного и ложного, реальности и репрезентации, – при всей иллюзорности и размытости границ между ними. Эстетика барокко выработала правила игры этими противоположностями, предполагающие не только их иллюзорное отождествление69, видимую взаимную подмену, но и неизменное разоблачение этой подмены. По этим правилам выстроено и проходящее через первые главы романа Андрея Белого со противопоставление маски и лица, красного и белого цветов, внешнего и «исподнего», металла и дерева (креста), губителя и спасителя (в главках «Скандал» и «Белое домино»). По этому же принципу в «Петербурге» противопоставлены и два образа Автора: автор «видимый», подставной, предстающий в обличье «аукториального»70 повествователя-Демиурга (прием, откровенно заимствованный из «Мертвых душ»), и Автор «подлинный», прообраз которого есть у того же Гоголя (субъект так называемых «лирических отступлений» в «Мертвых душах»).
Аукториальный автор, прямо не участвуя в повествовании в качестве персонажа, постоянно демонстрирует свое присутствие в нем, свое участие в его организации («От себя же мы скажем…», «…о вдруг мы – впоследствии», «…Аполлон Аполлонович видел то же и здесь, что и мы», «Между нами будь сказано…», «И тут не мешает нам вспомнить…»), особо фиксируя свое предназначение в главке «Наша роль» (роль агента – соглядатая за героями). Он пытается контролировать повествование («Не попали ли мы впросак?.)71, а в финале Главы первой («Ты его не забудешь вовек!») демонстрирует особый контакт со своими персонажами («…сознание Аполлона Аполлоновича есть теневое сознание, потому что и он – обладатель эфемерного бытия и порождение фантазии автора: ненужная, праздная мозговая игра» (56)72. Субъект (и объект) «мозговой игры», он адресует свою полулитературную полусказовую, изобилующую двусмысленностями и недосказанностями речь «Вашим превосходительствам, высокородиям, благородиям, гражданам» (9), некоему обобщенно-безликому читателю (своему двойнику). Последний чаще всего именуется просто «вы» (автор – раешный зазывала – высокопарно обозначает себя, соответственно, «мы»73).
«Подлинный» Автор является «без маски» – чаще всего как Голос, в интонационно маркированных фрагментах («Дни стояли туманные, странные…», нередко связанных с темой воспоминания, либо с обращением в будущее (в пророчестве, призыве, заклинании). Именно на него в «Петербурге» возложена задача реализации третьей «составляющей» образа-символа – призыва к творчеству жизни. Ведь он – двойник имплицитного Творца романа: сознание последнего репрезентировано, в конечном счете, художественным целым произведения, его внутренней организацией (в том числе делением на Главы и названиями главок внутри Глав), а также неким слоем нейтрального повествования, которое цементирует речевые миры обоих Авторов и персонажей, тяготеющих к растворению друг в друге.
«Лирический» Автор – субъект дискурса, выстраиваемого от лица «я» и адресованного читателю-«ты»74. А также – «главному» герою роману – Петербургу или его метонимическим заменам («Линии! Только в вас осталась память петровского Петербурга» (23). Однако и Петербург, в свою очередь, – метонимическая метафора России. Одна из самых выразительных речей Автора-2 прямо парафразирует знаменитое обращение Гоголя к Руси-тройке (главка «Бегство» из Главы второй).
Автор-2 – потенциальная жертва «мозговой игры», но – жертва несостоявшаяся: «Петербург! Петербург!…и меня ты преследовал праздною мозговою игрой… Помню я одно роковое мгновение… О, зеленые, кишащие бациллами воды! Еще миг, обернули б вы и меня в свою тень. Неспокойная тень, сохраняя вид обывателя, двусмысленно замаячила б в сквозняке сырого канальца…» (55–56).
Он наделен подлинно «кихотическим» типом воображения, о котором М. Ямпольский вспоминает в связи с Гоголем: «Гоголь тут (в "Невском проспекте". – С. П.) разыгрывает ситуацию, которая в литературе Нового времени со всем драматизмом предстала в «Дон Кихоте», где видения обладают напряженной неопределенностью статуса – то ли божественного, то ли демонического. В «Дон Кихоте» герой то не видит реальности, которую заслоняют от него образы его возвышенной фантазии, то видит реальность, но принимает ее за искаженную демонами красоту. Нечто подобное происходит и с Пискаревым…»75. Но претендовать на роль последней повествовательной инстанции в «Петербурге» Автор-2 (как и Автор-1) не может. Равно как ни Дон Кихот, ни Сид Ахмет Бененхели не должны (и не могут) узурпировать власть Сервантеса – создателя романа «Дон Кихот».
Творец романа должен обладать не только «хитроумным» воображением и склонностью создавать «фантазмы», но и «благоразумием» (discreciуn), способностью спонтанно, но и одновременно целеустремленно выстраивать свой художественный космос. Сервантес-творец «Дон Кихота» был в высшей степени наделен авторским самосознанием, умением маневрировать между словом и предметно-телесной реальностью, литературой и жизнью, воображением и воплощением, даром превращать жизнь в литературу и литературу в жизнь. Первый роман Нового времени «Дон Кихот» – не только первый европейский «самосознательный» роман, но и сложно организованный метатект, «роман о романах» и «роман о романе», а «самосознательность» и мета текстуальность – жанровый «канон» всех европейских (в том числе и русских) романов «сервантесовского типа» – творений Филдинга, Смоллета, Стерна, Голдсмита, Дидро, Гёте, Гофмана, Пушкина, Гоголя, Достоевского… (если взять романистов досимволистской поры). И вовсе не «Дар», как то мнится автору глубокого исследования о романе В. Набокова М. Липовецкому76, а «Евгений Онегин» является первым метароманом в русской литературе. Между «Онегиным» и «Даром» – повести и роман-поэма Гоголя, повести и романы Достоевского. А также – «Петербург», где сквозь репрезентативно-миметический план повествования просвечивают другие «тексты», прежде всего текст русской литературы, в свой черед являющейся метатекстом по отношению к петербургскому «мифу», созданному усилиями архитекторов, художников и поэтов XVIII столетия.
Но самосознательность (авторефлексивность) и металитературность – те свойства художественного сознания, которые опять-таки разлагают символическую целостность, расслаивая текст на повествовательные планы, вовлекая читателя в систему двусмысленностей и внутрилитературную, интертекстовую игру, которая никак не может совпадать с теургическим заданием. Потому-то – вспомним еще раз Ханзен-Леве – влияние символистской теории и практики на русский роман оказалось наиболее продуктивным именно в момент выхода символизма за свои пределы (что и составляет, строго говоря, сущность Символизма-3). И уже за хронологическими границами символистской эпохи создаются романы подобные «Дару», в которых символистское жизнетворчество соединяется с акмеизмом и другими системами Письма.
У Белого – создателя «Петербурга» не было и не могло быть прямых последователей77. В произведениях самого Белого после 1916 года нарушается чудом, не без срывов, но все же выдержанный в «Петербурге» баланс трех смысловых перспектив – миметической, аллегорической и собственно символистской. Уже в «Котике Летаеве» резко усиливается аллегорическая составляющая образов-архетипов. «Творчеству жизни» Белый предпочитает наметившийся в финале «Петербурга» путь самопознания, базирующийся на мифопоэтической реконструкции области бессознательного, тут же перелагаемой на условный язык антропософии. Погрузившись в так и не осуществившейся Эпопее «Я» (первым звеном которой и стал «Котик…»), в пучину бессознательного, в «московской» трилогии Белый как бы выныривает на поверхность, становящейся – уже в подтверждение идей М. Ямпольского (неслучайно преимущественно цитирующего Белого второй половины 20-х – начала 30-х годов) – подлинным местом действия и протоделезовским принципом осмысления реальности в романах «Московский чудак», «Москва под ударом» и, в особенности, в «Масках»78.
Десятилетие русской литературы (с середины 10-х до середины 20-х годов), которое можно условно назвать «авангардистским», как известно, оказалось для неклассического, модернистского, да и для традиционного, реалистического русского романа почти провальным. Акмеизм устами О. Мандельштама вынес роману как жанру смертный приговор. Футуристы разрушили смысловую сцепку «мимесис – аллегория», предпочитая работать либо с «фактами», либо с эмблемами-метафорами, которые в принципе тяготеют не к словесному, а к изобразительному ряду (неслучайно исследователи, особенно те, что под «авангардом» имеют в виду прежде всего футуризм, ставят под сомнение не только существование авангардистского романа, но и авангардистской прозы как таковой). Один из двух ставших классикой романов десятилетия – «Мы» Евг. Замятина – является уникальным сочетанием образцового аллегорического жанра – антиутопии и авантюрно-любовного «ромэнс»79.
Немногочисленные выдающиеся образцы прозы первой половины 20-х годов, равно как и возрождающееся повествование второй половины 20-х, также связаны с усилением аллегорического начала, на что обратил, в частности, внимание Х. Гюнтер, призывающий «проследить за феноменом "воскресения аллегории" в постсимволистской культуре…»80.
«Чистый» же, антимиметический и антиаллегорический, отвергающий референцию как таковую, авангард с жанром романа так же трудно совместим, как и символистское Одно. И в этом смысле (как и во многих других) авангард стал продолжателем и завершителем традиций русского символизма. Что же касается символистско-авангардистской идеи «творчества жизни», то, расправившись с обоими, ее адаптировали для своих нужд вожди нового режима81.
Примечания
1 См.: Ханзен-Леве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб.: Академический проект, 1999.
2 Предлагаемая австрийским ученым типология не отменяет, а дополняет восходящее к самим символистам (прежде всего к Вяч. Иванову как автору статьи «Две стихии в современном символизме») противопоставление символистов-идеалистов и символистов-реалистов, то есть символистов «старших» и «младших». Однако Ханзен-Леве делает акцент не на историко-литературном, а на типологическом характере своей классификации, предполагающем сосуществование разных типов символизма во времени, а также в творчестве одного и того же писателя.
3 Ханзен Леве А. Указ. соч. С. 18.
4 Ср. позицию З. Г. Минц, которая, принимая и одновременно уточняя периодизацию А. Ханзен-Леве, включает в Символизм-III, к примеру, творчество раннего М. Кузмина (см.: Минц З. Г. Об эволюции русского символизма // Минц З. Г. Поэтика русского символизма. СПб.: Искусство – СПБ, 2004).
5 См. развернутое примеч. 60 к Введению в книге: Ханзен-Леве А. Мифопоэтический символизм. СПб.: Академический проект, 2003. С. 52 и сл.
6 Описывая фазы нарративизации мифа, Ханзен-Леве следует за исследованием О. М. Фрейденберг «Происхождение наррации», выделившей следующие фазы формирования нарративного дискурса: миф – метафора – наррация как «понятийный миф». «Миф, который довлел самому себе, – писала Фрейденберг, – обратился в объект изображения: его стали воспроизводить как нечто вторичное, созданное субъектной и иллюзорной сферой, и он из достоверной категории превратился в „образ“, в „фикцию“, только лишь подражавшую действительности» (цитир. по: Ханзен-Леве. Указ. соч. С. 55). Но именно таким, нарративно-миметическим, предстает и первозданный миф в известной статье-манифесте Вяч. Иванова «Две стихии в современном символизме» («…миф – отображение реальностей», «…миф есть воспоминание о мистическом событии» – Иванов Вяч. Лик и личины России. Эстетика и литературная теория. М.: Искусство, 1995. С. 127–128). Одновременно Вяч. Иванов отождествляет символ с мифом: «миф уже содержится в символе» (там же, 126), как бы забывая о том, что «истинный символ… изрекает на своем сокровенном… языке… нечто неизглаголемое, неадекватное внешнему слову» (Иванов Вяч. Поэт и чернь // Иванов Вяч. Указ. соч. С. 36). Неискоренимо двойственная и двусмысленная трактовка символа и мифа у Вяч. Иванова отзывается и у Ю. М. Лотмана, именующего символ «геном сюжета» (см.: Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек-текст-семиосфера-история. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 115 и сл.), и в известном труде З. Г. Минц, концептуализирующей мифологему (псевдомифологический мотив) как метонимический образ-символ, заключающий в себе «свернутую программу» целостного сюжета» (Минц З. Г. О некоторых неомифологических текстах в творчестве русских символистов // Минц З. Г. Поэтика русского символизма. СПб.: Искусство – СПБ, 2004. С. 70). Отсюда же берет начало и распространенная двусмысленная трактовка символистского романа как «романа-мифа».
7 Ханзен-Леве А. Указ. соч. С. 52, 54.
8 «Серебряный голубь», как и «Котик Летаев» – согласимся здесь с Н. Д. Тамарченко (см.: Тамарченко Н. Д. Русская повесть Серебряного века. Проблемы поэтики сюжета и жанра. М.: Intrada, 2007), – все же, повести, которые сам автор именовал то повестями, то романами. Что касается творчества Белого конца 1910—1930-х годов, в частности, его «московской трилогии», то приходится согласиться с теми учеными (В. В. Иванов, Л. А. Колобаева), которые относят его к постсимволизму (вопрос, к которому мы вернемся в конце главы).
9 Иванов Вяч. Лик и личины России. Эстетика и литературная теория. М.: Искусство, 1995. С. 271.
10 Там же. С. 270.
11 Ясно, что речь идет о Первой части романа 1605 года.
12 См.: Пискунова С. И. «Дон Кихот»: поэтика всеединства. Указ. изд.
13 См.: Ильев С. П. Русский символистский роман. Аспекты поэтики. Киев: Лыбидь, 1991.
14 Андрей Белый. Критика. Эстетика. Теория символизма. М.: Искусство, 1994. Т. 2. С. 273–274.
15 Там же. С. 275.
16 Сложная диалектика вечности и мига в символистском миропонимании прослежена А. Ханзен-Леве (см.: Ханзен-Леве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1999. С. 264 и сл.).
17 Цитир. по: Тодоров Ц. Теории символа / Пер. с франц. Б. Нарумова. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 251.
18 Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы / Пер. с нем. С. Ромашко. М.: АГРАФ, 2002. С. 171.
19 Иванов Вяч. Указ. изд. С. 275.
20 Там же. С. 276.
21 Правда, Вяч. Иванов – в отличие от своих новейших последователей – понимал, сколь значима для Достоевского и романическая интрига, прагматически-событийный план повествования.
22 Ср. работу Н. Быстрова (Быстров Н. Художественное пространство в раннем творчестве Андрея Белого // Вопросы литературы. 2006, май-июнь), которому удалось вскрыть в «событиях» (и в пространственном строе) тех же «симфоний» особый временной подтекст: «…Означающие и означаемые событий в ранних текстах Белого, – пишет исследователь, – отделяются друг от друга временной дистанцией: события, синхронные описанию, могут рассматриваться как предвосхищение будущего или… как повторяющиеся отражения прошлого… И переживаемое поэтом состояние „безвременья“ тоже не есть полное освобождение от времени. Это какая-то особая, парадоксальная форма временного существования, что-то подобное неподвижному движению или недлящейся длительности. Время здесь словно бы застывает, вобравшись внутрь себя, спрессовывается в себе самом…, становится мгновением, развернутым в вечность… Такое мгновение не отменяет, а преображает время… Мгновение стоит на пороге вечности, на краю Конца. Оно смыкает Конец с Началом… Распадается иллюзия мира – остается „одно“» (134–135, 140). Предложенная трактовка времени в произведениях Белого (в целом не противоречащая выше отмеченной диалектике мига-вечности у Ханзен-Леве), однако, не снимает вопроса о возможности построения наррации (тем более, наррации романной) в пространстве «недлящейся длительности».
23 I-я (Северная или Героическая) увидела свет в октябре 1903 года (на титуле – 1904 год).
24 См. об этом главу «Символистский роман и его истоки (о „Творимой легенде“ Ф. Сологуба)».
25 Казалось бы, Шопенгауэр решительно отвергает предназначенную «для выражения понятия» (искусство должно исходить не из понятий, а из идей!) аллегорию во всех ее разновидностях от иероглифа до эмблемы, и – прежде всего – аллегорические образы и сюжеты в изобразительных и пластических искусствах. С другой стороны, к поэзии, подчеркивает философ, «аллегория находится в совершенно ином отношении… в поэзии она вполне уместна и целесообразна» (Шопенгауэр А. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. М.: Московский клуб, 1992. С. 241). Аллегория «в поэзии» для Шопенгауэра – одно временно и разновидность тропа, сродни сравнению или метафоре, и жанр. Жанру, то есть аллегории, обусловливающей целое произведения словесного искусства, автор «Мира как воля и представление» уделяет особое внимание: «Мне известны три пространных аллегорических произведения, – отмечает философ: явное и откровенное – это несравненный „Критикон“ Бальтазара Грациана… Замаскированные же две аллегории – это Дон Кихот и Гулливер у лилипутов…» (там же, 242). Но ведь и сам «трактат» Шопенгауэра является своего рода аллегорическим «романом идей», с ярко выраженным авторским, и даже автобиографическим началом, в котором «Воля» в ее многообразных, в том числе и антропо– и зооморфных обличьях фигурирует как аллегориче ское обозначение «безосновного» начала бытия: неслучайно на русский язык его пере водили поэт (Фет) и блестящий критик-эссеист (Ю. Айхенвальд).
26 См. прим. 39 к разделу I в кн.: Ханзен-Леве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм. Указ. изд.
27 В таком виде концепт «аллегория» фигурирует в его упоминавшейся выше статье о символистском театре, иносказательно, «аллегорически», направленной против Блока, и даже в «Петербурге» (в главке «Откровение» в Главе шестой).
28 Андрей Белый. Критика. Эстетика. Теория символизма. М.: Искусство, 1994. Т. II. С. 259.
29 Это положение фактически перечеркивает кардинальное романтическое противопоставление символа и аллегории. Тем самым Белый на полвека опережает Х.-Г. Гадамера, который в известном труде «Истина и метод», писал: «…необходимо заново признать относительность противопоставления аллегории и символа, которое в эстетике переживания предвзято считается абсолютным» (Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Указ. изд. С. 125). См. также фундаментальный труд А. Флетчера, исходящего из представления об искусственности разграничения символа и аллегории: Fletcher A. Allegory: The Theory of a Symbolic Mode. Ithaca; London, 1964. Характерно, что Флетчер, выявляя параметры аллегории, базируется в основном на повествовательных жанрах.
30 «…Всякая идея в искусстве, – писал Белый в примечаниях к „Эмблематике смысла“, – стало быть, есть уже аллегория; но мы называем аллегорией в собственном обычном смысле только тот образ, в котором сознательно вложено его идейное содержание: сознательный аллегоризм часто губит произведения искусства. Но умелое и осторожное пользование аллегорической формой вполне законно… Смысл искусства открывается нашему разуму в метафизических ценностях; напрасно думают, что аллегория выражает рассудочность; с известной точки зрения аллегория может казаться действительнее, нежели самый образ бытия, каким он является для нас в объективной действительности…» (Андрей Белый. Символизм. М.: Мусагет, 1910. С. 365).
31 Андрей Белый. Критика. Эстетика. Теория символизма. М.: Искусство, 1994. Т. 1. С. 171–172.
32 Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб.: Atheneum. Феникс, 1998. С. 34.
33 «Каждый из героев романа, – писал Л. К. Долгополов о „Петербурге“, – и герой в собственно художественном смысле слова (то есть тип, образ), и носитель системы символических значений, которые… придаются ему автором. В этом и состоит прежде всего своеобразие „Петербурга“ как символистского романа. Его герои – в такой же степени условные символы, как и художественно достоверные типы» (Долгополов Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л.: Советский писатель (Ленингр. отд.), 1988. С. 206). Кажется, вполне точная характеристика поэтологического строя романа. Показательно, однако, что для одного из первых советских исследователей «Петербурга» вся «художественность» произведения Белого сосредоточена в его миметическом плане. «Символические значения» художественным образам-типам «придаются», то есть являются аллегорическими значениями в точном смысле слова.
34 Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. Указ. соч.
35 В противовес настойчивым попыткам повествователя увести читателя исключительно в сторону «Критики чистого разума» и неокантианства, «мозговая игра» – смеховое разоблачение гносеологии Шопенгауэра, до Белого всерьез предпринятое Г. Риккертом: «Если гносеологический идеализм понимается совершенно таким образом, что пространственный мир есть „мозговой феномен“ (фактически синоним „мозговой игры“. – С. П.) и пространство находится «в голове», – писал Г. Риккерт, – то этот парадокс Шопенгауэра… не имеет ничего общего с гносеологической проблемой» (Риккерт Г. Философия жизни. Киев: Ника-Центр. Вист-С, 1998. С. 31).
36 Поэтому трудно согласиться с теми уточнениями, которые М. Ямпольский (см.: Ямпольский М. Ткач и визионер. Очерки истории репрезентации, или О материальном и идеальном в культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 580 и сл.) вносит в предложенное В. М. Пискуновым (см.: Пискунов В. М. «Второе пространство» «Петербурга» Андрея Белого // Андрей Белый. Проблемы творчества. М.: Советский писатель, 1988), разграничение концепта «мозговой игры» и «переживаний», воплощаемых в «глубинных» образах-символах. Ямпольский трактует «мозговую игру» исключительно как гносеологический концепт, а «символы сознания» как творческое начало, относя и то, и другое к области «видимости». Это связано с тем, что автор интересного исследования о феномене репрезентации в новоевропейской культуре прочитывает «Петербург» как постмодернистский (то же, что модернистский) текст, в котором «между внутренним образом, видением и материальным миром» утрачена граница (см.: Ямпольский М. Указ. соч. С. 581). При этом современность – и Белый вместе с ней! – в представлении Ямпольского, «признает поверхностную фальш грима реальностью», перестает противопоставлять истинность лжи (там же).
37 «Технически это (изображение мира как фантасмагории, как порождения «мозговой игры». – С. П.) оказалось возможным прежде всего благодаря обнаженному и намеренному смешиванию статусов персонажей и повествователя», – писала Л. Силард в своей пионерской статье (Силард Л. Поэтика символистского романа конца XIX – начала XX в. (В. Брюсов. Ф. Сологуб. А. Белый) // Проблемы поэтики русского реализма XIX века. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та. С. 278).
38 См.: Пискунов В. М. Указ. соч.
39 См.: Мочульский К. Андрей Белый. Париж: Ymca-Press. С. 170 и сл.
40 См.: Силард Л. Утопия розенкрейцерства в «Петербурге» Андрея Белого // Силард Л. Герметизм и герменевтика. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2002.
41 Предлагаемое Л. Долгополовым (см:. Долгополов Л. Указ. соч.) прочтение «Петербурга» в свете понимания истории как «дурной бесконечности» повторяющих друг друга явлений» (277), да еще с поучительным выводом о том, что «человек должен преодолеть себя как явление определенной эпохи и среды» (там же), – пример такого, вполне правомочного, аллегорического истолкования.
42 См. об этом: Пискунов В. Указ. соч.
43 См.: Беньямин В. Указ. соч.
44 Образ ожившей статуи – один из центральных в культуре Барокко (Каменный Гость у Тирсо де Молина, Статуя Пандоры в «Статуе Прометея» Кальдерона, «виртуально» оживающие статуи святых-всадников во Второй части «Дон Кихота», «Говорящая голова» – там же… Примеров можно привести множество).
45 Здесь и далее «Петербург» цитир. по изд.: Белый А. Петербург. Роман в восьми главах с эпилогом. Л.: Наука, 1981. Цитир. стр. указаны в тексте статьи.
46 «…В совершенном бреду Александр Иванович трепетал в многосотпудовом объятии: Медный Всадник металлами пролился в его жилы» (307).
47 См., например, развязку пьесы Кальдерона «Жизнь есть сон».
48 См. интереснейшее рассуждение о связи эсхатологии Петербурга с «темами библейского потопа и Атлантиды», а также «фантазий подводного царства с аллегорией» в указ. соч. М. Ямпольского (266 и сл.).
49 См.: Пискунов. В. М. Указ. соч.
50 Беньямин В. Указ. соч. С. 171.
51 Там же.
52 Долгополов Л. Андрей Белый и его роман «Петербург»… С. 206.
53 Там же. С. 206–207.
54 См.: Силард Л. Поэтика символистского романа конца XIX – начала XX в. (В. Брюсов, Ф. Сологуб, А. Белый) // Проблемы поэтики русского реализма XIX века. Указ. изд.
55 Риккерт Г. Философия жизни. Указ. изд. С. 31.
56 Цитир. по кн.: Андрей Белый: pro et contra. СПб.: Изд-во Русского христианского гуманитарного ин-та, 2004.
57 Правда, чуть ниже, ориентируясь на читателя романов, Вяч. Иванов предлагает и фабульный конспект «Петербурга».
58 Ср. глубокое наблюдение А. Ханзен-Леве: «Для модели СIII типично, что один и тот же текст или отрывок может быть прочитан с помощью различных кодов, причем собственно символистский является лишь одним (выделено автором. – С. П.) из многих (Ханзен-Леве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм. Указ. изд. С. 18).
59 Там же. С. 404.
60 Такого рода исход воплощен в особо отмеченной А. Ханзен-Леве (см.: Ханзен-Леве А. Указ. соч. С. 75 и сл.) сквозной мифологеме творчества Андрея Белого (она же – его «центральный индивидуальный миф») – «внезапно расширяющегося шара и ассоциирующегося с этим шаром сферическо-концентрического движения от точки нуля до Вселенной…, где взрывообразное расширение колеблется между полюсами времени и безвременья, мгновения и вечности, пространственной перспективы („точка зрения“) и дезинтеграции сознания "Я" („рассеянного субъекта“)». При этом, отмечая присутствие мотива «шарового ужаса» в разножанровых текстах Белого, немецкий исследователь подчеркивает его особую роль именно в нарративных структурах, там, где имеет место «метонимизация метафор в нарративном дискурсе». «Этот… уровень в мифопоэтическом символизме выполняет лишь подчиненную функцию…, – констатирует ученый. – В полностью сформированном виде… уровень нарративно-перспективной фикционализации символическо-мифопоэтического мышления… встречается в рамках СIII. Так, только в романах Белого „Котик Летаев“ или „Петербург“ упомянутый мотив „шара“ играет центральную роль…» В «Петербурге» мифологема шара реализуется в мотиве взрыва «сардинницы ужасного содержания».
61 См.: Бердяев Н. А. Астральный роман // Андрей Белый. Pro et contra. Указ. изд.
62 Там же. С. 413–414.
63 Хотя в тех же «симфониях» некий особый космический ритм философ находит.
64 Там же. С. 416–417.
65 Там же. С. 415. Сколь это верно по отношению к кубизму – отдельный вопрос. Но кубизм тогда был в моде! На слуху!
66 См., например, финал главки «Степка», завершающей шестую Главу романа.
67 См. об этом в указ. соч. В. М. Пискунова, а также у Н. Быстрова (Указ. соч. С. 142).
68 См.: Ямпольский М. Указ. соч. С. 579 и сл. Любопытно, что М. Ямпольский принципиально избегает говорить о том, кто кроме Лескова представляет русскую литературу в затянувшийся на целый век (от Гоголя до Белого) период кризиса искусства репрезентации.
69 М. Ямпольский (см.: указ. соч., с. 132 и сл.) всячески акцентирует присущее, якобы, Барокко разрушение границ между образом реальности и иллюзией, опираясь в частности, на характерный для Барокко мотив (и образ) видения, которое, по мысли исследователя, располагается на отсутствующей границе между материальным и идеальным. Но это никак не подтверждается сюжетами пьес того же Кальдерона. В этом смысле показательна драма «Маг-чудодей», в которой дьявольская иллюзия (видение Хустины) разоблачается в своей сатанинской сути, или классическая «Жизнь есть сон», где смешение сна и реальности в представлениях Сехизмундо корректируется четким разграничением мира посюстороннего (в котором это смешение и происходит) и мира трансцендентного, гаранта упорядоченности земной жизни-сна.
70 Термин К. Штанцеля. О его роли в русской литературе XIX века и особо в прозе Гоголя см.: Манн Ю. В. Автор и повествование // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. Указ. изд. С. 43–45 и сл.
71 Это обстоятельство, видимо, и позволило Р. Алтеру (см.: Alter R. Partial Magic. Op. cit.) включить «Петербург» в ряд русских «самосознательных» романов.
72 Творения «мозговой игры» мнимо материализуются в результате действия пародийного же (!) теургического заклинания («И да будут две тени моего незнакомца реальными тенями!») Но мозговая игра – не что иное, как маскарад («мозговая игра – только маска»), участники которого оказываются пародиями на людей реальных.
73 Впрочем, изредка он сбивается на «я» (как в начале главки «Дурной знак»: «Если я их сиятельствам…» (222), или аттестуя своих персонажей как «мой», «моя» и т. д.).
74 «Слышал ли и ты октябревскую эту песню тысяча девятьсот пятого года? / той песни ранее не было; этой песни не будет никогда» (77).
75 Ямпольский М. Указ. соч. С. 330.
76 См.: Липовецкий М. Эпилог русского модернизма (Художественная философия творчества в «Даре» Набокова) // Вопросы литературы. 1994. Вып. III.
77 Б. Пильняк как создатель «сказовой» прозы – вопреки мнению В. Шкловского, объявившего его имитатором Белого – в первую очередь, последователь и прямой ученик А. М. Ремизова (не говоря о Лескове и Гоголе).
78 См.: Колобаева Л. А. Постсимволистские тенденции в поэтике позднего Белого (романы о Москве) // Постсимволизм как явление культуры: мат-лы методич. конф. 5–7 марта 2003 года. М.: РГГУ, 2003.
79 Другой, очень условно именуемый «романом», текст – «Голый год» Б. Пильняка – словно перетянул на себя еще одну составляющую символистского целого – сугубо репрезентативный сказ, т. е. мимесис, реализующий себя еще на уровне слова.
80 Гюнтер Х. «Котлован» А. Платонова как аллегорический текст // Пост-символизм как явление культуры: мат-лы методич. конф. 5–7 марта 2003 года. Указ. изд. С. 16. Задавшись целью проследить зарождение этого же феномена еще в раннесимволистской прозе (см. след. главу этой книги), мы, к сожалению, не учли работу Х. Гюнтера, изданную в малотиражной брошюре. Это тем более обидно, что немецкий русист во многом опирается на ту же, что и мы, методологическую базу (труды Гадамера, Беньямина), игнорируя, правда, классическую книгу А. Флетчера.
81 См.: Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Знак, 1993 (раздел «Стиль Сталин»).
«Символистский» роман и его истоки (О «творимой легенде» Ф. Сологуба)
Если согласиться с одной из немногих благожелательных оценок романной трилогии Ф. Сологуба «Творимая легенда» (1914)1, принадлежащей С. Н. Бройтману, – «…неканонический и утонченный метароман с неуловимой зыблемостью и неопределенностью «соответствий», в котором «параллельными и проницаемыми друг для друга оказываются художественная и внехудожественная реальности», а герои «догадываются, что они не живые люди, а персонажи»2, – то следует признать, что в лице Ф. Сологуба мы встречаем не только создателя персонального мифа об Альдонсе-Дульцинее (чем он и привлекал всех, кто писал о «Дон Кихоте» на русской почве»)3, но и несомненного продолжателя традиций романа «сервантесовского типа» в русской прозе Серебряного века. Вместе с тем, сдвоенный сюжет «Творимой легенды» – при всей его эскизности и непрописанности4 – сюжет, выстроенный вокруг двух героев с перекликающимися именами – Триродов и Ортруда, – отнюдь не базируется на «донкихотовской ситуации», вполне освоенной Сологубом-поэтом5: Георгий Триродов, несомненный персонаж-книжник (он и является впервые читателю с томиком Оскара Уайльда в руках), поэт (но также – ученый-изобретатель, революционер, политический деятель), при всей силе его воображения, последовательно выступает как прагматик, предусмотрительный и расчетливый человек (он заранее предвидит поражение грядущего восстания и готовит «пути отхода», умело использует связи в высшем свете Петербурга, чтобы отсрочить уничтожение своего детища – детской колонии, разоблачает только еще замысленное преступление и т. д.): Триродов – не фантазер, а мудрец, обладающий сверхчеловеческими познаниями и техническими возможностями для того, чтобы воплощать мечты… нет, не мечты, а проекты – в жизнь. Напротив, фантастическая (и фантазийная) жизнь Ортруды (как и ее русского дублера – Елисаветы) проходит не под «диктовку» книжных впечатлений, а по зову плоти и по велению природных стихий.
Но это внешнее, функциональное, «двойничество» маскирует другое, более важное в смысловом плане – уже отмеченное «двойничество» Триродова и его предшественницы на королевском троне: трагическая жизнь романтической Ортруды должна претвориться в утопическое жизнетворчество мага-символиста.
В «Творимой легенде», как и в «Дон Кихоте», причудливо соседствуют самые разные, казалось бы, несовместимые, жанровые традиции: популярная в символистской культуре литературная сказка и политический памфлет, «научная» фантастика в духе Г. Уэллса и гимны Красоте, стилизованные под Оскара Уайльда, «босяцкая» новелла, имитирующая раннего Горького, и готический «роман тайн», утопия и эротическое шаманство, напоминающие о «Кубке метелей» Андрея Белого (опубликованного во время выхода в свет «Творимой легенды» – в 1908 году)… Но расположены эти разные области воображаемого в одной – горизонтальной – плоскости, в общем, повествовательном пространстве: история королевы-бунтовщицы Ортруды («Королева Ортруда») «вмонтирована» в мгновенное озарение, посещающее возлюбленную, а затем и жену Триродова Елисавету в миг пребывания между жизнью и смертью («Капли крови»); жизнь Елисаветы, в свою очередь, представлена как сон Ортруды о ее русской двойнице: обе жаждут свободы, достижимой лишь ценой апокалипсиса и личной гибели. В этом же онирическом пространстве (пространстве бессознательного), сотворенном волевым импульсом Автора-Демиурга, располагается фабульно объединяющая две первые части трилогии третья («Дым и пепел»). При этом – подчеркнем еще раз – мир фантазии и мир реальности, время сна и бодрствования, царство луны и владения солнца-змея, жанры сказки и сатирической повести о жизни русского захолустья структурно (иерархически) никак не со-противопоставлены: «Действительность и легенда у Сологуба не проникают друг в друга, а лишь перемежаются; сопоставление их схематично»6, – проницательно писал один из первых рецензентов «Навьих чар» (первоначальное название романа). Плоскостная композиция «Творимой легенды», впрямь, скорее схожа с «лоскутным одеялом» (по точному замечанию Лены Силард7), чем со сложной многоярусной конструкцией, модель которой была предложена Сервантесом.
Доказательством спонтанности авторского поведения Сологуба является, в частности, то, что «чужой» текст, которым продиктованы и сюжет трилогии (прежде всего, ее первой и третьей частей), и его «горизонтальное» развертывание, и ее двоящийся жанр – анти/роман воспитания эксплицитно никак не обозначен писателем. В «Легенде» фигурируют имена Уайльда и «Уэльса», Горького и «школьных» русских классиков… Но нет имени Гёте8. Хотя именно дилогия о Вильгельме Мейстере – в первую очередь «Годы странствий Вильгельма Мейстера», – наиболее вероятный предтекст трилогии, который так и не «вычислили» первые критики Сологуба, в том числе и такие доброжелательные и тонкие, как А. Измайлов9.
Конечно, общий природно-исторический фон, на котором разворачивается сюжет романов Гёте о Мейстере и сюжет «Творимой легенды», кардинально различны: у Гёте – мирная крестьянско-бюргерская жизнь гор и долин, обитатели которых (коли у них есть работа) заняты созидательным трудом; у Сологуба – революционные потрясения («Петр стал рассказывать о рабочих волнениях, о подготовлявшихся забастовках», утверждая, что «идет духовный босяк, который ко всему свирепо-равнодушен, который неисправимо дик, озлоблен и пьян на несколько поколений вперед» – 1, 27–28). «Годы странствий Вильгельма Мейстера»10 пронизывает вера Гёте (выраженная и во второй части «Фауста») в общественный, «свободный и целесообразный» (386) созидательный труд, в то время как Елисавета говорит о «свободном единении» людей лишь в контексте Апокалипсиса: «Я знаю, что мы, люди, на земле всегда будем слабы, бедны, одиноки, но когда мы пройдем через очищающее пламя великого костра, нам откроется новая земля и новое небо, – и в великом и свободном единении мы утвердим нашу последнюю свободу» (1, 31). Даже когда обитатели Скородожа объединяются, то образуется две толпы – революционная, самовольно и смело шествующая по улицам города в полной готовности «идти на казнь» (2, 122), и черносотенная, готовящаяся громить поместье Триродова. При этом вторая, «патриотическая», лучше организована, а первая, также нуждающаяся в вожде-водителе, в ответ на призыв Триродова отправиться вместе с ним на Луну свистит, шипит, топает и визжит…
Ни на Луну, ни далее Гёте своих героев никогда бы не отправил. Напротив, устами Монтана-Ярно, друга-наставника Вильгельма, он заявляет, что людям «нет нужды… удаляться за пределы нашей солнечной системы, – довольно не оставаться праздными» (там же). Для Триродова же и Елисаветы «землей обетованной» оказывается не просто Луна, куда можно долететь на сконструированном Триродовым межпланетном корабле-шаре, а достижимая лишь при помощи магического перемещения-сна, воспетая поэтом Сологубом планета Ойле, земля, освещенная «сладким, голубым светом» «дивной» звезды Маир («Все в этом мире было созвучно и стройно. Люди были, как боги, и не знали кумиров…» (2, 27)). Тема странствия, пути – жанрообразующая тема романов о Вильгельме Мейстере – сужена у Сологуба до мотива «прогулки» (сестер Рамеевых – Елисаветы и Елены – по окрестностям Скородожа да «тайных» прогулок королевы Ортруды по горам в окрестностях ее дворца11). Разве что упомянутое революционное шествие пародирует гётевскую тему пути-испытания героя (более проявленную в «Ученических годах…», чем в «Годах странствий…»).
Есть и другие примеры мировоззренческих (и сюжетных) расхождений Гёте и Сологуба – автора «Легенды», но совпадений – и фабульных, и тематических, а, главное, жанрово-композиционных – между гётевской дилогией и трилогией Сологуба не меньше, если не больше. Причем они легко выявляются даже на уровне микроповествования. Так, хронотопическим центром романов Гёте и «Творимой легенды» является таинственное обиталище (или ряд обиталищ) некой посюсторонней, но обладающей сверхчеловеческим могуществом благой силы, которая оказывается конкурентом христианского Бога и православной церкви у Сологуба и традиционных религий у Гёте. Это – Общество Башни (в «Ученических годах…»), именуемое в «Годах странствий…» Обществом Отрекающихся, незримый глава которого является посвященным в обличье Троих: с таинственными «Троими», а также с их посланниками встречается обязанный по обету менять местопребывание каждые три дня Вильгельм Мейстер, оказывающийся то в одном, то в другом поместье или замке. У Сологуба – и это очень в его духе! – тайное общество заменено героем-одиночкой Триродовым, живущим в поместье-крепости, окру женном белой стеной и увенчанном двумя высокими башнями.
К усадьбе ведет потайной подземный ход, по которому Елисавету и ее сестру Елену проводит в поместье Триродова его сын мальчик Кирша. Дом Триродова – хранилище знаков мировой цивилизации и культуры. «Много интересных вещей видели сестры в доме, – предметы искусства и культа, – вещи, говорящие о далеких странах и о веках седой древности, – гравюры странного и волнующего характера, – многоцветные камни, бирюза, жемчуг, – кумиры, безобразные, смешные и ужасные, – изображения Божественного Отрока, – как многие его рисовали…» (1, 24).
В четвертой главе первой книги «Годов странствий…» (а роман Гёте, состоящий из трех книг, также является своеобразной трилогией) Вильгельм и его сын Феликс держат путь к поместью некоего «крупного землевладельца, о чьем богатстве и чьих странностях им… много рассказывали» (38–39). Герои проникают в поместье через подземный ход, по которому их берется провести мальчишка Фиц. Стены барского дома, в котором оказываются Вильгельм и Феликс, увешаны географическими картами и изображениями различных примечательных городов и ландшафтов, являя собой земной шар в миниа тюре12.
Проход через подземный туннель – в обоих случаях начало пути, который проходят посвящаемые: у Сологуба – две сестры, у Гёте – отец и сын. Впрочем, у Триродова тоже есть уже упоминавшийся сын, не раз предстающий в роли возницы, дублируя тем самым повелителя коней – наездника Феликса. В свою очередь, Елисавета, переодевающаяся мальчиком, явно напоминает любимый образ Гёте – андрогина Миньон, символизирующего творческое начало бытия.
В поместье Триродова центральное место занимает сад13, а центром этого центра является фантастическая оранжерея – замаскированный под оранжерею летательный аппарат. Создатель «Творимой легенды», простодушно описывающий «техническое» устройство аппарата, в который превращается оранжерея, этакий Ноев ковчег, на борту которого спасаются жертвы разгрома революции 1905 года в финале трилогии, вместе со своим героем искренне любит «Уэльса» (равно как и Жюля Верна). Но в летательный аппарат было бы легче превратить что-то другое. Однако Сологубу была нужна именно оранжерея… Оранжерея в саду. Образ-символ, смысл которого – его аллегорическое развертывание – можно понять только в контексте зависимости «Творимой легенды» от текста-предшественника, от образа сада – доминантного символа всей прозы Гёте14.
В «Годах странствий…» цветущим миром-садом является сад Плодородия, окружающий поместье дядюшки жены Вильгельма Натали, и вся Педагогическая провинция, въехав в которую, Вильгельм и Феликс видят мальчиков и юношей, готовящихся «снимать богатый урожай, а то и справлять веселый праздник жатвы» (132). При этом «приезжий не мог не обратить внимания на благозвучный напев, который, чем дальше продвигались они вглубь страны, тем громче звучал им навстречу» (132). Сад Триродова также отдан в распоряжение работающих в нем и одновременно играющих, резвящихся, поющих детей-колонистов: «Сестры быстро шли по извилистой тропинке в ту сторону, откуда сильнее звучали детские голоса… Потом все это многообразие звуков стянулось и растворилось в звонком и сладком пении» (1, 11). Особая знаковая роль одежды (у Сологуба – также и отсутствие оной), трудовое воспитание, стремление развивать в ребенке природные задатки (с акцентом на их окультуривании у Гёте), отсутствие каких-либо следов авторитаризма и насилия в процессе формирования свободной личности (при том что свобода для автора «Мейстера» предполагает осознание своего места в порядке бытия) – эти и другие воспитательные принципы Гёте с неизбежными коррективами воссозданы в романе Сологуба. Правда, педагогическая утопия оборачивается в трилогии Сологуба черносотенным погромом, уничтожением усадьбы Триродова озверевшей толпой. Но Триродов и его близкие спасаются, чтобы начать все сначала на Соединенных Ост ровах, где – при всех недостатках тамошнего правления – педагогические идеи Триродова уже во многом воплощены в жизнь15. Сологуб и верит, и не верит (и эта двойственность присутствует во всем16) в конечную (в том числе и за пределами скучной земной жизни или жизни одного поколения17) осуществимость утопии, что, казалось бы, отличает его от Гёте, который – при всех сомнениях – верит в человека и в его способность приблизиться к своему идеальному («боже ственному») праобразу. В системе мировоззрения Сологуба идеальный человек – вовсе не идеален (в платоновском смысле слова): он – сплошь телесен и помещен в природе, в первобытном детском рае, который гибнет в процессе окультуривания, воспитания, загоняющего зверя, живущего в человеке, в подполье бессознательного. Русский «роман воспитания» вновь превращается в «роман антивоспитания» во всей двусмысленности этого словосочетания: «антивоспитанием» является и вся система русского школьного образования, сатирическому изображению которой на страницах «Легенды» (как и в «Мелком бесе») уделено немало места, но «антивоспитанием» – по отношению к традиционному нормативному воспитанию-муштре – является и вся сологубовская педагогика «обнаженного тела»18.
И далее повествование в трилогии Сологуба то почти дословно приближается к тексту романов Гёте о Мейстере, то далеко уходит от них. Так, если Гёте описывает праздник горнорабочих, подчеркивая мирное, созидательное мерцание огней их светильников в противоположность «извержению вулкана, чей искрометный грохот грозит гибелью целым областям» (227), то Сологуб в «Королеве Ортруде» изображает именно извержение, жертвой которого становится героиня. Это извержение, в свою очередь, сдублировано в развязке романа «Дым и пепел» – в сцене гибели в пожаре дома Триродова. Но гибель Ортруды – своего рода акт самозаклания – имеет тот же гностический «потайной» смысл, что и прохождение через огонь в романах Гёте19. Поджог дома Триродова – это лишь бессмысленный акт разрушения, демонстрирующий бессмысленность всяких попыток что-то изменить в судьбе Скородожа и всего мира, метонимически в нем отраженного.
Острова – средиземноморский рай, частично срисованный с Балеарских островов, могли бы заменить в трилогии Сологуба Италию – родину Миньон, духовную прародину Вильгельма-творца, общий отчий дом европейских народов (в «Годах странствий…» Вильгельм и его друзья какое-то время блаженно-счастливы в Италии на острове посреди горного озера): «В этой яркой стране сочетается фантазия с обычностью, и к воплощению стремятся утопии» (1, 199), – на этой ноте начинается рассказ о государстве Соединенных Островов у Сологуба. Но жизнь людей на Островах соединяют в себе два начала – средиземноморское и российское (выразителем последнего парадоксальным образом является германский принц Танкред – супруг Ортруды): российское – утопию разоблачает. Островная жизнь протекает не только в раю, но и на вулкане – и в буквальном, и в переносном смысле слова (Сологуб любит сюжетно разворачивать всякого рода литературно-журнальные штампы).
Разительнее всего механизм сближения / отталкивания двух художественных миров – Гёте и Сологуба – обнаруживает себя в подходе каждого из писателей к гамлетианской контраверзе – к теме смерти и теме бессмертия, друг без друга не мыслимых. Смерть в романах Гёте – даже если это смерть ребенка – Миньон, прекрасного мальчика Адольфа – естественна, но не безысходна. Она есть и – ее нет. Для Гёте бытие едино. И оно все – реальность, все – явь и все – жизнь. Погибающая красота претворяется в красоту творений рук человеческих. Взрослый, прошедший ученичество, «отрекающийся» Мейстер открывает для себя истину: «Кто жил, в ничто не обратится! // Повсюду вечность шевелится // Причастный бытию блажен…». Смерть – как частность – входит в порядок бессмертного бытия. Поэтому прошедший все стадии воспитания-посвящения человек может обрести бессмертие, совместившись с целым мироздания20. Кроме того, человек может противостоять смерти и в пределах своих, человеческих возможностей. Так, Вильгельм, потерявший утонувшего в реке друга, решает стать врачом-хирургом, чтобы научиться делать кровопускание, а в остальном полагается на «волю Божью».
Именно «волю Божью» и отказывается признавать Триродов, присваивающий себе власть и убивать (правда, ее он использует единожды, и то «условно», превратив приговоренного товарищами к смерти предателя Дмитрия Матова в кристалл21, из коего тот в любой момент может быть освобожден по воле мага), и воскрешать умерших. Но магия Триродова отнюдь не устраняет смерть из жизни, а лишь демонстративно стирает границу, разделяющую две – с точки зрения Сологуба (и его идейного наставника Шопенгауэра) – иллюзорно разделенные области бытия. Триродов (а вместе с ним его создатель) живут одновременно в мире живых и мире мертвых, соединенных «навьей тропой», в мире яви и в мире сна, в фантазии и в реальности, неслиянных, но и нераздельных: «Ужасен раздвоенный лик подлинного бытия» (1, 155).
Наконец, по-своему схожи и противопоставлены Авторы-творцы двух художественных миров. Поэт, герой стихотворения «Завет», помещенного в «Годы странствий…» после второй книги, – тот, «кто создает, толпе незримый, // своею волей мир родимый…» – чувствует себя причастным к благодати, к жизни во всех ее проявлениях. Он – не одинок и создает «мир родимый», неотделимый от жизни как таковой, чтобы свой дар «доверить братьям» (272). Поэт-Демиург, словами которого открывается трилогия Сологуба22: «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я – поэт» (1, 7), – воздвигает свою легенду для себя одного, подчиняя игре своего воображения все художественное пространство трилогии: городок Скородож на реке Скородень, как бы реальная российская провинция, на самом деле – такая же сказочная тьмутаракань, как Соединенные Острова, а Соединенные Острова столь же условно реальны, как и любое, отраженное в зеркале заграничной прессы, южно-европейское государство: в нем правят не имеющие реальной власти короли и королевы, министры плетут интриги, думают только об обогащении, а народные вожди готовят революцию. В зеркале Островов отражается Россия. В зеркале России – Острова. Они – рядом. В одном измерении бытия. Под звездой-драконом Солнце. Не под звездой Маир.
М. Бахтин в незаконченном труде, опубликованном под условным названием «Роман воспитания и его значение в истории реализма» (раздел «Время и пространство в романах Гёте»)23, писал о средневековом романе, которому хотел противопоставить реалистический «роман воспитания», одним из творцов коего стал Гёте – автор дилогии о Мейстере: «…потустороннее и фантастическое восполняло бедную реальность, объединяло и закругляло в единое целое клочки реальности. Потустороннее дезорганизовывало и обескровливало эту наличную реальность… Потустороннее будущее, оторванное от горизонтали земного пространства и времени, воспринималось как потусторонняя вертикаль к реальному потоку времени, обескровливая реальное будущее и земное пространство как арену этого реального будущего, придавая всему символическое значение, обесценивая и отбрасывая все то, что не поддавалось символическому осмысливанию» (224). Нельзя избавиться от ощущения, что эта бахтинская оценка средневекового рыцарского романа косвенно нацелена на роман символистский, на «Творимую легенду» прежде всего. То есть она по-своему также иносказательна, аллегорична.
Как аллегоричен архижанр «мениппея» (вот уж где мир выстроен не столько по горизонтали, сколько по вертикали!), в том числе его образцовое воплощение – комический эпос Рабле, который сам автор представлял читателю следующим образом: «А случалось ли вам видеть собаку, нашедшую мозговую кость?. По примеру вышеупомянутой собаки вам надлежит быть мудрыми, дабы унюхать, почуять и оценить эти превосходные, эти лакомые книги… После прилежного чтения и долгих размышлений вам надлежит разгрызть кость и высосать оттуда мозговую субстанцию, то есть то, что я разумею под этим пифагорейским символом, и вы можете быть совершенно уверены, что станете от этого чтения и отважнее и умнее, ибо в книге моей вы обнаружите совсем особый дух и некое, доступное лишь избранным учение, которое откроет вам величайшие и страшные тайны…»24.
Разве не та же установка пронизывает и дилогию Гёте, воплощаясь в «Годах странствий…» в «пифагорейском символе» ларца, найденного Феликсом в глубине горной пещеры25? Ведь роман Гёте (здесь Бахтин вынужден сделать существенную оговорку) «все еще включает в себя символические и утопические элементы» (227). А также аллегорические – и не «элементы», а развернутые повествовательные конструкции.
Уже цитировавшаяся нами И. Н. Лагутина, известный русский специалист по Гёте, подчиняющая свой анализ прозы Гёте гётев скому же пониманию «символа», гётевскому методу воссоздания прафеноменов и отвергающая – вместе с Гёте – аллегорический модус повествования, не случайно готова вообще вывести «Годы странствий Вильгельма Мейстера» из собственно романной традиции26: ведь, как было показано на предыдущих страницах этой книги, символ как таковой, как вещь-знак, как осколок вечности, случайно ввергнутый в поток времени, не может быть основой для построения сколь-нибудь развернутого романного сюжета27. Иное дело – аллегория. Сформулированная уже цитировавшимся нами современником Гёте Ф. Кройцером концепция аллегории, реабилитированная и возрожденная в XX веке Г. К. Честертоном и С. К. Льюисом, В. Беньямином и Х. Л. Борхесом, Х.-Г. Гадамером и А. Флетчером, для понимания жанра последнего романа Гёте может иметь не меньшее значение, чем символическое учение самого писателя, который, начиная с 1797 года настойчиво – по разным параметрам – противопоставлял символ аллегории и всякий раз не в пользу последней. А – параллельно – создавал романы, нарративная целостность которых может быть смоделирована лишь на базе аллегорического модуса воссоздания действительности, парадоксального сочетания мимесиса и иносказания28, реализма и фантастики, подчеркнутой (визуально-зрелищной) изобразительно сти и концептуализма.
Конечно, можно, опираясь на герменевтические прозрения В. Эмриха, видеть запечатленную целостность «Годов странствий…» в «центральном символе» произведения – ларце (шкатулке) и утерянном ключе к нему, которые разворачиваются в миф о «тайном знании». Можно в аналогичном ключе (невольный каламбур!) исследовать все опорные пространственные образы-символы «книги-текста» Гёте, что успешно осуществила И. Лагутина в поисках «символической реальности» Гёте. Но в таком случае роман «Годы странствий…» так и останется «книгой-текстом»29, местом, куда престарелым писателем свалено все неопубликованное30. Книгой, в которой нет почти ничего от романа становления, тем более от романа воспитания, столь выразительно описанного Бахтиным: «Все, что он (Гёте. – С. П.) видел, он видел не «sub specie aeternitatis» («под углом зрения вечности»), как его учитель Спиноза, а во времени и во власти времени. Но власть этого времени – продуктивно-творческая власть. Все – от отвлеченнейшей идеи до осколка камня на берегу ручья – несет на себе печать времени, насыщено временем и в нем обретает свой смысл и форму. Поэтому все интенсивно в мире Гёте: в нем нет мертвых, неподвижных, застывших мест, нет неизменного фона, не участвующей в действии и становлении (в событиях) декорации и обстановки…» (223). Образ Гёте-прозаика у Лагутиной диаметрально-противоположен: «…время, спресованное в камень, обретает форму пространства… Новалиса интересует временной процесс. Гёте же – пространство, которое всегда можно охватить единым взглядом и которое он всегда отчетливо структурирует»31.
Не углубляясь в коллизию двух антагонистичных подходов к поэтике Гёте (и не имея полного текста погибшей книги Бахтина), отметим, что интересующий нас «воспитательный роман» – «Годы странствий…» – имеет мало общего со столь важной для Бахтина темой становления личности: усложнение образа главного героя в последнем романе Гёте идет за счет его «умножения» в персонажах-двойниках (Феликсе, Ярно, Леонарде, Макарии…), с одной стороны, и ценой все большего «срастания» с образом Автора, с другой: «Годы странствий…», как и «Творимая легенда», и по той же причине (помятуя о лекции Бахтина), – текст незавершенный, незакругленный. Целостность последнего романа о Мейстере – и здесь И. Лагутина безусловно права – во многом держится на пространственных образах-символах. Но к этим образам-символам – воспользуемся на сей раз ивановским образным анализом композиционных принципов Достоевского – «подвешены» цепочки интриг, событийные ряды, как уже говорилось, немыслимые вне «времени рассказа» (П. де Рикер). Концепция «книги-текста», дала исследователю право, сосредоточившись лишь на знаковых, символических перемещениях Вильгельма и его сына в пространстве повествования, мысленно «убрать» из «Годов странствий…» без ущерба для их «символического» целого как все «вставные» истории, так и собрания афоризмов, письма-документы, образ Автора-редактора текста, его собирателя и издателя. Хотя по сути дела эта же концепция, в свое время примененная А. В. Михайловым к барочному «энциклопедическому» роману, выявляет наличие в барочных авантюрных вымыслах мощного аллегорико-дидактического, «учительного»32 начала.
Рассматривая Гёте-прозаика в контексте истории европейской наррации раннего Нового времени (после Гёте оно станет зрелым Новым временем), мы можем оценить «Годы странствий…» как роман, соединивший в себе черты аллегорического эпоса (в том числе и аллегорической прозы и поэзии XVII–XVIII веков) со «свободной» прозой Стерна33 и стоящего за Стерном Сервантеса: ведь именно из Первой части «Дон Кихота» Гёте заимствовал композиционную идею – совместить основную сюжетную линию – ритуальное (совершаемое по обету) странствие героя (героев) – с так называемыми «вставными» историями. Но Гёте, по всей видимости, знал и последний роман Сервантеса – «Странствия Персилеса и Сихизмунды»34, значительно более популярный среди компатриотов-современников, чем «Дон Кихот», и высоко ценимый в XVIII столетии во всех странах, кроме раннебуржуазной, уже очень продвинутой в литературном отношении, Англии. «Персилес» – аллегорический роман-странствие, включающий в себя и тему «воспитания принца», и тему утверждения христианства в среде народов-варваров, и политическую утопию, и новеллистические истории, и особый раздел «Афоризмы странников»… Гёте – автор «Годов странствий…» по сути дела соединил две жанровые традиции раннего Нового времени (обе – связаны с именем Сервантеса): аллегорический роман странствий (испытаний), одним из первых образцов которого в Европе стал «Персилес»35, и первый «свободный», игровой, диалогический метароман – «Дон Кихот». Обе жанровых линии соединила тема странствия-испытания: как идеи, которой одержим герой, так и самого героя. По мере развития сюжета странствие превращается в путь самопознания героя и познания им окружающего мира, путь, приводящий личность к разочарованию или/и к обретению себя в границах предустановленного целого, расположенного у Гёте целиком и полностью в границах земного мира. Неслучайно аллегорическим образом Космоса в «Годах странствий…» – и здесь Гёте очевидно ироничен – является… парализованная пожилая дама Макария (тетушка его жены Натали), передвигающаяся лишь с чужой помощью в кресле-каталке – естественно, именно по плоскости.
И Бахтин по-своему прав, когда противопоставляет Гёте-«реалиста» «средневековому» (и не только!) символическому romance36. Так как хронотоп прозы Гёте – и мир гор, и мир долин – в конечном счете распластывается на плоскости (географические карты!) пути героя – с сохранением отдельных вертикальных подвесок-тяг (образы сада, гранита, огня, плавания и т. д.). Романы Гёте – именно романы! – произведения и символико-аллегорические (но не символистские), и реалистические одновременно, помятуя о том, что аллегория сама по себе предполагает наличие развернутого изобразительного плана.
О горизонтальной композиции «Творимой легенды» мы уже говорили. Вместе с тем, все исследователи и критики прозы Сологуба говорят о «двупланности» его мира. «Ведение повествования в двух планах» (305) как отличительная черта прозы Сологуба подчеркнута и в лекции Бахтина. Тут же основной «тематической установкой» Сологуба называется установка на изображение «двупланности бытия», а именно – мира действительности и мира мечты. Но мир «тусклой обыденности» и «мир мечты» – у Сологуба не повествовательные планы как таковые (ракурсы изображения), а противоположные области изображаемого37, такие, к примеру, как Россия и Соединенные Острова, как город Скородож и поместье Триродова, как мир живых и мир мертвых, мир, сжигаемый Солнцем-Драконом и мир подлунный, планета Земля и планета Ойле и так далее. Но все они – подчеркнем еще раз – сведены в единый повествовательный план и включены в двусоставный повествовательный дискурс, каждый элемент которого двусмысленен, так как входит в дополняющие и опровергающие друг друга контексты: «На переломе двух эпох горела ее жизнь факелом, горящим напрасно… Высшие классы жадно цеплялись за то, что оста лось от их ветхих привилегий» (1, 200–201).
Перед нами – не романтическое противопоставление мира мечты и мира реальности, но их аллегорическое (метафорическое) отождествление (каждый – иносказание по отношению к другому), двусоставная конструкция, в которой означающее и означаемое с легкостью меняются местами38. И происходит эта игра означающих-означаемых под знаком гностического отождествления Добра и Зла. Перед нами – мир двойников и героев-диаволистов39: именно они, по мысли А. Флетчера40, являются классическими героями аллегорического повествования, расцвет которого пришелся на первые века Нового времени – на эпоху Барокко и век Просвещения, к которым Сологуб-прозаик явно тяготел. Тому доказательство – не только его внимательнейшее прочтение символико-аллегорических романов Гёте, но и его блестящий перевод пародийно-аллегорического «Кандида», и стилевая ориентация на прозу Карамзина.
Будучи прямой противоположностью роману реалистическому41, «символистский» аллегорический роман в лице Сологуба – и не его одного! – возвращается к «роману» раннего Нового времени, в том числе и к «масонскому» аллегорическому роману, представителем коего в «Творимой легенде» выступает великолепнейший маркиз Телятников, к барочным, классицистическим и барочно-классицистическим аллегорическим поэмам, к которым примыкает проза Гоголя, столь ценимая символистами.
Да и другие так называемые «символистские» романы (и «повести») в своем большинстве – это романы-аллегории, что убедительно показано Леной Силард на примере исторических романов В. Брюсова42. Ведь очевиднее всего аллегорическое начало проявилось именно в творчестве символистов «первого» поколения (в «диаволическом символизме», по классификации А. Ханзен-Леве43), а также у тех, кто пришел символистам 1900-х годов на смену, – у так называемых «новых реалистов» и их преемников – постсимволистов, обратившихся – вслед за Сологубом – к одной из древнейших жанровых разновидностей аллегорического дискурса – утопии / антиутопии, а также к его новейшим рановидностям – «научной» фантастике, просто фантастике и детективу44. У всех у них – и у Евг. Замятина, и у А. Толстого, и у М. Шагинян, не говоря уже об Андрее Платонове и М. Булгакове45, можно найти немало отголосков из трилогии Сологуба, буквально растворившейся в капиллярах русской прозы XX столетия. Так, зеленая планета Ойле станет у А. Толстого высохшим Марсом, Триродов раздвоится в Мастере и Воланде, напротив, королева Ортруда и Елисавета сольются в образе Маргариты, бал мертвецов в поместье Триродова превратится в бал у Воланда, Божественный Отрок, чей образ поразил Елисавету во время ее первого посещения дома Триродова, в романе Замятина «Мы» превратится в бога вечного становления Мефи.
Примечания
1 Первоначально трилогия, состоящая в окончательном виде из трех частей-романов – «Капли крови», «Королева Ортруда», «Дым и пепел», – выходила отдельными частями в 1907–1913 годах. и состояла из трехчастного романа «Навьи чары» («Творимая легенда», «Капли крови», «Королева Ортруда»), публиковавшегося в альманахе «Шиповник» с 1907 по 1909 годы, и романа «Дым и пепел», опубликованного в двух выпусках сборника «Земля» в 1912–1913 годах. В существенно переработанном виде все эти тексты, собранные в три части, под общим названием «Творимая легенда» были опубликованы в составе Собрания сочинений Сологуба в 1914 году. Далее «Творимая легенда» цитируется по сориентированному на издание 1914 года. двухтомнику, подготовленному С. Соболевым и вышедшему в 1991 году. в издательстве «Художественная литература». Помимо трилогии, в издание вошли статьи Сологуба, идейно связанные с содержанием трилогии, и некоторые биографические материалы. Цитируемые тома и страницы этого издания приводятся в тексте главы.
2 Бройтман С. Н. Федор Сологуб // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). Кн. 1. ИМЛИ РАН. М.: Наследие. 2000. С. 920–921.
3 См. главу «Миф о Дульцинее в творчестве Сологуба» в кн.: Багно В. Е. «Дон Кихот» в России и русское донкихотство. Указ. изд.
4 «Законченной фабулы в романе нет, – говорил М. Бахтин в лекции о Сологубе, где „Творимой легенде“ уделено особое внимание, – есть лишь переброски, нервность, разбитость многих планов (думается, что слово „план“ здесь обозначает отдельную сюжетную линию. – С. П.). И даже внутри отдельных планов – резкие переходы, незаконченность» (Бахтин М. М. Собрание сочинений. Т. 2. М.: Русские словари, 2000. С. 310).
5 Показательно в этом смысле одно из первых стихотворений Сологуба – «В мечтанья погруженный, / По улице я шел…», открывающее издание стихотворений Сологуба в «Библиотеке поэта» (Советский писатель (Ленингр. отд.), 1979. С. 77–78).
6 Цитир. по кн.: Баран Х. Поэтика русской литературы начала XX века. М.: Издательская группа «Прогресс» «Универс», 1993. С. 244.
7 Силард Л. Поэтика символистского романа конца XIX – начала XX века. (В. Брюсов, Ф. Сологуб, А. Белый) // Проблемы поэтики русского реализма XIX века. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1984. С. 274.
8 Из известных нам критиков «Творимой легенды» о Гёте вспоминает только Бахтин: «Понимание социальной жизни как маскарада роднит Сологуба с Гёте» (Бахтин М. М. Указ. соч. С. 313), – говорил Бахтин в лекции о Сологубе, правда, не уточняя, о каком Гёте идет речь: о Гёте – авторе «Фауста» или о Гёте-прозаике, но, скорее всего, и о том, и о другом. Бал-маскарад в поместье Триродова в честь маркиза Телятникова («Дым и пепел»), на который приглашены и живые, и мертвые, является причудливым соединением мотивов «Фауста», «Мертвых душ» и «Бобка».
9 См.: Баран Х. Указ. соч. «…Именно отсутствием изначальных жанровых ориентиров отчасти объясняется сопротивление читателей сологубовскому „смешению стилей“» (там же, 245), – справедливо констатирует американский русист.
10 Роман «Годы странствий Вильгельма Мейстера, или отрекающиеся» в переводе С. Ошерова цитир. по изд.: Гёте И.-В. Собрание сочинений. Т. 8. М.: Художественная литература, 1979. Цитируемые страницы приводятся в тексте главы.
11 Во второй книге романа «Годы странствий…» рассказывается о том, как Общество Отрекающихся или Башни организует эмиграцию безработных в Америку. Напротив, путь в Америку для королевы Ортруды закрыт: «Дымок парохода вился над морем. Океанский пароход. – Куда? – В Нью-Йорк, с эмигрантами. Ах, на нем бы уплыть далеко!» (1, 310).
12 Интерьер дома Триродова стилизован и под Залу Прошедшего из «Годов учения Вильгельма Мейстера».
13 «Сестры шли… и любовались садом, – его деревьями, лужайками, прудами, островками, тихо-журчащими фонтанами, многоцветною радостью цветущих куртин…» (1, 23).
14 Об этом и других символических образах в прозе Гёте см.: Лагутина И. Символическая реальность Гёте. М.: Наследие, 2000.
15 См.: Указ. изд. Т. 1. С. 225.
16 См. знаменитое «авторское отступление» в духе Гоголя о двух истинах и двух женах в «главе семьдесят восьмой».
17 «Вы, рожденные после нас, созидайте»: этим призывом открывается «Королева Ортруда».
18 «Королева Ортруда сказала с мечтательною улыбкою: – О чем я мечтаю всегда, это о воспитании суровом и прекрасном. – Путь сурового и прекрасного воспитания один, – сказала Афра, – в простодушной телесной наготе» (1, 397).
19 О мотиве огня (пожара) в «Годах учения» см.: Лагутина И. Указ. соч. С. 156.
20 Подробнее об отношении Гёте к смерти см.: Лагутина И. Указ. соч. С. 196 и сл.
21 О роли мотива камня / кристалла у Гёте см.: Лагутина И. Там же. С. 207 и сл.
22 Нам представляется неубедительной попытка С. Н. Бройтмана развести и даже противопоставить, с одной стороны, автора «Творимой легенды» (т. е. самого Сологуба-писателя) и Автора-субъекта «лирических» вступлений к каждой из частей трилогии, а также ряда лирических отступлений, и этого, последнего, Автора и главного героя, с другой. От Триродова автор, по мнению Бройтмана, якобы, иронически дистанцируется. Думается, здесь прав М. Бахтин, говоривший о Триродове как о герое, которого «завершить нельзя», потому что «в нем живет автор» (Бахтин М. Указ. соч. С. 310).
23 Цитир. по первоизданию: Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. Цитируемые страницы указаны в тексте.
24 Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. М.: Художественная литература, 1966. С. 42–43.
25 Своего рода тайну-загадку хранит и пещера-грот в «Королеве Ортруде», вход в который охраняет шифр с тайным, вторым, именем королевы. Правда, тайной-загадкой грота оказывается не ларец или шкатулка, а целая подводная лодка, явно переплывшая на страницы трилогии Сологуба из «Таинственного острова» Жюля Верна, тоже ведь погибающего при извержении вулкана.
26 «…Только условно мы называем этот текст «романом», настолько уникально его построение…» (Лагутина И. С. 16).
27 См. главу «Символистский роман: между мимесисом и аллегорией».
28 Символ – не иносказание: он – нетранзитивен. Он вообще не знак, а явленный смысл, вещь-идея, прафеномен.
29 Это жанровое определение И. Лагутина заимствовала у А. В. Михайлова – автора труда «"Западно-восточный диван" Гёте: смысл и форма».
30 История создания и публикации романа освещена в послесловии А. А. Аникста к цитируемому нами изданию, где, в частности, предпринята, хотя и не до конца реализованная, попытка охарактеризовать «Годы стран ствий…» как роман, хотя и очень своеобразный. Как нам представляется, никакое своеобразие или оригинальность неопределимы без выяснения традиции, которую произведение продолжает или разрушает.
31 Лагутина И. Там же. С. 227, 229.
32 Заимствуем это слово из работ С. А. Гончарова о Гоголе: оно, на наш взгляд, значительно точнее слов «назидательное», «дидактическое», «проповедническое», «риторическое» и т. п.
33 Неслучайно именно Стерн является предметом восхищенных размышлений Макарии – символического пространственного центра романа.
34 «Странствия Персилеса…» были дважды переведены на немецкий язык – в 1782 и 1789 годах. Гёте, по всей очевидности, читал не только «Дон Кихота», но и «Персилеса» (см.: Endress H. P. Goethe y Cervantes // Iberoromania. 1999. 50).
35 Другой не менее влиятельный и популярный у современников «роман» такого типа – латинский «Аргениус» Дж. Баркли и созданный с ориентацией как на Баркли, так и на Сервантеса «Критикон» Бальтасара Грасиана. Есть и другие примеры, также прославленные: «Странствия» М. Пинту или «Путь паломника» Дж. Бэньяна.
36 Впрочем, и средневековые «ромэнс» также аллегоричны. Аллегоризм не отвергает «натурализм», жизнеподобие, красочность, живописность, чему доказательством может служить хотя бы «Божественная комедия».
37 Ясно, что, говоря о «двупланности» и даже о многоплановости «Творимой легенды», Бахтин имеет в виду наличие в ней множества сюжетных линий, соотнесенных с разными жанровыми точками зрения на мир.
38 «В отличие от мифопоэтического символизма с его амбивалентностью танатоса и Эроса…, – отмечает А. Ханзен-Леве, – в диаволике эстетизма смерть и красота тождественны, и вообще, каждый элемент поэтического мира эстетизма одновременно означает свою противоположность» (Ханзен-Леве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1999. С. 46).
39 Сатанизм Триродова вполне выявляется в сцене его встречи с «князем Давидовым». Мотив служения Люциферу не раз возникает в связи с образами Елисаветы и Ортруды. О диаволизме «старших» символистов и Сологуба, в первую очередь, см.: Ханзен-Леве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм. Указ. изд. См. также в статье Д. В. Токарева «Михаил Булгаков и Федор Сологуб» («Русская литература». 2005. № 3), которую мы не учли при подготовке статьи о Сологубе для публикации в периодическом издании.
40 См.: Fletcher А. Op. cit.
41 Неслучайно Гёте-романист, да и Гёте-создатель второй части «Фауста» нашел в русской культуре времен утверждения русского реалистического романа прохладный прием. «К этому времени (к середине 1850-х годов. – С. П.) равнодушное или отрицательное отношение к «Вильгельму Мейстеру» (имеются в виду и «Годы ученичества…», и «Годы странствий…». – С. П.) становится у русских читателей едва ли не всеобщим», – отмечает В. М. Жирмунский (Жирмунский В. М. Гёте в русской литературе. Л.: Наука, 1982. С. 382–383), приводя, в частности, следующий отзыв Дружинина на оставшийся незаконченным перевод «Годов ученичества…», предпринятый Ап. Григорьевым (1852): «…
Сколько ни хлопочут толкователи, но негерманская публика никак не уживется с этим морем мистицизма и аллегорий, с этими признаниями прекрасных душ, с этими событиями, происходящими не на земле, в где-то вне места и времени, не в человеческой среде, а в каком-то странном мире грез предрассветных…» (там же, 381). Оценка Дружинина – свидетельство того, что русские читатели Гёте прекрасно понимали аллегорическую природу его романических повествований.
Она же объясняет, почему Сологуба могли привлечь «странные» «Года странствий…», полный русский перевод которых был опубликован в собрании сочинений Гёте под ред. Гербеля в 1876 году. Если сравнить отзывы русских критиков о «Мейстере» и отклики на трилогию Сологуба, то характеристики обоих романов (зачастую очень точные – невзирая на оценки) совпадают почти дословно.
42 «…И прошлые, и предполагаемые будущие миры у Брюсова – лишь костюмы, в которые настойчиво облекается одна проблема…», – пишет Л. Силард (Указ. соч. С. 267) о Брюсове – авторе не только исторических романов, но и фантастических повестей и рассказов: точнее суть аллегорического дискурса не охарактеризуешь. См. также ее краткую, но выразительную оценку аллегорических «романов идей» Мережковского: «Мережковский направляет читательский интерес целиком на фабулу и скрытый в ней грубо понятийный уровень» (там же, 268).
43 См.: Ханзен-Леве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1999. Характерно, что С. Бройтман проницательно отмечает аллегоризм и риторичность поэзии Надсона – одного из учителей Сологуба, а также то, что «чертами риторики и аллегоризма» отмечены многие стихотворения молодого Сологуба (см.: Бройтман С. Н. Указ. соч. С. 885), но затем последовательно, на наш взгляд, не вполне правомерно, выводит символиста Сологуба из сферы аллегорического дискурса.
44 О детективе как жанровой разновидности аллегорического модуса пишет А. Флетчер (см.: Fletcher A. Op. cit.).
45 Это было давно замечено Л. Силард (см.: Силард Л. Указ. соч.). См. также указ. статью Д. В. Токарева, блестяще доказавшего очевидное влияние «Творимой легенды» на «Мастера и Маргариту».
«Мы» Евг. Замятина: Мефистофель и Андрогин
Полное заглавие известного труда Мирча Элиаде, часть которого мы использовали для названия этой главы, – «Мефистофель и Андрогин, или тайна целостности»1. Как известно, в нем Элиаде исследует мифорелигиозные (космогонические и ритуальные) истоки глубоко укорененных в сознании (точнее, в бессознательном) всех народов представлений об исконной связи Бога и Дьявола, о сотрудничестве Добра и Зла, о совпадении противоположностей (coincidentia oppositorum) как трансцендентной тайне Бытия и Творения. Параллельно Элиаде реконструирует существовавший у многих народов и в эзотерических учениях средневековой и постренессансной Европы (вплоть до эпохи романтизма) миф об Андрогине, совершенном человеке, соединившем в своей природе оба пола, духовное и телесное начала, все знания о посюстороннем и о потустороннем мирах. Образ Мефистофеля как сотрудника Бога и образ Андрогина обнаруживают, в трактовке Элиаде, присущее человеку «желание обрести утраченное Единство», «осознать противоречия как взаимодополняющие аспекты реальности»2. Для иллюстрации жизнеспособности древней космогонии и андрогинного мифа румыно-американский мыслитель обращается к двум произведениям европейской литературы Нового времени – к «Фаусту» Гёте и к «Серафите» Бальзака. А мог бы обратиться к еще одному тексту, в котором образы Мефистофеля и Андрогина, воплощающие «тайну целостности» Бытия и раздвоенности человеческого существования, сведены в едином художественном пространстве, – к роману Евг. Замятина «Мы» (1921)3, впервые опубликованному на английском языке в 1924 году «Тайна целостности» является жанрообразующей темой антиутопии Замятина. Иными словами, она определяет и проблемно-тематическое поле повествования, и его художественную структуру. Хотя именно художественное – а значит жанровое – единство «Мы» критика прежде всего ставила под сомнение.
Конечно, никто не сомневается в том, что «Мы» продолжает древнейшую, восходящую, если не к Гесиоду и Гомеру, то к «Государству»
Платона и к «Утопии» Т. Мора, жанровую традицию, позиционируя себя по отношению к ней в качестве «антижанра»4 – антиутопии. В частности, в отличие от утопии, «Мы» – не просто назидательно-прагматическое описание сконструированного авторским воображением мира, но и сюжетно-организованное повествование5. В то же время многие, и весьма квалифицированные, читатели «Мы» – начиная с Ю. Н. Тынянова6 – романическую «составляющую» «Мы» отвергают или просто игнорируют: любовно-конспирологический сюжет антиутопии Замятина в их представлении – лишь условная «форма», позволяющая автору встроить сатирический памфлет7 в привычные для читателя координаты беллетристического вымысла.
Поэтому, чтобы понять «Мы» как художественное целое, прежде всего необходимо уничтожить границу, разделяющую в сознании читателей и критиков роман Замятина на утопический / антиутопический дискурс – «строгую и стройную математическую поэму в честь Единого Государства» (согласно жанровому замыслу героя-повествователя «Мы», фигурирующего под обозначением Д-503), и на «фантастический авантюрный роман» (согласно его же определению). Такой подход предполагает прочтение романа Замятина не только в его социально-культурном окружении, но и в историко-поэтологической перспективе. Дальней, иноземной, в которую может быть включено множество текстов – от гностических апокрифов до столь любимого писателем Анатоля Франса8, – и ближней, родной: как известно, замятинский шедевр органически встраивается в линию развития «фантастического реализма», идущую в русской литературе от «Медного всадника» и «Пиковой Дамы» через Гоголя и Достоевского к Андрею Белому, чье влияние на творчество Замятина неоспоримо9, равно как и в линию развития русского «романа сознания».
Правда, говоря о Белом и Замятине, исследователи прежде всего отмечают бросающиеся в глаза следы влияния на роман «Мы» беловского «Петербурга». Оно сказывается и в описании Города-государства, и в противопоставления Города и дикого мира за Зеленой Стеной (центр Петербурга – острова у Белого), и в образе Благодетеля («сколка» с сенатора Аблеухова), и в заговорщической атмосфере, разлитой в воздухе повествования… Но если обратиться к авантюрно-любовной фабуле романа Замятина, то на ум приходит совсем иное творение Белого – повесть «Серебряный голубь», о которой вспоминают значительно реже. И в том, и в другом произведении – попытаемся воссоздать объединяющую оба текста фабульную линию – герой, принадлежащий некоему упорядоченному «аполлоническому» миру, имеющий в нем свою женскую пару (невесту, возлюбленную, сексуальную партнершу), подвергается соблазну со стороны женщины – носительницы стихийно-оргиастического, дионисийского начала бытия (роль антитезы аполлоновское / дионисийское для организации художественного мира «Мы» на всех его уровнях – от жанрово-тематического до дискурсиво-стилевого, как показывают современные исследования, поистине огромно). Подчиняясь зову стихийной, животной силы, «зову пола», герой покидает упорядоченный мир и приобщается к миру хаоса, более того, готов идти к нему в услужение. При этом он оказывается инструментом осуществления некоего заговора, который затеян силами хаоса, восставшими против порядка, и обречен жертвенной гибели: правда, Д-503, в самоубийственном порыве направляющий свой Интеграл в землю, не достигает желаемого, в то время как сектанты-убийцы, явившиеся на призывный крик Петра Дарьяльского, совершают над ним свой кровавый обряд. Но и роман Замятина – в той мере, в которой его сюжет может считаться законченным, – завершается фактической гибелью Д-503, смертью его «я» в результате лоботомии.
Впрочем, различие между условным окончанием «Мы» и финалом «Серебряного голубя» действительно существует, но не на фабульном уровне (сходство фабул10 должно подчеркнуть различие позиций), а на уровне сюжетно-композиционном – в подходе к жанровому завершению художественного целого. У Белого крестная смерть Петра является залогом восстановления и продолжения жизни космоса, у Замятина – завершения как такового нет, а есть иронически-уклончивое нагромождение отрицания отрицаний, дурная бесконечность: заговор Мефи разоблачен, но революция продолжается, а повествователь «под занавес» выражает веру в победу «разума». В свой черед «победа разума» завершит начатый постройкой «Интеграла» процесс интеграции вселенной, огораживания Стеной всего космоса, то есть создание космической замкнутой системы, что влечет за собой – в согласии со вторым законом термодинамики – ее «тепловую смерть». Условное завершение романа Замятина абсурдистски-безысходно, бессмысленно, в то время как финал «Серебряного голубя» просветленно-трагичен.
Именно по этой линии разворачивается творческий спор Замятина с Белым – создателем «Серебряного Голубя», и шире – с русской культурой Серебряного века в целом, представленной и такой ключевой фигурой, как Вяч. Иванов11. Замятин, как и Белый в «Серебряном голубе»12, активно разрабатывает дионисийскую тему в ее трактовке, предложенной Вяч. Ивановым13, в то же время существенно корректируя утопическую символистскую теософию преображения мира и Человека.
«Дионису, богу нисхождения и потому уже скорее "герою", чем "богу", на роду написаны вечно обновляющаяся страстная смерть и божественное восстание из гроба» (57), – писал Вяч. Иванов в своем труде «Дионис и прадионисийство»14, создававшемся практически одновременно с «Мы», но подводившем итоги его многочисленных разысканий 1910-х годов, очевидно, Евг. Замятину известных. «Дионису, – читаем там же, – нетрудно было прослыть… дважды рожденным, потому что он был вообще двойственным… – подземным и надземным, младенцем и ярым быком, преследуемым и преследователем, жертвой и жрецом» (93). Дионис у Вяч. Иванова – и «виновник изначальной индивидуации» (168), и «божественное всеединство Сущего в его жертвенном разлучении и страдальном пресуществлении во всевеликое» (312).
Мечтой о «божественном всеединстве сущего» как о законе, распространяемом и на человеческое общежитие пронизана русская культура Серебряного века. Замятин и наследует, и исследует эту мечту, делая ее предметом экспериментально-художественной проверки.
Опираясь на собственный исторический опыт, большинство русских читателей и критиков «Мы» воспринимают антиутопию Замятина прежде всего как протест против гибели личности под пятой тоталитарного государства, воплощенного идеала Великого Инквизитора, большинство западных – как отрицание «прекрасного нового мира» – обезличивающей человека индустриально-городской цивилизации (и это прочтение, несомненно, имеет свои резоны)15. Но мало кто готов признать, что автор «Мы» озабочен судьбой «целого» не менее, чем судьбой «отдельного», и что эта озабоченность роднит Замятина с его героем Д-503: и герой-повествователь, и создатель романа «Мы» (в той степени, в которой герой романа сближен со своим творцом) оказываются перед лицом неразрешимой в рамках атеистического сознания коллизии, имеющей не столько личный или социально-исторический, сколько онтологический смысл.
Одинокое «я» не в силах противостоять смерти и энтропии как природному, физическому началу бытия: для эктропического (П. Флоренский) противодействия энтропии требуются солидарные усилия организованного человечества. Аполлонийское начало – в качестве принципа ограничения, оформленности, расчисленности бытия – в романе Замятина регулирует существование Единого Государства, превращающего всех своих подданных в безликие, во всем друг другу подобные «нумера».
Но целое, сплоченное ценой обезличивания отдельных «я» – выравнивания социума, целое, дошедшее до стагнирующего благоденствия, – тоже является полем действия энтропии и обречено на апокалиптический финал. Можно искать защиты от всепобеждающей энтропии в перманентной революции, в непрестанном обновлении мира, в гётевской идее «вечного становления», в «скифской» патетике «вечного боя»: «Летит, летит степная кобылица…». «Там – по зеленой пустыне – коричневой тенью летало какое-то быстрое пятно… По грудь в траве, взвеяв хвостом, скакал табун коричневых лошадей, а на спинах у них – те, караковые, белые вороные…» (661). Но революция, подготавливаемая усилиями одиночек-еретиков, в конечном счете оборачивается торжеством не «я», а «мы», победой репрессивного – энтропического целого…
Что остается романтическому еретику-бунтовщику? Готовить новую революцию, которая продвинет человечество хоть немножечко вперед. Куда «вперед»? Идея исторического прогресса, сформулированная эпохой Просвещения (в России «просветительский» миф оставался неизжитым и на протяжении почти всего XX века) – отвечала на этот вопрос просто: от дикости – к цивилизации. Но сами революции при этом ввергают народы в состояние первобытной дикости, о чем свидетельствуют и страницы «Мы», и такие рассказы послереволюционного Замятина, как «Пещера». И уже Городу – Единому Государству – приходится ограждать свой сакральный центр от «хаоса, рева, трупов» – ограждать «стеной из высоковольтных волн» (680) – энергетическим щитом!
Целое или отдельное, космос или хаос, цивилизация или природа, «мы» (Вселенная, человечество, государство, народ, племя) или «я»: в такую ситуацию поставлен Строитель Интеграла Д-503, в образе очень сильно не только «фаустовское»16, но и гамлетовское начало17: как Гамлет, он мало что предпринимает по собственной воле, хотя понимает, что от его решений зависит ни много ни мало судьба мироздания, как датский принц, он оказывается в центре заговора, но – в отличие от этого героя Шекспира и пародируя другого – ведет себя доверчивее и безрассуднее.
Но чтобы понять участь вселенной, необходимо познать самого себя. Д-503 вступает на путь самопознания – и самосознания – в цикле ритуальных испытаний, которые ему уготовано пережить весной, к которой неслучайно приурочено время действия романа: к весне приурочивались и основные дионисийские мистерии, одна из которых разыгрывается на страницах «Мы». Поведение и мироощущение Д (Диониса? – С. П.) -503 с момента встречи с I-330, а, быть может, еще раньше, с той минуты, когда он ощутил на губах сладкую пыльцу весенних цветов, приносимую ветром в город с застенных равнин, подчинено дионисийскому импульсу, заключенному в его собственной природе («волосатые руки») и воплотившемуся вовне в образе I-330. Подчинившись воле возлюбленной, Д-503 утрачивает свое, заключенное в границы Скрижали, «мы» и обретает собственное «я», именуемое «душой», полной противоположностью математическому ratio, оформлявшему его обезличенную надындивидуальную сущность. Ведь Дионис – это «индивидуация», «расточение мира во множественность» (Вяч. Иванов).
Но «в самом же Дионисе заключено и аполлонийское начало», «которое спасает его и восстанавливает вселенское единство» (168)18. Эта двойственность дионисийско-аполлоновского культа, окончательно сложившаяся в учении орфиков, отразилась на всех уровнях структуры «Мы».
Д-503 – как создатель «огнедышащего» Интеграла, вступая со своим творением чуть ли не в любовное соитие («Я нагнулся, погладил длинную холодную трубу двигателя. Милая… какая-какая милая. Завтра ты – оживешь, завтра – первый раз в жизни содрогнешься от огненных жгучих брызг в твоем чреве» – 650) – в полной мере приобщен к переживанию дионисийско-апполонийского «вселенского единства». Но во всех иных своих ипостасях – и Строителя (Строитель – одно из орфико-пифагорейских имен Диониса), и Разрушителя им же созданного – Д-503 себе не принадлежит. В одном случае, он – часть Единого Государства и его «интегральных» замыслов, в другом – полностью растворен в любовном экстазе, подчинен воле 1-330, энергетическому полю толпы людей-лошадей. Д-503 предназначена роль жертвы – бога-страстотерпца, тело которого разрываемо на части титанами. Во время дионисийских мистерий, воспроизводящих это космическое событие, служительницы культа Диониса, участницы дионисийских оргий – менады, вакханки, фиады, – рвали тела своих жертв зубами (такими же острыми, как зубы возлюбленной Д).
Грехопадение Диониса, его нисхождение в мир чувственного (в орфико-пифагорейской трактовке дионисийского культа разрывание Диониса символизировало рождение чувственного мира) тесно связано с зеркалом, заглядевшись в которое, Дионис-ребенок и оказывается добычей титанов. Все эти мотивы и образы – в особенности «зеркала» и «ребенка»19 – отражены в сюжете нисхождения Д в «иной» мир через подземелье Древнего Дома20.
Но и сюжеты первых в истории Европы эллинистических любовно-авантюрных романов – Гелиодора, Лонга, Ахилла Татия, Ксенофонта Эфесского, по мнению современных исследователей21, возникли, из аллегорического переосмысления орфико-пифагорейских (соединившихся с гностической философией) представлений о странствиях разделенной на две половинки – мужскую и женскую – Души в подлунном мире, об испытаниях, которые она должна пройти, прежде чем вернуться к своему началу, к Единству, символом которого у орфиков был бог-андрогин Фанет (аналог космического яйца), имевшего, в свою очередь, обличья Эрота небесного и Эрота-земного. Поэтому сюжетным средоточием орфически трактованного дионисийского действа была Священная свадьба, обставленная – в процессе развертывания мифа в романический сюжет – такими мотивами, как случайная встреча будущих влюбленных в многолюдном месте, мгновенное ослепление предметом любви, испытание чистоты их помыслов, приключения, связанные с плаванием по бурным морям и с посещением потустороннего мира, разлучение (обычно в момент кораблекрушения) и финальная встреча-воссоединение, непременно включающая в себя мотив «узнавания» – прозрения… Именно к этим «старинным» романам, которые в англоязычной критике именуются специальным словом «romance»22, в конечном счете, восходит и любовная линия романа «Мы». При этом Замятин обращается с «ро-мэнс» так же, как и с жанром утопии, последовательно травестируя его, подменяя cюжетообразующие мотивы romance противоположными: вместо мгновенного влечения к I-330 Д-503 изначально испытывает по отношению к ней отталкивание и раздражение, испытание чистоты заменяется испытанием гражданской законопослушности одного и сексуальной распущенностью другой, так что I-330 оказывается своего рода вселенской блудницей – Иштар (потому и I?), отдающейся мужчинам во славу своего бога – Мефи. Плавание по бурному морю имеет своим соответствием полет на Интеграле, уподобляемом кораблю, готовому сойти со стапелей («Я чувствую еще, как он покачивается на воде…», 653), захват корабля пиратами – чуть было не осуществившимся захватом Интеграла служителями Мефи, финальное узнавание и воссоединение – неузнаванием и разлучением…
В романическом сюжете «Мы» и заключена тайна целостности художественного мира Замятина, целостности мироздания как такового, объемлющего собой оба разделенных Стеной мира, обе области психе – сознание и бессознательное, обе сферы человеческого существования – телесную и духовную. Главным же, на наш взгляд, звеном в цепи ассиметрично-зеркальных уподоблений23, на которых держится жанровый и сюжетный строй романа Замятина, является древняя пара – эрос и танатос, любовь и смерть, благодаря тождеству которых оказываются тождественны ритуал жертвоприношения, обеспечивающий беспербойное функционирование машиноподобного Единого Государства24, и дионисийское растерзание Д («Во мне – пестрым вихрем вчерашнее: опрокинутые дома и люди, мучительно-посторонние руки, сверкающие ножницы, острокапающие капли из умывальника… И все это – разрывая мясо – стремительно крутится там – за расплавленной от огня поверхностью, где «душа»» (600). Оно предваряет его нисхождение в подземный мир, спуск в который замаскирован зеркальной дверью шкафа из Древнего дома. Там и происходит ритуал его бракосочетания, его мистическое совокупление с I-330 («Тогда I медленно, медленно, все глубже вонзая мне в сердце острую, сладкую иглу – прижалась плечом, рукою, вся – и мы пошли вместе с нею, вместе с нею – двое – одно» (603), знаменующее его растворение в андрогинном «мы», слияние двух хромосом (YX–XX: ср. цифровые коды персонажей: 503 и 330)25.
То, что совокупление – тоже жертвоприношение, хотя и не публичное, также гибель отдельного, смерть «я» во имя целого, понимает и герой романа: «…Чтобы установить истинное значение функции – надо взять ее предел, – рассуждает на эту тему Д, анализируя свое последнее свидание с I. – И ясно, что вчерашнее нелепое "растворение во вселенной", взятое в пределе, есть "смерть". Потому что смерть – именно полнейшее растворение меня во вселенной. Отсюда, если через "Л" обозначим любовь, а через "С" смерть, то Л = f(С), т. е. любовь и смерть» (624). Эти, внешне пародийно звучащие по отношению к многовековому клише «любовь как смерть», а по сути иронически-остраненные, преломленные в формульном стиле мышления повествователя, размышления Д, отзовутся в эпизоде, предваряющем разоблачительное посещение Д комнаты I, когда, выбежав из обиталища Благодетеля, он оказывается на пустынной площади: «Посредине – тусклая, грузная, грозная громада: Машина Благодетеля. И от нее – во мне такое, как будто неожиданное, эхо: ярко-белая подушка; на подушке закинутая назад с полузакрытыми глазами голова; острая сладкая полоска зубов… И все это как-то нелепо, ужасно связано с Машиной – я знаю как, но я еще не хочу увидеть, назвать вслух…» (669)26.
Образ «закинутой назад» головы I-330, как бы отделенной от ее тела, не раз возникающий в записках Д-503, явно отсылает читателя к образу Орфея (одного из «двойников» Диониса), к его растерзанию и к его отсеченной голове, носимой по морю по воле волн…27 Подобно Орфею, I-330 воплощает музыкальную душу мира (ср. эпизод ее фортепьянного исполнения Скрябина на лекции в Аудиториуме). Чтобы вызволить из-под власти Благодетеля душу Д-503, души всех обездушенных «нумеров» – обитателей не подземного, так подводного Аида, Города-Аквариума за Зеленой Стеной28, она покидает зеленые просторы живого застенного мира и поселяется в мире мертвых29, то и дело переходя границу, разделяющую оба мира.
Но – в отличие от Орфея, в отличие от своей «дублерши» О-90 (другой, настоящей половинки Фанета?) – I-330 движима не столько чувством любви к Д, сколько революционным порывом, стремлением спасти человечество и мироздание от неминуемого конца. Она – вдохновенная служительница культа Мефи (Мефистофеля), Дьявола. И если природа Д-503 двойственна, двуначальна, то сущность I-330 двусмысленна, обманчива и протеистична. Она – оборотень, поворачивающийся к Д-503 и к читателю разными, нередко взаимоисключающими, личинами: Орфей, Христос, Черт, Ева, Змей-соблазнитель…30 Темный крест, который чудится Д на ее лице, может быть истолкован и как знак креста, и как крест, перечеркивающий сатанинский лик, а если его развернуть на 45 градусов – как «мохнатый» «четырехлапый» икс – знак страны древних снов, откуда она является в «ясный» мир Д… Постоянный спутник I, ее Хранитель – провокатор S, атрибут коего – «розовые крылья-уши» (568)31. Сплетясь с сюжетом конспирологическим, с темой антигосударственного заговора, любовный сюжет в «Мы» превращается в антилюбовный, в раскручиваемый по ходу действия клубок измен и предательств – вплоть до финальной сцены – пытки I, наблюдаемой равнодушным взором искалеченного Д-503. И подобно тому, как утопия под пером повествователя-романиста романа превращается в антиутопию, «ромэнс» в сюжете «Мы» трансформируется в «антиромэнс».
Подобным же образом – если перекинуть мостик к металитературному сюжету «Мы» – «документальные» записи Д на самом деле запечатлевают жизнь-сон, сплошной обман, сплошную фикцию. Мотив жизни-сна, проходящий через «Мы» и эксплицированный в последних записях Д-503 («все это – только сон», 647), прямо отсылает читателя к знаменитой барочной драме П. Кальдерона «Жизнь есть сон» (1635?), заново открытой русской культурой Серебряного века.
То, что этот мотив в «Мы» имеет кальдероновские корни, подтверждает и другой, уже не столь популярный, а оригинально кальдероновский образ Человека-великана, исполина, который, выпрямившись во весь рост, может «разбить на солнце его стеклянные окна» (см. диалог Сехизмундо и Клотальдо в 3-й сцене 1-го акта32). Кальдероновская развернутая метафора Великана-бунтаря, бьющего стекла, дважды – с некоторыми вариациями – возникает в записях Д: «…будто… я – именно я – победил старого Бога и старую жизнь…и я как башня. Я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин…» (551); «Разве не казалось бы вам, что вы – гигант, Атлас – и если распрямиться, то непременно стукнетесь головой о стеклянный потолок» (648). И хотя в процитированных фразах прямого упоминания о солнце нет, образ разбитого на маленькие «детские солнца», отраженного в бляхах-нумерах, а затем – укрощенного, «посаженного на цепь» солнца присутствует тут же, на этих же страницах «Мы».
Другим, контрастным и одновременно смежным по отношению к разбитому солнцу / небу, мотивом-символом иллюзорности, мнимости описываемого Д мира является туман (его варианты – дым, дымы, дымок от папиросы I…): «Но это какое-то другое, хрупкое стекло – не наше, не настоящее, это – тонкая стеклянная скорлупа… И я не удивлюсь, если сейчас круглыми медленными дымами поднимутся вверх купола аудиториумов, и пожилая луна улыбнется чернильно…» (577).
Мотив «тумана» в «Мы», очевидно, восходит к «туманным» плоскостям» «Петербурга» Андрея Белого, и далее – к «Сну смешного человека» Достоевского («поднимающиеся вверх купола аудиториумов» – к нему прямая отсылка), к «Невскому проспекту» Гоголя, к «Исповеди англичанина, любителя опиума» Де Квинси33 и, в конечном счете, к позднему Шекспиру, к его фантасмагорической «Буре». К монологу Просперо из 1-й сцены 4-го акта:
…Окончен праздник. В этом представленье Актерами, сказал я, были духи. И в воздухе, и в воздухе прозрачном Свершив свой труд, растаяли они. — Вот так, подобно призракам без плоти, Когда-нибудь растают, словно дым, И тучами увенчанные горы, И горделивые дворцы и храмы, И даже весь – о, да, весь шар земной… Мы созданы из вещества того же, Что наши сны. И сном окружена Вся наша маленькая жизнь… (пер. Мих. Донского).Жизнь – это сон, иллюзия. Балаган. Все сюжетные линии «Мы» строятся на том, что Андрей Белый назвал бы «Великой Провокацией». Оба мира «Мы», противостоящие друг другу, – Город и застенный, замкнутый в себе и иррационально-бесконечный, как верно подметил С. Л. Слободнюк, – творения антихристиан34. И основой этой тотальной системы отождествлений Христа и Антихриста, Добра и Зла, их взаимных превращений, как показано в трудах того же автора35, является гностицизм, пустивший глубокие корни в русской культуре рубежа столетий. Недаром и в статье Замятина «Рай» – своеобразном комментарии к одному из аспектов «Мы» – пародии на Пролеткультовскую эстетику и философию истории – в качестве творца мира выступает гностический Иалдабаоф – демиург, «синтетический» бог-творец, для которого созидание немыслимо без разрушения, Добро без содействия Зла, бог, нуждающийся в постоянном сотворчестве со стороны Сатаны – Мефистофеля, жрицей которого является I-330. И если у Вяч. Иванова, Дионис / Аполлон – предтеча Христа (так и у Белого в «Серебряном голубе»), то в «Мы» он – и праобраз Мефистофеля, и предтеча Благодетеля-Великого инквизитора, которые, тем не менее, сходны по существу – как антагонисты Христа и христианства. Благодетель, выдающий себя за того, кто воплотил идеалы древних христиан, равно как и I-330, заявляющая об антихристианстве служителей культа Мефи, да и как сам Замятин-публицист, уверенный в том, что «победивший Христос – Великий инквизитор», играют в подмену понятий, в подлог, в обман.
А Машина Благодетеля, о которой как о Голгофе рассуждает и Благодетель в разговоре с Д и которая ожидает I-330, – вовсе не Голгофа.
Древнее жертвоприношение во имя поддержания круговорота бытия и реальная, а не метафорическая Голгофа, жертвенное страдание Христа во имя искупления грехов человечества, во имя разрыва роковой цепи насилий и мести, – совершенно разные вещи, Голгофа – конец циклического чередования жертвенных кризисов (Р. Жирар) и их преодолений в акте заклания «козла отпущения». Это – конец замкнутому в себе античному Космосу: все еще замкнутый в птолемеевские сферы тварный мир Средневековья уже открыт – в трансцендентное, а мыслители и ученые XVI–XVII веков разомкнули в бесконечное и мир посюстороний («Открылась бездна звезд полна…»).
Революционная идея бесконечности, высказанная I-330 (нет последнего числа!) и проговоренная (хотя тут же задвинутая на периферию сознания) самим Д-503 в ключевой «мениппейной» (она происходит в апокалиптический час революции в туалете подземки) беседе Строителя Интеграла и безумного философа, дает человечеству шанс спасения (закон энтропии – напомним! – действует только в замкнутых системах). Но без опоры на Высшее начало бытия, которое может быть только спародировано в низшем (Дьявол – обезьяна Бога!), идея бесконечности трансформируется в мысль о бесконечности превращений: «я» в «мы», отдельного в целое, и наоборот.
Отсюда – безысходность финала «Мы». Отсюда – нагнетение в повествовании Замятина – по мере развития действия – фарсового характера происходящего (несостоявшееся убийство Ю, комическое «разоблачение» Благодетеля в «лысого человека», разоблачение I-330, травестийная (между двумя «уборными») исповедь-донос Д-503 в Бюро Хранителей, мотив жизни-сна, обернувшийся «храпом» облагодетельствованных Государством граждан). Отсюда – смех, все чаще и чаще звучащий в «исповеди» Д-503 по мере продвижения к развязке описываемых событий, – индикатор иллюзорного просветления (накануне окончательного затмения) его сознания. Некоторые критики трактуют этот смех в терминах бахтинской теории карнавализации. На самом деле, это – антисмех, смех, звучащий в пространстве совершенно замкнувшегося в себе сознания абсолютно одинокого человека. Иллюзорная же попытка вырваться из замкнутого круга бытия.
И все же Замятин пытается отыскать некий просвет в мире тотальной несвободы, им созданном и воссозданном (недаром в творчестве столь любимого им Г. Уэллса он находил способность проходить через самые тесные парадоксы), в мире, где даже борцы за свободу оказываются Розенкранцами и Гильденстернами, желающими сыграть на флейте чужого «я» свою мелодию (и ведь не чью-нибудь, а Скрябина!), использовать близкого человека во имя Высших Целей36.
Свет в конце подземного хода, по которому продирается Д-503, связан с темой письма (его истинное – свободное «я» находит пристанище именно в его «записках», в акте письма-самопознания) и с пересекающейся с темой письма темой материнства. С судьбой ребенка Д, унесенной О за Стену. С судьбой Слова, с судьбой рукописи Д (его ребенка!)37, изначально предназначенной в жертву Молоху – Единому Государству: уже утративший сознание, Д находит в себе подсознательные силы дописать рукопись, переадресовав ее «неведомому, любимому читателю»… И он не ставит в ней точку, не сбрасывает ее в яму для мертвецов. Хотя и не ставит над ней креста.
Примечания
1 См.: Элиаде М. Мефистофель и андрогин. СПб.: Алетейя, 1998.
2 Элиаде М. Указ. соч. С. 194.
3 Здесь и далее роман «Мы» цит. по изд.: Замятин Евг. Избранные произведения. М.: Советский писатель, 1989. Цитир. страницы указаны в скобках в тексте статьи.
4 См.: Morson G. S. The Boundaries of Genre. Dostoevsky's Diary of a Writer and the Tradition of Literary Utopia. Op. cit. Русский перевод отрывка из этого исследования (Морсон Г. Границы жанра // Утопия и утопическое мышление. М.: Прогресс, 1991) дает о нем весьма приблизительное представление. Правда, мы, в отличие от Г. С. Морсона, не ставим знак равенства между антижанром и пародией, так как по-другому понимаем, что такое пародия, настаивая на ее принципиальном отличии от иронии.
5 В статье «Герберт Уэллс» (1922) сам Замятин подчеркивал сюжетную статичность (бесфабульность) утопии: «…в форме утопия всегда статична, утопия – всегда описание, и она же содержит или почти не содержит в себе сюжетной фантастики». В развитие этой мысли Ю. Латынина в кандидатской диссертации «Ритуализм утопии» (М., 1992), очевидно, используя идеи Г. С. Морсона, писала: «Антиутопия соотносится с утопией не как описание двух различно устроенных миров (плохого и хорошего), но как описание мира с повествованием о мире» (цит. по кн.: Ланин Б. А. Русская литературная антиутопия. М., 1993. С. 13).
6 «…Но стоит поколебаться вычисленной высоте этой фантастики, – писал Ю. Н. Тынянов в статье „Литературное сегодня“ (1924), – и происходит разрыв. В утопию влился „роман“ – с ревностью, истерикой и героиней… Языковая фантастика не годится для ревности, розовая пена смывает чертежи… колеблется и сам роман – между утопией и „Петербургом“. И все же „Мы“ – это удача» (Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. Указ. изд. С. 157).
7 Его нацеленность определяется многозначно: против тоталитарного коммунизма, «машинной» цивилизации, эстетики Пролеткульта и т. д.
8 «Анатоль Франс, – отмечает Элиаде, – писал, что „он одержим идеей гермафродита, которая вдохновляет все его книги“» (Элиаде М. Указ. соч. С. 156).
9 Об этом писали и зарубежные (Maquire R., Malmstad J. The Legacy of «Petersburg» // The Silver Age in Russian Literature. N. Y.: St.Martin's Press, 1992), и первые же русские исследователи творчества Замятина (см.: Шайтанов И. О. Мастер // Вопросы литературы. 1988. № 12).
10 В принципе, можно было бы сказать, что и фабула «Серебряного Голубя» не столь уж оригинальна (сколь бы много личного, непотворимо-биографического Белый в нее ни вложил!), что история ухода человека из мира порядка в мир хаоса вслед за «демонической» особой, утрата им своей прежней идентичности и обретение новой имеет свою литературную традицию: можно вспомнить «Историю кавалера де Грие» Аббата Прево, «Кармен» Мериме с ее прообразом – «Цыганочкой» Сервантеса, «Вия» Гоголя… Или – как древний прецедент – миф о Тристане и Изольде (общей основой для всех них является миф о Великой Матери). Однако наличие и у Белого, и у Замятина осложняющего эту «треугольную» фабулу мотива «квадрата» (Дарьяльский – Катя Гуголева – Матрена – Кудеяров у Белого, Д-503 – О-90 – I-330 – S-4217 у Замятина, продублированный в романе последнего «квадратом» О-90 – R-13 – Д-503 – I-330), свидетельствует о сознательной ориентации Замятина именно на роман Андрея Белого. О мистическом значении квадрата в «Серебряном голубе» см.: Пискунов В. М., Пискунова С. И. Комментарий // Белый А. Серебряный голубь. Рассказы. М.: Республика, 1995.
11 О его влиянии на Замятина см.: Геллер Л. Слово – мера мира. М.: МИК, 1994.
12 О сближении Андрея Белого и Вяч. Иванова в период создания «Серебряного голубя» см.: Пискунов В. М. «Сквозь огонь диссонанса…» // Белый А. Сочинения в двух томах. Т. 1. М.: Художественная литература, 1990. С. 23 и сл.
13 На это впервые обратил внимание Б. А. Ланин (см. указ. соч.).
14 Цитир. по изд.: Иванов В. Дионис и прадионисийство. СПб.: Алетейя, 1994. Цит. стр. указаны в тексте главы.
15 Другие, такие как В. Чаликова, Р. Гальцева и И. Роднянская (см.: Чаликова В. Крик еретика (Антиутопия Евг. Замятина) // Вопросы философии. 1991. № 1), Р. Гальцева и И. Роднянская (см.: Гальцева Р., Роднянская И. Помеха – человек: опыт века в зеркале антиутопии // Новый мир. 1988. № 12), видят и изображенную в «Мы» опасность, грозящую личности со стороны первобытно-стадного общества человеко-коней, обитающих за Зеленой Стеной.
16 См. о нем: Давыдова Т. Творческая эволюция Евгения Замятина в контексте русской литературы первой трети XX века (М.: МГУП, 2000).
17 Неслучайно Шекспир – один из немногих писателей, чье имя эксплицитно введено в текст «Мы».
18 Двойственность Д-503 подчеркнута наличием у него целого ряда двойников, начиная со Второго Строителя (символ чистого аполлонийства) и заканчивая «негрогубым» поэтом R-13, воплощающим дионисийство «дозволенное».
19 См., например, сцену столкновения I и Ю в 28-й записи. Сам Д. ощущает себя младенцем, куском материнской плоти, обреченным на растерзание.
20 Ритуал посвящения (инициации), о которой пишет в связи с «Мы» Н. Скалон (см.: Мотивы обряда инициации в романе Евг. Замятина «Мы» // От текста к контексту. Ишим; Омск, 1998) – и со многими его наблюдениями нельзя не согласиться, – был частью и дионисийских мистерий.
21 См.: Протопопова И. А. Ксенофонт Эфесский и поэтика иносказания. Указ. изд.
22 М. М. Бахтин именовал эту группу жанров «романами первой стилистической линии» (см.: Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // М. М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975).
23 Или диссиметрии – см.: Скалон Н. Указ. соч. С. 129.
24 Как показано в известных трудах М. Элиаде и Р. Жирара, ритуал жертвоприношения – публичной казни – традиционный архаический способ поддержания жизни целого.
25 Это наблюдение принадлежит А. В. Фаворову.
26 Ср. эпизод допроса I под колоколом: она откинула голову, полузакрыла глаза, губы стиснуты – это напомнило мне что-то (679).
27 Это не отменяет других коннотаций, скажем, уподобления I-330 Христу (См.: Лахузен Т., Максимова Е., Эндрюс Э. О синтетизме, математике и прочем… Роман «Мы» Е. И. Замятина. СПб., 1994. С. 91 и сл.), тем более что отождествление Орфея с Христом восходит к первым векам существования христианства. Как при этом Орфей-Христос оказывается служителем сатанинского культа Мефи – особый разговор.
28 О «стеклянной клетке бредового аквариума» как архимотиве творчества Замятина, соотносимом с образом Единого Государства, см.: Лахузен Т., Максимова Е., Эндрюс Э. Указ. соч. С. 47–48.
29 Все относительно: с точки зрения Д-503, миром мертвых является застенный мир диких зверо-людей…
30 См.: Лахузен Т., Максимова Е., Эндрюс Э. Указ. соч. С. 92 и сл.
31 «Крылоухим» в одной из автобиографий Евг. Замятина назван рабочий-провокатор Николай В., трудами которого будущий писатель оказался в одиночке на Шпалерной в 1905 году. (см.: Замятин Евг. Я боюсь. М.: РАН, 1999. С. 9).
32 В переводе К. Бальмонта (1902): «О, небо, / Как хорошо, что ты лишило меня свободы! / А не то / Я встал бы дерзким исполином, / И чтоб сломать на дальнем солнце / Хрусталь его блестящих окон, – / На основаньях из камней / Воздвиг бы горы я из яшмы» (Кальдерон де ла Барка Педро. Драмы: В 2 кн. Кн. 2. М.: Наука, 1989. С. 18).
33 См.: Виноградов В. В. О литературной циклизации. По поводу «Невского проспекта» Гоголя и «Исповеди опиофага» Де Квинси // Виноградов В. В. Избранные труды. Поэтика русской литературы. М.: Наука, 1976.
34 Слободнюк С. Л. К вопросу о гностическом элементе в творчестве А. Блока, Евг. Замятина и А. Толстого (1918–1923) // Русская литература. 1994. № 3. С. 87.
35 См.: Слободнюк С. Л. «Дьяволы» «Серебряного века». Древний гностицизм и русская литература 1890–1930 гг. СПб.: Алетейя, 1998.
36 Любопытнейшей параллелью к любовному плану романа Замятина – и к его жанру в целом – является написанный в 1914 году, но вряд ли Замятину известный, «роман сознания» («ни?вола», в авторском определении) М. де Унамуно «Туман» (Lа Niebla). Герой Унамуно – скромный обыватель-рантье Аугусто Перес, одиноко бредущий по жизни сквозь «туман» существования, – оказывается втянутым в любовную интригу – заговор, хотя отнюдь не государственного масштаба. Организатор интриги – преподавательница музыки Эухения. Финал – фарсово-трагический: поняв, что мошенники использовали его для собственного обогащения – «сыграли» на нем, как на флейте, свою мелодию, – Аугусто, простившись с верным песиком Орфеем, кончает жизнь самоубийством путем… переедания. Есть в романе-трагифарсе Унамуно и тема бунта творения против своего создателя, преломленная в теме восстания Аугустото-персонажа против своего творца – Мигеля де Унамуно. «Туман» – еще одно доказательство того, что авантюрно-любовный сюжет – непременная составляющая философско-гносеологического романа, каковым по многим параметрам является и «Мы» Евг. Замятина. Именно вокруг этого сюжета сосредоточиваются интертекстуальные аллюзии обоих произведений, мотивы, имена: Платон, Сервантес, Шекспир, Кальдерон, Достоевский, орфики, музыка, туман, жизнь есть сон…
37 Таким образом, мотив «жертвоприношения» распространяется и на рукопись (метароманный план «Мы»).
«Дон Кихот» деконструированный («Чевенгур» Андрея Платонова)
На земле будет рай. Верно думали наши деды о нем. Все стремится на земле слиться, познать, полюбить. Дух единения и сближения живет в каждом дыхании – дух любви, за который мучился Христос и который называл Богом
Андрей Платонов1Эпизод, в котором чевенгурские большевики скатывают в овраг «бак с сахарного завода»2, остается самым загадочным местом романа «Чевенгур». Большинство из его интерпретаторов отождествляет бак с бочкой – рождающим чревом, в которую заключен сказочный герой-богатырь (вариант: мать и рожденное дитя, как в «Сказке о царе Салтане»). При этом все критики отмечают, что, как и большинство сказочно-мифологических мотивов, образов и структур в текстах Андрея Платонова, мотив «герой (героиня) в бочке» претерпевает «сильные изменения»: «его героям не суждено вернуться в жизнь»3
С версией: бак – это бочка-чрево несколько расходится интерпретация, которую предлагает К. А. Баршдт: «Здесь переосмыслен миф о Диогене и, одновременно, содержится мотив пластичности "вещества", принципиально готового "проснуться в любом существе"»4. При этом Баршдт, в отличие от большинства критиков, особое внимание уделяет содержанию песни, раздающейся из «бака». «Рыбка», о которой поет «буржуйка», якобы спрятавшаяся в баке, для Баршдта – и с этим нельзя не согласиться – известный древний символ Иисуса Христа5, напоминание о бессмертии. Так понимает смысл песни и председатель чевенгурского ревкома Чепурный: «То-то она рыбкой захотела быть, – догадался Чепурный. – Ей, стало быть, охота жить сначала!» (241).
И хотя христианская символика – и, быть может, она в первую очередь, – подвергается в мире Платонова такому же кардинальному переосмыслению, как и фольклорно-мифологическая (нередко – инвертируется6), интерпретация образа женщины-рыбки как символа бессмертия вполне согласуется с предлагаемым далее прочтением загадочного эпизода.
Однако ни Баршдт, ни другие критики не объясняют всех его деталей, например, того, почему «буржуйка» в котле не одна, а с «братцем», как мнится Жееву? Почему они там целуются и зачем толкают бак? Насколько само объяснение Жеева достоверно? Какое такое «лирическое начало» (Е. Яблоков) символизирует женщина или ее голос? А, главное, какова функция эпизода в художественном целом «Чевенгура»? – А то, что эпизод с баком – особо отмеченный фрагмент платоновского «текста» (т. е. совокупности всех его произведений), интуитивно понимает всякий внимательный читатель. «…Обратим внимание на возникающую здесь совокупность мотивов, – пишет комментатор эпизода Е. Яблоков, видя в нем прообраз будущего "Котлована", – 1) утопический город будущего и его создатели;
2) погибающая "буржуйка" (воплощающая лирическое, ностальгическое начало); 3) котел в овраге – "могиле"… Такая связка позволяет усматривать в данном эпизоде романа "зерно" центральной сюжетной ситуации повести "Котлован"»7. И – mise en abоme повести «Чевенгур», добавили бы мы.
Но для полноценной интерпретации эпизода с баком как символического средоточия «Чевенгура» необходимо заново уточнить его текстовые границы. Начинается он вовсе не с находки чевенгурцами непонятного предмета, а со слов: «Чепурный первый расслышал какой-то тихий скрежет – не то далеко, не то близко; что-то двигалось и угрожало Чевенгуру…» (237). Дальнейшее развитие событий на какое-то время отодвигает поиск источника скрежета, так как внимание сторожащих город со стороны степи чевенгурцев переключается на «покойный домашний огонь», горящий в одном из городских окон: там остался охранять собранные в кучу городские постройки палач полубуржуев Кирей. Спешно вернувшиеся в город Чепурный и шестеро его товарищей, не раздумывая дают по окну, в котором горит свет, залп, тем самым будя спящего при зажженной керосиновой лампе Кирея и уничтожая последний источник света в Чевенгуре и его окрестностях. Затем они вновь возвращаются в степь, где оставили «растолстевшего благодаря гражданской войне», а ныне одержимого сексуальным голодом «пожилого большевика» Жеева. Кирей же вновь приступает к обязанностям сторожа опустевшего города: чтобы «слушать врага до утра» (239), он ложится на землю, подложив под ухо лопух. Тогда-то и происходит его «встреча» со звездой: «Кирей глядел на звезду, она на него…» (там же). Не дождавшись падения звезды, Кирей засыпает, и его сон длится все то время, пока большевики «сражаются» в степи с баком. Таким образом, как это часто происходит у Платонова, сон композиционно обрамляет событие; в данном случае сон Кирея, так и не дождавшегося падения звезды, противопоставлен бессоннице Чепурного, охваченного «страхом перед наступившим коммунизмом» (там же). И не Кирею, а Чепурному дано увидеть упавшую звезду, которую он прозревает в «черном правильном теле», подобно тому, как Дон Кихот смог разглядеть в блестящем на солнце тазе цирюльника волшебный шлем Мамбрина8: «Это упавшая звезда – теперь ясно! – сказал Чепурный…» (240).
Мотив звезды в эпизоде с баком никем (за исключением Н. Малыгиной) не брался в расчет, хотя он – вернейший указатель на истинную двойную природу странного предмета, происхождения то ли небесного, то ли рукотворного, то ли мертвого («А я думал, это так себе, мертвый кругляк, – произнес Кеша…»), то ли живого, то ли источника всех благ, вечной жизни и изобилия, то ли могильной урны (впрочем, магические сосуды изобилия в палеолитической древности часто использовались для захоронения останков умерших9).
Упавшая с неба звезда – сосуд, заключающий в себе символ бессмертия – женщину-рыбку, загадочное «тело» в его трудно согласуемых обличьях (котел для варки сахара и источник духовных благ, «кругляк» и камень-звезда), вместивший в себя женское и мужское начала бытия («буржуйку» и ее «братца»), – этот таинственный «котел» отсылает читателя к образу Грааля, очень популярному в культуре начала XX века10.
У Платонова «бак» – центр схождения различных точек зрения на один и тот же объект (думается, «буржуйка», целующаяся с «братцем», – плод сексуальных фантазий Жеева, который ведь судит о содержимом бака только по доносившимся из него звукам), предмет, меняющий свою конфигурацию в зависимости от того, кто его рассматривает и под каким ракурсом. При этом в эпизоде с «баком с сахарного завода» загадочным образом «учтены» почти все версии предания о Граале. Ведь Грааль в средневековых источниках столь же «трансформен» и загадочен11. В «Романе об истории Грааля» Робера де Борона (рубеж XII–XIII веков) Грааль изображен как драгоценный сосуд – как чаша причастия, из которой, согласно апокрифическому
Евангелию от Нико дима, пил вино Иисус во время «тайной вечери» и в которую Иосиф Аримафейский собрал вытекшую из ран распятого Иисуса кровь (позднее претворенное содержимое сосуда поддерживало жизнь Иосифа в темнице на протяжении сорока лет). У Кретьена де Труа («Повесть о Персевале», 1181–1191 годы) Грааль – укрепленное на ножках серебряное блюдо с высокими краями, на котором подают рыбу и другие изысканные яства. У немецкого поэта Вольфрама фон Эшенбаха («Парцифаль», 1200–1210 годы?) Грааль – драгоценный камень, выпавший из короны падшего ангела Люцифера, предмет, связанный с алхимической практикой средневековья, т. е. с таинствами превращения одних металлов в другие, операциями, основанными на столь близкой Платонову идее единого «вещества существования». Отсюда – две основные конкурирующие гипотезы происхождения легенды о Граале12 – «палестинская» и «кельтская», христианская и языческая. Кельтская гипотеза происхождения Грааля связывает его с котлами изобилия (например, котлом бога плодородия Дагда) или с котлами-исцелителями (погибший воин после дня пребывания в таком котле выходил из него живым и невредимым). Но, скорее всего, Грааль – во всей его многоликости и противоречивости – возник в эпоху Крестовых походов на скрещении языческой и христианской традиций, совпадающих в соотнесении таинственного блюда-чаши с представлениями о бессмертии и неиссякающем благе. Откуда-то из глубин подсознания таинственного «чевенгурца» Чепурного (лицом – монголец!) при приближении к «баку» всплывает та же идея: «Теперь жди любого блага, – объяснил всем Чепурный. – Тут тебе и звезды полетят к нам, и товарищи оттуда спустятся, и птицы могут заговорить, как отживевшие дети, – коммунизм дело не шуточное, он же светопреставление!» (240).
Средневековый символ таинства причастия, знак братского духовно-плотского единения человечества во Христе, гарант бессмертия, Грааль не случайно возникает в ключевом эпизоде романа Платонова. Ведь чевенгурский коммунизм – не что иное, как бессознательная попытка заменить мифологизированной идеей пролетарского товарищества (коммунизмом) мистическое единение людей во Христе, а кровь и плоть Христову – «веществом существования». Повествование Платонова о провалившейся попытке сотворить коммунистический земной рай (что не отвергает ценности самой идеи единения людей под девизом победы над смертью) постоянно сбивается на язык христианской культуры, проецируется на христианскую обрядность, насыщается христианской символикой13: «В той России, где жил и ходил Дванов, было пусто и утомленно: революция прошла, урожай ее собран, теперь люди молча едят созревшее зерно, чтобы коммунизм стал постоянной плотью тела» (285).
Метафорическое отелеснивание идеи коммунизма у Платонова, особенно проявившееся в «Чевенгуре», привлекло внимание М. Дмитровской, которая совершенно точно определила генезис платоновского образа тела: «…С одной стороны, коммунизм – это некоторая сверхсущность, к которой телесно приобщены составляющие его люди, с другой – коммунизм находится в каждом из людей и соединяет их между собой. Эти свойства чевенгурского коммунизма позволяют усмотреть прямую аналогию между ним и пониманием Церкви в христианстве. Подобная же двойственность в определении Церкви стала объектом внимания богословов начиная с ап. Павла. В своих посланиях ап. Павел указывает, что… Церковь есть совокупность верующих, являющихся членами Тела Христова: "…мы многие одно тело" (Кор. 10, 17)… Чевенгурцев должен телесно соединить коммунизм – подобно тому, как Христос объединяет верующих, уничтожив их отдельности и составляя из множества тел одно: "А теперь во Христе Иисусе мы, бывшие некогда далеко, стали близки кровию Христовою. Ибо он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду…" (Еф. 2,13–14). Коммунизм существует в телах чевенгурцев – точно так же, как Христос живет в каждом верующем… Таким образом, чевенгурский коммунизм есть новая церковь, в которой, как и в Церкви христианской, должна быть преодолена раздробленность человеческого рода и восстановлено первоначальное единство»14. Одновременно исследовательница очень тонко подмечает амбивалентность, квазирелигиозность чевенгурской «идеи коммунизма»: «В Чевенгуре направленность пролетариев на „другого“ носит абсолютный характер. Их дружба-товарищество имеет характер религиозного чувства, которое у чевенгурцев тем сильнее, чем больше ощущают они невозможность для себя других путей спасения. Отречение их от Бога обернулось для них богооставленностью. И вот, утратив идею Высшего, им ничего не остается, как подменить ее идеей ближнего» (там же, 95).
Именно уподобление чевенгурской «новой церкви» «телу Христову», как нам думается, объясняет особую притягательность для Платонова романа Сервантеса, образная система которого также построена вокруг «утаенного» в глубине текста эразмистского концепта «мистическое тело Христово»: последнее фигурирует на страницах «Дон Кихота» и как гротескное тело толпы на карнавальной площади15, и как «тело» Ордена Странствующего Рыцарства, метонимически представленное «телом» донкихотовской пары, в котором Дон Кихот – «голова», а Санчо – «туловище»16. Отсюда – особая роль в «Дон Кихоте» граалевской и – шире – евхаристической топики17.
На евхаристический круг мотивов сориентировано и приведенное выше размышление Александра Дванова, в котором выстраивается семантическая цепочка: созревшее зерно – коммунизм – плоть тела: отдельное превращается в целое в процессе вкушения «созревшего зерна»18. Правда, образ хлеба окрашен в тона возвышенно-мистические в сознании уже «созревшего» Дванова. Отношение других персонажей романа, в том числе и повествователя (с учетом его «блуждающей» точки зрения19), да и самого Дванова на протяжении большей части его пути – вплоть до прибытия в Чевенгур – к хлебу, к еде как таковой совсем иное. Хлеб, как и пища вообще, воспринимаются коммунистами Платонова или равнодушно, или как нечто, разъединяющее людей, как то, что мешает им сознавать мир и творить. Поедание хлеба возле отхожего места («Возле отхожего места сидел старик и ел хлеб…») больше соответствует то и дело возникающей в недрах платоновского повествования идее богооставленности, заброшенности человечества в мироздании – «уединенного сиротства людей на земле», идее, существенно извращающей евхаристическую топику романа.
В травестированно-языческом обличье в «Чевенгуре» предстает не только Грааль-звезда («клепаный котел с сахарного завода»), но и сюжетный дублер «котла» – «железная кадушка неизвестного назначения» (230), служащая чевенгурцам в качестве посуды для варки «основного супа»: в кадушку каждый из чевенгурцев кидает всякую всячину – от близкорастущей травки и ночных комаров до телячего зада20. Вечером происходит совместное поедание варева – ритуал, в котором присутствует сниженный евхаристический аспект21.
Характерно, что упоминание о кадушке с «основным супом» вставлено в рассказ об изгнании из города полубуржуев и об их расстреле Киреем. В свою очередь, эпизод расстрела предварен рассказом об обходе их опустевших жилищ Чепурным: председатель чевенгурского ревкома находит в одном из домов бутылку церковного вина висанта22 и белые пышки, которые пытается скормить собаке Жучку, – явная травестия пасхального ритуала23.
Жучок отказывается от пасхальных пышек. И Граалю чевенгурцы не находят места в своем «первоначальном» городе. «Чаша Грааля» низвергается на песчаное дно оврага, которое приемлет бак, как «теплые материнские руки». В последних словах о баке можно при желании сделать акцент на смерти-рождении: ведь падение на дно, вниз у Платонова равнозначно воспарению ввысь, в небеса (бак вновь становится звездой). Но, так или иначе, чевенгурцы отвергают свою находку: непристойные намеки Жеева и деловое пояснение Векового для них оказываются более убедительными, чем донкихотское прозрение Чепурного.
Скатывание бака в овраг – провозвестие трагически-переломного момента в жизни чевенгурской коммуны – смерти ребенка женщины-бродяжки и тщетных попыток Чепурного воскресить умершего: «отживевшие» дети так и не заселят Чевенгур. Да и птицам Чепурный не может предложить ничего, кроме сора и табачных крошек, скопившихся у него в пустых карманах24.
Кроме того, в момент находки бака звездный дар не нужен чевенгурцам ни в практическом, ни в мистическом смысле: у них уже есть свой «Грааль» – солнце, неиссякаемый источник жизни, доставшийся им от уничтоженных буржуев и полубуржуев – обитателей Чевенгура-земного рая. «Из солнечной середины неба сочилось питание всем людям – как кровь из материнской пуповины…» (176): таким вспоминает Чевенгур своего детства Алексей Алексеевич Полюбезьев. В образе этого аллегорического персонажа гротескно слились плакатная актуальность (ленинские идеи кооперации) и тема хлеба как сакрального дара: «Прочитав о кооперации, Алексей Алексеевич подошел к иконе Николая Мирликийского и зажег лампаду своими ласковыми пшеничными руками… Перед ним открылась столбовая дорога святости, ведущая в божье государство житейского довольства и содружества» (177).
И вновь в сюжет о приходе Полюбезьева в Чевенгур с вестью о кооперации гротескно вторгается характерная для строя платоновского романа ретроспектива – рассказ о том, как Чепурный принял решение «ликвидировать плоть нетрудовых элементов» (181). Это решение у него возникает спонтанно именно в момент разговора с Полюбезьевым (во время предыдущей с ним встречи): фигура Полюбезьева по «обратной» ассоциации тут же вызывает у председателя чевенгурского ревкома стремление – «ликвидировать плоть…». Солнце же превращается коммунарами во «всемирного пролетария», избавляющего их от необходимости трудиться самим. «Всемирный пролетарий» узурпирует место Христа, так и не обретя атрибуты последнего – быть гарантом жизни вечной. Солнце Чевенгура оказывается «граалем» в его языческом бытовании – чашей-«самобранкой», в позднесредневековом рыцарском эпосе насыщающей Артура и его двор и исчезающей неведомо куда. Но, «работая над рощением пищи», оно тем самым участвует в «междоусобной суете людей, которая означает смертную необходимость есть» (218).
И когда энергетический источник постоянного прокорма начинает иссякать, чевенгурцы задумываются о его замене. Новым, «самодельным» Граалем для них становится ветряная мельница25: поначалу она появляется как «ветряк», некогда использовавшийся «буржуями» для подачи воды для поливки сада, каковой чевенгурцы, у которых не осталось даже спичек, пытаются приспособить для добывания огня механическим трением: «…Гопнер знал, как быть: нужно пустить без воды водяной насос… Насос в былое время качал воду…, и его вращала ветряная мельница…» (303). Кирей и Жеев также задумывают «пустить ветряную мельницу и намелить из разных созревших зерен мягкой муки; а из этой муки они думали испечь нежные жамки для болящего Якова Титыча» (310). Таким образом, на закате чевенгурского дня три основных «компонента», необходимых для изготовления хлеба причастия, – вода, огонь и созревшее зерно – объединяются вокруг образа мельницы, как это имеет место и в «Дон Кихоте», в котором путь Рыцаря Печального Образа символически соотнесен с участью зерна: его избивают – «молотят» и отправляют на жернова мистической мельницы, перемалывающий зерно Ветхого Завета в муку для хлеба новозаветного причастия. И постепенно горделивое самоутверждение рыцаря-избранника уступает место в сознании Дон Кихота идее жертвенного принятия своей смертной участи. Вот и Копенкин – герой «Чевенгура», наиболее схожий с Дон Кихотом внеш не и функционально26, – превращается из лихого конника-рубаки в смиренного пахаря: «Босой Копенкин поднимал степь, успевшую стать целиной, силою боевого коня. Он пахал не для своей пищи, а для будущего счастья другого человека, для Александра Дванова. Копенкин видел, что Дванов отощал в Чевенгуре…» (332).
В последней «части» романа27 Чевенгур обретает черты гротескного содружества одиноких людей-сирот, временно успокоившихся обретением своих товарищеских «половин». Возникновение такого содружества запечатлено в сцене вечерней трапезы «прочих» и коммунистов, во время которой происходит ритуальный обмен травяными жамками и печеной картошкой между Карчуком и Юшкой.
Но энтропийные силы неудержимо действуют внутри самого Чевенгура как замкнутого, отгороженного от остального мира пространства. И когда все в Чевенгуре начинает свидетельствовать о неизбежном конце, Дванов начинает думать «над устройством дешевой пролетарской пушки для сбережения Чевенгура» (352). Вместо «тающего солнца, работающего на небе, как скучный искусственный предмет» (там же), чевенгурцы должны получить метательное колесо, оружие, которое так легко обращается против того, кто его использует.
Непосредственным преддверием гибели коммуны является очередной ретроспективный эпизод – воспоминание Копенкина о некогда встреченном им на полях гражданской войны красноармейце, истекающем кровью от раны в паху. Копенкин ничем не помог умирающему и теперь оказывается охваченным тем же чувством вины («стыда жизни»), с каким уходит Саша Дванов на дно озера Мутево, так и не сумев воскресить своего отца.
Рана в паху28 – вовсе не бытовая, физиологическая подробность, а древний сакральный мотив – из ряда рассыпанных по тексту «Чевенгура» характерных мотивов и образов «граалевского мифа» (обозначим так метасюжет, объединяющий средневековые тексты о поисках Грааля) с его центральным героем – странствующим по миру «с открытым сердцем» простодушным юношей-сиротой Персевалем-Парцифалем. Именно в пах был ранен Король-Рыболов, хозяин замка и хранитель Грааля, где Персеваль впервые увидел вынос таинственного сосуда и копья, с наконечника которого капала кровь, как о том сообщается в незаконченной «Повести о Персевале» Кретьена де Труа (1181–1191). Задав вопрос о смысле происходящего и о назначении Грааля, Персеваль мог бы излечить Короля, но молодой рыцарь промолчал.
В «Чевенгуре» главным персонажем «граалевского сюжета», деконструированного Платоновым на базе «Дон Кихота» Сервантеса, содержащего, как относительно недавно было установлено в сервантистике29, мощный архетипический «кельтский слой», предстает Александр Дванов. Не утрачивая черт сходства с Дон Кихотом, благодаря своему врожденному целомудрию и простосердечию Александр Дванов оказывается первым претендентом на роль рыцаря Грааля (характерно, что эпизод с баком приходится на тот этап развития повествования, когда Дванов еще не появился в Чевенгуре).
Основное назначение Персеваля – открыть тайну Грааля, источника благодати и вечной жизни, искупить вину перед Королем-Рыболовом, хранителем Грааля – сосуда бессмертия. Этот сюжет и воссоздан в «Чевенгуре», где вся траектория жизненного пути Дванова подчинена искуплению невольной вины перед отцом-рыбаком. От Персеваля зависит и продолжение жизни на земле Короля-Рыболова, пораженной засухой и бесплодием: мотив бесплодной иссохшей земли из «граалевского сюжета» многократно отзовется на страницах романа Платонова. Одна из надежд, которая для Дванова связана с коммунизмом – возможность привести воду на страдающие от засушливости земли степных водоразделов. Александр Дванов – не носитель бессмертного начала (и уже поэтому – не Христос, с которым его сравнивают некоторые критики), а смертный, сочувствующей всему живому, отправляющийся в путь, чтобы найти средство победить смерть и воскресить умерших.
Как и Персеваль, Саша – сирота, точнее сирота наполовину, но растит его не мать, а отец (на «мастера» Захара Павловича в «Чевенгуре» возложена миссия воспитателя Персеваля Горнемана, а отец приемный – Прохор Дванов – «наделяет» его фамилией и братом Прокофием – Прошкой). И если Персевалю с детства недостает отцовской опоры, уроков мужества, рыцарской доблести и вежества, то Саше – теплоты материнских рук… Эти и другие совпадения образов Александра Дванова и Персеваля-Парцифаля (в России этот персонаж был больше известен в его немецком «изводе») – не говоря уже об особой роли «иноформ» (термин Л. В. Карасева) Грааля (бак-звезда – солнце – ветряная мельница – колесо) в истории чевенгурской антиутопии – выявляются, если спроецировать «Чевенгур» на первый, стихотворный, этап в развитии средневекового рыцарского романа на французской и немецкой почве. Однако в (анти)утопии Платонова отражен и более поздний этап развития средневековой легенды, представленный прозаическими циклами рыцарских романов, наиболее значительными из которых стали старофранцузский «Ланселот-Грааль» (1220-е годы?)30 и «Смерть Артура» Т. Мэлори (1485)31. Уже не Персеваль, а Ланселот (персонаж незаконченного романа Кретьена де Труа «Ланселот, или Рыцарь Телеги», 1177–1181 годы) выходит в романах XIII–XV веков на первый план в роли самого блистательного рыцаря при дворе короля Артура, но и – его соперника, возлюбленного королевы Гениевры (англ. Гвениверы). Миссия же поисков Грааля распределяется между четырьмя рыцарями – Персевалем, Галахадом, Борсом и Говэном (Гавейном).
Ланселот, лишенный права приближения к Граалю в наказание за свои грехи, совершает в «Ланселоте-Граале» иной подвиг: чтобы спасти Гениевру, он посещает потусторонний мир, тем самым повторяя описанное в апокрифах («Евангелие от Никодима») деяние Иисуса Христа, между распятием и воскресением сошедшего в ад и освободившего из него души усопших. Путь Александра Дванова после завершения его инициационных испытаний (их кульминация – болезнь-«смерть» и «пасхальное» выздоровление) по-своему повторяет и путь Ланселота. В Чевенгуре Дванов ищет коммунизма как спасения от смерти, а оказывается в загробном мире32. Будучи то ли земным раем, каким он видится Полюбезьеву33, то ли загробным миром, а, точнее, и тем, и другим одновременно34, Чевенгур открывается читателю как обитель сна и смерти – смертного сна: «Туманы, словно сны, погибали под острым зрением солнца… Земля спала обнаженной и мучительной, как мать, с которой сползло одеяло. По степной реке, из которой пили воду блуждающие люди, в тихом бреду еще висела мгла, и рыбы, ожидая света, плавали с выпученными глазами по самому верху воды…» (175).
С Ланселотом-Рыцарем Озера Дванова35 сближают и особые отношения со стихией воды, которая играла в кельтской мифологии, а затем и в средневековых рыцарских романах, огромную роль. «…Культ всевозможных источников и озер, – отмечает А. Д. Михайлов, – дошел и до артуровской традиции, отозвавшись во множестве текстов, где говорится о воде… Герои проводят в недрах озер целые периоды своей жизни (как, например, Ланселот, получивший воспитание в подводном замке у Владычицы Озера), постоянно возвращаются туда, находятся в общении с жителями озер…»36.
Вместе с тем, любовная одержимость Ланселота передана (а заодно травестийно снижена) в «Чевенгуре» одному из двановских «двойников» (в данном случае двойников-антагонистов)37 – Прокофию, который вместе с Чепурным, формально занимающим место Артура, правит Чевенгуром. При таком перераспределении функций Клавдия Клобзд, очевидно, пародирует королеву Гениевру, а также сам идеал Вечной Женственности, имеющий гностические корни, но сложившийся окончательно в рыцарской культуре. Тогда Прошка – спародированный служитель культа Вечной Женственности, в конечном счете и разлагающей мужской союз чевенгурцев (по примеру Прошки они также пожелали иметь жен, что и послужило причиной из разъединения). Напротив, Александр Дванов ищет и находит в Чевенгуре спасение от власти женщины-могилы, с которой окончательно отождествляется его детская любовь Соня Мандрова в момент встречи с Симоном Сербиновым38.
Наконец, сакральные центры «Чевенгура» – могила отца Саши, могила Розы Люксембург в далекой Германии, сам Чевенгур, стоящий на коллективной могиле «буржуев», Москва, где «в могильном сиротстве» лежит мать Симона Сербинова39, – каждый по-своему, схож с Гластонберийским аббатством, где, согласно одной из версий предания о Граале, хранился сам Грааль и находилась могила короля Артура40.
В романе Платонова средневековая основа причудливо просвечивает сквозь сервантесовскую образность (как в случае с Копенкиным-Дон Кихотом или ветряной мельницей), но структурно «Чевенгур» архаичнее, «средневековее» «Дон Кихота»: его никак нельзя назвать «романом о романе», в нем полностью отсутствует карнавально-возрождающее смеховое начало и почти элиминировано авторское41. Он вообще – как бы до-литература или – пост-литература. По крайней мере, вовсе не «роман» в новоевропейском – в значит и в сервантесовском! – смысле слова42. Об этом пишут многие критики, пытающиеся найти жанровую дефиницию платоновскому «эпосу» (наррации). Но при этом они опираются на соседствующие с романом новоевропейские жанры – повесть43, рассказ44. Правда, С. Красовская чувствует, что в случае с «Чевенгуром» следует обратить внимание и на жанры и жанровые структуры, предшествовавшие новоевропейскому роману, новоевропейской литературе как таковой (начавшей определяться как социокультурный институт лишь на закате Возрождения), и называет в качестве возможного жанрового прототипа «Чевенгура» древнерусский жанр хождений45, хотя тут же признает неточность такого сближения.
Представляется, что средневековый жанровый прообраз «Чевенгура» нужно искать за границами Древней Руси – в литературе западноевропейского Средневековья46 – той, что предшествовала Сервантесу47. Авангардист-архаист Платонов, деконструируя творения Сервантеса, Гоголя, Достоевского, возвращается к истокам общеевропейской повествовательной традиции.
«Чевенгур» – «рыцарский роман»: так когда-то «на лету» определил жанр платоновского эпоса М. Эпштейн48. Сегодня это определение, недавно поддержанное В. Е. Багно49, следовало бы уточнить: не рыцарский роман, а повествование, изоморфное средневековому циклу рыцарских романов-повестей, воссоздающее не только мотивы «обрамляющего» эти циклы мифа о поисках св. Грааля, но и сам ансамблевый характер мышления позднесредневековых писателей.
И здесь нельзя не присоединиться к концепции С. Красовской, определяющей «Чевенгур» именно как образование циклического типа: «Своеобразие платоновского повествования, – пишет исследовательница, – коренится в принципиально новом для романа решении проблемы отношений части и целого. Подобно тому, как это происходит в цикле, большая форма, как целое, здесь достаточно выражена, но при этом и малая, как часть, не исчезает окончательно. Будучи пограничным жанровым образованием, "Чевенгур" может быть определен и как максимально стремящийся к роману цикл, и как близкий к циклу роман»50. Единственное, что в этом рассуждении нельзя принять, – мысль о «принципиально новом для романа решении проблемы…»: решение это – достаточно старое, дороманное, если согласиться с тем, что роман как таковой, роман Нового времени, обозначаемый в английском языке словом novel, начался с «Дон Кихота», а большая часть предшествующих ему повествований, как прозаических, так и стихотворных, которые мы по традиции называем «романами», на самом деле были романами средневекового типа, то есть «ромэнсами» (от англ. romance). А для «ромэнс» тяготение к циклизации было более чем обычным явлением51.
И для русского писателя 1920-х годов в сложной композиции «Дон Кихота» начинают прорисовываться контуры пародируемого Сервантесом средневекового рыцарского эпоса – с его выездами и возвращениями рыцаря – не ко двору Артура, так в родное село (в Первой части романа Сервантеса – таких выездов два, во Второй – один), с его временным разрывом-зиянием между двумя частями, на которое приходятся зимняя болезнь и весеннее выздоровление героя, с его «вставными» историями, надолго заслоняющими фигуру центрального персонажа повествования… Наконец, отнюдь нероманная по сути, смерть героя завершает двухчастный роман Сервантеса – свод двух романов, ставших единым, подлинно романным целым, благодаря тому, что Вторая часть «Дон Кихота» не просто продолжает Первую, но включает ее в себя как «текст в тексте»52: однако Платонов, как уже отмечалось, отказывается от выстраивания своего повествования «по вертикали», предпочитая парадигматике синтагматику53.
Сущностная связь «Чевенгура» со средневековыми циклами рыцарских «повестей», тяготевшими к эпической закругленности, к исчерпанности представляемого образа мира, могла бы объяснить и второй (после эпизода с баком) по степени загадочности фрагмент романа – его двойной финал: гибель города от рук неведомого врага и рассказ об уходе Александра Дванова, уцелевшего в роковом для чевенгурцев бою, на дно озера Мутево – поступок, традиционно прочитывавшийся как самоубийство54.
Все попытки «исторически» объяснить, откуда в окрестностях Чевенгура в начале нэпа, когда «революция прошла, как день» и «в степях, в уездах, во всей русской глуши надолго стихла стрельба и постепенно заросли дороги армий, коней и всего русского большевистского пешеходства» (284), появились то ли «казаки», то ли «кадеты на лошадях» (360), оканчивались провалом. Напавшие на Чевенгур враги также не могут быть «бандитами», сопротивляющимися продразверстке (она уже отменена), или внешним врагом, угрожающим оставшейся одной во враждебном капиталистическом окружении Советской России55: «чужие» не только бьются насмерть с чевенгурцами, но и выясняют с ними отношения на чистейшем русском языке, а, главное, в пределах сугубо русской ментальности56. «Чужие» – это «свои».
Думается, ближе всех к разгадке последнего боя чевенгурцев подошел В. Е. Багно, который возвел «сцену гибели степных большевиков… к героическому эпосу, конкретно, к "Песне о Роланде", через посредство "Тараса Бульбы" Гоголя»57. Действительно, происхождение и смысл загадочного финала «Чевенгура» следует искать не в истории, а в сфере исторической поэтики, в существующих моделях жанрового завершения58. Правда, когда Багно утверждает, что подобная эпическая (в жанровом смысле слова) развязка «немыслима» в рыцарских романах, он имеет в виду испанские прозаические рыцарские романы эпохи Возрождения, как правило, имеющие открытые финалы. Но романы-циклы о поисках Грааля, такие как «Ланселот-Грааль», «Смерть Артура», вполне завершены, и завершаются они именно трагически – гибелью утопического артуровского королевства, удалением от мира в монастырь или в отшельнический скит немногих уцелевших героев, двусмысленной «смертью Артура», сопровождаемой сообщением о его отплытии на остров бессмертия Авалон (по тому же водному, артуровскому, пути уйдет в иной мир и Александр Дванов: Артура будут ждать, Александра – искать).
Последняя битва Артура и его рыцарей (см. «Смерть Артура» Т. Мэлори) – это не столько сражение с чужими, сколько ряд кровопролитных стычек со своими – «гражданская война», порожденная распрями внутри артуровского мира, коварством, предательством, изменами самых близких людей: отец убивает сына, сын смертельно ранит отца, брат идет на брата… А у истоков кровавой развязки – некогда воспетая поэтами-трубадурами Вечная Женственность, принявшая обличье королевы Гениевры59: греховная любовь Ланселота и королевы развела Артура и Ланселота по разным станам.
Так и чевенгурская коммуна, изначально лишенная благодати, гибнет не от рук сарацин или турок, белополяков или иной чужеземной силы. Конец Чевенгура предсказан уже в сцене въезда Копенкина на коне в кладбищенскую церковь, где в амвоне заседает сатанинская троица – Чепурный, Прошка и Клавдия Клобзд, и Чепурный «по-рыцарски» просит Прошку – «Ты поласкай в алтаре Клавдюшу…» (186). Напавшее на Чевенгур регулярное войско – материализовавшаяся «тень» коллективного бессознательного Чевенгура, его самоубийственная «анима», отделившаяся от коллективного «тела» коммуны, в результате превратившегося в месиво расчлененных трупов: характерно, что сражающиеся и с той, и с другой стороны, – не один только Копенкин, и не только из-за нехватки боеприпасов – предпочитают пулям сабли, а повествователь дотошно фиксирует результаты сабельных ударов. Мистическое «тело» коммунизма распалось, обнаружив подлинную пра-основу евхаристической символики «Чевенгура»: она базируется не на догмате пресуществления, а на «метаморфозе»60. Пресуществление предполагает присутствие в жизни верующего, в таинстве евхаристии, реальной инобытийной благодати – личности Иисуса Христа61. Метаморфоза разворачивается в плоскости исключительно посюстороннего, материального, телесного и прерывается тогда, когда распадается природная цепь бытия.
На фоне завершившей историю Чевенгура гекатомбы уход Дванова на дно озера для встречи с отцом и появление в опустевшем Чевенгуре его духовного отца – «мастера» Захара Павловича, впрямь, могут показаться обнадеживающими событиями. Но Платонов до конца остается двусмысленно-неопределенным.
Примечания
1 Из статьи 1920 года «Поэзия рабочих и крестьян». Цит. по: Платонов А. П. Сочинения. Т. 1. 1918–1927. Книга вторая. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 88.
2 Таким видится странное «постороннее тело», обнаружившееся в степи, «наиболее пожилому» из них – Петру Варфоломеевичу Вековому.
3 Яблоков Е. На берегу неба (Роман А. Платонова «Чевенгур»). СПб.; Хельсинки, 2001. С. 312–313.
4 Баршдт К. А. Поэтика прозы Андрея Платонова, СПб.: Филфак СПбГУ, 2005. С. 273. Наиболее экстравагантное прочтение эпизода дано в одной из основополагающих работ платоноведения – книге Л. В. Карасева (см.: Карасев Л. В. Движение по склону. О сочинениях А. Платонова. М.: РГГУ, 2002), в которой «бак» уподобляется… консервной банке, которую гоняют большевики-«мальчишки».
5 «Мотив рыбы, – отмечает ученый, – одного из символов Иисуса Христа – появляется в „Чевенгуре“ трижды: в подлещике, которого поймал и отпустил Гопнер, в рыбке, которую поймал в юности Саша Дванов, и в „песне о маленькой рыбке“, которую поет женщина внутри „котла с сахарного завода“» (Баршдт К. А. Там же).
Правда, к упомянутым трем эпизодам можно было бы добавить другие: например, рыбный суп, который съедают попутчики Александра Дванова китайцы, любящие смерть, попытки Кирея косить рыбу из пулемета, сравнение с рыбой самого Чевенгура: он – «весь в коммунизме, как рыба в озере» (здесь и далее «Чевенгур» цит. по изд.: Платонов А. Чевенгур. М.: Советский писатель, 1989. С. 163. Далее страницы романа указываются в тексте главы).
6 Функция инверсии в повествовании Платонова тщательно исследована Е. Н. Проскуриной (см.: Проскурина Е. Н. Поэтика мистериальности в прозе Андрея Платонова конца 20-х – 30-х годов, Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001), отмечающей, что «мифологический прообраз инверсии как таковой – низвержение Сатаны с небес в преисподнюю» (43). Вместе с тем мы не можем принять последовательное кардинальное противопоставление исследовательницей мировоззрения Платонова – якобы «религиозного и „христоцентричного“ в своей основе» (42), мироощущению и жизненным установкам его героев. Тогда тот же «Котлован» (да и другие произведения Платонова) можно рассматривать как «художественное доказательство евангельского тезиса… на уровне минус-приема» (там же, 42–43). Не стоит говорить о том, что всякое «художественное доказательство» по своей сути антихудожественно. Можно лишь заметить, что «минус-прием» – не что иное, как инверсия, и тогда все творчество Платонова – чистейшее люциферианство? В плане оценки авторской позиции Платонова нам значительно ближе концепция Е. Толстой-Сегал (см. прим. 13 к наст. ст.) и взгляды Т. Сейфрида (см.: Seifrid T. Andrei Platonov: Uncertainties of Spirit. Cambridge, 2006).
7 Яблоков Е. На берегу неба (Роман А. Платонова «Чевенгур»). СПб.; Хельсинки, 2001. С. 313.
8 Ко всем многочисленным содержательным перекличкам «Чевенгура» и «Дон Кихота» Сервантеса, о которых писали М. Геллер (Геллер М. Андрей Платонов в поисках счастья, Paris: YMCA-Press, 1982), С. Пискунова (Piskunova S. Dentro – el Quijote // Insula. 1992. n. 292), Н. Арсентьева (Арсентьева Н. Н. Становление антиутопического жанра в русской литературе. Ч. 1–2. М., 1993), Е. Яблоков (Яблоков Е. Указ. соч.), В. Багно (Багно В. Е. «Заблудящие кавалеры» в романе Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 6. М.: ИМЛИ РАН, 2005), в качестве одного из важнейших необходимо добавить сходство эпизода с баком-звездой и истории с тазом-шлемом (baciyelmo – тазошлемом в пер. Н. М. Любимова).
9 См.: Добрякова А. Сравнительный анализ архетипических символов русского язычества и мировых традиций // Россия и гнозис: мат-лы конф. М.: ВГБИЛ, 1999.
10 Возникает вопрос: каким образом Платонов сам мог проникнуть в «тайну» Грааля? Здесь возможны разные гипотезы – от знакомства писателя с ходившими по России рукописями Р. Штейнера (о влиянии Штейнера на Платонова уже писал К. Баршдт – см.: Баршдт К. Указ. соч.) до его приобщения к западноевропейскому Средневековью за недолгое время обучения на историко-филологическом факультете Воронежского университета. Но есть и еще одна отнюдь не гипотетическая версия: «контуры» граалевского мифа не могли не возникнуть перед умственным взором Платонова в процессе чтения сделанного В. Нарбутом на базе перевода М. Ватсон великолепного пересказа романа Сервантеса (установлено Е. Яблоковым – см.: Яблоков Е. Указ. соч.), предназначенного для детского, то есть как бы до-литературного восприятия, сориентированного прежде всего на событийный и театрально-зрелищный аспект сервантесовского повествования. В. Нарбут не только претворил перевод М. Ватсон в образец прекрасной русской прозы, но и сохранил все ключевые эпизоды и темы романа Сервантеса, а также нашел точную амбивалентную интонацию повествования, включающую как комический, так и трагический регистр. Таким образом, граалевский сюжет был деконструирован, Платоновым на базе «Дон Кихота» Сервантеса, содержащего, как относительно недавно было установлено в сервантистике (см.: Dudley E. The Endless Text: Don Quijote and The Hermeneutics of Romance. Albany, 1997), мощный архетипический «кельтский слой».
11 См.: Аверинцев С. С. Грааль // Мифы народов мира. Т. 1. М., 1987.
12 См.: Resina J. R. La bъsqueda del Grial. Barcelona, 1988.
13 «Характерно и то, что молодой Платонов дело преображения мира осеняет именем и образом Христа, – писала еще в 1989 году С. Семенова (см.: Семенова С. «Тайное тайных» Андрея Платонова (Эрос и пол) // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: ИМЛИ РАН, 1994. С. 77), одновременно уточняя: «…космическое толкование Благой вести Христа искривляется у Платонова энергиями разделения и ненависти, которыми был насыщен воздух эпохи» (там же). Другой первопроходец изучения Платонова – Е. Толстая-Сегал – писала о «редкой цельности мировоззрения Платонова» (Толстая-Сегал Е. Мир после конца. М.: РГГУ, 2002. С. 290), с одной стороны, и о неискоренимой двойственности многих его оценок, с другой. Эта двойственность выражается в «безотчетной религиозности» (Л. В. Карасев) Платонова, соседствующей с его человекобожескими (см.: Семенова С. Религиозно-философский контекст и подтекст «Чевенгура» // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 6. М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 34–45) и даже с богоборческими убеждениями. Впрочем, не «соседствующей», а пропитывающей, пронизывающей вычитанные из коммунистических брошюр головные идеи. Этот квази-христианский аспект «русского коммунизма», выявленный Н. А. Бердяевым в его классическом труде, у Платонова претворяется в глубоко-личностное, трагическое переживание «смерти Бога», «одинокого сиротства» людей на земле, человеческого существования как бытия-к-смерти. В любом случае, сегодня неплодотворно представлять Платонова ни последовательным материалистом, ни чуть ли не православным святым.
14 Дмитровская М. А. Антропологическая доминанта в этике и гносеологии А. Платонова (конец 20-х – середина 30-х гг.) // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 2. М.: ИМЛИ РАН, 1995. С. 93–94.
15 Ср. карнавальное прочтение романа в трудах М. Бахтина и его последователя А. Редондо (Redondo A. La otra manera de leer el Quijote. Madrid, 1997).
16 См.: Пискунова С. И. «Дон Кихот»: поэтика всеединства. Указ. изд.
17 См.: Dudley E. Op. cit., Пискунова С. И. Путь зерна. «Дон Кихот» и жатвенный ритуал. Указ. изд.
18 О мотиве созревшего зерна у Платонова и его евангельских коннотациях см.: Дмитровская М. А. Архаическая семантика зерна (семени) у А. Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 4, юбилейный. М.: ИМЛИ РАН, 2000. К сожалению, исследовательница не делает еще одного шага, чтобы связать этот мотив с евхаристией, сосредоточивая внимание на другом сюжетообразующем для прозы Платонова таинстве – крещении (Дмитровская М. А. «…Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие» // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 3. М.: ИМЛИ РАН, 1999).
19 См.: Толстая-Сегал Е. Указ. соч.
20 Именно этот «зад» разрушает идиллию вкушения чевенгурцами исключительно полевых трав, которые, в свою очередь, «питаются» солнечным светом.
21 См. также описание приемов пищи мастеровыми в «Котловане», в которых К. Баршдт справедливо усматривает отнюдь не травестийную аллюзию на таинство причастия.
22 Второй раз это вино появится в сцене вечерней трапезы в доме Софьи Александровны, на которую приглашен Симон Сербинов.
23 Но, быть может, самый выразительный пример травестии церковного таинства в романе – эпизод, в котором взявший власть в Чевенгуре Копенкин запирает Прокофия Дванова в церковном алтаре, используя крест в качестве засова и вручая арестанту кутью для прокорма (ср.: Есаулов И. Звезда и крест в романе «Чевенгур» // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 6. М.: ИМЛИ РАН, 2005).
24 Позднее сам Чепурный будет жаловаться Саше Дванову, что в Чевенгуре совсем не осталось птиц.
25 Этот образ уже возникал в «Чевенгуре» – в момент, отмечающий окончательный уход Саши из дома Двановых, т. е. из природного круговорота смертей и рождений (вечно рожающая и хоронящая своих детей Мавра Фетисовна) – в мир машин и книг, историю и цивилизацию: «…Сирота еще никуда не ушел – он смотрел на маленький огонь на ветряной мельнице» (32). Чуть позднее образ-архетип «мельницы» трансформируется в «ветряной двигатель», который изобретает предгубисполкома Шумилин в надежде, что он «будет… пахать землю под хлеб» (70).
26 См.: Арсентьева Н. Н. Указ. соч. То, что не только Копенкин, но и другие персонажи «Чевенгура» – в первую очередь Дванов, но и Чепурный, и Пашинцев, и Достоевский, – имеют в себе что-то от Дон Кихота, писали С. Пискунова (Piskunova S. Op. cit.), В. Багно (Багно В. Е. Указ. соч.). Однако Платонов очень точно почувствовал, что героем Сервантеса является не один Дон Кихот, а «донкихотская пара» – Дон Кихот и Санчо Панса. Создатель «Чевенгура» распределил между героями «Чевенгура» роли «рыцаря» и «оруженосца» в зависимости от того, какую пару (а иногда и тройку!) персонажей-двойников или «тройников» они составляют в развитии сюжета. Так, Александр Дванов – как наиболее интеллектуально сформировавшаяся личность (границы, которые не перешла его интеллектуализация, чтобы превратиться в эгоцентризм, очерчивает один из его двойников – Симон Сербинов) – вполне трезво оценивает многие поступки и мысли своих спутников, тех же Копенкина или Чепурного, т. е. по-пансовски приземляет их устремления, одновременно… сам подчиняясь полетам их фантазий. Иногда же, напротив, Копенкин ведет себя рассудительнее, чем не только Чепурный, но и Дванов (коммунистический рай Чевенгура ему сразу же кажется поддельным). Со своей стороны, Прокофий Дванов, хотя и не обладает духовными достоинствами Санчо, фигурирует в сюжете как практическая, пансовская, корректива по отношению к своему брату-приемышу Саше.
27 Исследователи предлагают разные версии деления романа на «части», лишь одна из которых – повесть «Происхождение мастера», – будучи опубликованной отдельно (1928), – была «обозначена» автором как внутренне завершенный текст. Мы считаем, что таких частей в «Чевенгуре», по меньшей мере, – четыре: «Происхождение мастера», странствия Дванова, обрамленные встречей с Копенкиным и временным разлучением с ним, когда тот отправляется в Чевенгур (часть, наиболее соответствующая первоначальному названию романа – «Путешествие с открытым сердцем»), история чевенгурской коммуны, в которой повествование выстраивается преимущественно с точки зрения то Чепурного, то Копенкина, наконец, «вечер» Чевенгура, совпавший с прибытием Александра Дванова в город (в эту часть включена новелла о Сербинове и двойная развязка романа).
28 Впервые этот мотив, как и образ ветряной мельницы, возникает в начале странствий-испытаний Дванова: именно от такой раны умирает красноармеец на руках Дванова, идущего пешком на Лиски.
29 См.: Dudley E. Op. cit.
30 Именно к «Ланселоту-Граалю» – через более поздний цикл «Тристан в прозе» – восходит «Амадис Гальский» (1508), один из главных объектов сервантесовской пародии.
31 О том, что «Смерть Артура» является сочинением «переходным» – от цикла из восьми романов-частей к «автономному роману Нового времени», см.: Мортон У. Артуровский цикл и развитие феодального общества // Мэлори Т. Смерть Артура. М.: Наука, 1974. С. 826 и сл.
32 О Чевенгуре как о загробном мире некогда писали В. М. Пискунов и автор этих строк в статье «Сокровенный Платонов» («Литературное обозрение». 1989. № 1), переизданной в кн.: Пискунов В. М. Чистый ритм Мнемозины. М.: Альфа-М, 2005.
33 «Райский» статус Чевенгура подчеркивает и аллегорическая фигура нищего Фирса – змея, буквально приползшего в город и «успокоившегося» на подступе к нему.
34 Обе ипостаси Чевенгура – «рай» и «ад» – объединяет его низинное положение, если вспомнить о древней мифологеме «подземного рая», отразившейся и в «Дон Кихоте», в частности, в рассказе о спуске героя в пещеру Монтесиноса – ключевом эпизоде Второй части романа.
35 О связи образа Александра Дванова со стихией воды писали Л. В. Карасев, М. А. Дмитровская, К. А. Баршдт.
36 Михайлов А. Д. Артуровские легенды и их эволюция // Мэлори Т. Смерть Артура. Указ. изд. С. 797.
37 Как уже было отмечено, у Платонова почти все герои в той или иной степени являются двойниками (в том числе и двойниками-антагонистами) и между ними происходит постоянное перераспределение унаследованных функций (библейских, фольклорных, литературных).
38 См. также: Семенова С. «Тайное тайных» Андрея Платонова (Эрос и пол) // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: ИМЛИ РАН, 1994. С. 104.
39 Ясно, что в годы написания «Чевенгура» (как и позднее) сакральность Москвы обеспечивалась, в первую очередь, могилой-мавзолеем.
40 В «Дон Кихоте» сакральный центр рыцарской утопии перемещается в подземный мир – в пещеру Монтесиноса, где Дон Кихот то ли во сне, то ли наяву лицезреет вынос сердца Дурандарте – шествие, пародирующее вынос дарохранительницы в день Тела Христова.
41 Все эти особенности поэтики (антипоэтики?) Платонова уже зафиксированы в работах Е. Толстой-Сегал 1970-х годов, писавшей о «перспективе серьезного осмысления комического», организующей платоновское, «пронизанное амбивалентностью и иронией повествование» (Толстая-Сегал Е. Указ. соч. С. 287). «Для Платонова, – отмечала исследовательница, – „искренность“ тесно связана с отталкиванием от позиции профессионального литератора. Сознавая обязательность отождествления со своими персонажами как условие „искренности“, Платонов остро чувствовал и художественный потенциал „непрофессионального“, не оформленного жанрово – в рамках существующих жанров – повествования» (там же, 293).
42 Ср.: Арсентьева Н. Н. Указ. соч.
43 См.: Вьюгин В. Ю. Андрей Платонов: поэтика загадки (очерк становления и эволюции стиля). СПб.: Пушкинский Дом, 2004.
44 См.: Красовская С. И. Художественная проза А. П. Платонова. Жанры и жанровые процессы. Благовещенск, 2006.
45 Там же. С. 354.
46 Исследователи идеологического контекста творчества Платонова (см., например, труды Х. Гюнтера) вспоминают о Средневековье достаточно часто, выявляя ориентацию писателя на сложившиеся еще в Средние века, а то и значительно раньше, верования, такие как хилиазм и милленаризм, ереси альбигойцев и богомилов.
47 Такой опыт предпринял А. А. Харитонов (см.: Харитонов А. А. Архитектоника повести А. Платонова «Котлован» // Творчество Андрея Платонова: исследования и материалы. Библиография. СПб., 1995) при анализе повести «Котлован», обратившись к «Божественной комедии» Данте.
48 См.: Эпштейн М. Бог деталей. Народная дума и жизнь в России на исходе империи. М., 1998.
49 Cм.: Багно В. Е. Указ. соч.
50 См.: Красовская С. И. Указ. соч. С. 353.
51 Красовская мельком также отмечает, что «всевозможные мифологические модели цикличности влияли на литературу античности, средневековья и эпохи Возрождения» (там же, 159), но расцвет цикла в литературе она сугубо теоретически почему-то связывает с искусством Нового времени: «с конца XVIII века циклизация как процесс создания циклов и специфическое свойство художе ственного мышления становится особой приметой художественного творче ства» (там же). Здесь можно было бы вспомнить, что среди русских классических романов XIX века существует единственный роман-цикл – «Герой нашего времени». Но те теоретики, за которыми следует Красовская, по-видимому, имеют в виду нечто иное, свое… Другое дело – русская литература 20-х годов XX столетия, в которой – и здесь Красовская приводит множество убедительных доказательств – «эпический цикл… функционально фактически заменил роман как жанр» (там же, 350). Что, скажем, отнюдь не удивительно: ведь началось «новое Средневековье» (Н. А. Бердяев).
52 См.: Бочаров С. Г. О художественных мирах. Указ. изд.
53 См.: Толстая-Сегал Е. Указ. соч. С. 288.
54 Современная критика (см.: Карасев Л. В. Указ. соч.; Вьюгин В. Ю. Указ. соч.; Баршдт К. Указ. соч.) все чаще и не без оснований ставит это однозначное прочтение под сомнение.
55 См., например: Золотоносов М. Ложное солнце: «Чевенгур» и «Котлован» в контексте советской культуры 1920-х годов // Вопросы литературы. 1994. Вып. 5.
56 Ср. выразительнейшие диалог Якова Титыча с зарубившим его затем «солдатом на коне» и разговор Сербинова с тем же «кавалеристом»: «Сербинов поднял на него револьвер. „Ты чего? – не поверил солдат, – я же тебя не трогаю!“ Сербинов подумал, что солдат говорит верно, и спрятал револьвер. А кавалерист вывернул лошадь и бросил ее на Сербинова…» (362–363).
57 См.: Багно В. Е. Указ. соч.
58 В свое время по схожему пути пошли В. М. Пискунов и автор этих строк (см.: Пискунов В. М. Чистый ритм Мнемозины. Указ. изд.), увидевшие в рассказе о гибели чевенгурской коммуны сюжетно развернутую парафразу известного стихотворения Э. Багрицкого «От черного хлеба и верной жены…», по настроению очень близкого платоновской ностальгии по прошедшей революции и неприятию наступающего сытого бездуховного времени. «…Чьи кони по ржавчине нашей пройдут?. Потопчут ли нас трубачи молодые?.» – с горечью вопрошал поэт. Прошли, потоптали, – отзывался поэт-прозаик. Это прочтение и сегодня кажется нам имеющим право на существование.
59 И взявшая кое-что от коварной Вивианы – губительницы Мерлина.
60 См.: Бочаров С. Г. Указ. соч.
61 К. Гинзбург (см.: Ginzburg C. Wooden eyes. Nine Reflections on Distance. London; New York: Verso, 2002. P. 78) связывает появление идеи репрезентации, лежащей в основе всего искусства Нового времени и жанра романа, в частности, с институционализацией таинства евхаристии в Западной Европе на рубеже XII–XIII веков.
Сервантес и булгаков
Появление рядом с именем Мигеля де Сервантеса имени другого Михаила – Булгакова, мастера, незадолго до смерти создавшего пьесу по мотивам «Дон Кихота» и умиравшего с названием романа Сервантеса на устах1, – вполне естественно. Как естественно и то, что всякое рассуждение на тему «Сервантес и Булгаков» исходит из анализа упомянутой пьесы2.
Однако как объяснить то, что в булгаковских текстах, особенно в таком насквозь «цитатном» романе, как «Мастер и Маргарита», где, кажется, присутствует вся история мировой словесности, а в главе 28-й упоминается и роман Сервантеса, практически нет иных отголосков и явных следов сервантесовского повествования? Конечно, именно к Сервантесу, в конечном счете, восходит укоренившийся в европейском романе принцип включения автора в повествование на правах собеседника читателя, хотя творцу «Мастера и Маргариты» он, очевидно, достался не прямо от Сервантеса, а от Гоголя. Общепризнан и тот факт, что жанр «романа о романе», являющийся не просто разновидностью древнейшей повествовательной структуры «текст в тексте», но коренным образом меняющий отношения внутри оппозиций литература / жизнь, вымысел / реальность, автор / герой, сложился под пером создателя «Дон Кихота». Конечно, и тема «мудрого безумия» сущностно связана с сервантесовским романом, но не только с ним, а с тем же «Гамлетом» и с карнавализированной литературой в целом. Но в «безумцах» «Мастера и Маргариты» – в Мастере и его Ученике – нет и следов «донкихотизма»: ведь в «донкихотскую ситуацию» неотъемлемо включен мотив безрассудной отваги рыцаря, в то время как линия судьбы Мастера связана с темой изживания греха трусости, искупления собственного малодушия. В сумасшедший дом – клинику Стравинского – его приводит, как известно, не донкихотовское пренебрежение какими бы то ни было опасностями, а доводящий «до исступления» страх – та самая эмоция, которая не раз комически обыгрывается у Сервантеса в контексте благоразумия Санчо. И нельзя представить себе ничего более противоречащего духу «донкихотизма», нежели полные благоразумной осторожности слова булгаковского Дон Кихота, обращенные к оруженосцу: «…Очень хорошо, что ты догадался сдаться. Ты поступил, Санчо, как мудрец, понимающий, что в отчаянном положении самый храбрый бережет себя для лучшего случая…» (161)3. Приведенная сентенция является парафразой слов и впрямь имеющихся в романе Сервантеса: «…удалиться не значит бежать, а дожидаться врага, когда опасность превосходит все предположения, – это просто безумие; благоразумие велит беречь себя сегодня для завтра и не ставить все на карту в один день» (I, 308)4. Совпадение – почти полное, разница лишь в том, что у Сервантеса эти слова принадлежат не Дон Кихоту, а Санчо и служат его ответом на упреки хозяина, что он, Санчо, «трус по природе».
Антикихотовская готовность к отступлению очень значима для булгаковского Дон Кихота. Именно ею продиктована развязка пьесы, в которой поражение от руки рыцаря Белой Луны совпадает с исцелением героя от душевной болезни, с опустошающим его душу прозрением: «Я узнал ваши глаза в забрале и голос, безжалостно требовавший повиновения… тогда, на поединке. Мой разум освободился от мрачных теней. Это случилось со мной тогда, Сансон5, когда вы стояли надо мной в кровавом свете факелов в замке…» (223). И если смерть сервантесовского героя подготовлена все более и более нарастающей к финалу темой «разочарования» (еl desengaсo) героя в собственной способности изменить мир (но не в самоценности героического деяния как такового), а также тем, что его желание увидеть Дульсинею «освобожденной и расколдованной» так и не исполнилось (852), то смерть Дон Кихота у Булгакова – неизбежное и логическое следствие его признаний господства над собой, над своей волей воли бакалавра Самсона Карраско. Дон Кихот в финале пьесы предстает освобожденным от… собственной свободы. И хотя его преследует болезнь «пустоты», связанная с утратой души и свободы («Я боюсь, не вылечил ли он мою душу, а вылечив, вынул ее, но другой не вложил… Он лишил меня самого драгоценного дара, которым награжден человек, он лишил меня свободы» – 220), в конце концов, булгаковский умирающий рыцарь находит даже некоторое удовлетворение в том, что лишившая его свободы сталь Карраско в то же время вывела его из «плена сумасшествия»: «Нет, нет, я вам признателен» (223). Финал пьесы построен на игре образами «пустоты» и «стали», которая эту пустоту призвана заполнить.
Напротив, Алонсо Кихано умирает у Сервантеса как свободный христианин, признающий над собой лишь одну-единственную власть – милость Божью. И не Сервантесу, а его узурпатору Авельянеде пришла в голову мысль поместить Дон Кихота в сумасшедший дом. Сервантесовского Дон Кихота в сумасшедшем доме абсолютно невозможно представить. И не только потому, что его безумие носит подчеркнуто сакральный, а не клинический характер (хотя делались многие попытки охарактеризовать его с клинической точки зрения), а потому, что сервантесовский герой – это герой открытого пространства: замкнутые мирки, пространство расчлененное, перегороженное, разгороженное для него гибельно. Совсем по-другому у Булгакова: клиника профессора Стравинского – один из вариантов столь любимого писателем мотива дома-убежища, единственное место на этой земле, где уготовано спасение Мастеру (простор – открытое безмерное пространство, пространство «полета Маргариты» и последнего полета Мастера и его возлюбленной – принадлежит уже иному, «магическому», измерению бытия).
Даже эти, самые первоначальные наблюдения, свидетельствуют о том, что художественные миры Булгакова и Сервантеса расположены как бы в разных галактиках, подчинены во многом различным миро-устроительным и этико-эстетическим принципам, что и подтверждает, в первую очередь, булгаковская инсценировка «Дон Кихота». При том что она осуществлена поистине рукой Мастера. При том что Булгаков (ограниченный рамками сцены) старался максимально бережно отнестись к сервантесовскому тексту (точнее, к его переводу). При том что в процессе работы над заказанной ему пьесой заказ превратился во внутреннее побуждение художника.
О глубоко личностном отношении Булгакова к герою сочиняемой им «по мотивам…» пьесы свидетельствует вкрапление в речь Дон Кихота очень личных, булгаковских тем6, перекликающихся с «лирическими отступлениями» «Мастера и Маргариты», как, например, слова Дон Кихота, произносимые вслед скрывшейся Альдонсе: «Исчезла! Угас блистательный луч! Значит, меня посетило видение? Зачем же, зачем ты, поманив, покинула меня? Кто похитил тебя? И вновь я один, и мрачные волшебные тени обступают меня…» (160). Или же появление в пьесе столь близкого Булгакову образа Луны7. Напротив, художественный мир Сервантеса – это мир жгучего ослепительного солнца (вспомним, что умирающий булгаковский герой сравнивает солнце с восходящей на небо колесницей, «на которую не может глядеть человек» – 220), а путь героя Сервантеса, как показано в исследовании Л. А. Мурильо8, во многом воспроизводит путь героя солярного мифа, с луной же у Сервантеса связано враждебное герою начало (одно из обличий преследующего его Самсона – Рыцарь Белой Луны).
Внешне трактовка романа Сервантеса у Булгакова традиционно-романтическая9, в русском изводе – тургеневская (чего еще ждать от «трижды романтического» Мастера?!). Так, вполне в духе тургеневского прочтения романа, в пьесе создан образ Дон Кихота – борца за справедливость. В традициях советской культуры 20—30-х годов идеализируется и чуть ли не выдвигается на первый план Санчо… Все это не удивительно и вполне ожидаемо. В булгаковской пьесе поражает другое: та роль, которая отведена в ней Самсону Карраско – подлинному антагонисту сервантесовского Дон Кихота во Второй части, сумевшему-таки победить рыцаря Печального Образа, взяв на вооружение тот самый рыцарский миф, который питал воображение ламанчского идальго. На то, что Карраско – двойник, узурпировавший рыцарский миф, что он – «тень» идальго, указывают оба его прозвания: Рыцарь Зеркал (II, XIV), т. е. отражений, подражаний, и Рыцарь Белой Луны (как известно, Луна – мифологический двойник-тень Солнца, его отсвет), а о его шутовской природе недвусмысленно свидетельствует его внешность: «Бакалавр, хотя и звался Самсоном, был небольшого роста, но большой пройдоха; с вялым цветом лица, но с живым умом, на вид лет двадцати четырех, круглолицый, курносый и большеротый, что явно свидетельствовало о насмешливости нрава и склонности к шуткам и проказам…» (II, 42).
И этот персонаж превращается в пьесе Булгакова в благородного юношу, в духе того времени – в крестьянского сына, сумевшего благодаря усердию и таланту получить университетское образование и, само собой, вернувшегося из города в родное село. И хотя у булгаковского Дон Кихота и вырываются слова о том, что Самсон – «жестокий рыцарь» (222), в конечном счете он признает своего победителя «наилучшим рыцарем из всех» (220), с кем ему приходилось встречаться во время своих скитаний.
Конечно, подобное переосмысление образа Самсона Карраско, всерьез трактуемого как герой-избавитель, можно попытаться объяcнить и тем, что Булгаков стремился с максимальной добросовестностью воспроизвести в фабуле пьесы отдельные сюжетные ходы Второй части «Дон Кихота», а также следовал сложившейся традиции инсценировок романа. Но рискнем предположить иное: Самсон Карраско был выдвинут Булгаковым на первый план и возвеличен как герой именно потому, что воплощал в романе Сервантеса то миростроительное начало, которое во многом импонировало и Булгакову.
Как свидетельствуют исследования Э. Перкас де Понсети10, Самсон Карраско является в романе Сервантеса живым воплощением духа аристотелизма, под влиянием которого и в полемике с которым складывалось и развивалось зрелое творчество Сервантеса, изначально ориентированное на ренессансно-неоплатоническое видение мира. Впрочем, точнее было бы говорить о духе неоаристотелизма, поскольку речь идет не о философии Аристотеля как таковой, а о ее рецепции в рационалистической культуре Нового времени. О том мощном эстетическом течении, которое возникло в период кризиса Возрождения и стало одним из главных факторов духовной жизни Европы в так называемую «эпоху маньеризма», о поэтике, которая базировалась на аристотелевской идее искусства как подражания («мимесиса»).
Аналитический, завершающе-исчисляющий разум, «опыт» – постоянно соизмеряющий Книгу и Жизнь, образы искусства и реальность – вот что определяло ментальность европейских интеллектуалов начиная со второй трети XVI века. В эстетике неоаристотелизма эта ментальная установка воплотилась в идеал правдоподобного вымысла – «поэтического» (вымышленного) повествования, которое обладало бы всеми атрибутами повествования «исторического» (истинного). Сделать это было необходимо для осмысления опыта нового, на их глазах рождающегося жанра – романа (хотя термином этим в современном значении слова они еще не пользовались, а говорили о «прозаической эпопее»). Именно в романе (точнее, в романе Нового времени, а не в «книгах о рыцарстве» – libros de caballerнas, которые только много позднее будут названы «рыцарскими романами») строгая аристотелианская дихотомия «поэзия – история» подменяется динамической оппозицией «мир романа – мир реальности», оба члена которой то и дело меняются местами, свидетельствуя тем самым о взаимной проницаемости обоих миров. Однако эту внутреннюю подвижность разных планов романа неоаристотелики (да и вся новоевропейская эстетика доромантической поры) уловить не смогли. Поэтому последователи Аристотеля старались как бы совместить оба мира – реальности и «романа» – в одной плоскости (ср. программу создания «совершенного» рыцарского романа, изложенную каноником-аристотеликом в ХLVIII главе Первой части «Дон Кихота»). Тем самым неоаристотелизм в конечном счете подчинял воображение (поэзию) власти действительности.
Необходимость такого подчинения – навязчивая идея Булгакова второй половины 30-х годов. Об этом выразительно свидетельствуют не только развязка пьесы «Дон Кихот» (в которой герой, жертвуя своей душой, благодарно капитулирует перед стальным взглядом беспощадного Самсона), но и подчеркивания Булгакова в статье И. Миримского о Гофмане, которую писатель с жадностью перечитывал летом 1938 года – как раз во время дописывания «Дон Кихота»: «Если гений заключает мир с действительностью, – пишет Миримский и подчеркивает Булгаков, – то это приводит его в болото филистерства….если же он не сдается действительности до конца, то кончает преждевременной смертью или безумием»11. Дон Кихот Булгакова не заключает мира с Карраско: он сдается ему до конца, спасаясь от безумия – но не от смерти.
По неоаристотелианским канонам и был написан последний, посмертно опубликованный (в 1617 году) авантюрно-аллегорический роман Сервантеса «Странствия Персилеса и Сихизмунды»12, который он создавал параллельно с «Дон Кихотом» и считал лучшим своим творением. Напротив, «Дон Кихот», в отличие от аристотелианского «Персилеса», – роман, в котором аристотелианская модель художественного творчества, декларируемая Самсоном в качестве идеала13, оказывается отвергнутой: эстетика «подражания» здесь подчинена эстетике «изобретения» (inventio), вымысел творится без соблюдения законов правдоподобия, художественная целостность определяется не тем, что автор находится в центре повествования и держит в руках все его нити: она возникает в сознании читателя всякий раз заново, в процессе пересозидающего чтения текста. Эстетика правдоподобия в «Дон Кихоте» то и дело подвергается ироническому осмеянию, а носитель духа аристотелизма Самсон Карраско – при всем, впрочем, сомнительном, благородстве своих намерений – отнюдь не герой Сервантеса. Но он – герой Булгакова, герой булгаковской пьесы, которая во многом оказывается своеобразной аристотелианской транскрипцией сервантесовского романа.
И такой поворот нам кажется далеко не случайным. Ибо Булгаков-«мистик», «трижды романтический мастер», предстает в свете творчества Сервантеса не только продолжателем романтической традиции (этого его амплуа мы отрицать не собираемся!), но и законным наследником рационализма Нового времени, включающего в себя и европейский неоаристотелизм ХVI – ХVII веков, и реалистическую эстетику правдивого мимесиса.
Органичное сосуществование романтического, «метафизического» и «физического», научно-экспериментаторского подходов в художественном мышлении Булгакова может быть объяснено тем, что для творца «Белой гвардии» и «Мастера и Маргариты» XIX век, на который его проза была преимущественно сориентирована, был притягателен как единая культурно-историческая эпоха во всей ее антитетической целостности, неразложимая на брандесовско-школярские стили и направления, борющиеся друг с другом и сменяющие друг друга во времени.
К сожалению, проблема XIX столетия как культурно-исторической эпохи поставлена сравнительно недавно14, и здесь не место и не время пытаться хотя бы набросать контуры ее решения15. Но нельзя не заметить, что, говоря о XIX веке как об эпохе, как о внутренне структурированном целом, мы предполагаем, что и романтизм, и реализм, и все другие «измы» этого «столетия», протянувшегося от французской революции до первой мировой войны, при всей их внешней непримиримости исходили из неких общих представлений о месте человека в мире и о мире как таковом. Сегодня культура XIX века предстает перед нами как диалог двух основополагающих тем: темы «самости», объективной сущности реального мира (пускай для романтиков «действительное» – тюрьма, плен, гнет грубого материального мира, для реалистов – жизнь, законы которой следует познать, для натуралистов – «реверс» романтического Рока, непреодолимые оковы плоти и социума) и – диалектически дополняющей ее темы свободы (пускай, опять-таки, у романтиков свобода индивида возведена в абсолют, пускай реалисты сопрягают ее с темой ответственности «я» и «правды» жизни, а натуралисты вроде бы и вовсе перечеркивают, хотя сама их маниакальная сосредоточенность на опровержении идеи «человек – существо свободное» выдает в них «детей» своего времени). Обе эти темы, сконцентрированные в открывающем двадцать первую главу романа Булгакова возгласе Маргариты «Невидима и свободна!» и в возгласе Мастера «Свободен!», обрушивающем в последней главе скалистые стены тюрьмы Понтия Пилата, образуют основные координаты художественного мира Булгакова – продолжателя духовных и эстетических традиций XIX столетия16.
Конечно, как отмечала М. Чудакова17, демонстративное следование Булгакова заветам минувшего века коррелировало с его бытовой, жизненной выброшенностью за границы этой эпохи и ее культурного космоса. Однако, быть может, именно трагическая разлученность писателя со своей духовной родиной, его обреченность увидеть – подобно Борису Пастернаку – XIX столетие разбившимся о «плиты общежитий» только и могли создать перспективу, в которой «вечный дом» Мастера был бы виден во всех подробностях, со всеми его атрибутами – от реторты естествоиспытателя до романтической свечи у открытого рояля.
Вот так же, уже издалека, из праздничной суеты торжествующего XVII века, всматривался Сервантес в образы мистического и героического века XVI-го, века испанского Возрождения. Всматривался, сознавая правду Нового времени и оставаясь верным духовным заветам Ренессанса, ренессансному «мифу о человеке» (Л. М. Баткин). Эта двухфокусная оптика и породила особый строй сервантесовского романа, являющего собой «контрапункт» эмпирического реального мира и «романа сознания» Дон Кихота, «критического сознания нового времени и "онтологического" сознания странствующего рыцаря»18. В то же время, мир «романа» Дон Кихота и реальный мир у Сервантеса не только контрапунктны, но и взаимопроницаемы (даже взаимообратимы!), и эта их взаимопроницаемость, разрушение границ «книги» и «жизни», «рыцарских бредней» и «истинной истории» Рыцаря Печального Образа перечеркивает аристотелевское противопоставление Поэзии и Истории. Напротив, вплоть до последних глав «Мастера и Маргариты»19 Булгаков придерживается разграничения20 его основных повествовательных планов21 – «романа Мастера» и «романа о Мастере», или так называемых «московских» и «ершалаимских» глав. Это разделение соответствует обозначенной дихотомии Поэзия / История с той, однако, оговоркой, что «московские» главы романа Булгакова, которые, казалось бы, должны соотноситься с современностью и повседневностью, созданы по законам Поэзии, то есть пародийно-игрового, «фантазийного» вымысла, а главы «ершалаимские», отделенные от автора и читателя огромным временем и пространством, преодолеваемыми лишь творческим воображением, выстраиваются по законам Истории – как повествование о действительно бывшем. Мастер, а вместе с ним и создатель «Мастера и Маргариты» убеждены в том, что исторические события (предательство Иуды, трусость Пилата, казнь Иисуса Христа) могут и должны быть запечатлены – со всеми подробностями и деталями – в не терпящем двусмысленных толкований единственном тексте, тексте, содержащем в себе всю истину22. Таковым текстом и является «роман о Пилате», который Мастер провидел, «угадал», то есть не сочинил, а как бы записал под диктовку Высших Сил, избравших его (а не Левия Матвея!) «транслятором» Истины. Поводом же для избрания Мастера на эту роль служит несомненное сходство его судьбы и его личности с судьбами и личностями обоих главных участников событий, разыграв шихся в Ершалаиме в дни ареста и распятия Иисуса Христа, равно как с судьбой и личностью самого Булгакова. То есть героев романа Булгакова (а также самого автора) связывает известная из «Дон Кихота» цепь двойничества (подразумевающего и контрастные противопоставления персонажей друг другу и своему творцу).
А вот «московский» план первой части романа построен на гротескном сочетании сатирической фантазии и лирической исповеди (рассказ Мастера о своей любви и пережитых им испытаниях, связанных с созданием романа о Пилате). При этом автор устраняется из повествования: рассказ о появлении в Москве Воланда и о вторжении «нечистой силы» в судьбы московских обывателей соотнесен с образом незримого свидетеля происходящего, в своей речи пародически (в тыняновском значении слова, то есть непредумышленно) имитирующего газетную хронику, фельетон, массовую беллетристику («научную» фантастику, детектив). Сам стиль его «сообщения» – воплощение логики повседневности, которая стремится истолковать вопиющий, невозможный в повседневной жизни факт как несуществующий, то есть как галлюцинацию, провал памяти, глупое совпадение и т. д.: именно такой логикой руководствуется большинство персонажей «московских» глав.
Но эта логика парадоксально дублируется у Булгакова другой, по-своему обосновывающей правдоподобие происходящего в романе: математически строгой логикой универсального детерминизма, царящей в мире Воланда, мире вечного «настоящего», мире познания и всемогущества, «идеальном мире научного теоретизирования»23 – в том понимании задач науки, которое сложилось в европейской культуре XVII–XVIII веков. «Согласно такому пониманию, задача науки состоит в том, чтобы охватить весь мир, проследить путь всех вещей мира, объяснить все факты каузально и, наконец, создать единую грандиозную картину мира, где будет представлена вся жизнь Вселенной – от ее начала до ее конца»24. Всесильная Наука выступает в сознании обывателей XX века («культурных людей», согласно иронической дефиниции Булгакова) самым надежным залогом изгнания «сверхреального» из опыта повседневности. Принципом, объединяющим здравый смысл и науку, служит детерминизм, стремление к установлению связи причин и следствий, к созданию скрепленной «единством» времени и действия «правильной» картины «правильного» мира – за вычетом метафизических основ его существования.
Конечно, есть и другая логика – логика символического истолкования окружающего человека мира. Согласно ей, сверхъестественный с точки зрения здравого смысла факт, который не удается «нормализовать» и тем самым отодвинуть за границы обыденного сознания, необходимо интерпретировать как указание на нечто иное, чем повседневность, т. е. на иную смысловую сферу. Так вот у Булгакова не поддающиеся «повседневному» осмыслению факты «московских» глав отнюдь не интерпретируются как символы, указывающие на существование трансцендентного бытия25, не служат средством для установления контакта с этим бытием: «Нигде в романе, – справедливо указывает Л. Г. Ионин26, – не идет речь о преднамеренных, целеустремленных попытках установления коммуникации с другой реальностью, но повсюду – лишь об обороне повседневности… Это относится даже к самому уверенному в существовании других реальностей герою – Мастеру»27. Реальность, замкнутая на самой себе, интерпретирующая сверхреальное то как душевную болезнь, то как результат деятельности тайных преступных сил, то как козни нечистой силы, ограждается от сверхреального, апеллируя к традиционным социальным институтам: медицине, милиции, научному сообществу. Этой логике готов подчиниться и сломленный преследованиями, загнанный и обессилевший Мастер – творец романа о Пилате, уничтоживший – предавший – свое творение, готовый признать себя сумасшедшим…
Чуть ли не единственный образ-символ в «Мастере и Маргарите» – грозовая туча, заслоняющая солнце над Москвой перед апокалипсической развязкой, когда библейский и космически-земной планы «Мастера и Маргариты», до того строго параллельные друг другу (на чем и основаны все аналогии между Ершалаимом и Москвой, Христом и Мастером, Мастером и Пилатом и т. д.), впрямь сходятся в единой точке Конца Света и… торжества Милосердия. На протяжении же почти всего романа «библейский» и «современный» миры у Булгакова никак впрямую не соприкасаются. Поэтика романтического двоемирия торжествует почти на всем пространстве булгаковского повествования независимо от числа повествовательных планов или разных «пространств» (у разных интерпретаторов их число разное, но почти всегда – четное), из коих складывается хронотоп романа. Двоемирие трансформируется в единую мифопоэтическую реальность лишь в последних главах «Мастера и Маргариты» (29–32).
Случайно или неслучайно эти главы были написаны после переиздания нового русского перевода «Дон Кихота» в издательстве Academia в 1934–1935 годах28, представившего русскому читателю относительно адекватный образ оригинала подвигшего Булгакова на инсценировку сервантесовского романа (1937–1938 годы). Но если пьеса была написана еще во вполне романтической традиции с акцентом на донкихотовском мифе, то опыт Сервантеса-романиста, как нам представляется, пригодился Булгакову для завершения своего принципиально незавершимого творения29.
Дон Кихот – персонаж Второй части романа Сервантеса, которая, как известно, построена на том, что многие ее герои читали Первую часть или слышали от ней, – романа о себе не читал. Но о нем наслышан и поэтому в беседе с Самсоном Карраско со знанием дела интересуется точностью изложения его истории в «Дон Кихоте» 1605 года.
Понтий Пилат – вполне реальный исторический персонаж (в этом качестве он и фигурировал в «романе о Дьяволе»). Но в финале «Мастера и Маргариты» именно он, а не Иешуа Га-Ноцри(!)30, приобретает статут «выдуманного» героя, а Иешуа – становится читателем романа о Пилате. Иешуа «прочитал сочинение Мастера» (350), одобрил его, но заметил, что в нем нет окончания. Нет разрешения судьбы подлинно романного героя (ведь слово «судьба» к самому Иешуа вовсе не приложимо, да и в герои романа он не годится…), могущественного властителя и слабого человека – Пилата. Окончание романа Мастера зависит от определения посмертной участи Пилата, обретающего по милосердному волеизъявлению Иешуа свободу: «Тут Воланд опять повернулся к Мастеру и сказал: – Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одною фразой!» (370).
В свою очередь, завершение романа о Пилате определяет и судьбу Мастера, который так же, как и «сын короля-звездочета», получает свободу, то есть право ухода из жизни и обретения покоя. Определяется будущность и самого Булгакова: незаконченность романа, о чем пишут все биографы, магическим образом продлевала жизнь писателя. История становится «поэзией», «романом», литературой, а литература – жизнью, органической составляющей которой является смерть… А именно в процессе взаимопревращения превращения слова – в деяние, истории – в поэзию, литературы (текста) – в жизнь, уничтожения онтологических различий между героем, автором и читателем, под пером Сервантеса сложился новоевропейский роман. В этом смысле «Мастер и Маргарита» встраивается в линию развития жанра, начатую Сервантесом:
Но хотя «роман» Мастера в вечности, там, где «рукописи не горят», получает завершение, как запечатанный в бумажные тетради текст он не будет завершен никогда: дописать роман о Пилате Мастер завещает Ученику – Ивану Поныреву, который в силу своего ум ственного состояния не сможет этого сделать! Задача завершить – дописать! – «Мастера и Маргариту» как целое ложится на плечи самого Булгакова. Так появляется Эпилог, изоморфно воссоздающий весь предшествующий последним главам строй романа. Романтическое двоемирие восстанавливается в нем во всей своей четкости: в «московские» микросюжеты с «окончательным» псевдорациональным объяснением случившегося как «текст в тексте» (традиционнейший повествовательный прием) вставлен провидческий (наркотический) «сон» Ивана Понырева, представляющий новую версию посмертного существования Мастера. Таким образом, Эпилог предлагает очередное удвоение фабульной развязки романа (первая дихотомия касалась смерти Мастера и Маргариты, происходящей одновременно в двух измерениях бытия – магическом (преображенный визитерами из преисподней подвал Мастера) и – в «реальном» (особняк Маргариты и клиника Стравинского31).
В последних главах «Мастера и Маргарита» вполне обнаруживается то мировоззренческое кредо, на котором роман выстроен: это – не только манихейское представление о равноправии, равновесности сил Добра и Зла, Бога и Дьявола в порядке мироздания (судьба Пилата, Мастера и романа Мастера зависит от «просьбы» Иешуа, адресованной… Дьяволу), но и гностическое (хотя и во многом христианское) убеждение в исконной греховности, падшести посюстороннего мира. Как следствие – рождается представление о том, что Богу в этом мире – не место. Даже если Господь и захотел бы что-то в мире людей, на земле, в посюсторонности изменить, за кого-то вступиться, кому-то воздать по заслугам, то сделать это он может только… руками Сатаны. Дьявол – неизбежный посредник между Иешуа и «добрыми людьми».
В «перевернутом» мире «революционного карнавала» (К. Платт) Воланд у Булгакова исполняет обязанности восстановителя справедливости, осуществляя воздаяние и неся прощение. Хотя последнее он делает подчеркнуто не по своей, не по «доброй воле». «Доброй воли» у булгаковского Дьявола, конечно же, нет. Но и злой тоже: ее носители в романе Булгакова – те самые люди, которых Иешуа по-донкихотски считает «добрыми». Дьявол лишь осуществляет или «доводит до ума» ими задуманное. Отсюда – неизменно позитивное! – читательское восприятие не только образов Иешуа и Мастера, но и образа Воланда и его подручных. Равно как и возлюбленной Мастера – Маргариты, становящейся ради спасения любимого ведьмой.
Нет ничего сомнительного, противоречивого, двойственного в авторской оценке и в читательском восприятии большинства «отрицательных» персонажей романа. А ведь именно двойственность – наряду с игрой, метатекстуальностью и процессуальностью (все эти понятия не раз возникали на страницах этой книги при обращении к роману Сервантеса и романам «сервантесовского типа») – выдвигается современными интерпретаторами романа Булгакова на первый план32. Как нам представляется, двойственность (амбивалентность) – категория преимущественно оценочная, а не конструктивная. Двойственность – не двоемирие, не дихотомичность, не традиционная дуальная модель организации художественного мира, не «текст в тексте» и даже не наличие двух (и более) повествовательных инстанций… Сущность двойственности как принципа авторского поведения заключается в предоставлении читателю свободы выбора между, по меньшей мере, двумя оценками того или иного героя или события, двумя (и более) сущностными, смысловыми пониманиями одного и того же текста, изображение одного и того же события (факта, объекта) с двух разных точек зрения, в двух (и более) перспективах. Это – отказ автора от окончательного разрешения (провидения, фиксации) как судеб героев, так и судьбы мира (именно с такой двойственностью мы сталкиваемся в «Мы», в «Чевенгуре», если брать ближайших современников Булгакова). У Булгакова есть варианты сюжетного развития любовной линии романа, но и судьба Мастера, и судьба Пилата разрешены однозначно: оба обретают покой и свободу. Покой обретает и Иван, но покой несвободы (механического повседневного существования в профессорском обличье), покой забвения, утраты памяти (Булгаков не случайно снял последний абзац последней главы романа, где речь шла об угасании памяти Мастера!33).
Две версии конкретизации посмертной участи Мастера – «Вечный Дом», идиллический приют вдохновенья в царстве теней, который обещают Мастеру Воланд и Маргарита (вряд ли Дьявол здесь лжет – ведь он хочет выполнить просьбу Иешуа), и – восхождение под водительством Вечной Женственности в область Света, привидевшееся Ивану, воплощают смятение самого Булгакова, в последние месяцы жизни сосредоточенного на мысли «что там, за гробом?»34. Читателю только остается гадать (а не выбирать!)… В какой мере здесь проявилась двойственность позиции автора, а в какой – вариативность прагматического (а не сущностного) завершения сюжета? Забвение, утрату Мастером своего «я» писатель, в конечном счете, отверг, но и восхождение (вполне в соответствии с масонским учением) Мастера в область света – к луне – представил как наркотическое видение его несостоявшегося ученика. Более того: финал Эпилога с его «эпическим повтором», отсылающим к сочинению Мастера, построен так, чтобы создать впечатление, что неким наркотическим сном является и весь дочитываемый читателем роман, уходящий на дно памяти Ивана, подобно тому как за спиной летящего в свите Воланда Мастера уходит в землю, оставляя по себе только туман, Москва… История закончена. «Все кончилось и все кончается» (384). Роман «Мастер и Маргарита» свивается «как свиток», один текст «запаковывается» в другой, этот, другой, окольцовывает первый… И вновь восстанавливается нерушимая граница между художественным вымыслом и реальностью, романтическим воображением и прозой жизни.
Примечания
1 См. об этом: Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. М.: Книга, 1988. С. 481.
2 См., например, главу «Романтическое ви?дение» из книги Джулии Кертис «Последнее десятилетие Булгакова: писатель в роли героя» (Curtis J. A. E. Bulgakov's Last Decade: The Writer as a Hero. Cambridge, 1987. Русский перевод в журнале «Литературное обозрение» (1991. № 5), посвященном 100-летию со дня рождения М. А. Булгакова. См. также: Есипова О. Пьеса «Дон Кихот» в кругу творческих идей М. Булгакова // М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М.: Союз театральных деятелей РСФСР, 1988.
3 Здесь и далее цитируется по изданию: Булгаков М. Собрание сочинений. Т. 5. 1990. М.: Художественная литература. Ссылки на страницы – в тексте главы.
4 Здесь и далее цитируется по русскому переводу, которым, скорее всего, пользовался Булгаков: Сервантес Сааведра Мигелъ де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский / Пер. под ред. и с вступ. ст. Б. А. Кржевского и А. А. Смирнова: В 2 т. М.; Л.: Асаdemiа, 1934–1935. (Первое издание: 1929–1932). Цитируемые том и страницы указываются в тексте главы.
5 Буквальная транслитерация испанского написания имени библейского героя: Sanson, которое Булгаков воспроизвел по испанскому тексту романа Сервантеса, бывшему у него под рукой. Булгаковское написание имени Самсона Карраско сглаживает пародийное звучание оригинала, в котором имя библейского героя соединяется с фамилией, означающей название низкорослого дуба (что-то вроде Самсон-дубок). Еще одна попытка Булгакова возвысить противника Дон Кихота?
6 «Эта пьеса, – справедливо отмечает А. Кораблев, – может быть наиболее личная. Маска полубезумного странствующего рыцаря, избранная автором на этот раз, оказалась исключительно удачным и естественным дополнением его литературного портрета. В монологах Дон Кихота слышатся интонации, знакомые нам по самым задушевным и пронзительным строкам булгаковских романов» (Кораблев А. Время и вечность в книгах М. Булгакова // М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. Указ. изд. С. 53).
7 Мотив Луны в пьесе исследован в указ. статье О. Есиповой. О его значении в «Мастере и Маргарите» пишут и все комментаторы романа. См., например: Белобровцева И., Кульюс С. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Комментарий. М.: Книжный клуб 36.6, 2007.
8 Murillo L. The Golden Dial. Temporal Configuration in «Don Quijote». Oxford: The Dolfin Book, 1975.
9 См. об этом в указ. ст. О. Есиповой.
10 См.: Percas de Ponsetti E. Cervantes y su concepto del arte. V. II. Madrid: Gredos, 1975.
11 Цитир. по изд.: Булгаков Михаил. Письма. Жизнеописание в документах. М.: Современник, 1989. С. 456.
12 См. главу этой книги «Роман и риторическая традиция (Случай Гоголя и Сервантеса)». Как мы пытались показать, «Персилес» имеет немалое типологическое сходство со вторым томом «Мертвых душ».
13 «…Одно дело – писать как поэт, а другое – как историк; поэт может рассказывать и петь о событиях не в том виде, в каком они действительно были, а в том, как они должны были быть, между тем как историк обязан описывать их не такими, какими они должны быть, а какими действительно были, причем он не может ни прибавить, ни убавить от истины ни единого слова» (II, 46).
14 См.: Михайлов А. В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры. М.: Наука, 1989.
15 Предлагаемая эскизная модель европейской культуры XIX века родилась в процессе весьма полезных для автора бесед с А. В. Карельским, которому и принадлежит приведенная формула лейтмотивной темы XIX столетия.
16 Это утверждение не снимает проблемы связи творчества Булгакова с писателями символистского круга и с постсимволистами, в том числе с футуристами (тем же Маяковским), акмеистами (см. ст. Л. Кациса в указ. номере «ЛО»). Однако наличие в текстах Булгакова многочисленных реминисценций из произведений писателей-современников, разного рода символистских или акмеистских подтекстов, на наш взгляд, еще не дает оснований для отождествления фундаментальных поэтологических и мировоззренческих основ его творчества и творчества писателей, «отряхнувших со своих ног» «прах» миновавшего столетия.
17 См., напр.: Чудакова М. Некоторые проблемы источниковедения и рецепции пьес Булгакова о гражданской войне // М. А. Булгаков – драматург и художественная культура его времени. Указ. изд. С. 85 и след.
18 Бочаров С. Г. О композиции «Дон Кихота». Указ. изд. С. 32, 34.
19 В 28-й главе «Мастера и Маргариты» Левий Матвей, лицо, ну никак не выдуманное, пересекая границу посюстороннего и потустороннего миров, оказывается на баллюстраде Румянцевского музея в одном измерении с Воландом, его подручными и… прочими обитателями Москвы. Здесь-то и стирается граница между романом Мастера и романом о Мастере и Маргарите (героине второй части).
20 Подчеркивая слово «разграничение», мы в целом не приемлем популярную концепцию «Мастера и Маргариты» как «романа-мифа», в котором «прошлое и настоящее, бытовая реальность и сверхреальность – это просто одно и то же, единая субстанция, переливающаяся из одного состояния в другое по тысячам каналов» (Гаспаров Б. М. Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Даугава. 1989. № 10. С. 96–97). Приведенная характеристика (см. далее) относится разве что к последним четырем главам романа. В основе концепции Б. М. Гаспарова лежит представление о том, что события, описанные в Евангелии, по своей сути – «миф», который-де у Булгакова «превращается в реальность». Однако для творца «Мастера и Маргариты», даже если предположить, что он был простым последователем Э. Ренана (хотя на самом деле его отношение к христианству было значительно сложнее), события, имевшие место в Иерусалиме в начале нашей эры, были самой что ни на есть исторической реальностью, а события, происходившие в Москве, – плодом его фантазии, сатирическим и, вместе с тем, романическим вымыслом. На «очевидной противопоставленности двух линий романа» справедливо настаивает и Г. А. Лесскис, отмечая при этом, что они «заканчиваются в одной пространственно-временной точке» (Лесскис Г. А. Последний роман Булгакова // Булгаков М. Собрание сочинений. Т. 5. Указ. изд. С. 618).
21 Повествовательный план, зависящий от ракурса (как модального, так и нарративного), в котором строится повествование, не вполне совпадает с пространством повествования как предметом изображения: разные пространства, вмещающиеся в «нехорошую квартиру» 50, принадлежат, однако, одному повествовательному плану – «московским» главам, множась и сталкиваясь по законам романтического гротеска.
22 Читатель Булгакова (вместе с Мастером) может сомневаться в точности изложения Левия Матвея, но не в истинности художественного провидения творца романа.
Ср.: «универсальный принцип обращения Булгакова с евангельскими текстами состоит в том, что писатель постоянно сохраняет двойственность», которая проявляется в том, что «Евангелия одновременно и опровергаются, и подтверждаются» (Белобровцева И., Кульюс С. Указ. соч. С. 42).
23 См.: Ионин Л. Г. Две реальности «Мастера и Маргариты» // Вопросы философии. 1990. № 2. С. 48.
24 Там же. Именно поэтому (а не по логике мифа) прошлое не исчезает, а, как и будущее (включая конец света), соприсутствует в настоящем. Поэтому текст истории, запечатленный в романе Мастера, существует независимо от того, целы ли тетради, в которых он записан (потому-то «рукописи не горят»!), независимо от способа его фиксации: тут годна и память свидетеля происшедшего, того же Воланда, и первый из провидческих снов Ивана Бездомного, и взгляд Маргариты, читающей одну из сожженных Мастером тетрадей с записью романа.
25 При том, что они могут быть мотивами и образами-загадками, закодированными не только на языке разнообразных культурных и религиозных систем, но и простыми литературными и бытовыми аллюзиями, исчезающими из памяти читателей последующих поколений (см. их расшифровку в книгах и статьях Б. Гаспарова, И. Галинской, Е. Яблокова, И. Белобровцевой и С. Кульюс, а также других исследователей).
26 См.: Ионин Л. Г. Указ. соч.
27 Там же. С. 49–50.
28 Переиздан в серии «Литературные памятники» (изд-во «Наука») в 2003 году.
29 Перед страдающим тяжелой почечной недостаточностью Сервантесом – создателем Второй части «Дон Кихота – стояла та же задача: расправиться с литературным врагом – «Авельянедой»… завершить свой «открытый», «процессуальный» роман… успеть…
30 В одном из вариантов романа вымышленным персонажем именовался именно Иешуа.
31 Упомянутые в Эпилоге похищение Мастера из клиники Стравинского и исчезновение Маргариты и ее домработницы – не осознанный вариант развития сюжета, а, скорее, следствие авторского недосмотра.
32 Ср.: «Двойственность – основополагающий конструктивный признак организации МиМ», который «проведен на всех уровнях текста», а именно: «На композиционном (роман в романе, или «текст в тексте»), в виде двоемирия (реальный и трансцендентальный миры); в существовании двух пространственных и временных миров (Москва и Ершалаим), в проблеме авторства (Мастер как автор ершалаимского текста и повествователь / повествователи в московской сюжетной линии), на уровне мотивном…» (Белобровцева И., Кульюс С. Указ. соч. С. 77).
33 См. комментарий И. Белобровцевой и С. Кульюс к последнему абзацу 32-й главы.
34 Любопытно, что комментаторы романа, так на двойственности Булгакова настаивающие, не имеют никаких сомнений в том, что Мастер вместе с Маргаритой, в конечном счете, уходит в «локус Иешуа» – к Луне.
«Дон Кихот» и «Роман сознания» (Вместо заключения)
Термин «роман сознания», уже возникавший на страницах этой книги, сегодня нередко фигурирует в исследованиях, посвященных модернистской и постмодернистской прозе1, хотя область его применения в словарях и справочниках по поэтике никак не оговаривается. Очевидно, использующие его ученые предполагают, что смысл обсуждаемого словосочетания достаточно ясен, равно как и содержание близких к нему обозначений, таких как «роман потока сознания», «роман самосознания», «роман, сознающий себя» (наделенный самосознанием, самосознательный – self-conscious). Последний тип романного дискурса, в свою очередь, приравнивается к «метароману» (или метаповествованию, к «роману о романе»), чему и посвящена не раз упоминавшаяся нами книга Р. Алтера «Скрытая магия»2. Для нас особый смысл имеет то обстоятельство, что для Алтера «сознающий себя» роман – отнюдь не новация XX столетия, а весьма почтенная традиция, которая рождается… с самим романом Нового времени – с «Дон Кихотом» Сервантеса.
Вместе с тем в современной сервантистике, прежде всего в ее англо-саксонской ветви, сложилась противоположная тенденция – к отрицанию романной природы «Дон Кихота» в принципе, соответственно – и основополагающей роли творения Сервантеса в истории жанра novel3. Мотивируется это тем, что в истории хитроумного идальго (и с этим не поспоришь!) нет ни саморазвивающихся характеров, ни психологической глубины в разработке образов (прежде всего, двух главных героев), нет и соотнесенного с их духовной эволюцией логично развивающегося сюжета, то есть всего того, что отличает европейский социально-психологический роман XIX столетия.
Впрочем, психологической глубины нет в образах героев многих европейских романов XVII – начала XVIII столетий (достаточно вспомнить испанскую пикареску, «Робинзона Крузо», «Тристрама Шенди», «Кандида», «Жака-фаталиста», «Вильгельма Мейстера»)… Эти произведения пытались интерпретировать как романы-мифы («Робинзон Крузо»), как философские или аллегорические романы, но в любом случае ясно, что эта романная традиция возникла и развивалась вне сферы влияния психологической прозы, разве что в пародийной полемике с сенсуализмом и базирующимся на нем психологизмом («Тристрам Шенди»). Зато очевидно, что творцы перечисленных произведений внимательно читали «Дон Кихота». Поскольку Сервантес представил в «Дон Кихоте» не только первый образец «самосознательного» метаповествования (и здесь Р. Алтер и его предшественник Г. Левин совершенно правы), но и архетипическую модель «романа сознания» – жанра, который характеризуется тем, что главным предметом изображения в нем является не «психология», то есть предметно воссозданный «внутренний мир» вымышленного персонажа, так или иначе соотнесенный с его пребыванием в мире внешнем, но его сознание (а на этом срезе бытия мир «внешний» и мир «внутренний» – нерасчленимое единство), а также сознание автора, не противостоящего своим героям как активный субъект пассивному объекту, с ними онтологически уравненному.
Теория и история этой разновидности романа, без специальной акцентуации самого термина «роман сознания», были предложены М. М. Бахтиным в двух вариантах книги о Достоевском: в первом, 1929 года, «роман сознания» охарактеризован как полифонический роман, во втором, 1963-го, во вновь написанной 4-й главе представлена историко-поэтологическая перспектива его формирования – внутри жанровой традиции мениппеи4.
Герои Достоевского (начиная с персонажей «Бедных людей»), по наблюдению М. М. Бахтина, не сводимы ни к характерам, ни к психологическим типам. Главный предмет изображения Достоевского – сознание и самосознание героя5. Сознание как «герой» выдвигается автором «Проблем поэтики Достоевского» на первый план на фоне целенаправленного разграничения «романа сознания» и психологического романа6, что, в свою очередь, основано на подробно Бахтиным не оговоренном различении самих понятий «сознание» и «психика»7. Для русского философа, как и для неокантианской и феноменологической школ в философии начала XX столетия, психика (психофизиология) – объект естественно-научного познания, в то время как сознание – атрибут личности, открывающейся другому «я» в процессе диалогического общения. Для всех постгуссерлианских направлений в современной философии сознание располагается в «метафизической» сфере принципов оформления, структурирования как собственно психологического, так и всякого иного жизненного опыта.
В русской философии второй половины XX века подобная трактовка сознания представлена в трудах М. Мамардашвили и А. Пятигорского. «Сознание – это не психический процесс в классическом психофизиологическом смысле слова… Оно есть уровень, на котором синтезируются все (выделено авторами. – С. П.) конкретные психические процессы, которые на этом уровне уже не являются самими собой, так как на этом уровне они относятся к сознанию», – подчеркивают М. Мамардашвили и А. Пятигорский в программном труде «Символ и сознание» (1997). Они же, каждый в своем жанре (Мамардашвили – в цикле лекций о Прусте8, Пятигорский – в романной дилогии9), экстраполировали разработанную ими «метатеорию» сознания в область литературы, предложив и свое понимание «романа сознания», в чем-то согласующееся с бахтинским, в чем-то от него отличное, начиная с обозначений-«имен» жанра: если Бахтин пишет о «полифоническом» романе, то Мамардашвили говорит о «романе Пути», «романе освобождения», а Пятигорский – о «Романе Самосознания» или просто «Сознания» (прописные буквы – авторские. —
С. П.). Последний предлагает и свою «формулу» жанра, сосредоточенную преимущественно в сфере взаимоотношений Автора и Героя, находящихся друг с другом в отношениях своеобразного двойниче ства: «Схема европейского Романа Сознания (другого пока не было – это весьма узкий географический жанр) очень проста. Его герой оттого и герой, что сам не пишет романа. А если пишет, не напишет. А если напишет, то не напечатает. А если даже и напечатает, то весь тираж сгорит… Писание романа здесь есть тот бытийный, а не психологический признак, который разделяет Автора и Героя. Автор оттого и автор, что не может писать сам, пока не он, а другой, т. е. герой Романа Самосознания не «начнет» этого делать (но не наоборот – здесь, как и в случае с двойником. Нет симметрии!)»10.
Сказанное полностью применимо к «Дон Кихоту», являющемуся, как уже не раз подчеркивалось в этой книге, первым образцом «романа сознания» (и самосознания)11: Алонсо Кихано задумывает написать рыцарский роман, но затем решает сделать это не на бумаге, а в деянии, вписав свое, сотворенное по канонам рыцарской эпики, «я» в текст самой жизни. Воссоздать этот текст в слове Автор-творец, то ли «родитель», то ли «отчим» героя, то есть частично его двойник12, передоверяет, в конечном счете, другому двойнику – «подставному автору» Сиду Ахмету Бененхели, выступая сам в роли издателя переведенной на кастильский арабской рукописи.
Жанрообразующая коллизия романа Сервантеса – «донкихотская ситуация» – в образцово-символической (аллегорической, по определению Шопенгауэра) «формуле» демонстрирует схему работы сознания («я» в горизонте идеального бытия), воплощающегося в текст, сотканный из ключевых образов и мотивов рыцарской эпики. . Донкихотовская коллизия принципиально «очищена» от какого-либо психологического субстрата: о какой «психологии» может идти речь применительно к персонажу карнавализованного действа, к сумасшедшему13? При том, что безумие ламанчского идальго выражается не в утрате способности к логическому мышлению или к связной речи, не в потере памяти или в классических галлюцинациях, не в буйстве14 или меланхолии, а в том, что оно априорно структурирует данные чувственного опыта Алонсо Кихано совершенно особым, отличным от большинства окружающих его людей, образом. Предельно скупо информируя читателя о том, что чувствует рыцарь Печального Образа в те или иные моменты его похождений, как он переживает свое очередное поражение или неожиданный триумф, Сервантес в малейших подробностях передает, как его «изобретательный» (то есть наделенный творческим воображением) персонаж видит15 окружающую его реальность, интерпретируя ее в соответствии с текстовым кодом «рыцарского» мифа и рожденным в процессе чтения рыцарских романов «личностным проектом». Вместе с тем, как пишет С. Г. Бочаров, первый из русских критиков прочитавший «Дон Кихота» как «роман сознания», «собственно рыцарская материя в сознании Дон Кихота не самое главное, это его материал и внешние формы, в которые облечен его образ мира. Главное и существенное – структура этого образа мира, структура сознания Дон Кихота»16.
Рыцарь Печального Образа не только воспринимает вещи в их идеальной ипостаси, а идеальное – воплощенным в вещи-символы (шлем Мамбрина – в таз цирюльника). «Сознание Дон Кихота, – пишет Бочаров, – сознание реалиста (в средневековом значении), который верит в реальность общих понятий. Хитроумный идальго видит (выделено автором. – С. П.) идеальные вещи. Идеализм Дон Кихота не бежит вещественности, но весь воплощен в материю самую низкую; мир сознания Дон Кихота и его окружающий мир – одни и те же предметы»17. Иными словами, мир в романе Сервантеса, увиденный глазами главного героя и частично солидарного с ним автора, – это символическая реальность, не противопоставляющая реальное и идеальное, но объединяющая их в субъектно-объектную сферу сознания, в которую и должен войти читатель, способный почувствовать свою причастность к христианско-гуманистическому идеалу «всеединства», побеждающего самое смерть18.
Конечно, «Дон Кихот» – это «роман сознания» в его «зачаточном», проективном виде: значение творения Сервантеса для литературы, для жанра романа будет вполне оценено только в XX столетии, когда «Дон Кихот» стал романом для… романистов, а романтическое восхищение рыцарем Печального Образа опустилось в область массовой культуры и поделок, вроде «Человека из Ламанчи».
Писатели XVIII столетия, прежде всего английские, следовавшие за Сервантесом, пытались сочетать сервантесовский тип романа с иными, в том числе и изначально враждебными ему, повествовательными дискурсами, с той же пикареской19, или с пародируемым автором «Дон Кихота» romance (Вальтер Скотт). Наконец, Флобер стал первым западноевропейским романистом20 соединившим две, до того почти не пересекавшиеся жанровые традиции: «сервантесовскую» линию развития романа и опыт французской психологической прозы.
С детства влюбленный в роман Сервантеса и не расстававшийся с ним во время работы над «Мадам Бовари», Флобер не только заимствовал у Сервантеса жанрообразующую сюжетную ситуацию, в центре которой – читательница романов, маниакально устремленная к воплощению в жизнь романических вымыслов. «Как и Сервантес, – отмечает автор первого обстоятельного исследования о влиянии "Дон Кихота" на "Мадам Бовари" С. Фокс, – Флобер стремился создать произведение, которое разрушило бы противопоставление идеального и реального, заменив его постоянным взаимопроникновеним этих двух видов романного дискурса»21.
Эта особенность «флоберовского письма» сказывается и на уровне словесно-стилевом. Так, Ж. Женетт обнаруживает у автора «Мадам Бовари» и «Воспитания чувств» «избыток материального присутствия в картинах, вообще говоря, чисто субъективных, где правдоподобие требовало бы… смутных, расплывчатых, неуловимых намеков»22. «Неодолимое чувство объективной реальности», переживаемое читателем Флобера, сопровождает, согласно наблюдениям Женетта, все «подчеркнуто чисто субъективные» пассажи, передающие не только воспоминания или видения героя или героини, но и воссоздающие картины реальности, увиденной как бы его глазами. Психологических объяснений этих «странностей» флоберовского стиля, по мнению Женетта, недостаточно: конечная цель огромного числа деталей и «околичностей», загромождающих повествование Флобера23, – выстраивание над «миром знаков» «мира смысла» (над традиционными миметическим «описаниями» и «психологией» – сферы сознания, сказали бы мы). Женетт определяет этот акт как акт «утверждения безмолвия»: «…не дающаяся в руки трансцендентность, ускользание смысла в бесконечном трепете вещей, – пишет Женетт, – это и есть письмо Флобера»24.
Анализ Женетта полностью отменяет все еще бытующее представление о Флобере как основоположнике натуралистического метода, творце «объективного романа»: это – такой же научно-критический миф, как и тот, что роман Сервантеса строится на столкновении иллюзии и реальности, а его автор попеременно отстаивает «правду» то реальности, то идеала25. В структуре «романа сознания», подчеркнем еще раз, такого столкновения нет, а есть настойчивое стремление автора к изображению «внутреннего» и «внешнего» в их целокупности (реальность для создателя «романа сознания» столь же иллюзорна, сколь реальна иллюзия), к максимальной объективации субъективного переживания.
Именно отсюда проистекают отмеченные А. Пятигорским специфические отношения письма и жизни, автора и героя, их «нераздельность-неслиянность»26, в образцовом виде воплощенные во взаимоотношениях Автора и Эммы Бовари. Автор – иронист и пародист – с одной стороны, явно дистанцируется от своей недалекой героини, с другой, в известном письме подчеркивает особую к ней близость, родство душ («Эмма – это я!»), видит мир словно ее глазами и даже чувственно себя с ней отождествляет. Этому же закону отождествления / противопоставления подчинены и взаимоотношения автора-творца и повествователя, автора и читателя (Пьер Менар – автор «Дон Кихота»).
Онтологически уравненный с автором, герой (героиня) «романа сознания» наделяется особой свободой (в пределах беспрестанно меняющегося творческого замысла) – вплоть до права восстать против автора, что и делает Аугусто Перес, герой «Тумана» (1914) М. де Унамуно, созданного под непосредственным влиянием как Сервантеса, так и Флобера. А также Достоевского, которого если и сопоставляют с Флобером (как это делает М. Бахтин), то преимущественно по линии противопоставления27.
Основания для этого имеются. И дело не только в стилистической выдержанности и композиционной продуманности «Мадам Бовари», во флоберовской установке на создание завершенных «произведений искусства», столь отличных от хаотичности, композиционной рассогласованности произведений Достоевского, от подчеркнутой «процессуальности» его творений, о чем писали Г. С. Морсон и другие исследователи (и что так сближает его с Мигелем де Сервантесом!). Основное различие Достоевского и Флобера состоит в том, что сознание героев Флобера (Эммы – в первую очередь!) открыто лишь авторскому «я» и наглухо отгорожено от сознаний других персонажей, равно как они, в свой черед, замкнуты в своих маленьких «эго»28. Поэтому единственная сфера, их объединяющая, – сфера безмолвия. Напротив, герои романов и повестей Достоевского, подобно Дон Кихоту и Санчо Пансе, которые, по мудрому замечанию А. Мачадо, не делают ничего важнее того, что разговаривают друг с другом, почти не умолкают, находясь, по выражению Бахтина, в ситуации постоянного диалогического общения.
По-видимому, есть основание поставить вопрос о двух типах «романа сознания», которые условно можно обозначить как монологический и диалогический, в каждом из которых – на скрещении сервантесовского романа с иными жанровыми и национальными традициями – по-своему проявились разные стороны сервантесовского Жанра («романа сознания»), разные трактовки «донкихотовской ситуации». При этом многое зависит от избранной романистом повествовательной стратегии: повествования от первого лица, от третьего лица (спародированная эпическая наррация), в ракурсе несобственно-прямой речи, в более редких формах «сценического» диалога («Селестина Ф. де Рохаса, «Жак-фаталист» Дидро, фрагменты «Вильгельма Мейстера», 15-й эпизод «Улисса») или рассказа от «второго лица» (Итало Кальвино). Монологический дискурс, естественно, больше тяготеет к повествованию от первого лица, диалогический – к ракурсу несобственно-прямой речи. При том что (и здесь Бахтин прав!) жесткой корреляции между повествовательным ракурсом и принципом изображения героя («ты еси!», «он – другой»…) нет.
Обращение Флобера к Сервантесу было во многом продиктовано стремлением вырваться из зависимости от многовековой национальной традиции перволичного повествования, сориентированного на светскую автобиографию-мемуар (нередко оформлявшуюся как «записки), на жанр «письма», а также на «Исповедь» – но не Августина, а Руссо, полностью перестроившего исповедальный молитвенный диалогизм дискурса предшественника в монологическое самоизъявление. Перволичное повествование – это и доминирующий модус многочисленных романтических «исповедей» «сыновей века», в полемике с которыми складывалось творчество Флобера. Апеллируя к опыту создателя «Дон Кихота», Флобер – автор «Мадам Бовари» и «Воспитания чувств» – стремился противопоставить исповедальному автобиографизму иронически дистанцированное эпическое повест вование, одновременно пародирующее клише жанра romance (Поль де Кок или Вальтер Скотт для автора «Мадам Бовари» – то же, что рыцарские романы для Сервантеса). Он жаждал уйти от романтического эгоцентризма, видвигающего на первый план романтического автора-героя (героиню), отождествленных до неразличимости. Успех Флобера-творца в «Мадам Бовари» – это не отличимая от поражения победа в проходящей через весь роман борьбе с романтическим сознанием.
В семитомных «В поисках утраченного времени» Пруста, с которых, собственно, и начинается история модернистского «романа сознания»29, флоберовское напряженно-неестественное «мы» повествователя, фигурирующее на первых страницах «Мадам Бовари» и переходящее затем в псевдо-объективное обезличенное «оно», сменяется подчеркнуто монологическим псевдоавтобиографизмом.
Одна из главных трудностей для читателей Пруста и его иследователей заключается, как известно, в именной омонимии творца «эпопеи» и ее героя, от лица которого ведется повествование (и того, и другого зовут Марселем), а также в слиянии трудно различимых голосов Марселя-актанта («вспоминателя») и Марселя-нарратора. Подлинный герой романа Пруста – «действующее сознание», которое «на положении суверенного героя романа» занимает в «Поисках утраченного времени» «место, которое занимает в обычном романе герой»30. Это место – место пребывания некоего «абсолютного я», отличного от «я» психологического. «…Это отличие абсолютного "я" от психологического "я", – утверждает автор „Лекций о Прусте“, – есть стержень всей формы прустовского романа». Духовные усилия автора / повествователя, подчеркивает философ, направлены «против основных тенденций нашей психики». Распутывая в процессе создания текста романа текст своей жизни, «субъект переживания» по имени Марсель вдохновлен интуицией самого себя как абсолютного существа, по отношению к которому в точках его пробуждений-просветов от «сна» повседневного существования и структурируются «другие слои… душевной жизни». Отсюда – два взаимодополнительных мотива (и две сквозные сюжетные ситуации) эпопеи Пруста: слепота и пробуждение31. «В… момент просыпания вмещается весь микрокосм Пруста», – утверждает Мамардашвили.
В плане психологическом, характерологическом герой Пруста – самовлюбленный эгоист-созерцатель с явными садомазохистскими наклонностями, но сознание этого «психологического типа» возводится до сознания человека-творца, создателя искупительного текста о красоте и бессмертии земной жизни, сосредоточенных в мгновении, которое творческое созерцание может вырвать – спасти! – из потока времени.
Финальное озарение, возвращающее героя / повествователя «Поисков…» к эпизоду с пирожным «мадленка», посещает его, казалось бы, во вполне будничной мирной ситуации – в библиотеке особняка принца Германта. Но ему предшествует Первая мировая война, воссозданная на первых страницах «Обретенного времени» в кривом зеркале макабрического существования парижского света, а за ним следует знаменитый эпизод утренника мертвецов, аллюзивно отсылающий читателя к упоминаемым в «библиотечных» размышлениях «Замогильным запискам» Шатобриана и одновременно поразительно напоминающий «Бобок» Достоевского. А также – «Дон Кихота»32… «В поисках утраченного времени», как и «Дон Кихот», – текст о текстах, текст-палимпсест, как независимо друг от друга определили каждый из романов Хорхе Луис Борхес и Ж. Женетт.
Конечно же, отличие Марселя от Алонсо Кихано бросается в глаза: последний, задумав написать рыцарский роман, предпочитает письму действие, первый – созерцатель, смысл жизни которого, невзирая на его погруженность в любовные переживания, в болезнь, в суетную светскую жизнь, отыскивается в творчестве; поступки одного продиктованы готовностью к самопожертвованию, другого – желанием любой ценой сохранить в неприкосновенности свое, отделенное от всех живущих рядом с ним «я», один – доверчив и героически (или же комически) безрассуден, другой – погружен в самоанализ, сомнения, в неверие, то есть скорее похож на «Гамлета», чем на «Дон Кихота», или же на Ансельмо из «Новеллы о безрассудно-любопытном»… Но Марсель совпадает с Дон Кихотом в главном: в восприятии мира как «глубинной книги», реальности – как текста, прочитываемого сквозь тексты, хранящиеся в библиотеках, будь то комната в жилище сельского помещика Алонсо Кихано или уже упоминавшаяся гостиная-библиотека в парижском особняке герцогов Германтских («Обретенное время»). Именно в библиотеке после того, как звук чайной ложечки воскресил в спонтанной памяти (в сознании) героя детство в Комбре, он, мысленно обозревая ряд некогда прочитанных книг, вдруг постигает смысл своего, казалось бы бессмысленного, суще ствования.
Два романа сближают и доставшаяся Сервантесу от рыцарских романов, а Прусту – от Сервантеса (хотя не только от него!) тема «поиска» (приключений, святого Грааля, своего места в мире), и сопряженные с нею мотивы выбора пути (направления движения, стороны), служения Даме, наконец, мотив сновидения, который в «Дон Кихоте» оборачивается темой «жизнь есть сон», а у Пруста трансформируется во «взаимодополнительный» к мотиву «сна» мотив «пробуждения-прозрения». Но и Дон Кихот после посещения пещеры Монтесиноса «пробуждается» от «сна» рыцарских романов, как Марсель (а до него Сван, Сен-Лу) освобождаются от зачарованности самолично сочиненной каждым любовью33.
И завершаются оба романа почти одинаково, хотя и по-разному: Сервантес расстается со своим скоропостижно скончавшимся пасынком – Дон Кихотом, чтобы передать слово другому «двойнику» – «историку» Сиду Ахмету, Марсель – действующее лицо эпопеи – Пруста исчезает, превращаясь в будущего автора уже прожитого читателем текста, чтобы… приступить к его написанию. Окончившийся смертью Алонсо Кихано, роман «Дон Кихот» остается незавершенным, открытым для любых прочтений и пониманий текстом. Оборванный на роковом слове «Время», заканчивающийся «ничем» семитомный эпос Пруста оказывается идеально завершенной, четко выстроенной конструкцией, подобной силуэту готического собора, вздымающегося с земли к точке «обретенного времени», мгновения, в котором время исчезает.
Но то же перволичное повествование может быть внутренне диалогизированным дискурсом, примером чему является проза Лоренса Стерна, наряду с Филдингом самого вдохновенного последователя Сервантеса. И дело здесь не только в многочисленных словесных «поединках» героев антиавтобиографии Тристрама Шенди или в его рассуждениях, адресованных самому себе: центральный диалог, организующий открытое, принципиально незавершенное и даже незаконченное пространство прозы Стерна34, основной корпус которой составляют «Тристрам Шенди», «Сентиментальное путешествие» и письма, – это диалог автора (Тристрама, Йорика, самого Стерна – автора писем) и читателя, который, как это было и в «Дон Кихоте», вовлечен в это пространство в качестве персонажа – двойника повест вователя, который на глазах у читателя тщетно старается согласовать хаотический поток «описываемых» им (творимых тут же!) событий и времени повествования. И лишь читателю дано – в процессе чтения – по своему разумению упорядочить хаотическое движение персонажей «Тристрама Шенди», носящихся на своих «коньках» в самых разнообразных направлениях в пространстве спутанных воспоминаний Тристрама, каковой – не более, чем риторическая фигура «говорения», юмористически уравненная с самым малозначительным (внешне, казалось бы) из персонажей романа. Эта сервантесовско-стернианская, столь необходимая роману как жанру, ироническая «болтовня» (А. С. Пушкин), связующая автора с читателем, звучит и в русском диалогическом «романе сознания».
Но самой впечатляющей демонстрацией способности «романа сознания» осуществляться в различных повествовательных модусах является, конечно же, «Улисс» Джойса, чаще всего ассоциируемый с приемом «потока сознания», то есть с понятием, диаметрально противоположным предложенному выше пониманию термина «сознание». И все же цель творца «Улисса» как создателя «романа сознания» заключалась именно в том, чтобы структурировать запечатленный на его страницах «поток жизни», воздвигнуть преграду на пути магмы «бессознательного», изливающегося из писем Молли в 18-м эпизоде романа, подчинить идее упорядочивающего повтора заложенную в устройстве психологически трактованного сознания спонтанность. То, что творец «Улисса» (как, впрочем, и большинство создателей модернистских, постфлоберовских «романов сознания») одерживает на этом поприще относительную победу («поток псевдо-сознания» затапливает последние страницы романа Джойса), напрямую связан с той особенностью жанра, которую Ж. Женетт назвал тягой к дероманизации35, то есть к поглощению в «романе сознания» повествовательного пространства антинарративным символико-аллегорическим дискурсом36 или… безмолвием.
Атмосферу свободы, вне которой никакой диалог немыслим, у Стерна (как и у Пушкина, у Сервантеса, у Достоевского, у Чехова – творца огромного многоголосого «романа сознания», рассыпавшегося на «осколки» малых форм – рассказов, повестей, писем – и, наконец, претворенного в сценическое действо), у Джойса создает смех – трагикомический модус восприятия жизни грешного человека на грешной земле. Монологический «роман сознания» отличается от диалогического прежде всего тем, что он тотально серьезен (при том что может быть и сатирой, и гротеском). Его творец относится и к своему творению, и к своему герою (героине), и к самому себе максимально почтительно. «Игра» его воображения – игра в серьезном, «шахматном» значении слова, игра, в которой ставка – жизнь (как автора, так и героя). Поэтому Набоков – создатель образцовых монологических романов (а также повестей и рассказов) сознания модернистской эпохи так низко оценивает «Дон Кихота» в известном (для сервантистов – печально известном) цикле «Лекций о «Дон Кихоте».
Трудно сказать, какие именно пассажи в размышлениях Набокова о романе Сервантеса смогли привлечь внимание Андрея Битова, автора вступительной заметки к изданию лекций Набокова о зарубежной литературе на русском языке, к некогда уже читанному им, согласно его собственному признанию, «Дон Кихоту»37. Думается, прежде всего, этот: «У Сервантеса, сочинявшего книгу, словно чередовались периоды ясности и рассеянности, сосредоточенной обдуманности и ленивой небрежности, что очень похоже на полосатое (так в переводе: по-русски было бы правильно „перемежающееся“) помешательство его героя. Сервантеса спасала интуиция. Книга… никогда не предносилась автору в виде законченного сочинения, стоящего особняком, полностью отделившегося от хаотического материала, из которого она выросла…»38.
Ведь таков и творческий метод самого создателя «Пушкинского Дома», так или иначе, но независимо от Набокова39, возродившего в русской литературе во второй половине XX столетия почти полностью прерванную традицию «романа сознания»40 – а значит и романа «сервантесовского типа». Впрочем, образ видения мира, характерный для «романа сознания», сложился уже в созданных до «Пушкинского Дома» рассказах и повестях Битова, в том же «Саде», или в «Жизни в ветреную погоду».
«Он водил сына по поселку, как по огромному букварю… Вот луг, вот мальчик, а вот поезд… И это все было действительно так… все это на какое-то длящееся мгновение, совпав на одной прямой, образовало как бы ось, и в этом была словно бы самая большая правда из всех, что он с упорством искал и находил… ощущение этой симметрии было из чувств самых счастливых. Это был пик, вершина, взрыв, и в следующий миг то ли поезд уехал, то ли мальчик сошел с места, то ли корова… ось распалась, и Сергей ощутил блаженное опустошение: он существовал теперь и в этой зелени луга, и в том мальчике на лугу, и в поезде, уезжающем от него, и в небе, и в сыне, в каждом и во всем. Жизнь его, взорвавшаяся, разбрызганная, как бы разлилась и наполнила все содержанием и жизнями. Он чувствовал себя богом, нигде и во всем, обнимавшем и пронизывающем мир» («Жизнь в ветреную погоду. Дачная местность»)41.
Следом за мигом слияния с бытием, мигом выхода в сферу сознания, происходит психологически-мотивированное возвращение в «реальность»: «Сергей выделил себя крохотной точкой в пространстве и был как бы пьян» (Жизнь в ветреную погоду. Дачная местность).
Сюжетная ситуация выхода героя в сферу сознания в «Пушкинском Доме» связана (как это было и в «Петербурге» Андрея Белого) с мотивом взрыва: «Ибо для чего… все отдвигающийся сюжет, если не для того, чтобы взорвать все это накопленное изнутри, и тем хотя бы пролить на все яркий, пусть мигом исчезающий свет: свет взрыва!» (218)42.
В цепи эпизодов-прозрений, растянувшейся на конец второй части романа (глава «Госпожа Бонасье») и почти на всю третью часть, ключевыми станут два пробуждения Левы Одоевцева: первое – после ночи, проведенной в Пушкинском Доме накануне праздничного дня «7 ноября», второе – утром «восьмого ноября 196… года», где прозвучат два «выстрела» (эквиваленты взрыва): «хлопушечный» «выстрел» музейного пистолета Митишатьева, ставший причиной фарсовой смерти героя романа43, и «выстрел» «сознания» героя, приходящего в сознание со стороны реального «небытия».
Можно сказать, что еще до А. Пятигорского (или с ним одновременно) Андрей Битов в «Пушкинском Доме» определил основные параметры «романа сознания». И, конечно же, осью его размышлений оказалась проблема соотношения Автора и героя, их магической связи, их сущностного двойничества, равно как и, казалось бы, неисцелимого несовпадения во времени – прошлого времени существования героя и «авторского» настоящего, включающего и время создания текста романа: «Настоящее время губительно для героя… Уже задолго до окончательной гибели нашего героя реальность его литературного существования начала истощаться, вытесняясь необобщенной, бесформенной реальностью жизни44 – приближением настоящего времени» (317). Вместе с тем, нарастающее к концу романа вытеснение реальности книги реальностью жизни демонстрирует сближение Автора и героя – человека, наделенного даром проникновения в чужой текст как единственной для него возможности приобщения к другому «я», даром, оплаченным неспособностью слышать и понимать реального, живого собеседника: так в «Пушкинском Доме» складывается классическая «донкихотская» ситуация, когда книжные (интеллигентские) мифы о людях, фантомы, созданные воображением, заслоняют в глазах Левы истинный облик других людей.
Двусмысленная смерть-воскресение Левы Одоевцева становится для повествователя очередным спасительным взрывом, схлопывающим сотворенную им вселенную в точку начала повествования, оказывающуюся тем самым и точкой его фабульного завершения. Правда, далее следует… возможное продолжение. Ситуация, опять-таки, хорошо известная из «Дон Кихота».
В точке начала / конца повествования время автора и героя чудесным образом совпадают. Но ведь и автор «романа сознания» – не просто творец героя, а его дублер, тот, кто пишет вслед за ним его «роман жизни»… На крайний случай – филологическое исследование. Такое, как статья Левы «Три пророка», опубликованная Битовым в научном журнале под собственным именем45. Или как не осуществленный Левой мегазамысел – труд «"Я" Пушкина», воплощенный Битовым в книге «Предположение жить» много лет спустя.
«Точка боли»: так названа давнишняя статья о романе «Пушкинский Дом» Ю. Карабчиевского. Для поэта наличие у героя Битова этой точки – единственное, но и очень значимое оправдание его компромиссно-бесформенного существования, его двойственной сущности. Но «точка боли» и есть точка взрыва, свет, просвет, озарение…
Отношения сближения / отталкивания связывают не только автора и героя, но и всех героев Битова между собой. У Левы Одоевцева есть и свой «самсон карраско» – Митишатьев, завистник, имитатор, узурпатор, мнимый друг, побеждающий Леву в решительной схватке-дуэли. Правда, цель Карраско – заставить Дон Кихота отречься от своего рацарского звания, в то время как Митишатьев, издеваясь над Левой, парадоксальным образом желает утвердить в Леве его «княжеское» достоинство. Но главный смысл испытаний, через которые проходит герой Битова, – пробудить это чувство, утраченное за десятилетия лжи и приспособленчества, в читателе романа.
В СССР на рубеже 1960-х – 1970-х годов творчество Битова (как и ряда других писателей) знаменовало своего рода второе пришествие модернизма с его сосредоточенностью на феноменальном, с его интересом к человеку, блуждающему в «тумане» иллюзий и разочарований, одержимого неистребимой тягой к тому, чтобы обманывать самого себя. И в то же время – в отличие от постмодерна – продолжающего искать подлинность. Живую реальность жизни.
Примечания
1 См., например, дискуссию об авангарде в журнале «Русская литература» (2009. № 1).
2 Alter R. Partial Magic: the Novel as a Self-conscious Genre. Op. cit.
3 Ведущий представитель этого направления в сервантистике – недавно скончавшийся (2010) известный английский сервантист Э. Клоуз (A. Close).
4 См. прим. 13 к наст. главе.
5 В действительности Достоевский не отказывается от воссоздания человека в его психофизиологическом, социально-бытовом, религиозно-этическом и других «измерениях», предпочитая, однако, такие сюжетные ситуации, когда человек оказывается как бы независим от своих «обстоятельств». Герой «романа сознания», в конечном счете, подчиненен не «миру», а иной, высшей, «воле» – воле к самосознанию, к свободе, к бессмертию, которой Господь наделил сотворенного им человека: этот жест повторяет и автор-творец «Братьев Карамазовых».
6 Об антипсихологизме Достоевского Бахтин подробно пишет на стр. 81 и сл. первого издания «Проблем поэтики Достоевского» (1963).
7 Отсюда – все недопонимания идей М. Бахтина со стороны тех исследователей, для которых такого разграничения нет и которые, якобы в опровержение Бахтина, с успехом демонстрируют точность и тонкость наблюдений Достоевского-психолога (можно было бы добавить: социолога, антрополога и т. д.).
8 Мамардашвили М. К. Лекции о Прусте (Психологическая топология пути). Далее цит. по электронной версии: http//. html.
9 «Философия одного переулка» (1990), «Вспомнишь странного человека…» (1999).
10 Пятигорский А. Вспомнишь странного человека… М.: Новое литературное обозрение, 1999. С. 174–175.
11 Следует отметить, что в качестве такового он предстает в составе целого, образованного Первой и Второй частями («Дон Кихотом» 1605-го и «Дон Кихотом» 1615-го года), так как процесс взаимопроникновения книги и жизни, «идеального» (субъективного) и «реального» (материально-предметного) планов бытия, сознания и «мира», комически сопоставленных в «Дон Кихоте 1605-го года, вполне осуществляется на страницах Второй части (см. также прим. 25 к наст. гл.).
12 Подчеркнем еще раз: в «романе сознания» «двойниками» являются все участники процесса сотворения романного дискурса: реальный автор и автор подставной, автор и герой, автор и читатель… Значит, «донкихотами» в той ли иной мере оказываются все персонажи, гротескно оттеняющие собой поступки героя и его видение мира (как в плане имитации, так и по линии отрицания). Потому-то отсвет «донкихотизма» ложится и на творца, что и привело к простодушному романтическому отождествлению в массовом сознании Сервантеса и Дон Кихота.
13 Можно сказать, что «роман сознания» сюжетно сориентирован на воспроизведение особых состояний сознания: безумия, мистического провидения, пребывания на грани сна и яви (здесь можно вспомнить и центральный эпизод Второй части «Дон Кихота» – посещение героем пещеры Монтесиноса), предсмертного воспоминания-озарения (как в зачине «Ста лет одиночества» Гарсиа Маркеса: «…стоя у стены в ожидании расстрела, Аурелиано Буэндиа вспомнит…»), и им подобных, а его хронотоп – это пограничные, кризисные ситуации, кризисные, нередко апокалиптические, состояния мира. Именно таков хронотоп мениппеи, с которой автор «Проблем поэтики Достоевского» связал судьбу «полифонического» романа, а мы бы соотнесли «роман сознания» в целом. К жанровой традиции менипповой сатиры очевидно причастен и «Дон Кихот» Сервантеса. О «Дон Кихоте» и мениппее см. в главе «Мениппея: до и после романа».
14 Приступы гнева, которым подвержен Дон Кихот, очевидно пародируют традиционный мотив «гнева» (выхода из себя, одержимости) эпического героя.
15 Поэтому Х. Ортега-и-Гассет в «Размышлениях о «Дон Кихоте» (1914) предпочитал говорить о «перспективизме» Сервантеса, о «точках зрения», из которых складывается сервантесовское повествование.
16 Бочаров С. Г. О композиции «Дон Кихота» // Бочаров С. Г. О художественных мирах. М.: Советская Россия, 1985. С. 7 (первое изд. статьи – 1969).
17 Там же. С. 14.
18 См.: Пискунова С. И. «Дон Кихот»: поэтика всеединства. Указ. изд.
19 См. об этом, в частности: Reed W. L. An Examplary History of the Novel. The Quixotic versus the Picaresque. Op. cit.
20 В России еще до Флобера или с Флобером одновременно эту же революцию в истории романа осуществили Пушкин (в «Евгении Онегине») и Достоевский (в «Бедных людях»).
21 Fox S. Flaubert and Don Quijote. The Influence of Cervantes on Madame Bovary. Brighton; Portland: Succex Academic Press, 2008. P. 134–135. Цитируемая американская исследовательница предприняла первый обстоятельный анализ роли Сервантеса-романиста в процессе осуществленного Флобером кардинального обновления жанра. До С. Фокс большинство критиков, писавших о Сервантесе и Флобере, ограничивались набором восторженных высказываний Флобера о «Дон Кихоте» и наблюдением Х. Ортеги-и-Гассета о том, что Эмма Бовари – «Дон Кихот в юбке». Конечно, С. Фокс не может не отметить того, что героико-комическое безумие Дон Кихота сущностно отлично от мещанского недоумия французской провинциалки, а его просветление накануне конца («Моя жизнь, Санчо, – это медленное умирание…»), ведущее к примирению с Богом и миром, резко контрастирует с последовательным затемнением сознания Эммы, лишь в самый последний миг постигающей простую истину: она прожила жизнь с «хорошим» человеком. Насыщенный действием сервантесовский роман и в плане сюжетно-композиционном также отличается от флоберовского медлительно развивающегося повествования «ни о чем».
22 Женетт Ж. Моменты безмолвия у Флобера // Женетт Ж. Фигуры. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. Т. I. С. 221.
23 Здесь – еще одно существенное отличие Сервантеса от Флобера, восхищавшегося как раз отсутствием в «Дон Кихоте» подробных описаний и поразительным при этом умением испанского романиста заставить читателя «воочию» представить изображаемый им «реальный» мир. Домысливая наблюдение Флобера (и повторившего его Ортегу), можно заметить, что в «романе сознания» «изображаемый мир» – это мир воображаемый, мир представления, который рождается отнюдь не из совокупности ощущений. Задолго до Чехова – своего прямого в этом наследника – Сервантес овладел механизмом «включения» воображения читателя в создание художественного «мира как представления» при помощи нескольких указаний-намеков. Флоберу же, наследнику Бальзака и современнику Золя, приходилось прорываться в область сознания сквозь чувственность и вещность.
24 Женетт Ж. Указ. соч. С. 232.
25 Мы уже отмечали, что такого рода прочтение, если и сколь-нибудь обосновано, то лишь применительно к Первой части. «Конфликт между снами и реальностью (в „Дон Кихоте“), – говорил в этой связи Х.-Л. Борхес в своей лекции о Сервантесе, – утверждение ошибочное. Поскольку у нас нет оснований считать сон чем-то менее реальным, чем то, о чем гласит запись в дневнике за этот день…». «Когда Сервантес задумывал писать эту книгу, – соглашается Борхес, – он, вероятно, имел в виду мысль о конфликте между снами и реальностью… И в книге, особенно в Первой части, этот конфликт очевиден и жесток». Тем не менее, развивает свою мысль Борхес, «Сервантес был слишком мудрым человеком, чтобы не понимать, что, даже когда сны и реальность противопоставлены друг другу, реальность – это, как мы сказали бы, не настоящая реальность, не всеобщая обыденность. Это – реальность, созданная им самим: иными словами, люди, которые в „Дон Кихоте“ выступают как реальные – на самом деле включены в сон Сервантеса вместе с Дон Кихотом и всеми его высокопарными представлениями о рыцарстве… Так что на протяжении всей книги сны смешиваются с реальностью» (Borges J. L. Mi entraсable seсor Cervantes // ).
26 Термин Ю. Н. Чумакова. Ученый пишет об авторе и героях «Евгения Онегина» – первого русского «романа сознания», о чем шла речь во второй главе этой книги.
27 Флобер был для Бахтина фигурой притягательной, неразгаданной (такой же, как Сервантес), что справедливо отметил С. Г. Бочаров в своем комментарии к публикации заметок Бахтина о Флобере в 5-м томе Собрания сочинений Бахтина.
28 Впрочем, среди четырех «великих» романов Достоевского есть и такой, в конце которого неслучайно появляется роман Флобера. Отправляясь на самоубийственное венчание с Рогожиным Настасья Филипповна – такой же «Дон Кихот в юбке», как и Эмма, – оставляет на столике начатую «Мадам Бовари».
29 Практически синхронно свои «романы сознания» создают М. де Унамуно, Франц Кафка, Андрей Белый и Джеймс Джойс.
30 Бочаров С. Г. О «конструкции» книги Пруста // Свободный взгляд на литературу. Проблемы современной филологии. М.: Наука, 2002. С. 81.
31 Они же организуют сюжет написанного практически одновременно с первыми книгами «Поисков…» уже упоминавшегося «Тумана» (La Niebla. 1914) М. де Унамуно.
32 Сходство «Поисков…» с «Дон Кихотом» заметнее всего в созданных изначально (и, естественно, в первой редакции) первом и последнем томах, составивших композиционный каркас эпопеи, расширявшейся – разбухавшей – «изнутри», в процессе многолетнего дописывания новых и новых книг, включаемых в отвергнутый издателями в 1912 году текст.
33 Об этом пишет Э. Хьюз, автор единственной известной нам работы, в которой сопоставляются произведения Пруста и Сервантеса (Hughes E. J. Prisons and Pleasures of the Mind: A Comparative Reading of Cervantes and Proust // Cervantes and the Moderns. The Question of Influence. London; Madrid, 1994), сосредоточивший свое внимание на образе барона де Шарлю, поименованного Дон Кихотом в одной из редакций «Поисков…». То же утверждает и М. К. Мамардашвили, именующий «Поиски…» романом расставания со всеми иллюзиями и со всякой иллюзорностью. Тема разочарования – el desengaсo – сквозной мотив Второй части «Дон Кихота».
34 К подобной же циклизации, к единому тексту тяготеют и творения большинства творцов диалогических «романов-сознания»: Достоевского (его повествовательная проза неотделима от публицистических фрагментов «Дневника писателя»), Флобера и Чехова, чьи письма – органическое дополнение их «фикциональных» текстов, Джойса, Унамуно… Из современных русских прозаиков того же типа можно вспомнить Андрея Битова.
35 «…В этой книге („Мадам Бовари“. – С. П.), – пишет Ж. Женетт, – …впервые осуществляется дедраматизация (выделено автором. – С. П.), едва ли даже не дероманизация романа, откуда возьмет свое начало вся новейшая литература…» (Женетт Ж. Моменты безмолвия у Флобера. Указ. изд. С. 235).
36 См. об этом в главе: Символистский роман: между мимесисом и аллегорией.
37 См. прим. 20 к разделу «От автора».
38 Набоков В. Лекции о «Дон Кихоте». М.: Независимая газета, 2002. С. 54–55.
39 О возможных литературных влияниях, испытанных им до и во время написания «Пушкинского Дома», сам автор достаточно подробно «исповедуется» в Комментарии, составляющем (подобно «Путешествию Онегина») неотъемлемую часть романа. В качестве основных объектов «подражания» Битова критики, по признанию «комментатора», называют трех прозаиков – Пруста, Достоевского и Набокова, из коих Битов признает только Набокова, прочитанного им, однако, тогда, когда «Пушкинский Дом» на три четверти был написан. Для нас в полушутливых-полусерьезных признаниях Битова важно одно: все трое – несомненные классики интересующей нас разновидности романа. Что касается всяких «влияний» в принципе, то, думается, Битов прав, когда отметает саму возможность постановки этой старомодно-романтической «проблемы» применительно к литературе эпохи Модерна и, тем более, Постмодерна, когда можно и нужно говорить не о «влияниях» и «подражаниях», а об интертексте как особом измерении литературного процесса. Не используя самого термина – и совершенно независимо от Ю. Кристевой! – комментатор «Пушкинского Дома» прекрасно характеризует интертекст: «Литература есть непрерывный (и не прерванный) процесс. И если какое-то звено скрыто, опущено, как бы выпало, это не значит, что его нет…». Принципиальное отличие Битова от Кристевой в том, что для него «интертекст» развертывается преимущественно во времени, а не в пространстве.
40 В СССР она очевидно прервалась на «Чевенгуре», на «Зависти» Олеши (для Битова очень важного писателя), на К. Вагинове… Самый значительный роман 1930-х годов – «Мастер и Маргарита» – соотносится с традицией «романа сознания» парадоксальным образом: все основные мотивы и сюжетные ситуации, характерные для этого жанра, в «Мастере и Маргарите» присутствуют в спародированном виде, будучи соотнесенными не с образом Мастера, но с фигурой его ученика (двойника-травести) Ивана Бездомного, единственного, помимо Мастера, из персонажей романа, который мог бы подойти на роль героя «романа сознания». Но Мастер появляется на страницах романа не безумным, а духовно сломленным – «душевнобольным»: лишь память о Маргарите или присутствие Маргариты ненадолго возвращает его к жизни, которая оказывается преддверием смерти. Мнимое карнавальное помешательство Ивана Бездомного, приводящее его на кровать в клинике Стравинского, напротив, могло бы стать этапом его духовного прозрения и исцеления. Но – он долго «лечился» и «вылечился», сохранив лишь смутную память о встрече с Воландом на Патриарших прудах и о воспоследовавших за ней событиях.
41 Битов А. Дачная местность. М.: Советский писатель, 1967. С. 213–214.
42 Здесь и далее «Пушкинский Дом» цит. по изд.: Битов А. Пушкинский Дом. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 1999. Цитируемые страницы указываются в тексте главы.
43 И здесь, опять-таки, нельзя не вспомнить взрыв «сардинницы ужасного содержания» – сюжетную развязку «Петербурга».
44 Очевидно, что это авторское размышление «на полях» повествования, замершего в момент карнавально-цирковой гибели Левы (так напоминающей «смерть» Дон Кихота в конце Первой части!), основано на укоренившемся в структуралистском и околоструктуралистском литературоведении 60-х годов XX века представлении о двух «реальностях»: реальности жизни и «семиотической» реальности художественного мира. .
45 Статья «Три пророка», считает Ю. Карабчиевский, изначально принадлежала Битову, но, будучи включенной в роман как «идейный» центр повествования,, к которому стянуты мотивы озарения, творчества, соперничества, зависти, разрушения, жизни, смерти, безумия, оказалась равно принадлежащей и герою. С другой стороны, разве значительная часть романа «Пушкинский Дом» не написана поверх так и оставшейся для читателя недоступной статьи Левы о «Медном всаднике»?
Приложение Роман (энциклопедическая статья)
Роман1 (франц. roman, нем. Roman; англ. novel / romance; исп. novela, итал. romanzo) – центральный жанр европейской литературы Нового времени, вымышленное, обширное, (в отличие от соседствующего с ним жанра повести), сюжетно разветвленное прозаическое повествование, хотя существуют и достаточно компактные, так называемые «маленькие романы» (франц. le petit roman), и романы стихотворные (напр. «роман в стихах» «Евгений Онегин»). В противоположность классическому эпосу — ведущему жанру древней и средневековой словесности, предметом которого является мифическое героическое прошлое народов, отделенное от настоящего «эпической дистанцией», а главным героем – богатырь, защищающий от вторжения деструктивных сил хаоса и зла космический порядок, роман сосредоточен на изображении исторического настоящего и судеб отдельных личностей, обычных людей, ищущих себя и свое предназначение в посюстороннем, «прозаическом», мире, утратившем первозданную стабильность, цельность и сакральность (поэтичность). Даже если в романе – например, в романе историческом, – действие перенесено в прошлое, это прошлое всегда оценивается и воспринимается как непосредственно телеологически предшествующее настоящему и с настоящим соотносимое.
Роман как открытый в современность, формально не окостеневший, становящийся жанр литературы Нового и Новейшего времени, исчерпывающе не определим в универсалистских терминах теоретической поэтики, но может быть охарактеризован в свете поэтики исторической, исследующей эволюцию и развитие художественного сознания, историю и предысторию художественных форм. Историческая поэтика учитывает как диахроническую изменчивость и многоликость романа, так и условность использования самого слова «роман» как жанровой «этикетки». Далеко не все романы, даже романы образцовые с современной точки зрения, определялись их создателями и читающей публикой именно как «романы». Первоначально, в XII–XIII веках, слово roman обозначало любой письменный текст на старофранцузском языке и лишь во второй половине XVII столетии частично обрело свое современное смысловое наполнение. Сервантес – создатель парадигматического романа Нового времени «Дон Кихот» (1604/5—1615) – называл свою книгу «историей», а слово «novela» (совр. исп. роман) использовал в названии книги повестей и новелл «Назидательные новеллы» («Novelas ejemplares», 1613).
С другой стороны, многие произведения, которые критика XIX века – эпохи расцвета реалистического романа – пост-фактум назвала «романами», таковыми не всегда являются. Характерный пример – стихотворно-прозаические пасторальные эклоги эпохи Возрождения, превратившиеся в «пасторальные романы», так называемые «народные книги» XVI века. К романам искусственно причисляют фантастические или аллегорические сатирические повествования, восходящие к античной «менипповой сатире», такие как «Критикон» Б. Грасиана, «Путь паломника» Дж. Бэньяна, «Приключения Телемаха» Фенелона, сатиры Дж. Свифта, «философские повести» Вольтера, «поэму» Н. В. Гоголя «Мертвые души», «Остров пингвинов» А. Франса. Также романами можно назвать далеко не все утопии, хотя на границе утопии и романа в конце XVIII столетия возник жанр утопического романа (см., например, Моррис, Чернышевский, Золя, Г. Уэллс), а затем и его двойник-антипод – антиутопический роман («Когда спящий проснется» Г. Уэллса, «Мы» Евг. Замятина).
Роман в принципе – жанр пограничный, связанный практически со всеми соседствующими с ним видами дискурса, как письменного, так и устного, с легкостью вбирающий в себя иножанровые и даже инородовые словесные структуры: документы – эссе, дневники, записки, письма (см. эпистолярный роман), мемуары, исповеди, газетные хроники, сюжеты и образы народной и литературной сказки, национального и Священного предания (см., например, евангельские образы и мотивы в прозе Ф. М. Достоевского). Существуют романы, в которых ярко выражено лирическое начало, в других – различимы черты фарса, комедии, трагедии, драмы, средневековой мистерии. Закономерно появление концепции (В. Днепров), согласно которой роман является четвертым – по отношению к эпосу, лирике и драме – родом литературы.
Роман – тяготеющий к многоязычию, многоплановый и многоракурсный жанр, представляющий мир и человека в мире с разнообразных, в том числе и разножанровых точек зрения, включающий в себя иные жанровые миры на правах объекта изображения (это качество романа иногда не совсем точно называют романным «синтезом жанров»: здесь уместнее предложенное Х. Ортега-и-Гассетом понятие «перспективизм»). Роман хранит в своей содержательной форме память о мифе и ритуале, например о ритуале инициации, на котором основаны сюжеты многих романов от античности до XXI века, о мифическом – циклическом – образе времени и мифическом, замкнутом в себе, отгороженном от внешнего мира пространстве (см. город Макондо в романе Г. Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества»). Поэтому, являясь «знаменосцем и герольдом индивидуализма» (Вяч. Иванов), роман в новой форме (в письменно зафиксированном слове) стремится воскресить первобытный синкретизм слова, звука и жеста (отсюда – органичное рождение кино– и телероманов), восстановить изначальное единство человека и мироздания.
Проблема места и времени рождения романа остается дискуссионной. Согласно (и предельно широкой в историческом плане, и, в то же время, предельно узкой по существу) трактовке романа как приключенческого повествования, сосредоточенного на судьбах влюбленных, стремящихся к соединению, первые романы были созданы еще в Древней Индии и – независимо от того – в эллинистической Греции и в Риме во II–IV веках. Так называемый «греческий» (другие определения – эллинистический, софистический) роман – хронологически первая версия «авантюрного романа испытания» (М. Бахтин) – лежит у истоков первой стилистической линии развития романа (по М. Бахтину), для которой характерны «одноязычность и одно стильность» (в англоязычной критике повествования такого рода именуются romance).
Действие в «ромэнс» разворачивается в так называемом «авантюрном времени», которое изъято из реального (исторического, биографического, природного) времени и представляет собой своего рода «зияние» (М. Бахтин) между начальной и конечной точками развития циклического сюжета – двумя моментами в жизни героев-влюбленных: их встречей, ознаменованной внезапно вспыхнувшей обоюдной любовью, и их воссоединением после разлуки и преодоления каждым из них разного рода испытаний и искушений. Промежуток между первой встречей и окончательным воссоединением наполнен такими событиями, как нападение пиратов, похищение невесты во время свадьбы, морская буря, пожар, кораблекрушение, чудесное спасение, ложное известие о смерти одного из влюбленных, заключение в тюрьму по ложному обвинению другого, грозящая ему смертная казнь, вознесение другого на вершины земной власти, неожиданная встреча и узнавание. Художественное пространство «греческого» романа – «чужой», экзотический, мир: события происходят в нескольких ближневосточных и африканских странах, которые описываются достаточно подробно (роман – своего рода путеводитель по чужому миру, замена географической и исторической энциклопедий, хотя в нем содержится и немало фантастических сведений).
Ключевую роль в развитии сюжета в античном романе играет случай, а также разного рода сны и предсказания. Характеры и чувства героев, их внешность и даже возраст остаются неизменными на всем протяжении развития сюжета. Эллинистический роман генетически связан с мифом (прежде всего с неоплатоническим и орфическим мифоучениями об изначальном единстве бытия, о его разделении – распадении – на две половины и чаемом воссоединении, символизируемом священной свадьбой), с римским судопроизводством и судебным красноречием – риторикой. Поэтому в «софистическом» романе – множество рассуждений на философские, религиозные и моральные темы, речей, в том числе и произносимых героями на суде и построенных по всем правилам античной риторики: авантюрно-любовный сюжет романа – это и судебный «казус», предмет его обсуждения с двух диаметрально-противоположных точек зрения, pro и contra (эта контраверсность, сопряжение противоположностей сохранится как жанровая черта романа на всех этапах его развития).
В Западной Европе эллинистический роман, забытый на протяжении Средневековья (иная участь постигла его наследника – византийский роман), был заново открыт в эпоху Возрождения авторами позднеренессансных поэтик, создававшихся почитателями также заново открытого и прочитанного Аристотеля. Пытаясь приспособить аристотелевскую поэтику (в которой о романе ничего не говорится) к потребностям современной литературы с ее бурным развитием разного рода вымышленных повествований, гуманисты-неоаристоте-лики обратились к «греческому» (а также «византийскому») роману как античному образцу-прецеденту, ориентируясь на который следует создавать правдоподобное поучительное повествование (правдивость, достоверность – новое качество, предписываемое в гуманистических поэтиках романному вымыслу). Рекомендациям, содержавшимся в неоаристотелевских трактатах, во многом следовали создатели псевдоисторических авантюрно-любовных романов эпохи Барокко (М. де Скюдери и др.). Фабула «греческого» романа не только эксплуатируется в массовой литературе и культуре XIX–XX веков. (в тех же латиноамериканских телероманах), но и просматривается в сюжетных коллизиях «серьезной», «высокой» литературы, например, в романах О. де Бальзака, В. Гюго, Ч. Диккенса, Ф. М. Достоевского, А. Толстого (трилогия «Сестры». «Хождение по мукам», «Восемнадцатый год»), Б. Пастернака («Доктор Живаго»), хотя в них же нередко пародируется («Кандид» Вольтера) и кардинально переосмысляется (целенаправленное разрушение мифологемы «священной свадьбы» в прозе Андрея Платонова и у Г. Гарсиа Маркеса).
Но роман к сюжету не сводим. Подлинно романный герой сюжетом не исчерпывается: он, по выражению М. Бахтина, всегда или «больше сюжета, или меньше своей человечности». Он не только и не столько «человек внешний», реализующий себя в действии, в поступке, в адресованном всем и никому риторическом слове, сколько «человек внутренний», нацеленный на самопознание и на исповедально-молитвенное обращение к Богу и конкретному «другому»: такой человек был открыт христианством (см. Послания ап. Павла, «Исповедь» Аврелия Августина), подготовившем почву для формирования европейского романа.
Роман как жизнеописание «человека внутреннего» начал складываться в западноевропейской литературе в форме стихотворного, а затем прозаического «рыцарского романа» XII–XIII веков. – первого повествовательного жанра Средневековья, воспринимаемого авторами и образованными слушателями и читателями как вымысел, хотя по традиции (также становящейся предметом пародийной игры) нередко выдававшегося за сочинения древних «историков». В основе сюжетной коллизии рыцарского романа лежит не судьба разделенной цельности (как в романе «греческом»), а ищущее компромисса неуничтожимое противостояние целого и отдельного, рыцарского сообщества (мифического рыцарства времен короля Артура) и героя-рыцаря, который и выделяется среди других своими достоинствами, и – по принципу метонимии – является лучшей частью рыцарского сословия. В предназначенном ему свыше рыцарском подвиге и в любовном служении Вечной Женственности герой-рыцарь должен заново осмыслить свое место в мире и в социуме, разделенном на сословия, но объединенном христианскими, общечеловеческими ценностями. Рыцарская авантюра – не просто испытание героя на самотождественность, но и момент его самопознания.
Вымысел, авантюра как испытание самотождественности и как путь к самопознанию героя (героев), сочетание мотивов любви и подвига, интерес автора и слушателей и читателей романа к внутреннему миру персонажей – все эти характерные жанровые приметы рыцарского романа, «подкрепленные» опытом близкого ему по стилю и строю «греческого» романа, – на закате Возрождения перейдут в роман Нового времени, пародирующий рыцарскую эпику и одновременно сохраняющий идеал рыцарского служения как ценностный ориентир (см. «Дон Кихот» М. де Сервантеса).
Кардинальное отличие романа Нового времени от романа средневекового – перенос событий из сказочно-утопического мира (хронотоп рыцарского романа – «чудесный мир в авантюрном времени», по определению М. Бахтина) в узнаваемую «прозаическую» современность. На современную «низкую» действительность сориентирована одна из первых (наряду с романом Сервантеса) жанровых разновидностей новоевропейского романа – плутовской роман (или пикареска), сложившийся и переживший расцвет в Испании во второй половине XVI – первой половине XVII века. (см. «Ласарильо с Тормеса», Матео Алеман, Ф. де Кеведо, Висенте Эспинель). Генетически пикареска связана со второй стилистической линией развития романа, по М. Бахтину (ср. англоязычный термин novel как противоположность romance). Ей предшествует «низовая» проза Античности и Средневековья, так и не оформившаяся в виде собственно романного повествования, к которой относятся «Золотой осел» Апулея, «Сатирикон» Петрония, мениппеи Лукиана и Цицерона, средневековые фаблио, шванки, фарсы, соти и другие смеховые жанры, связанные с карнавалом. Карнавализованная литература, с одной стороны, противопоставляет «человеку внутреннему» «человека внешнего», с другой – человеку как социализированному существу («официальный» образ человека, по М. Бахтину) человека природного, приватного, бытового. Первый образец плутовского жанра – анонимная повесть «Жизнь Ласарильо с Тормеса» (1554) – пародийно сориентирована на жанр исповеди и выстроена как псевдоисповедальное повествование от лица героя, нацеленное не на покаяние, а на самовосхваление и самооправдание (см. также прозу Дени Дидро и «Записки из подполья» Ф. М. Достоевского). Автор-иронист, прячущийся за героем-повествователем, стилизует свой вымысел под «человеческий документ» (характерно, что все четыре сохранившихся издания повести анонимны – ср. также анонимность первого – журнального – издания «Капитанской дочки», воспроизводящей жанрово-композиционные принципы плутовского повествования). Позднее от жанра пикарески ответвятся подлинные автобиографические повествования (например, «Жизнь Эстебанильо Гонсалеса»), стилизованные под плутовские романы. В то же время пикареска, утратив собственно романные свойства, превратится в аллегорический сатирический эпос (см. Б. Грасиан).
Первые образцы романного жанра обнаруживают специфически-романное отношение к вымыслу, который становится предметом двусмысленной игры автора с читателем: с одной стороны, романист приглашает читателя поверить в достоверность изображаемой им жизни, погрузиться в нее, раствориться в потоке происходящего и в переживаниях героев, с другой – то и дело иронически подчеркивает вымышленность, сотворенность романной действительности. «Дон Кихот» Сервантеса в этом плане продолжает линию «Ласарильо». В других аспектах роман Сервантеса противоположен плутовскому роману: повествование в пикареске замкнуто в кругозоре плута-повествователя и тяготеет к монологизму. «Дон Кихот» – роман, в котором определяющим началом является проходящий через него диалог Дон Кихота и Санчо Пансы, автора и читателя. Плутовской роман – это своего рода отрицание «идеального» мира романов первой стилистической линии – рыцарских, пасторальных, «мавританских». «Дон Кихот», пародируя рыцарские романы, включает в себя романы первой стилистической линии на правах объектов изображения, создавая пародийные (но не только) образы жанров этих романов. Мир сервантесовского повествования распадается на «книгу» и «жизнь», но граница между ними размыта: герой Сервантеса проживает жизнь как роман, претворяет задуманный, но не написанный роман в жизнь, становясь автором и соавтором романа своей жизни, в то время как автор – под маской подставного арабского историка Сида Ахмета Бененхели – становится персонажем романа, не выходя в то же время из своих других ролей – автора-издателя и автора-творца текста: начиная с Пролога к каждой из частей, он – собеседник читателя, которому также предлагается включиться в игру с текстом книги и текстом жизни. Таким образом, «донкихотская ситуация» развертывается в стереометрическом пространстве трагифарсового «романа сознания», в сотворение которого вовлечены три основных субъекта: автор – герой – читатель. В «Дон Кихоте» впервые в европейской культуре зазвучало «двухголосое» (Бахтин), нечто изображающее и само по себе изображенное, романное слово – наиболее яркая примета романного дискурса.
Подобно тому как роман Сервантеса объединяет обе стилистические линии развития романа, традиции риторического и карнавального дискурсов, английские романисты эпохи Просвещения (Д. Дефо, Г. Филдинг, Т. Смоллетт) примиряют первоначально несовместимые друг с другом роман «сервантесовского типа» и пикареску, создав «роман большой дороги», который, в свою очередь, абсорбирует опыт зародившегося в раннеренессансной Италии («Фьяметта» Боккаччо) и окончательно оформившегося во Франции в XVII веке. («Принцесса Клевская» м-м де Лафайет) психологического романа, а также черты идиллии. Традиции английского любовно-сентиментального и семейно-бытового романа эпохи Просвещения (С. Ричардсона, О. Голдсмита) будут подхвачены романистами XIX–XX столетий. Впитав, в свою очередь, опыт оформившегося также в Англии под пером В. Скотта исторического романа, в специфически русском культурном контексте возникнет жанр романа-эпопеи (Л. Толстой), который через столетия сопоставит в единой художественной структуре две противоположности – эпос и роман, еще раз подтвердив коренную особенность романа – его сущностную контраверсность и диалектику его внутренней формы.
Способность романа к постоянному самообновлению на всем протяжении его жизни в культуре Нового и Новейшего времени подтверждается регулярным появлением романов-пародий на те или иные тяготеющие к канонизации образцы жанра: пародийное и самопародийное начало присутствует в прозе Филдинга, Стерна, Виланда, Диккенса, М. Твена, Джойса, Пушкина, Достоевского, Набокова, Ж.-М. Эсы де Кейроша, М. де Унамуно, Г. Гарсиа Маркеса, М. Варгаса Льосы и др. Большинство романов-пародий и самопародий могут быть названы «самосознательными романами» или метароманами, т. е. текстами, основанными на пародийной цитации и ироническом переосмыслении чужих текстов. У истоков этой традиции также находится первый «образцовый» роман Нового времени – «Дон Кихот».
Многообразие романной традиции, отражающее неисчерпаемость самого жанра, проявляется и в появлении специфически-национальных разновидностей жанра: «романа воспитания» в Германии (Гёте, Т. Манн), романа-эпопеи в России, «романа о диктаторе» в Латинской Америке, детективного романа в Англии.
Библиография:
Веселовский А. Н. История или теория романа // Веселовский А. Н. Избранные статьи. Л., 1939; Лукач Д. Теория романа // НЛО. № 9 (1994); Грифцов Б. А. Теория романа. М., 1927; Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997 (первое изд. 1936); Чичерин А. В. Происхождение романа-эпопеи. М., 1958; Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963; Он же. Слово в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975; Он же. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975; Кожинов В. В. Происхождение романа. М., 1963; Днепров В. Черты романа XX века. М.; Л., 1965; Бочаров С. Г. О композиции «Дон Кихота» // Бочаров С. Г. О художественных мирах. М., 1985; Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986; Лейтес Н. С. Роман как художественная система. Пермь, 1986; Пискунова С. И. «Дон Кихот» Сервантеса и жанры испанской прозы XVI–XVII веков. М., 1998; Ortega-y-Gasset J. Meditaciones de la novela. La Habana. 1964 (первое изд. 1914); Girard R. Mensonge romantique et vйritй romanesque. Grasset, 1961; Booth W. The Rhetoric of the Novel. Chicago; London, 1967 (первое изд. 1961); Alter R. Partial Magic, 1975; Frey N. The Secular Scripture. 1976; Towards a Poetics of Fiction. Essays from the Novel: a Forum on Fiction 1967–1976 / Ed. by M. Spilka. Bloomington; London, 1977; Scholes R. Fabulation and Metafiction. 1979; Reed W. L. An Exemplary History of the Novel. The Quixotic versus the Picaresque. Chicago; London, 1981; Stanzel F. K. Typischen Formen des Romans. 12 Aufl. Gottingen, 1997.
Примечания
1 Подготовленная для настоящего издания версия статьи «Роман», которая была опубликована в электронной Энциклопедии Кириллла и Мефодия.
Мениппея: до и после романа
В качестве одного из уточняющих синонимов жанрового имени «мениппея» исследователь «фантастического дискурса» Р. Лахманн1 использует слово «парадокс». Действительно: мениппея – это жанр, а, точнее, архижанр2, базирующийся на парадоксах, предполагающий совмещение в одном художественном высказывании стиха и прозы, высокого и низкого, серьезного и смешного, чудесного и обыденного, вымысла и мимесиса, аллегории и натуралистического гротеска… Не менее парадоксальна и его судьба. С одной стороны, это – один из наиболее употребимых терминов в гуманитарном словаре второй половины XX – начала XXI столетия. С другой – поразительно единодушное отторжение бахтинской новации филологами-классиками, специалистами по античной литературе3.
Но даже если согласиться с тем, что мениппея как полноценный жанр позднегреческой и римской литературы – умозрительное построение Бахтина4, для историков западноевропейской литературы раннего Нового времени безусловен факт бытования менипповой сатиры как жанра европейской гуманистической словесности XV–XVII веков5, в который входили многие, по-разному структурированные и тематически ориентированные, поджанры. В частности, У. Скотт Бланшар6 выделяет такие ее разновидности, как сновидение, пародийная хвала, пародийный трактат, комический эпос. Этот список можно расширить за счет «разговоров в царстве мертвых» и «разговоров богов» (они частично пересекаются со сновидениями-видениями), пародийных проповедей, фантастических диалогов о «превращениях».
Пародирующая многие жанры и приемы риторического дискурса и делового письма, мениппова сатира как жанр была фактически заново сотворена ренессансными гуманистами. Первыми фантастические сатиры-аллегории начали писать итальянцы – Леон Батиста Альберти, Дж. Понтано и другие, но как представительная, непрерывно развивающаяся жанровая линия карнавализованной прозы на латинском и на национальных языках мениппова сатира явственно обозначилась в европейской гуманистической литературе в период крушения ренессансного «мифа о человеке» и распространения скептических и натурфилософских идей, а именно в XVI–XVII веках, в культуре позднего Возрождения и Барокко, в особеннности после публикации «Апоколокинтосиса» Сенеки (1513) и осуществленных Эразмом Роттердамским латинских переводов Лукиана7.
Правда, само словосочетание «мениппова сатира» (или «сатира, подобная Менипповой») появилось в гуманистической среде достаточно поздно8 – в названиях латиноязычных гуманистических сатир, самой известной и влиятельной из которых была созданная в подражание «Сну Сципиона» «Мениппова сатира» голландского гуманиста Ю. Липсия «Сон» (Satira Menippea. Somnium), написанная в 1581 году, то есть семнадцатью годами раньше постоянно упоминаемой французской религиозной сатиры, направленной против Лиги (1598)9.
«Мениппея» как субстантивированное прилагательное – неологизм Бахтина. Прекрасно отдавая себе в отчет в окказиональности вводимого им термина (и подкрепив свой выбор аналогией с принятым в критике Нового времени, далеко не всегда мотивированным, использованием слова «роман»), Бахтин-автор четвертой главы «Проблем поэтики Достоевского» сделал это по-барочному звучное имя обозначением некой многовековой метажанровой традиции, ведущей от Варрона и Мениппа – через «роман» Рабле (величайший из ренессансных мениппейных дискурсов) – к полифоническому роману Достоевского.
При этом, с одной стороны, «мениппея» отождествляется им с «менипповой сатирой», являясь своего рода сокращенным наименованием последней: «…в дальнейшем мы будем именовать "Мениппову сатиру" просто м е н и п п е е й» (выделено автором. – С. П.)10, – замечает Бахтин. С другой стороны, «мениппова сатира» упоминается и как «особый жанр», входящий, наряду с мимами Софрона, «сократическим диалогом», симпосионом, памфлетами, «всей буколической поэзией», в область «серьезно-смеховой» словесности, то есть в «мениппею» в широком значении слова11.
В мениппею как архижанр Бахтин включил и латиноязычные аллегории, созданные за пределами смеховой культуры (вроде «Утешения философией» Боэция), и такие жанры раннехристианской литературы, как исповедь, проповедь, житие, а – главное – евангелия12. Последнее представляется нам наиболее существенным. Ведь автор «Проблем поэтики Достоевского» стремился найти линию преемственности не только и не столько между Достоевским и Мениппом, сколько между Достоевским и единственным созданным в позднеантичном мире, а по существу за его духовными пределами, праобразом «полифонического романа» – Евангелием, между Достоевским и Новым заветом как духовно-словесным целым со всем комплексом примыкающих к нему апокрифических текстов. Бахтин неслучайно подчеркивает, что «античный» этап жизни жанра мениппеи приходится на период кризиса классической античной культуры, кратко, но внятно отмечая в опубликованном в 1963 (!) году в издательстве «Советский писатель» (!) тексте 4-й главы связь мениппеи с раннехристианской литературой. Так что можно предположить, что «мениппея» для Бахтина – это имя-маска13, заслоняющее грубой телесностью петрониевых и лукиановых сатир смиренный факт рождения христианской духовности и явление Нового Слова.
В Евангелиях, впрямь, есть многие систематизированные Бахтиным жанровые приметы мениппеи (есть даже персонажи «трущобной» литературы – блудницы, преступники…). Нет, конечно, безудержно-свободного вымысла. Но «вымысла» нет в канонических Евангелиях (хотя и здесь нельзя не вспомнить ламентаций героя Булгакова, касающихся записей Левия Матвея…). И, конечно же, в Новом Завете нет карнавального смеха14. Зато есть тот многозвучный и много язычный образ говорящего мира, в центре которого – свободное, неофициальное, «неукрашенное» Слово, обращенное к «простецам», «идиотам», «малым» мира сего. А карнавал для Бахтина (как и для Л. Шпитцера – автора исследования о языке Рабле) – это, прежде всего, воплощенная в земную плоть словесная полифония15.
Мениппея может быть и серьезной, несмешной. Это прекрасно понимал и сам Бахтин, еще в 1940-е годы задумавшийся над тем, как бы в новой, но так и не осуществленной редакции книги о Рабле проследить «две линии развития менипповой сатиры» – «цирково-балаганную» и «однотонно-оскюморную»16. Однако в написанной для издания 1963 года историко-поэтологической главе книги о Достоевском, посвященной собственно мениппее, Бахтин сосредоточился исключительно на линии карнавальной, смеховой, которую, впрямь, сподручнее прорисовывать если не от мифического Варрона, то от похождений Луция-осла17 и «Сатирикона» Петрония.
Почему Бахтин и в «Проблемах поэтики Достоевского» не стал развивать философию «серьезности»? Внятного ответа на этот и соприкасающиеся с ним вопросы – ответа, который в любом случае будет гипопетическим, – как нам представляется, до сих не дано… Возможно, в начале 1960-х годов у саранского профессора-затворника Бахтина уже не было ни сил, ни времени на то, чтобы усложнять (и осложнять) четко продуманную стратегию описания мениппеи, в котором центральное место занимают «романисты» Рабле и Сервантес (последний – исключительно «заявочным» образом), но отнюдь не та же «Божественная комедия» Данте18, которая является мениппеей по многим жанрообразующим признакам, стилистически объединяя обе линии развития архижанра (включает в себя, наряду с описанием ужасов Ада, элементы площадной речи, фарс, низовую гротескную образность). Но родилась поэма Данте отнюдь не на карнавальной площади и не под раскаты побеждающего смертный страх хохота бессмертной толпы.
Данте бесстрашен и – серьезен. Его (а в его лице – все человечество) спасают любовь и вера, а не освобождающий от страха смерти площадной смех. Впрочем, это противопоставление – не вполне корректно. Площадной смех заглушает страх смерти, но не спасает. В то время как тема спасения, образ обретшего новую вечную жизнь, спасенного человечества – центральная тема «Комедии». Спастись для Данте означает «примкнуть к вечности», как писал А. Грифиус, покинуть пространство непрерывно становящейся жизни, в которой жизнь и смерть – единое целое. Напротив: цель карнавального смеха – заставить участника празднества смириться со своей малостью и обреченностью, весело и бесстрашно «примкнуть» к бессмертному на земле «телу» толпы на карнавальной площади.
Но для Бахтина, очень по-своему и подспудно-полемически трактующему «серьезность», она – почти всегда синоним авторитарности, насилия, закоснелости, окаменелости, застывшей мысли, оборванной жизни, «ставшего», по-гётевски противопоставленного «становлению»19. Впрочем, существует и «неофициальная» серьезность – «серьезность страдания, страха, напуганности, слабости. Серьезность раба…»20… Но и эта серьезность – несвобода. Страх. Иррациональный трепет. Слепое, беззвучное, безъязыкое подчинение Авторитету, понять волю которого немыслимо. Как нельзя понять адресованное Аврааму требование Яхве принести ему в жертву первенца Исаака… Как известно, именно жертвоприношение Авраама стало предметом «последних» метафизических размышлений С. Киркегора – автора книги «Страх и трепет» над безысходным – неартикулируемым – трагизмом человеческого существования. И одновременно – апофеозом веры как Абсурда. Прославлением тотального Одиночества Рыцаря веры – Авраама21.
Для нас очевидно антикиркегоровское происхождение темы страха как сквозного сюжета бахтинского философствования, а также полемическая преемственность многих идей Бахтина по отношению к вдруг получившему популярность в России в начале XX века датскому философу: это против автора «Страха и трепета» направлены и «веселое бесстрашие» бахтинского христианства, и попытка связать трагедию, в первую очередь, не с сыно-, а с отцеубийством… Замкнувшаяся в себе самой, утратившая дар речи индивидуальность (а именно таков трагический Авраам Киркегора) является для Бахтина и причиной, и порождением смертного страха. Страха смерти, который – на разных основаниях – неведом ни персонажам Рабле, ни героям Достоевского.
Поэтому романы Достоевского (пускай и обязанного стольким Шекспиру) – по своему существу, то есть по своему жанровому строю, – не трагедии22. И христианство как религия любви и воплощенного Слова принципиально не трагично и – не трагедийно. Поскольку в нем есть то, что лишь имитировали смеховые ритуалы языческого мира, нацеленные на возрождение вечно обновляющегося космоса: чаемое и окончательное уничтожение границы между жизнью и смертью, верхом и низом, Богом и человеком, Творцом и тварью, Всемогущим и Всеблагим и самыми униженными и оскорбленными… Новозаветного Бога нужно не только бояться (испытывать священный трепет): с Ним можно говорить. Обо всем и на любом языке. (Потому-то разговор Раскольникова с Соней – «христианская мениппея».) Сам акт воплощения Бога в человека, нисхождения Духа в тварную плоть, демонстрирующий и максимальное уничижение Божественного и Его – а вместе с Ним и преображенного Человечества – немыслимое возвышение, изоморфен логике карнавальных превращений «верха» и «низа» (возможно, и поэтому Евангелие – «карнавал»?). При том что «верх» оказывается внизу для того, чтобы вознестись туда, где земные измерения пространства не действенны.
Неслучайно Бахтин подчеркивает, что в мениппейном эпосе Рабле присутствует духовное, духоподъемное начало: «Непристойности Рабле не возбуждают и не могут возбуждать никаких эротических чувств… Они возбуждают только с м е х и м ы с л ь, их цель п р о т р е з в л е н и е человека, освобождение его от всякой одержимости (в том числе и чувственной), подъем человека в высшие сферы бескорыстного, абсолютно трезвого и свободного бытия, на… вершины б е с с т р а ш н о г о сознания…», – полемизирует со своими предполагаемыми критиками (а, возможно, и с самим собой) Бахтин в «Дополнениях…»23, парадоксально переосмысливая раблезианскую вакханалию, окутывая ее одухотворяющей магией пантагрюэлиона. Ведь и средневековый карнавал (хотя далеко не во всех его проявлениях), и текст Рабле – в отличие от сочинений Лукиана и Петрония – встроены, включены в орбиту христианского мировидения, пронизаны светом Нового Завета (Бахтин, к сожалению, нигде прямо об этом не писал и даже подчеркивал противопоставление народа на площади и церковников-агеластов)24.
Главное же: в Новом Завете есть более важный, чем смех или свободный вымысел, параметр будущего европейского романа – того, что мог возникнуть только на почве христианского типа сознания и вполне реализоваться только в постантичном мире – образ «человека внутреннего» (Св. Павел, Аврелий Августин). Напротив, сатира античного извода нацелена на «человека внешнего». Пускай не только смеющегося, но и плачущего. Не только совокупляющегося, но и философствующего. Не только поглощающего угощения в палатах Трималхиона, но и трезво оценивающего увиденное… Все равно: повествующее «я» того же «Сатирикона» (поименованное Энколпий) – никак не образ «человека внутреннего».
«Человек внутренний» – личность в персоналистском, христианском значении слова25 – рождается не просто в процессе разговора персонажа-киника или стоика с незримым собеседником в диатрибе (это – чисто риторический прием). «Человек внутренний» возникает лишь в ситуации целостной жизни-предстояния перед Высшим началом бытия, в контексте сознания христианином-личностью своей ответственности за все сделанное и помышленное в этой жизни (классический тому пример – «Исповедь» Аврелия Августина).
Правда, концепт «человек внутренний» вдруг стал использоваться как обозначение индивидуальности, сформировавшейся в Европе как субъект культуротворчества в эпоху романтизма26, как метафора «внутреннего мира» «самостийного» «я», выделившегося из социально-природного целого и себя ему противопоставившего. При этом личность (если философ принимает само ее отличие от индивидуальности) оказывается лишь «прогрессивным» моментом развития индивидуальности27. Но тогда тот же Августин как субъектно-объектный центр «Исповеди», фактически узаконивший образ «человека внутреннего» в европейской литературе, или Абеляр как герой-повествователь «Истории моих бедствий», поскольку оба – подчеркнуто анти-индивидуалистичны, оказываются индивидами, напрочь лишенными личностного начала.
Нам ближе точка зрения, согласно которой личность не то чтобы предшествует индивидуальности (она может быть надындивидуальной, как индивидуальность – безличностной28): она является более универсальным, над эпохальным понятием. «Замкнутая индивидуальность» (М. Бахтин) – характеристика индивида именно Нового времени, в то время как каждой исторической эпохе присуща своя идея личности: «Каждая культура живет и стягивает все свои определения в определенном типе „личности как регулятивной идеи“. В Новое время (выделено автором. – С. П.) такой регулятивной идеей личности оказывается недостижимый феномен Автора своей жизни, своей биографии…»29 (В. С. Библер). Но не всякий буржуазный индивид и не всякая взращенная романтической эпохой индивидуальность обретает личностное измерение. Тот же герой-идеолог Достоевского становится личностью лишь в преодолении своей обособленности от мира, познав себя «в глазах другого», в диалогическом общении с другими. Индивидуальность – форма самореализации «я» в посюстороннем времени-пространстве. Личность находит себя в диалоге с вечностью: она – воистину, «вечности заложник у времени в плену».
Но и личность, и индивидуальность – это не человек в толпе на карнавальной площади. Поэтому в комическом мениппейном эпосе Рабле разглядеть образ «человека внутреннего» очень непросто, если не невозможно (Бахтин и не пытался это сделать). В мениппее Рабле есть описание того, что находится у человека «внутри» (вспомним знаменитый эпизод о путешествии персонажа-«рассказчика» в глотку Пантагрюэля в XXII–XXXIII главах второй книги пятикнижия), есть повествование о том, как воспитать человека социального (то есть, опять-таки, внешнего): последний в контексте средневеково-ренессансного миросозерцания Рабле неизбежно будет человеком природно-космическим, «вселенским», надындивидуальным30. Есть, однако, в пятикнижии Рабле немало указаний и на то, что из себя представляет подлинный, евангелический, христианин – как член Церкви Христовой… Но ни один из персонажей Рабле не раскрывается как личность в аспекте жизни его сознания и в его самосознании. Личностью является лишь Автор «Гаргантюа…», спрятавшийся в первых книгах за маской Алькофрибаса Назье, попытавшийся затеряться в толпе на карнавальной площади, выступающий в роли раешного зазывалы, площадного проповедника (столь знакомая монахам-францисканцам роль!). Конечно, любой вдумчивый и настроенный на раблезианский лад читатель ощущает присутствие на страницах «Гаргантюа и Пантагрюэля» жаждущей самоумаления, но неуничтожимо гигантской личности Рабле, понимает, что гротескные метаморфозы раблезианского дискурса неотделимы от заложенных в них иносказательных, аллегорических, равно как и эзотерико-символических, смыслов. Более того: читатель-пантагрюэлист то и дело вступает с автором деяний Пантагрюэля в личностный контакт. Но точно и наглядно, цитатно, зафиксировать следы авторского «я» на страницах комического эпоса о великанах – если не брать в расчет предисловия-прологи и посвящение четвертой книги – очень сложно. (А у Бахтина – как создателя книги о Рабле – задача была прямо противоположная: восстановить смысл художественного языка, на котором написана (проговорена!) мениппея Рабле, универсальной семиотической системы – кода карнавальной культуры.) Так как непосредственным предметом изображения Рабле являются не его великаны и не он сам, а тот язык, на базе которого выстроено вполне традиционное с точки зрения сюжетики повествование31, язык, на котором герои (и рассказчик) произносят обличительные и поучительные речи, на котором восхваляются друзья и поносятся недруги, описывается (каталогизируется, систематизируется) Мир Божий во всех его аспектах и подробностях… При этом и повествование, и дискурс, и описание подвергаются тотальной карнавальной деконструкции, выглядят «ахинеей», «абракадаброй», как их определяет Л. Е. Пинский. «Гротеск здесь выходит за пределы пародирования схоластики или сатиры на судопроизводство… – пишет Пинский. – Алогическое в произведении Рабле – это „играющая“ Природа, прославленная в пантагрюэлизме стихия „вина“, как источника силы – силы творческой… Ритмика перечисления имен поваров или синтаксис судебной речи Пантагрюэля опьяняют читателя самим звучанием. Слово здесь рассчитано на произнесение, а не на чтение глазами, оно в прямом смысле почти ничего не сообщает (выделено мной. – С. П.)»32.
«Роман» Рабле, как и многие так называемые «романы» эпохи Возрождения (рыцарские, пасторальные), – это только предроман. Для романа – даже авантюрно-приключенческого, плутовского, любовно-психологического, семейного, «воспитательного» – нужна если не личность, то индивидуальность, впервые во всей полноте обозначившаяся в герое классической испанской пикарески Матео Алемана «Гусман де Альфараче» (1599–1604). Своими индивидуальными чертами отмечены и многие из персонажей прозы Сервантеса (в первую очередь, «Назидательных новелл»). Но в «Дон Кихоте» на первом плане – не столько индивидуальность (ее черты лишь намечены в образе Алонсо Кихано, особенно во Второй части), сколько символическая фигура безумца-утописта – рыцаря Печального Образа, смысл существования которого обусловлен творческим, личностным порывом к бессмертию, вдруг охватившего пожилого «идальго из Ла Манчи»33. Но именно в «Дон Кихоте» и созданном по его модели новоевропейском романе «сервантесовского типа» (М. Г. Соколянский)34 – у Стерна, Пушкина, Гоголя и затем уже – у Достоевского, как представлялось Бахтину35, – произошло «открытие и оправдание человека внутреннего» как литературного героя.
Так как между героем Сервантеса – читателем рыцарских романов (а читатель – всегда Пьер Менар, всегда Автор!), дерзновенно творящим свое «я», испытывающим свой «личностный проект» в реальном действии, терпящем не отличимое от победы поражение и осознающем, в конце концов, свое место в порядке бытия, и гротескным «телом» толпы на карнавальной площади устанавливается метафорическая и метонимическая связь, наиболее зримо воплощенная в проходящем через все повествование (начиная со знаменитой 8-й главы Первой части, той, в которой Дон Кихот сражается с мельницами) диалоге Дон Кихота и Санчо. Народ на карнавальной площади и ламанчский идальго (то бишь мелкопоместный дворянин), представленный в ракурсе его парадоксально – как особый род безумия – репрезентированного сознания, встретились и заговорили на страницах сервантесовского повествования36. В создании единственного для своего времени произведения, которое вполне соответствует идеальному концепту Бахтина «карнавализованный роман-мениппея» (все прочие мениппеи – не романы, да и не так уж смешны!), и заключается гениальное открытие Сервантеса.
Но «Дон Кихот» остался Бахтиным не прочитанным. На словах неоднократно чрезвычайно высоко оценивавший роман Сервантеса и его роль в истории жанра романа, Бахтин нигде развернуто о нем не высказывался37. Исключение составляет его суждение о Дон Кихоте и Санчо в «Творчестве Франсуа Рабле…»38, где, следуя предложенному Г. Лукачем прочтению «Дон Кихота»39, Бахтин интерпретирует творение Сервантеса как карнавальное всенародное обличение индивидуалистической «правды» рыцаря Печального Образа, то есть исключительно как мениппову сатиру, полностью игнорируя христианско-гуманистический – собственно романный – аспект сервантесовского замысла.
Не разглядев личность в герое романа Сервантеса, в поисках индивидуальности, которая должна предшествовать герою-личности полифонического романа, Бахтин – судя по «Дополнениям…», намеревался обратиться к трагедиям Шекспира, в каковых усматривал воплощение «глубинной трагедии самой и н д и в и д у а л ь н о й (выделено автором. – С. П.) жизни, обреченной на рождение и смерть, рождающейся из чужой смерти и своею смертью оплодотворяющей чужую жизнь…»40. Но это – индивидуальная жизнь, воссозданная «во внешних топографических координатах»41. В силу самой природы сценического действа «человек внутренний» у Шекспира – сплошь овнешнен (отсюда – такой интерес Бахтина к жестам в театре Шекспира!). И в этом смысле герои Шекспира (не один Фальстаф!) по-своему близки персонажам Рабле.
Шекспир трагичен и одновременно по-карнавальному комичен. Как истинный лицедей, несерьезен по определению. Хотя и – серьезен в каком-то особом, высшем смысле слова. В архиве Бахтина сохранилась запись, в которой трагедия (Софокла, Шекспира) и смех (конечно же, карнавальный, соборный) функционально уравниваются: «И трагедия и смех одинаково питаются древнейшим человеческим опытом мировых смен и катастроф (исторических и космических), памятью и предчувствием человечества, отложившимся в основном человеческом фонде мифа, языка, образов и жестов. И трагедия и особенно смех стремятся изгнать из них с т р а х (здесь и далее выделено автором. – С. П.), но делают это по-разному. С е р ь е з н о е мужество42 трагедии, остающейся в зоне замкнутой индивидуальности. Смех реагирует на смену весельем и бранью. И трагедии и смеху одинаково чужды и враждебны моральный оптимизм и утешение… всякие скороспелые и куцые «гармонии» на наличном материале… И трагедия и смех одинаково бесстрашно смотрят в глаза бытию, не строят никаких иллюзий, трезвы и требовательны»43.
Иное дело – роман. Сотворение иллюзий и их разоблачение – его «магистральный сюжет» (Л. Е. Пинский) со времен Гелиодора. Поздний Шекспир – создатель «Перикла», «Бури», «Цимбелина», «Зимней сказки» – также обращается к этому «романному», точнее, «романическому» (как производное от romance) сюжету, естественно, используя романические (взятые из эллинистических любовных романов) образы и фабулы. Но не этот, романизированный (и поэтому столь популярный в XX веке Шекспир), а Шекспир – создатель пьес, отвергающих «гармонию» на наличном материале», творец великих трагических героев, значим для Бахтина.
Однако провести линию развития романной традиции от Рабле к романисту Достоевскому через Шекспира (даже с опорой на Гоголя44) значительно сложнее, чем прочертить линию: Рабле – Сервантес – Достоевский. Сходство Сервантеса и Рабле с точки зрения истории жанра менипповой сатиры очевидно: и «Гаргантюа…», и «Дон Кихот» – пародии на эпос (хотя «Дон Кихот» – и об этом говорилось немало – значительно больше, чем пародия). Сервантес, как и Шекспир, пятикнижия Рабле не знал, но и у него, и у Рабле – не только общая «материальная» почва (городской карнавал), общий духовный отец – Франциск Ассизский45, и общий «идейный» наставник, да и литературный, предтеча – Эразм Роттердамский, создатель блистательной мениповой сатиры «Похвальное слово Глупости». Настольной книги испанских эразмистов, в числе которых был и Сервантес46.
Но было бы неверным определять жанр «Дон Кихота» именно – и только – как «мениппею» (и, тем более, как мениппову сатиру), отказывая «Дон Кихоту» в праве именоваться романом47. Будучи образцовой, классической, как это ни парадоксально звучит, мениппеей, в которой присутствуют все признаки жанра по классификации Бахтина, «Дон Кихот» – больше, чем мениппея, при том что «мениппова сатира» – важный, не менее существенный, чем рыцарские романы48, интертекст сервантесовского романа. И, естественно, литературной почвой49, на которой он возник, явились, с одной стороны, расцвет рыцарской романической эпики в ренессансной Испании, с другой, – почти тотальная переориентация испанской гуманистической словесности на опыт Эразма, подкрепленная восходящей к XIV веку национальной традицией (достаточно вспомнить насквозь карнавализованную, с участием самого Карнавала как действующего лица, «Книгу благой любви» Хуана Руиса), многоязычием и поликонфессиональностью испанской средневековой культуры. Мениппейной традиции так или иначе причастны почти все нарративные и диалогические жанры испанской литературы XVI–XVII веков, оппонирующие «книгам о рыцарстве», официальной историографии и государственно-одической эпике. Это – и «нарративный мим» (термин О. М. Фрейденберг) «Селестина» Ф. де Рохаса, с шлейфом его испанских и португальских подражаний-продолжений, и «Часы государей» и «Домашние письма» А. де Гевара, и пародийные стихотворные энкомии Г. де Сетина, и нарративный фантастический диалог так называемого «лукиановского» типа (от «Погремушки» и «Диалога о превращениях» К. де Вильялона до «Новеллы о беседе собак» Сервантеса»), и так называемый «пасторальный роман», и «Жизнь Ласарильо с Тормеса», и его первое продолжение – «Ласарильо-тунец», и такие образцы пикарески, как «Плутовка Хустина», «Бускон» Кеведо (да и его «смеховая» проза в целом), «Хромой бес» Луиса Велеса де Гевара… И, наконец, «Критикон» Б. Грасиана, венчающий барочную линию развития мениппеи на испанской почве50.
В жанровом отношении (то есть в аспекте типологии) «Критикон» читается как парадоксальное продолжение / опровержение «Гаргантюа и Пантагрюэля»: «эпопея-мениппея»51 Грасиана также представляет собой аллегорическое повествование о воспитании идеального человека-мудреца, о пути человека к бессмертию, хотя герои Рабле обретают в его в «вине» (бесконечно-многозначном символе!), а герои Грасиана – в чернильном море, омывающем Остров Бессмертия. Но при этом модус восприятия и воссоздания реальности, присущий сочинению Грасиана, диаметрально-противоположен тому, в границах которого Бахтин прокладывает путь к роману, описывая его как «прохождение эпоса через стадию фамильяризации и смеха»52.
В случае с Грасианом мы имеем дело с многовековой, восходящей, по крайней мере, к стоикам, традицией аллегорического переосмысления эпического материала. Область действия риторики – не истина (это – сфера философии, метафизики), а вероятное, помысленное. Повествование в «Критиконе» лишено статуса истинности, достоверности: их заменяют правдоподобие и поучительность, а мифопоэтические образы той же «Одиссеи» (заколдованные острова, великаны, чудовища, олимпийские боги…) воспринимаются наравне с персонажами позднегреческих «побасенок» как убедительный вымысел – носитель поучительных смыслов. Это приписывание эпиче ским образам и сюжетам новых моральных значений актуализирует эпос, разрушает его «абсолютную завершенность и замкнутость»53 и «эпопея», освобождаясь от мифопоэтического содержания и функций священного предания, превращается в romance, риторизируется. (Так аллегоризация и риторизация оказываются двумя сторонами одного и того же процесса.)
Одновременно риторическое «учительное» слово Грасиана утрачивает «пуповинную» связь с карнавальным смехом. Из области «серьезно-смехового» оно перемещается в область «остроумного», а значит – несмешного54, гротескно-безобразного. Грасиан эксплуатирует образность карнавальных действ и мотивы карнавализованной литературы, полностью их инвертируя, превращая из символов возрождения в знаки смертного распада55. Вовлечение человека в иллюзорное театральное представление под названием «Жизнь, полная услад» – жесточайшее над ним издевательство, изображенное Грасианом в аллегорической сцене посещения Критило и Андренио «всечеловеческого театра» (I, VII), где на сцене появляется плачущий нагой «человечек», чья жизнь – от рождения до смерти – проходит перед глазами «веселящихся зрителей подлого сего театра» (124–126). «Андренио, хлопая, хохотал над проделками хитрецов и глупостью человеческой. А обернулся, видит – Критило не смеется, как все, но плачет…"…
Скажи, – спросил Критило, – понравилось бы тебе, будь ты тем человеком, над которым смеешься?"» (127). Грасиан связывает смех со стыдом и унижением ближнего, в отличие от Сервантеса не чувствуя исцеляюще-воскрешающей соборной силы смеха56. Для него смех – это хохот злобной толпы. А толпа для испанского писателя-моралиста века Барокко – не образ вечно бессмертного народного целого, а синоним ненависти, безрассудства, безумия, самой смерти, поскольку обретение бессмертия для него, как уже говорилось, – деяние глубоко личностное. Толпа веселящаяся, праздничная – могила личности. Площадь – этот центральный топос карнавала – у Грасиана «скотская» (257), корраль – «загон» для черни.
Таким образом, в отличие от карнавального площадного смеха Рабле и от личностного диалогического смеха Сервантеса, несмешной смех Грасиана – это смех «личный», монологический, смех «про себя» и «для себя». Смех, превращенный в риторический прием, трансформированный в «искусство остроумия», в изобретение метафор, соединяющих природно несовместимое. Риторика у Грасиана подчиняет себе то, что осталось в грасиановской образности и от карнавального смеха, и от открытой проблемности человеческого существования, ставшей достоянием европейского гуманизма на позд нем, кризисном этапе его развития. Поэтому «Критикон» Грасиана – вовсе не роман (novel), но несерьезная, несмешная мениппея, связаная с иной, нежели, роман «сервантесовского типа» или французский любовно-психологический роман XVII века, романической новацией Нового времени. Именно на основе «Критикона», с учетом опыта его предшественников (Сервантеса – автора «Стран ствий Персилеса и Сихизмунды», Дж. Баркли, творца латиноязычного «Аргениуса») и современников (Дж. Бэньяна, Лафонтена), в Европе XVIII столетия возник так называемый «масонский роман» (по сути «ромэнс»), столь важный для судеб европейской прозы последующих столетий57.
Литературный опыт Испании как «родины романа» свидельствует о том, что мениппея как реально существовавший двуипостасный (серьезно-смеховой, но и – сугубо серьезный, гротескно-остроумный) жанр, со всем ее подчеркнутым протеизмом, готовностью и способностью смешиваться с другими жанрами, могла и «вести» литературу к роману Нового времени, и… «уводить» от него: в сторону сатирико-аллегорического «педагогического» «ромэнс». И уж тем более, мениппова сатира как жанр европейской литературы XVI–XVII веков не тождественна роману: она существовала синхронно, параллельно и «перекрестно» с жанром становящегося новоевропейского романа, а также во взаимодействии с барочным театром и даже поэзией (бурлескные поэмы Гонгоры, смеховая поэзия Кеведо, Теофиля де Вио…). Отыскивая истоки как мениппеи, так и менипповой сатиры в античности и пытаясь провести линию ее развития прежде всего через французскую литературу, в которой мениппея, хотя и была представлена достаточно широко, занимала в системе литературных жанров далеко не главенствующее положение, Бахтин сделал свой теоретический конструкт достаточно уязвимым. Это, одна ко, не отменяет самого историко-литературного факта существования обширной группы текстов, которую Бахтин назвал мениппеей и которую – независимо от Бахтина – разглядели в магме общеевропейского литературного потока Н. Фрай и А. Флетчер58, обозначившие во многом совпадающий с подвижными границами мениппеи тренд как «анатомия» и «аллегория». С последними во многом слился поток современной социально-критической и сатирической «фэнтези», включая жанры утопии / антиутопии и альтернативный псевдоисторический роман. Более того, временами складывается, надо надеяться ошибочное, впечатление, что мениппея способна пережить роман, сложившийся и возникший в постэразмистской Испании. Ведь этот роман немыслим вне границ христианской ментальности, вне сферы существования «человека внутреннего», вне области развертывания его диалога с ближним и обращенности к Истине.
Так или иначе, как и роман, мениппея – жанр, открытый будущему59. Поэтому поиск (или затаптывание) его следов исключительно в далеком прошлом, – занятие не всегда плодотворное.
Примечания
1 См.: Лахман Р. Дискурсы фантастического. М.: Новое Литературное Обозрение, 2009.
2 Это обозначение выявленной М. М. Бахтиным дискурсивной традиции, предложенное Н. С. Автономовой в организованном «Вопросами литературы» выступлении на Круглом столе (см.: Вопросы литературы. 2010), представляется нам наиболее соответствующим его над– и межжанровой сути.
3 Эту тему затрагивает и Н. Д. Тамарченко в своем исследовании «Поэтика Бахтина и современная рецепция его творчества» (Вопросы литературы, январь-февраль 2011).
4 Н. С. Автономова (см. прим. 2 к наст. ст.) назвала мениппею «хрупкой конструкцией из осколков фактов».
5 См.: Schwartz-Lerner L. The Golden Age Satire: Transformations of Genre // Modern Language Notes. 1990. V. CV.
6 См.: Scott Blanchard W. Scholar's Bedlam: Menippean Satire in the Renaissance. Bucknell University Press; London Associated University Presses, 1995.
7 Лукиан, практически неизвестный в средневековой Западной Европе, но изучавшийся в школах Византии, стал достоянием итальянских гуманистов еще в 20-е годы XV века. благодаря посредничеству византийских ученых, таких как Михаил Хризостом (см. подробнее: Schwartz-Lerner L. Op. cit.). Но общеевропейскую известность он получил благодаря Эразму.
8 Хотя о римской сатире или сатуре как таковой писали уже авторы итальянских поэтик Скалигер (1561) и Робортелло (1548).
9 Впрочем, именно во Франции на рубеже XVI–XVII веков И. Казобоном была предпринята первая попытка осмыслить жанр «менипповой сатиры» в историческом аспекте: Isasi Casauboni de satyrica Graecorum poseí, et Romanorum satira libri duo. О Казобоне и об антипапском памфлете Бахтин знал (см.: Попова И. Л. Книга М. М. Бахтина о Франсуа Рабле и ее значение для теории литературы. М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 124 и сл.)
10 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советский писатель, 1963. С. 152.
11 См. с. 142 указ. соч.
12 У Бахтина они так и фигурируют – с маленькой буквы. Как жанровое обозначение.
13 «Менипп и его сатира – псевдоним гораздо более существенных, бессмертных идей и принципов восприятия мира…», – точно заметил В. Н. Турбин (Турбин В. Н. Карнавал, религия, политика, теософия // Бахтинский сборник. Вып. I. М., 1990. С. 25).
14 Н. К. Бонецкая, крайне предвзято трактующая философское наследие Бахтина (см.: Бонецкая Н. К. Бахтин глазами метафизика // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1998. № 1), утверждает, что Бахтин именует «карнавалом» Страсти Христовы, в то время как автор «Проблем поэтики Достоевского» лишь отмечает влияние карнавального ритуала увенчания-развенчания царя-жертвы на глумление римских воинов над Иисусом накануне казни (см.: Проблемы поэтики Достоевского. Указ. изд. С. 181).
15 В дополнение к мемуару В. Н. Турбина – мемуар автора этих строк, также связанный с Турбиным: в конце мая – начале июня 1965 года, то есть до публикации книги о Рабле, первокурсница, прочитавшая по наущению доцента Турбина «Проблемы поэтики Достоевского» и с трудом понимавшая, что же такое «полифония», обратилась за разъяснением к лектору. Турбин ответил загадочно: «Михаил Михайлович как-то мне сказал: „Никто так и не понял, что все это написано о Евангелии…“».
16 Оно зафиксировано в увидевших свет после смерти философа текстах, объединенных публикаторами в группу «Дополнения и изменения к Рабле» (см.: Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 5. М.: Языки русской культуры, 1996. См. также: Попова И. Л. Указ. соч. С. 116).
17 См. о нем: Левинская О. Л. Античная Asinaria: история одного сюжета. М.: РГГУ, 2008.
18 О Данте Бахтин в «Дополнениях…» вспоминает лишь как об авторе «Пира» и персонаже народного анекдота («Данте карнавальный»).
19 В наброске «К философским основаниям гуманитарных наук» постановка Бахтиным «проблемы серьезности» конкретизируется словами: «элементы страха или устрашения, изготовка к нападению или к защите…выражение неизбежности, железной необходимости, категоричности, непререкаемости» (Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 5. М.: Языки русской культуры. С. 10).
20 Там же. С. 81.
21 См.: Гайденко П. П. Трагедия эстетизма. М.: Искусство, 1970.
22 Не стоит даже оговаривать тот факт, что «карнавализованный» Достоевский Бахтина – дополнение трагедийного Достоевского в интерпретации Вяч. Иванова.
23 Указ. изд. С. 115.
24 Поэтому даже его самые доброжелательные сторонники должны были указывать на то, что карнавал – не голая антитеза, а площадное дополнение церковного ритуала (самым наглядным в этом плане в позднесредневековой и ренессансной католической Европе был праздник Тела Господня).
25 «…Понятие личности воспринимается как понятие локально европейское (выделено автором. – С. П.), – справедливо утверждал Е. Б. Рашковский в известной дискуссии «Индивидуальность и личность в истории», организованной альманахом «Одиссей» в 1990 году. – В этом смысле личность есть… самосознание, сознательное самостоянье, самообоснование… Отсюда и обнаруженный экзистенциалистами (на деле – задолго до них. – С. П.) в специфических условиях Европы… вопрос о конституировании личности в актах внутреннего выбора, о присужденности к свободе… Именовать индивида-чудовище лично стью… бездумно пользоваться даром человеческой речи…» (Рашковский Е. Б. Личность как облик и как самостоянье // Одиссей. 1990. С. 13–14).
26 См., например: Эткинд Е. «Внутренний человек» и внешняя речь. М.: Языки славянских культур, 1998 и нашу полемику с ним в кн.: Пискунова С. И. «Дон Кихот» Сервантеса и жанры испанской прозы XVI–XVII веков. М.: Изд-во МГУ, 1998.
27 «Личность формируется на основе индивидуальности», – утверждает другой участник упомянутой дискуссии Э. Ю. Соловьев (там же, 53).
28 С. С. Неретина, апеллируя к Н. А. Бердяеву, противопоставляет личность и индивидуальность следующим образом: «Индивид может быть сколь угодно красноречив, социально активен, страстен и при этом не испытывать „потрясения всего существа“. Он может быть чрезвычайным эгоцентриком, но не испытывать устремленности к тому, что выше его, что лишь брезжит на горизонте нового бытия» (там же, 25).
29 Библер В. С. На гранях логики культуры. М.: Русское феноменологическое общество, 1997. С. 426–427.
30 Автор не устаревшего (несмотря на навязанный временем прогрессизм и атеизм) исследования о Рабле Л. Е. Пинский, страстно желавший найти в персонажах Рабле «типические характеры», вынужден, однако, признать невозможность противопоставить их как индивидуальности друг другу: «Человеческий характер, – писал советский ученый, – выражает у Рабле известное состояние общественной жизни… Но это состояние не фиксировано в образе как нечто стабильное и завершенное, в этом отличие образов Рабле как от сословных, корпоративных, родовых типов средневековой литературы…, как и от позднейшего бытового реализма XVII века… Основные комические образы Рабле (Гаргантюа, брат Жан, Пантагрюэль, Панург) соотнесены друг с другом. Переходят один в другой и находятся в динамическом единстве со своей социальной почвой, ибо перед их творцом, Рабле, все время стоит единая, развивающаяся «человеческая природа» (Пинский Л. Е. Реализм эпохи Возрождения. М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1961. С. 150–151).
31 В этом плане мениппея Рабле, как ни парадоксально, имеет некое сход ство с французским «новым романом» (его расцвет парадоксальным образом пришелся на десятилетие, воспоследовавшее за празднованием юбилея – 400-летия со дня смерти Рабле), то есть с антироманом, с тем феноменом, который возник после «конца» европейского романа Нового времени, еще только зарождающегося при жизни Рабле. С романом без сюжета (у Рабле сюжет, конечно, есть, но он – сплошь заимствованный: из эпоса, рыцарских романов, Библии, народных книг и народных сказок, античной и средневековой историографии, пародийно-стертый, аннигилированный).
32 Пинский Л. Е. Указ. соч. С. 142.
33 Так, по мнению Ф. Рико, именовался изначально «Дон Кихот» 1605 года.
34 Более адекватным сегодня представляется его другое определение: «роман сознания» (см.: главу 14).
35 См.: Попова И. Л. Указ. соч. С. 60.
36 Мы пытались описать механизм этой «встречи», опираясь на труды Х. Ортеги-и-Гассета, А. Кастро, Л. Шпитцера, А. Эфрона, М. Дурана, А. Редон-до, Х. Л. Абельяна, А. Вилановы, Х. Б. Авалье-Арсе и других ученых.
37 См. подробнее: Reed W. L. The Problem of Cervantes in Bakhtin's Poetics // Cervantes. V. 7 (1987).
38 См.: Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1965. С. 27 и сл.
39 Представляется, что именно из «Теории романа» Г. Лукача Бахтин заимствовал сомнительную формулу «отвлеченный идеализм» Дон Кихота. Подробнее об оценке романа Сервантеса в России в XX веке, в том числе о бахтинском восприятии «Дон Кихота» и о близкой ему трактовке В. Кожинова, см.: Piskunova S. «Don Quijote» y el pensamiento estético ruso del siglo XX // El Quijote y el pensamiento moderno. T. II. Madrid: Sociedad de conmemoraciones culturales, 2008.
40 Бахтин М. М. Дополнения… к Рабле. Указ. изд. С. 86.
41 Попова И. Л. Указ. соч. С. 59.
42 Чуть ли ни единственный случай, когда в тексте Бахтина слова «серьезность» и «мужество» стоят рядом.
43 Цитир. по кн.: Попова И. Л. Указ. соч. С. 183.
44 У Гоголя «человек внешний» и «человек внутренний» так окончательно и не встретились в границах единого авторского замысла, именуемого трилогия «Мертвые души». (Первой жертвой переориентации Гоголя на «человека внутреннего» стал ярмарочный смех первой редакции «Ревизора».)
45 О францисканских корнях творчества Сервантеса и Рабле писал еще П. М. Бицилли.
46 О том, чем и кем был Сервантес для Достоевского – и это Бахтин отмечал специально! – написано и сказано немало.
47 Этим грешит известная монография Дж. Парра «Анатомия субверсивного дискурса» (Parr J. A. An Anatomy of Subversive Discourse (Narrative Voices and Relative Authority, Characterization, Point of View and Genre). Newark: Juan de la Cuesta, 1988), с некоторыми дополнениями переизданная в 2005 году под названием «"Дон Кихот": камень преткновения для литературоведения» (Parr J. A. «Don Quixote»: A Touchstone for Literary Criticism. Kassel: Reichenberger, 2005). Опираясь на бахтинскую формулу мениппеи (которая и для Парра тождественна «менипповой сатире»), а также на схожую с ней концепцию «анатомии» Н. Фрая, Дж. Парр характеризует жанр «Дон Кихота», как исключительно комический, игровой (playful) эпос, как мениппову сатиру, нацеленную на сатирическое разоблачение главного героя: Дон Кихот у Парра – сумасшедший, плохой читатель плохих рыцарских романов, «заносчивый, жестокий, трусливый, доверчивый, нелепый как по одежде, так и в своих поступках» («prideful, violent, cowardly, gullible, grotesque in both attire and action» (Parr J. A. Op. cit. P. 126) – истинный «козел отпущения» (pharmakos) автора. Поэтому американский сервантист отказывает «Дон Кихоту» в праве считаться романом (к тому же, во времена Сервантеса, подчеркивает он, такого жанра, как роман, попросту не существовало). И даже компромиссная жанровая «калькуляция» Н. Фрая, согласно которой «Дон Кихот» – на треть «роман» (novel), на треть – «ромэнс» (romance), и на треть – «анатомия» (anatomy), то бишь «мениппея», перерешена Парром «в пользу» одной – по следней – трети. См. убедительное опровержение этого прочтения романа Сервантеса в статье-рецензии Ч. Пресберга (Presberg Ch. Hearing Voices of Satire in «Don Quixote» // Cervantes. Vol. 26. 2006).
48 Известное высказывание М. Менендеса-и-Пелайо о том, что «Дон Кихот» – «последний и величайший из рыцарских романов», столь же ограниченно-правомерно, сколь и утверждение Парра о том, что роман Сервантеса – это лишь великая мениппова сатира.
49 О социокультурных предпосылках появления жанра романа именно в Испании см.: Пискунова С. И. «Дон Кихот» Сервантеса и жанры испанской прозы XVI–XVII веков. Указ. изд.
50 Более того: в знаменитом трактате Грасиана «Искусство острого ума» («Agudeza y arte de ingenio»), в его второй части, посвященной искусству повест вования, под именем «эпопея в прозе» Грасиан фактически описывает ту разновидность сатирико-дидактического аллегорического повествования, которую Бахтин назовет «мениппеей». (Подробнее об этом см.: Пискунова С. И. Указ. соч.)
51 Определение Ф. Ласаро Карретера (см.: Lázaro Carreter F. El género literario de «El Criticуn» // Gracián y su época. Actas de la I Reuniуn de filуlogos aragoneses. Zaragoza, Instituciуn. 1986.
52 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. С. 459.
53 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Указ. изд. С. 459.
54 Ср. попытку А. Бергсона провести различие между «смешным» и «остроумным» (Бергсон А. Смех. М., 1992. С. 68–69 и сл.).
55 «…Не ищите веселья на лице мудреца, зато найдете смех на лице безумца» (здесь и далее русск. перевод «Критикона» цитир. по изд.: Грасиан Б. Карманный Оракул. Критикон / Изд. подгот. Е. М. Лысенко, Л. Е. Пинский. М.: Наука, 1981. С. 499): в этих словах квинтэссенция грасиановской философии смеха, по-разному озвучиваемой на многих страницах испанской барочной мениппеи. См. также сопоставление концепции смеха у Грасиана и Х. Плесснера, сделанное мельком Н. Григорьевой, автором замечательной книги «Эволюция антропологических идей в европейской культуре второй половины 1920—1940-х гг. (Россия, Германия, Франция)» (СПб.: Российский гос. педуниверситет им. А. И. Герцена, 2008).
56 Учеными не раз предпринимались попытки отыскать в «Критиконе» следы тайного или явного присутствия «Дон Кихота». Этому же посвящена и значительная часть указанного исследования Л. Е. Пинского. Но и Пинский вынужден признать очевидный факт «непонимания» «Дон Кихота» Грасианом, равно как и то, что это «не было недоразумением и заслуживает серьезного рассмотрения» (567).
57 См., например, убедительную трактовку жанра «Мертвых душ» как «масонского романа», предложенную М. Вайскопфом.
58 См.: Fletcher A. Allegory: The Theory of a Symbolic Mode. Ithaca; London, 1964.
59 Даже если ограничиться только русской прозой (что уж говорить о латиноамериканском романе!) второй половины XX – начала XXI столетия, то список прозаиков, связанных с мениппейным архижанром, будет впечатляющ: А. Битов, Вен. Ерофеев, А. и Б. Стругацкие, В. Аксенов, В. Орлов, Д. Быков…
Именной указатель
А[1]
Абельян Х. Л. 260 Абрамович И. С. 89 Авалье-Арсе Х. Б. 73, 260 Аверинцев С. С. 23, 191 Автономова Н. С. 257, 258 Алоэ С. 87 Алтер Р. 7, 11, 89, 139, 213, 214 Альми И. 94, 111, 114 Альтшуллер М. 41, 53, 54 Аникст А. А. 156 Арсентьева Н. 190, 192, 194 Артамонова Т. Г. 11 Ауэрбах Э. 53, 89 Айхенвальд Ю. (1) 136 Айхенвальд Ю. (2) 11, 25, 34, 111
Б
Багно В. Е. 11, 12, 25, 34, 55, 61, 64–66, 69, 77, 87, 154, 186, 188, 190, 192, 194, 195 Баран Х. 154, 155 Барт Р. 86 Баршдт К. 175, 176, 189, 190, 192, 194, 195 Баткин Л. М. 203 Бахтин М. М. 15, 16, 19, 22, 23, 34, 39, 44, 45, 52, 65, 66–68, 80–82, 86, 87, 89, 128, 148–152, 154–157, 173, 191, 214, 215, 218, 219, 227, 229, 237, 239–241, 243, 244, 245–255, 257–262 Белинский В. Г. 51, 65, 81 Белобровцева А. 210–212 Беньямин В. 121, 125, 135, 138, 140, 149 Бергсон А. 262 Бердяев Н. А. 128, 139, 191, 195, 259 Библер В. С. 250, 259 Бицилли П. М. 261 Бонецкая Н. К. 258 Бочаров С. Г. 8, 13, 21, 25–27, 29, 34, 35, 83, 89, 107, 108, 115, 195, 210, 216, 228, 229, 243 Бройтман С. Н. 141, 154–156, 158 Букетоф-Туркевич Л. 25 Бурмистрова Л. М. 11 Быстров Н. 135, 139
В
Вайскопф М. 47, 54, 59, 60, 65,
66, 77, 262 Веселовский А. Н. 17, 21, 67,
243 Ветловская В. Е. 88 Вейдле В. 38, 52 Викторович В. 97, 112 Виланова А. 260 Виноградов В. В. 88, 173 Вьюгин В. 194, 195
Г
Гадамер Х.-Г. 17, 23, 136, 140, 150 Галинская И. Л. 212 Гальцева Р. 172 Гаспаров Б. М. 211, 212 Гайденко П. П. 259 Геллер Л. 172 Геллер М. Л. 190 Геррес Й. Ц. фон 121 Гей Н. К. 55 Гильен К. 22 Гинзбург К. 195 Гончаров С. А. 58, 59, 65, 66, 156 Грехнев В. А. 31, 36 Григорьев Ап. 157 Григорьева Н. 262 Гринцер П. А. 23 Грифцов Б. А. 243 Гройс Б. 140 Гюнтер Х. 133, 140, 194
Д
Давыдова Т. 172 Джусти У. Л. 81 Дмитровская М. 179, 191, 192, 194 Днепров В. 236, 243 Добрякова А. 190 Долгополов Л. К. 125, 136–138 Долинин А. А. 53 Дружинин А. В. 157 Дунаев М. 95 Дуран М. 15, 260 Дэвенпорт Г. 12
Е
Елистратова А. А. 21, 62, 66 Ермилова Г. Г. 92, 101, 105, 110, 111, 113–115 Есаулов И. А. 114, 192 Есипова О. 209, 210
Ж
Женетт Ж. 217, 218, 221, 223, 228–230 Жирар Р. 169, 173 Жирмунский В. М. 38, 52, 157
З
Земсков В. Б. 110 Зольгер К. В. Ф. 121
И
Иванов Вяч. Вс. 79, 80, 87, 91,
92, 110, 112, 117, 118, 120–122, 126–128, 133, 134, 135, 138, 161, 162, 164, 169, 172, 237, 259 Иванов М. В. 111, 115 Иванов-Разумник Р. В. 123, 126, 136, 137 Иванникова Е. А. 88 Измайлов А. 143 Ильев С. П. 134 Ионин Л. Г. 205, 211, 212 Исупов К. 85, 86, 89
К
Каждан А. П. 54 Карельский А. В. 210 Кант И. 16, 122 Карабчиевский Ю. 226, 231 Карасев Л. В. 184, 189, 191, 194, 195 Карпов А. А. 112 Касаткина Т. А. 105, 106, 110, 111, 113, 115 Кастро А. 260 Кацис Л. 210 Кертис Дж. 209 Клоуз Э. 28, 227 Ковач А. 89 Кожинов В. В. 243, 260 Колобаева Л. А. 134, 140 Компаньон А. 21 Кошелев В. А. 88 Красовская С. 186, 194, 195 Кржевский Б. А. 209 Криницын А. Б. 112, 114 Кристева Ю. 230 Кройцер Ф. 120, 121, 149 Кульюс С. 210–212 Кунильский А. Е. 89 Курциус Э.-Р. 16, 17, 23, 67
Л
Лагутина И. Н. 149–151, 155, 156 Ланин Б. А. 171, 172 Ласаро Карретер Ф. 262 Латынина Ю. 171 Лахман Р. 244, 257 Лахузен Т. 173 Леблан Р. 20, 23, 54, 66 Левин Г. 214 Левинская О. Л. 259 Лесскис Г. А. 111, 211 Лейтес Н. С. 243 Липовецкий М. 10, 12, 131, 140 Лотман Ю. М. 13–15, 21, 22, 29, 33, 34, 36, 40, 53, 54, 63, 64, 66, 83, 117, 134 Лукач Г. (Д.) 34, 92, 93, 111, 243, 252, 260 Лысенко Е. М. 11, 262 Любимов Н. М. 77, 111, 190
М
Макогоненко Г. П. 54, 56 Максимова Е. 173 Малыгина Н. 177 Мамардашвили М. К. 29, 36, 215, 220, 227, 230 Манн Ю. В. 18, 23, 36, 57, 65, 66, 139 Маркович В. 91, 110 Мелетинский Е. М. 24, 38, 40,
52, 79, 87, 243 Менендес-и-Пелайо М. 29, 261 Мерегалли Ф. 73 Минц З. Г. 133, 134 Миримский И. 201 Михайлов А. В. 21, 23, 151, 156, 210 Михайлов А. Д. 185, 194 Морсон Г. С. 12, 109, 112, 115, 171, 219 Мортон У. 193 Мочульский К. 92, 93, 98, 103, 107, 111, 113, 115, 124 Мурильо Л. А. 198 Мэнсинг Х. 28
Н
Набоков В. 9, 131, 140, 223, 224, 230, 242 Наранхо К. 59 Нарумов Б. 134 Недзвецкий В. А. 59, 65 Неклюдов С. А. 117 Непомнящий В. С. 31, 36, 56 Неретина С. С. 259
О
Одиноков В. Г. 21 Оксман Ю. Г. 53, 55 Ортега-и-Гассет Х. 22, 25, 55, 85, 99, 119, 228, 237, 260
П
Парр Дж. 261 Пекуровская А. 81, 88 Пинский Л. Е. 12, 19, 31, 61, 66, 84, 251, 253, 260, 262 Пискунов В. М. 110, 137–139, 172, 193, 195 Пискунова С. И. 12, 21, 35, 36, 65, 77, 78, 87, 110–112, 115, 134, 172, 190–192, 228, 243, 259, 261 Померанц Г. С. 88, 103, 106, 114, 115 Попова И. Л. 111, 258, 260, 261 Проскурина Е. Н. 190 Протопопова И. А. 78, 173 Пятигорский А. М. 29, 36, 215, 218, 225, 227
Р
Рашковский Е. Б. 259 Райли Э. 34, 68 Редондо А. 191, 260 Рид У. Л. 19 Рикер П. де 120, 151 Риккерт Г. 126, 137, 138 Рико Ф. 260 Роднянская И. Б. 172 Розенблюм Л. 81, 88 Ромашко С. 135 Ромеро Муньос К. 69 Рутсала К. 83, 89
С
Сахаров В. И. 65 Сегал Д. М. 11 Семенова С. 191, 194 Силард Лена 124, 126, 137, 142, 153, 154, 157, 158 Синявский А. Д. 89, 9 °Cкалон Н. 172, 173 Скафтымов А. 114 Скотт Бланшар У. 244 Слободнюк С. Л. 169, 173 Смирнов А. А. 209 Смирнов И. П. 20, 23, 24, 40, 41, 46, 53, 54 Смирнов С. В. 88 Смирнова Е. 65 Соболев С. 154 Соколянский М. Г. 7, 252 Соловьев Э. Ю. 259 Степанян К. 95, 96, 112 Степанов Ю. С. 11 Степанов А. С. 114 Страда В. 26, 34, 35 Страхов Н. 51
Т
Тамарченко Н. Д. 15, 16, 22, 134, 257 Тихомиров Б. 112 Тодоров Ц. 134 Токарев Д. В. 157, 158 Толстая-Сегал Е. 190–192, 194, 195 Тревельян Дж. М. 17 Турбин В. Н. 31, 35, 36, 49, 55, 258 Тынянов Ю. Н. 28, 36, 45, 67, 160, 171
Ф
Флетчер А. 136, 140, 150, 153, 158, 257 Флоренский П. 162 Фокс С. 217, 228 Форсьоне А. 68 Фрай Н. 52, 257, 261 Фрейденберг О. М. 20, 133, 243, 254 Фэнджер Д. 63
Х
Ханзен-Леве А. 116, 117, 132–136, 138, 153, 157, 158 Харитонов А. 194 Хатямова А. М. 11 Холл Б. Т. 34, 63 Хьюз Э. 230
Ч
Чаликова В. 172 Чистов К. В. 50 Чичерин А. В. 243 Чудакова М. О. 202, 209, 210 Чумаков Ю. Н. 27, 29, 35, 37, 86, 89, 229
Ш
Шайтанов И. О. 171 Шкловский В. 26, 53, 54, 140 Шопенгауэр А. 121, 122, 135, 137, 148, 216 Шпитцер Л. 246, 260 Штанцель К. 66, 139 Штейнер Р. 190
Щ
Щенников Г. К. 93, 95, 110, 111, 112
Э
Эткинд Е. 259 Элиаде М. 159, 171, 173 Эль Саффар Р. С. 69 Эмрих В. 150 Эндрюс Э. 173 Эпштейн М. 186, 194 Эфрон А. 260
Я
Яблоков Е. 176, 189–191, 212 Якубович Д. 41, 53 Якубович И. Д. 88 Ямпольский М. 131, 132, 137—
140 Янг Сара 113
A
Avalle-Arce J. B. 78
B
Booth W. 243 Buketoff-Turkewich L., см. Букетоф-Туркевич Л.
C
Cabo Aseguinolaza F. 65 Cascardi A. 12 Curtius E.-R., см. Курциус Э.-Р.
D
Diusti M., см. Джусти М. Dudley E. 22, 191–193 Durбn M., см. Дуран М.
E
El Saffar R. S. 77 Endress H.-P. 156
F
Fletcher A., см. Флетчер А. Forcione A., см. Форсьоне А. Fox S. 228 Frye N., см. Фрай Н.
G
Gasperetti D. 23 Gass W. 12 Gaston P. S. 53 Girard R., см. Жирар Р. Grachiуva A. 12
H
Hall B. T., см. Холл Б. Т. Hughes E. J., см. Хьюз Э. Дж.
L
Lázaro Carreter F., см. Ласаро Карретер Ф.
M
Malmstad J. 171 Maquire R. 171 Meregalli F. 78 Morris M. A. 23 Morson G. S., см. Морсон Г. С. Murillo L. A. 210
O
Ortega-y-Gasset J., см. Ортега-и-Гассет Х.
P
Percas de Ponsetti E. 210 Piskunova S., см. Пискунова С. И. Presberg Ch. 261
R
Redondo A. 191 Reed W. L. см. Рид У. Л. Resina J. R. 191 Riley E., см. Райли Э.
S
Scott-Blanchard W, см. Скот-Бланшар У. Schwartz-Lerner L. 258 Scoules R. 12 Seifrid T. 190 Serrano Plaja A. 87 Spilka M. 243 Stanzel F. K., см. Штанцель Ф. К.
T
Ter Horst A. 53
Примечания
1
В указатель включены имена ученых, критиков, философов, а также писателей, если они фигурируют в одной из упомянутых ролей.
(обратно)
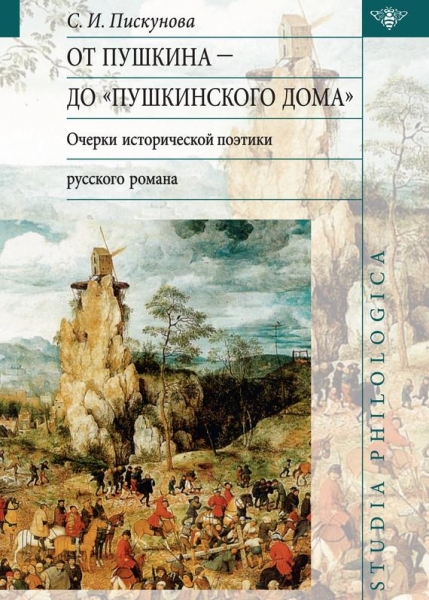
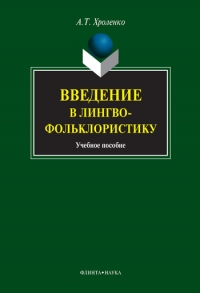

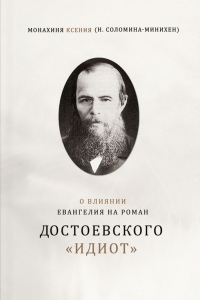



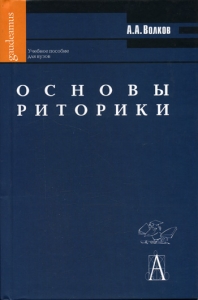
Комментарии к книге «От Пушкина до Пушкинского дома: очерки исторической поэтики русского романа», Светлана Ильинична Пискунова
Всего 0 комментариев