Александр Тимофеевич Хроленко Введение в лингвофольклористику: учебное пособие
От автора
У фольклорного слова есть образовательный аспект. Народно-песенная речь – хранительница и эталон языка. В русских фольклорных песнях «язык народа таков, каков он есть в своей сущности, каков должен быть, со всеми своими природными особенностями, ему лишь свойственными оборотами и извитиями» [Бодянский 1837]. Не случайно передовая русская педагогическая мысль смотрела на фольклор как на надёжное средство этического воспитания, а на язык его – как на совершенный способ познания родной речи и воспитания культуры. К.Д. Ушинский в знаменитом «Родном слове. Книге для учащихся» так объяснил значительное число фольклорных произведений различных жанров в учебном пособии: «Поговорки, прибаутки и скороговорки, иногда лишённые смысла, я поместил затем, чтобы выломать детский язык на русский лад и развить в детях чутьё к звуковым красотам родного языка». «…Народная сказка не только интересует дитя, не только составляет превосходное упражнение в самом первоначальном чтении, беспрестанно повторяя слова и обороты, но чрезвычайно быстро запечатлевается в памяти дитяти со всеми своими живописными частностями и народными выражениями». «Мы учим русскому народному языку на пословицах, ибо лучшего народного языка, чем тот, который сохранён в пословицах, не знаем…» [Ушинский 1968: 129, 130, 178]. Добавим, что К.Д. Ушинский первым поставил вопрос о природе фольклорного языка и определенно высказался в пользу его наддиалектности: обыденная речь и речь фольклорная – это «два языка совершенно различные».
В ряде вузов читаются спецкурсы и проводятся спецсеминары, пишутся курсовые, дипломные работы и защищаются диссертации о лингвистических особенностях народно-поэтической речи. Трудно переоценить значение исследовательской работы по лингвофольклористике в воспитании учителя-словесника. Изучение языка русского фольклора, прикосновение к истокам народного словесного искусства воспитывает патриотизм, облагораживает эстетический вкус, развивает чувство языка и вырабатывает умение активно пользоваться его неисчерпаемыми возможностями.
Работа над языком требует определенной исследовательской базы – комплекса специальных учебных книг, среди которых непременно должны быть хрестоматия, словари и учебное пособие.
В 2005 г. в свет вышла хрестоматия «Язык фольклора», составленная А.Т. Хроленко (переиздана в 2006 г.). Хрестоматия содержит наиболее ценные теоретические работы о языке фольклора, достойно представляющие отечественную науку за полтора столетия. Известно, что без постоянного обращения к научному наследию любое исследование грешит дилетантизмом и объективно может оказаться движением на месте. Незнание трудов предшественников – издержка не только морально-этическая, но и теоретическая, поскольку наблюдения, мысли предшественников не могут не стать катализатором дальнейшей познавательной реакции. Хрестоматия получила общественную поддержку в форме благожелательной рецензии в общенациональной газете (Известия. 2005. № 136. С. 12).
Вошли в научный обиход и словари фольклорного слова: Бобунова М.А., Хроленко А.Т. Словарь языка русского фольклора: Лексика былины: Ч. 1: Мир природы; Словарь языка русского фольклора: Лексика былины: Ч. 2: Мир человека. Курск: КГУ, 2005; Конкорданс русской народной песни: Т. 1: Песни Курской губернии. Курск: КГУ, 2007; Конкорданс русской народной песни: Т. 2: Песни Архангельской губернии. Курск: КГУ, 2008. Конкорданс русской народной песни: Т. 3: Песни Олонецкой губернии. Курск: КГУ, 2009. Конкорданс русской народной песни: Т. 4: Песни Сибири. Курск: КГУ, 2010.
Предлагаемая книга – это первый опыт вводного курса языка фольклора. Дисциплина включается в региональный компонент учебного плана для бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлению «Филологическое образование».
Автор надеется, что «Введение в лингвофольклористику» заинтересует не только студентов и аспирантов, осваивающих курс «Устное народное творчество», но и любителей русского народнопоэтического слова, и будет благодарен за любое замечание. Адрес электронной почты: khrolenko@hotbox.ru или по почте: Россия, Курск, 305004, ул. Гоголя, д. 25, кв. 19.
Становление науки о фольклорном слове
Начало науки о фольклорном слове
Первая треть XIX столетия – время становления науки о языке. В. фон Гумбольдт обосновал её теоретические основы, а Ф. Бопп, Р. Раск, Я. Гримм и А.Х. Востоков оснастили молодую науку мощным инструментом – сравнительно-историческим методом, благодаря которому лингвистика стала не только самостоятельной, но и ведущей областью гуманитарного знания.
Примерно в то же самое время филология, предыстория которой восходит к эллинистической эпохе античности, благодаря трудам Ф.А. Вольфа (1759–1824) и А. Бёка (1785–1867), отделившись от истории, становится филологией научной. В её недрах берёт своё начало и наука о фольклорном слове.
Художественное и научное освоение языка русского фольклора начинается в XIX в. Война 1812 г., вызвавшая глубокие сдвиги в сознании передовых сил русского общества, и декабристское движение с его идеями революционного романтизма обусловили повышенный интерес к устному народному творчеству. Романтики сформулировали принцип народности литературы, в основе которого лежало убеждение, что «национальный дух» хранится только народом и его художественной культурой.
«Квинт-эссенцией народного языка является народно-поэтическое творчество народа, фольклор. Устная народная словесность – кристаллизация семантики народного языка. Поэтому народная поэзия нередко рассматривается как воплощение основных тенденций народной речи, основных начал народного духа», – эти слова принадлежат авторитетнейшему знатоку русского языка академику В.В. Виноградову.
В первой трети XIX столетия формируется современный русский литературный язык, в становлении которого важную роль сыграл А.С. Пушкин. Великий русский поэт, лишённый чувства национальной ограниченности и впитавший в себя лучшие достижения мировой и европейской культуры, постоянно обращался к истокам народного искусства и черпал средства изобразительности и выразительности в художественной практике устного народного творчества. А.С. Пушкин начал записывать устно-поэтические произведения, оказался первым среди русских писателей собирателем фольклора и убедил П.В. Киреевского приступить к грандиозному национальному предприятию – составлению собрания народных песен. Оно, по мысли Пушкина, должно было стать энциклопедией народной жизни и арсеналом литературного языка. «…Изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойств русского языка», – писал поэт.
Примеру Пушкина последовали Н.В. Гоголь, А.В. Кольцов, Н.М. Языков, В.И. Даль, П.И. Якушкин, А.Ф. Писемский, П.И. Мельников-Печерский и др. Записи народной лирики и эпоса, сделанные выдающимися представителями русской культуры, составили ядро Собрания П.В. Киреевского, а язык устного народного творчества через их художественные произведения существенно повлиял на развитие литературного языка. Специальный (79-й) том «Литературного наследства» – «Песни, собранные писателями» – показывает роль русской литературы в освоении устной народной традиции, включая устно-поэтическую речь.
Революционные демократы В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов, утверждая идею народности литературы, обращались к народно-поэтическому творчеству, давали ему высокую оценку. В своих работах они останавливались и на вопросах формы фольклорного произведения – его языка и стиля. В «Замечаниях о слоге и мерности народного языка» Н.А. Добролюбов отмечает специфичные черты русской фольклорной речи: преобладание полногласия, господство русских слов над старославянскими, обилие уменьшительных форм, повторы, устойчивые сочетания слов, наличие постоянных эпитетов и типических описаний. Высокая оценка русского фольклора, его языка и стиля сочетается со стремлением глубоко, тщательно и широко описать его. Сравнительно небольшая заметка «О поэтических особенностях великорусской народной поэзии в выражениях и оборотах» – развернутая программа исследования фразеологии русского фольклора, в которой автор наметил объекты описания. Добролюбов первым сформулировал принцип комплексного подхода к изучению фольклорного языка: описание поэтических особенностей нельзя оторвать от лингвистики, исторического элемента, народной философии и быта.
Филологическое изучение языка русского фольклора началось в 40-е годы XIX столетия, когда развернулась деятельность по собиранию устно-поэтических произведений. Первый в истории методики преподавания научный труд Ф.И. Буслаева «О преподавании отечественного языка» (1844) содержал наблюдения над отдельными явлениями устно-поэтического языка.
Изучение языка русского устного народного творчества невозможно представить без трудов выдающегося лингвиста, литературоведа, фольклориста, этнографа и философа А.А. Потебни. Начав свой творческий путь магистерской диссертацией «О некоторых символах в славянской народной поэзии», Потебня до конца своих дней постоянно обращался к фольклору, а его лингвистическая концепция строилась с учётом большого количества фактов, почерпнутых из устно-поэтических произведений фольклора почти всех славянских народов. Устно-поэтическая речь, по его мнению, является той сферой, где органически сливается этническое, мировоззренческое, историческое, языковое и эстетическое. Для учёного с широкими научными интересами язык фольклора стал благодатной областью приложения активных исследовательских усилий.
Заслугой Потебни в изучении языка народной словесности явилось то, что он не ограничился констатацией отдельных фактов, а попытался создать концепцию устно-поэтической речи. К сожалению, он не оставил работы, которая бы полно представляла систему его воззрений на язык фольклора и сконцентрировала бы конкретные наблюдения. Однако большой и разнообразный фактический материал, сопровождаемый лаконичными комментариями и глубокими замечаниями, щедро рассыпан по всем философским, лингвистическим и литературоведческим трудам и заметкам Потебни.
Мысли выдающегося филолога А.Н. Веселовского о языке устного народного творчества концентрируются вокруг нескольких фундаментальных вопросов, органически связанных друг с другом: а) язык фольклора в отношении к другим формам речи, прежде всего к диалектной, иными словами, размышления о над-диалектном характере устно-поэтической речи; б) формульность поэтической речи, генезис, функционирование и эволюция формулы, необходимость «народно-песенной и сказочной морфологии»; в) постоянный эпитет как одно из ярких проявлений формульности устно-поэтической речи.
Когда в последней трети XIX в. складывается диалектология как научная дисциплина, фольклорная речь обратила на себя внимание диалектологов (М. Колосов, Л. Васильев, В. Чернышев и др.). Диалектолог М.А. Колосов признавался, что на собственным опыте убедился, каким важным пособием для выводов по языку могла бы послужить сказка, и значительную часть описанных особенностей народного языка извлёк из текстов записанных в Каргополе сказок. Интерес к народно-поэтическим текстам оказался продуктивным. Современный опыт составителей «Словаря русских народных говоров» показал перспективность использования фольклорных текстов как базы эмпирического материала для диалектной лексикографии.
Современный этап в изучении языка русского фольклора
Современное изучение фольклора начинается в 40-50-е годы XX столетия работами А.П. Евгеньевой, которые впоследствии вошли в её докторскую диссертацию и легли в основу монографии «Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII–XX вв.» [Евгеньева 1963]. Эти работы ознаменовали новый подход к выяснению природы языка фольклора и определили характер и тенденции последующей исследовательской работы лингвофольклористов.
Новому подходу к исследованию устно-поэтического языка была посвящена проблемная статья И.А. Оссовецкого «Об изучении языка русского фольклора» [Оссовецкий 1952], в которой автор кратко подвёл итоги предшествующего периода изучения языка фольклора и наметил две линии в исследовании устно-поэтической речи: а) её природа, взятая как сумма лингвистических фактов в её отношении к другим формам речи, и б) стилистическое использование отдельных языковых фактов.
Годом позже А.П. Евгеньева в четвёртом разделе введения к первому тому коллективной монографии «Русское народное поэтическое творчество» сформулировала этот подход следующим образом: «Язык устной народной поэзии, как и художественной литературы, следует рассматривать с двух точек зрения: во-первых, со стороны его грамматического строя и словарного состава, во-вторых, со стороны выразительной, художественной, т. е. со стороны стилистического использования тех или иных языковых явлений» [Евгеньева 1953].
Примерно в это же время на язык фольклора обратил внимание известный славист, знаток народной культуры славян П.Г. Богатырёв. В своей статье, которая увидела свет только в 1973 г. (она подготовлена к печати И.А. Оссовецким и напечатана в журнале «Вопросы языкознания»), П.Г. Богатырёв различает формы языка фольклора и формы языка диалекта в его коммуникативной функции. Статья начинается тезисом о том, что язык – это первооснова как письменной, так и устной поэзии, а потому нельзя изучать особенности литературного или фольклорного произведения, не зная того первоэлемента, из которого создаются эти произведения. «В основе языка литературы лежит литературный язык, в основе языка фольклора лежит диалект. Язык литературы – это литературный язык в его эстетической функции, язык фольклора – это диалект в его эстетической функции. Анализ литературного языка в его эстетической функции невозможен, если мы не знаем литературного языка в его коммуникативной функции, как невозможно выявить специфику языка фольклорного произведения того или иного жанра, не зная диалекта, на котором исполняется это произведение, диалекта в его коммуникативной функции» [Богатырёв 1973: 106].
Диалектологи неоднократно отмечали ошибки в анализе художественных средств языка, когда исследователи принимали за специфические черты фольклорных произведений явления, широко распространённые не только в устно-поэтических текстах, но и в разговорной речи, в частности, в речи диалектной.
Одновременно Богатырёв обратил внимание и на тот факт, что язык фольклора значительно отличается от диалекта в его коммуникативной функции. С одной стороны, язык фольклора, в отличие от языка в его коммуникативной функции, иногда имеет «более узкий запас языковых средств», а с другой стороны – язык песен значительно богаче, чем разговорный язык диалекта, поскольку в язык песен входят архаизмы, заимствованные элементы из другого диалекта. «Лингвистический запас, которым располагает песня, во многом значительно больше, чем лингвистический запас разговорного языка, и творцы и исполнители фольклора свободнее пользуются лингвистическим материалом по сравнению с языком разговорным. И действительно, если рифма или ритм песни этого требуют, то исполнитель и создатель песни может ввести форму или слово из другого диалекта, может ввести архаизмы и т. п.» [Богатырёв 1973]. В славянском фольклоре морфология народной песни существенно отличается от морфологии диалекта в его коммуникативной функции. Так, болгарская песня удерживает старые формы, так как замена старой формы новыми повела бы к нарушению ритма. В итоге древние морфологические черты становятся специфическими песенными чертами. Особое внимание Богатырёв уделил месту и роли уменьшительно-ласкательных слов как специфической черты славянской народной песни.
Работы А.П. Евгеньевой, П.Г. Богатырёва и И.А. Оссовецкого имели то несомненное значение, что в них впервые была предпринята попытка определить понятие «язык фольклора». Правда, это определение у них не было однозначным, что объясняется и сложностью, многоаспектностью самого предмета, и пионерским характером указанных работ. До сих пор под языком фольклора понималась вся совокупность языковых фактов в составе текстов фольклорных произведений, совершенно игнорировалось то обстоятельство, что язык устного народного творчества органически входит в образно-художественную систему словесного искусства.
Достоинством работ А.П. Евгеньевой, П.Г. Богатырёва и И.А. Оссовецкого было и то, что они наметили перспективные и плодотворные пути дальнейшего исследования устно-поэтической речи.
Чётко обозначились три направления в изучении языка фольклора: 1) выяснение природы языка фольклора через его соотношение с диалектами; 2) изучение отдельных элементов структуры народно-поэтической речи; 3) функционально-стилистическое использование фактов языка в системе народной поэтики.
Целесообразность специальной дисциплины
Проведенный в своё время анализ фольклористических и лингвистических работ, в которых так или иначе затрагивались вопросы, связанные с фактами народно-поэтической речи, привёл к выводу о неэффективности как чисто лингвистического, так и чисто фольклористического подхода к фактам языка фольклора, поскольку в поле зрения фольклористики оказались только те явления, которые лежат на поверхности, причем вне всякой связи друг с другом. Когда же языком фольклора заинтересовались лингвисты, обнаружилась другая крайность: языковые явления рассматривались вне связи с поэтикой, художественной структурой устно-поэтического текста и произведения в целом. Редкие попутные замечания языковедов об эстетическом значении и художественной функции рассматриваемых явлений носили поверхностный характер. В результате терялось самое главное – объяснительный аспект исследования. Факты регистрировались – и только. Объяснить сущность каждого из них практически было невозможно, поскольку обрывались все те связи внутри системы, которые обусловливали природу и специфику каждого используемого в фольклорном тексте языкового явления, хотя в работах А.А. Потебни, А.Н. Веселовского, П.Г. Богатырёва, А.П. Евгеньевой, И.О. Оссовецкого был отчётливо намечен новый подход к языку фольклора, который вёл исследователя к осознанию необходимости интегративного анализа явлений народно-поэтического языка.
Постепенно становилось ясно, что изучение языка фольклора должно стать предметом специальной филологической дисциплины, которая и была названа лингвофольклористикой. Термин лингвофольклористика был предложен в 1974 г., когда в свет вышли две публикации А.Т. Хроленко – одна в сборнике научных трудов кафедры русского языка Курского госпединститута [Хроленко 1974б] – «Проблемы лингвофольклористики: К вопросу о комплексном подходе к изучению языка фольклора», другая – «Что такое лингвофольклористика?» – в научно-популярном журнале «Русская речь» [Хроленко 1974а]. Предложенный термин обозначал суть подхода к изучению устно-поэтической речи – выявление места и функции языковой структуры в структуре фольклорного произведения, использование лингвистических и фольклористических методов исследования [Хроленко 1974б: 13].
«Удачный термин лингвофольклористика, предложенный проф. А.Т. Хроленко и прочно закрепившийся в лингвистике и фольклористике, естественно, находится в употреблении всех лингвистов, занимающихся языком фольклора» [Никитина 2007: 23]. «…Термин лингвофольклористика, вошедший в научный обиход в 70-80-е годы XX в. (предложен А.Т. Хроленко), тяготея к разным ветвям языкознания, оказывается не вполне определённым, но вместе с тем он достаточно отчётливо прочерчивает статус представляемого им научного направления в качестве именно промежуточной отрасли филологического знания» [Тарланов 2007: 4]. Обращает на себя внимание формулировка темы научного семинара, подготовленного и проведённого З.К. Тарлановым в Петрозаводске в 2007 г. – «Современная русская лингвофольклористика: итоги и перспективы».
Необходимость специальной научной дисциплины, изучающей язык фольклора, виделась не только в том, что она даёт новые знания о природе фольклорного слова как элементе народно-поэтического произведения – это её основное, итоговое значение, – но и в том, что специальная научная дисциплина обусловливает поиск иного, интегрированного, методологического и методического подхода к устно-поэтической речи. Чёткая постановка проблем, поиски эффективных методов и методик исследования, необходимая координация творческих усилий тех, кто изучает язык фольклора, – одно это уже оправдывало бы существование лингвофольклористики.
Круг проблем, отнесённых к компетенции новой дисциплины, был обозначен в работах П.Г. Богатырёва, А.П. Евгеньевой и И.А. Оссовецкого. Это – природа фольклорного языка в его сопоставлении с другими формами общенародного языка, генетические основы поэтики, характер взаимосвязи языка и поэтики на уровне фольклора, сущность фольклорной стилистики, включая проблемы исторической стилистики, психолингвистический аспект народного творчества, особенное и общее в языке фольклора, вариантное и инвариантное в нем, «явный» и «неявный» уровни в устно-поэтическом творчестве.
В последней четверти XX столетия сложились три вузовских центра лингвофольклористических исследований – воронежский, петрозаводский и курский. Воронежские лингвофольклористы во главе с Е.Б. Артёменко разрабатывают вопросы фольклорного текстообразования и исследуют народно-поэтический синтаксис. Петрозаводские учёные, возглавляемые З.К. Тарлановым, описывают жанровую дифференциацию языка русского фольклора. Курские лингвофольклористы сосредоточили своё внимание на семантической стороне фольклорного слова. Весьма существенный вклад в становление и развитие лингвофольклористики внесла С.Е. Никитина (Москва). Её фундаментальный труд «Устная народная культура и языковое сознание» (М., 1993), как и диссертация в виде научного доклада на соискание учёной степени доктора филологических наук «Культурно-языковая картина мира в тезаурусном описании» (М., 1999), лежат в основании современной лингвофольклористики. В фонд лингвофольклористики вошли также многие исследования специалистов Института славяноведения РАН.
Как складываются лингвофольклористические центры, можно показать на примере Курска. Воспитанник воронежской научной школы А.Т. Хроленко в 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию о паратактических конструкциях в русской народной лирической песне и получил направление на работу в Курский госпединститут. В 1974 г. вышли две статьи Хроленко, в заглавии которых прозвучал термин лингвофольклористика, именующий новую научную дисциплину. Через два года была опубликована небольшая по объёму монография «Лексика русской народной поэзии». В 1979 г. в академических изданиях Ленинграда в свет вышли статьи «Проблема фольклорной лексикографии» и «Семантическая структура фольклорного слова», окончательно определившие направление научного поиска. Монография «Поэтическая фразеология русской народной лирической песни» (Воронеж, 1981) отразила основное содержание докторской диссертации, защищённой в Ленинградском госуниверситете в марте 1984 г.
В 1986 г. при кафедре русского языка Курского пединститута была открыта аспирантура. История курской лингвофольклористики по-настоящему началась в 1990 г. В феврале в Воронежском госуниверситете И.С. Климас защитил работу «Жанровое своеобразие русской устно-поэтической речи», а в октябре М.А. Бобунова, аспирантка Е.Б. Артёменко, – диссертацию «Динамика народно-песенной речи (на материале фитони-мической лексики в необрядовой русской народной лирической песне)». И.С. Климас и М.А. Бобунова составили костяк того творческого коллектива, который в отзывах со стороны именуется курской школой лингвофольклористики. Вскоре состоялись защиты работ Л.И. Лариной о терминологии курского свадебного обряда и Л.О. Занозиной о терминологии календарных обрядов на территории Курской области. Обе исследовательницы составили успешно работающую группу по диалектологии и этнолингвистике. Главное предприятие группы – составление словаря курских говоров.
Аспирантура при кафедре русского языка КГПИ активизировала расширение и углубление лингвофольклористической тематики. Каждая кандидатская диссертация посвящалась большим и неисследованным вопросам. Изучались части речи в фольклорном дискурсе – числительные (С.П. Праведников), наречия (Т.П. Набатчикова), слова категории состояния (И.А. Диневич).
Исследовались концептосферы – орнитонимы в фольклорных текстах (Л.Ю. Гусев), этнонимы в различных жанрах фольклора (Е.С. Березкина), нравственный мир человека (В.И. Харитонов). Анализировались идиолект былинного певца (М.А. Караваева), лексика курской народной песни (Н.И. Моргунова), антропонимика в лирической песне (Р.В. Головина), лексика русской лирической песни в иноэтничном окружении (С.В. Супряга), лексика русской свадебной лирики (Н.Э. Шишкова), композиты в фольклорном тексте (И.В. Багликова). Осваивались жанры, язык которых ранее практически не изучался – лексикон русской исторической песни (И.А. Степанова), лексика русской волшебной сказки (М.В. Петрухина), лексика русских народных баллад (О.Н. Зимнева).
В 1992 г. в издательстве Воронежского госуниверситета в свет вышла монография А.Т. Хроленко «Семантика фольклорного слова». В этом же году в Петрозаводске опубликована статья А.Т. Хроленко «На подступах к словарю языка русского фольклора», с которой начинается теоретическое осмысление и практическая реализация идеи фольклорной лексикографии. В 1993 г. основывается первый российский научный фонд – РФФИ, победителем конкурса которого становится проект курских исследователей «Лексикография русского фольклора». В течение сравнительно непродолжительного времени вручную были расписаны три тома «Онежских былин» А.Ф. Гильфердинга. Свыше двух третей работы – усилия М.А. Бобуновой, которая и стала ведущим фольклорным лексикографом.
Сотрудничество кафедры с РФФИ, РГНФ, Минобразования РФ оказалось на редкость результативным. С 1993 г. по настоящее время реализовано девять проектов, поддержанных всеми отечественными научными фондами, включая программу «Университеты России». 1993–1995 гг. РФФИ, с 1994 – РГНФ: «Лексикография русского фольклора»; 1996–1998 гг. РГНФ: «Словарь языка русского фольклора»; 2000–2002 гг. РФФИ: «Лингвофольклористические методы выявления этнической ментальности»; 2001–2002 гг. Минобразования РФ: «Разработка комплекса методик лингвокультурологического анализа»; 2001–2003 гг. РФФИ: «Методы выявления территориальной дифференцированности языка русского фольклора»; 2003–2004 гг. Минобразования РФ: «Основы сопоставительной лингвофольклористики»; 2004–2005 гг. Федеральная программа «Университеты России»: «Кросскультурная лингвофольклористика»; 2004–2005 гг. Федеральная программа «Университеты России»: «Технология кросскультурных исследований»; 20062008 гг. РГНФ: «Кросскультурная лингвофольклористика».
Вопросы кросскультурной лингвофольклористики начали разрабатываться с 1995 г. Начало было положено кандидатской диссертацией О.А. Петренко «Народно-поэтическая лексика в этническом аспекте (на материале русского и английского фольклора)», защищённой в 1996 г. В активе курских лингвофольклористов работы Е.В. Гулянкова «Этническое своеобразие русской народно-песенной лексики (в сопоставлении с лексикой французских народных песен)»; С.С. Воронцовой «Концептосфера «Религиозная культура» в русском, английском и немецком фольклоре (кросскультурный анализ)»; К.Г. Завалишиной «Концептосфера «Человек телесный» в языке русского, немецкого и английского фольклора»; Ю.Г. Завалишиной «Зоонимы и фитонимы в русской и английской паремиологии в аспекте этнического менталитета».
С 1994 г. на кафедре стали систематически выходить сборники научных трудов. Первыми были «Фольклорная лексикография» и «Лингвофольклористика». В настоящее время ежегодно выходят очередные выпуски «Лингвофольклористики», «Курского слова» и «INCIPIO» (для студентов и аспирантов). Сборники лингвофольклористических трудов получили известность и стали популярными. Во введении к последнему выпуску академического указателя «Русский фольклор» отмечалось: «В 1991–1995 гг. сформировала свою издательскую базу курская школа лингвофольклористики, уже давно ставшая заметным явлением в отечественной науке. Курскими лингвофольклористами под руководством А.Т. Хроленко были подготовлены несколько сборников, посвящённых изучению языка разных жанров устной народной поэзии: «Исследования по лингвофольклористике», «Фольклорное слово в лексикографическом аспекте», четыре выпуска «Фольклорной лексикографии». Эти издания, ставящие вопрос о создании словаря языка русского фольклора, сразу же привлекли к себе внимание учёных» [Русский фольклор 2001: 12]. «Широким планом, во многом благодаря курской школе, развернулось исследование языка былин» [Там же. С. 19].
В 1990-е годы устанавливаются устойчивые контакты с зарубежными учёными. Это Джеймс Бейли из США – известный американский славист, исследующий русскую фольклорную метрику и переводчик русских былин на английский язык. С ним налажен обмен публикациями, взаимное консультирование по вопросам языка фольклора. Дж. Бейли публикует в бюллетене SEEFANews статьи курян. Глава польской школы этнолингвистики Ежи Бартминский высоко ценит научную продукцию курских коллег, публикует в журнале «Etnolingwistyka» статьи А.Т. Хроленко и приглашает курянина войти в состав Этнолингвистической комиссии при Международном Комитете Славистов от России. В последнем – 19-м – выпуске журнала «Etnolingwistyka» опубликована статья А.Т. Хроленко «Этнолингвистические исследования на Кубани: лаборатория провинциальная – проблемы фундаментальные», в которой представлена история и научные достижения лаборатории этнолингвистических и этнопедагогических исследований при Славянском-на-Кубани государственном педагогическом институте, в создании и функционировании которой куряне принимают самое непосредственное участие.
Первые годы XXI столетия стали временем перехода курских лингвофольклористов на качественно новый уровень. Защитили докторские диссертации М.А. Бобунова («Фольклорная лексикография: становление, теоретические основания, практические результаты и перспективы») и И.С. Климас («Фольклорная лексикология: своеобразие объекта, состав единиц, специфика лексикологических категорий»). Завершает работу над докторским исследованием С.П. Праведников. Опубликованы фундаментальные монографии М.А. Бобуновой и И.С. Климас. Доклады курян на Первом Всероссийском конгрессе фольклористов (Москва, февраль 2005 г.) были высоко оценены. В 2005 г. в американском журнале «Palaeoslavica» вышла большая итоговая коллективная статья М.А. Бобуновой, И.С. Климас, С.П. Праведникова, А.Т. Хроленко «Эвристический потенциал лингвофольклористики», а в 2008 г. – статьи А.Т. Хроленко и М.А. Бобуновой.
Особое внимание уделяется разработке методологии лингвофольклористических и лингвокультурологических исследований. Предложены и внедряются эффективные методики. Активно используются современные информационные технологии. В руках курян уникальная компьютерная программа NewSlov в трёх версиях. Опыт курян представлен в практическом руководстве А.Т. Хроленко и А.В. Денисова «Современные информационные технологии для гуманитария» (М.: Флинта: Наука, 2007). Разрабатывается русско-английский контрастивный словарь фольклорных текстов. Аналогичный словарь на русском материале «Тютчев и Фет: Опыт контрастивного словаря» (Курск, 2005) уже вошёл в научный обиход и получил положительную оценку.
В настоящее время курские лингвофольклористы сосредоточили свои усилия на четырёх направлениях – фольклорная лексикология, фольклорная лексикография, фольклорная диалектология и кросскультурная лингвофольклористика – и надеются на успех.
Итак, к концу XX столетия становление лингвофольклористики в России в основном завершилось, определились её цели, проблемы и перспективы. На передний план выдвинулась теория фольклорного слова, поскольку «поэзия пишется не идеями, а словами» (С. Малларме).
Интерес к народно-поэтическому слову не убывает. Красноречиво свидетельство библиографического академического указателя «Русский фольклор». Вот как количественно выглядит раздел «Лингвистическое изучение фольклора»: 1917–1944 (27 лет) – 16 публикаций: небольшие статьи и заметки; 1945–1959 (14 лет) – 33 наименования: диссертации и статьи; 1960–1965 (5 лет) – 46 работ: монографии; 1991–1995 (5 лет) – 143 работы: монографии.
Изучение семантики народно-поэтического слова, разработка основ фольклорной лексикографии, реализация проекта словаря языка русского фольклора, сопоставительный анализ языка фольклора разных народов обнаружили огромный лингвокультуроведческий потенциал лингвофольклористики. Оказалось, что в рамках лингвофольклористических исследований возможны оригинальные подходы к решению таких фундаментальных вопросов, как этническая ментальность и культурная архетипика. Выясняется, что лингвофольклористика в состоянии предложить систему эффективных лингвокультуроведческих методик, пригодных не только для продуктивного анализа фольклорных текстов, но и для исследования нефольклорного дискурса.
Место лингвофольклористики в структуре гуманитарного и филологического знания
Нет сомнений в том, что новое направление науки полностью лежит в области филологии. Напомним таксономию общественных наук, классификация которых до сих пор дискуссионна. Науки, изучающие человека и общество, принято называть общественными. В свою очередь общественные науки делятся на социально-экономические и гуманитарные. Объектом социально-экономических наук является реальная действительность, объектом гуманитарных наук – действительность отражённая, т. е. та, которая прошла через сознание человека и предстала в форме устного или письменного текста. Основа и объект гуманитарного знания – текст. Внутри гуманитарных наук дифференциация осуществляется по критерию – отношение к тексту. И история, и филология основываются на текстах, но их подход к текстам разный. Историк в тексте, представляющем отражённую действительность, ищет свидетельства о действительности реальной. Текст выступает средством и оценивается единственно по степени достоверности, адекватности сообщения реальным событиям. Для историка текст – документ. Текст как бы преодолевается. Он не более чем окно, через которое исследователь пытается увидеть то, что было на самом деле.
Для филолога текст не окно, через которое он пытается увидеть что-то иное. Для него текст не только объект, но и предмет исследования. Текст ценен сам по себе. Текст для филолога не документ, а монумент, достойный всестороннего изучения.
Филология возможна и целесообразна только потому, что исследуемый ею текст неоднослоен. Вопрос о «слоях» текста весьма сложен, однако совершенно очевидно, что они есть. Вопрос только в структуре «слоёв». На примере живописного полотна об этом размышлял испанский философ и культуролог Х. Ортега-и-Гассет: «.Первое, с чем мы сталкиваемся, – это мазки на холсте, складывающиеся в картину внешнего мира; этот первый план картины ещё не творчество, это копирование. Но за ним брезжит внутренняя жизнь картины: над цветовой поверхностью как бы зыблется целый мир идеальных смыслов, пропитывающих каждый отдельный мазок; эта скрытая энергия картины не привносится извне, она зарождается в картине, только в ней живёт; она и есть картина» [Ортега-и-Гассет 1991: 61]. Д.С. Лихачёв полагал, что над текстом витает некий метасмысл, который и превращает текст из простой знаковой системы в систему художественную [Лихачёв 1979: 37].
На предположении о неоднослойности текста строится дискурсный анализ. В работах М. Фуко «дискурсия» понимается как сложная совокупность языковых практик, участвующих в формировании представлений о том объекте, который они подразумевают. М. Фуко стремится извлечь из дискурса те значения, которые подразумеваются, но остаются невысказанными, невыраженными, притаившимися за тем, что уже сказано. Суть дискурсного анализа – «отыскать безгласные, шепчущие, неиссякаемые слова, которые оживляются доносящимся до наших ушей внутренним голосом. Необходимо восстановить текст, тонкий и невидимый, который проскальзывает в зазоры между строчками и порой раздвигает их. <…> Его главный вопрос неминуемо сводится к одному: что говорится в том, что сказано?» [Фуко 1996: 29].
В области филологии традиционно выделяются языкознание (лингвистика), литературоведение и фольклористика.
Критерием разграничения служит форма отражённой действительности – отражение непосредственное и отражение опосредованное. Так, предмет литературоведения – художественная действительность («художественная реальность», «поэтическая реальность», «художественный мир»). Эту действительность можно назвать и креативной, поскольку она не отражена, а возникла в голове индивида, правда, на основе действительности отражённой. Д.С. Лихачёв в статье «Внутренний мир художественного произведения» писал, что каждое художественное произведение отражает действительность в своих творческих ракурсах, что внутренний мир художественного произведения имеет свои собственные взаимосвязанные закономерности, собственные измерения и собственный смысл, как система. «Литература «переигрывает» действительность. Это «переигрывание» происходит в связи с теми «стилеобразующими» тенденциями, которые характеризуют творчество того или иного автора, того или иного литературного направления или «стиля эпохи». Эти стилеобра-зующие тенденции делают мир художественного произведения в некотором отношении разнообразнее и богаче, чем мир действительности, несмотря на всю его условную сокращённость» [Лихачёв 1968: 79].
Нет нужды доказывать, что фольклористика возможна только при наличии устных народно-поэтических текстов. «Абсолютной реальностью вербального фольклора является текст. Все нити творческого процесса сводятся к нему и все реалии его (непосредственные носители фольклорной культуры, среда, искусство исполнения и его особенности, формы функционирования текстов) так или иначе сосредоточены вокруг текста, обращены к нему, им в конечном счёте определяются» [Путилов 2003: 166].
Лингвофольклористика – это филологическая наука, ориентированная на фольклорные тексты. «Вербальный текст – это завершённая в содержательном и структурном плане самостоятельная единица, организуемая по законам и правилам той микросистемы, к которой она принадлежит, и обращающаяся в культурной сфере по законам как той же микросистемы, так и целостной фольклорной макросистемы. Отсюда сложнейший пучок взаимозависимостей текста с другими текстами, со всей микросистемой и её составляющими, с общефольклорной макросистемой и, наконец, с невербальными текстами и системами» [Путилов 2003: 166]. В фольклорных текстах предоставлено опосредованное отражение реального мира. Это то, что известный фольклорист П. Скафтымов назвал «творческим искажением жизни». Опосредованное отражение мира носители фольклора характеризуют формулой «Сказка – ложь, но в ней намёк, добрым молодцам урок». Для П. Пикассо искусство (опосредованное отражение мира) – ложь, которая помогает понять правду жизни.
Дисциплинарный статус современной лингвофольклористики
Известны три уровня организации науки – исследовательская область, специальность, научная дисциплина. Изучение фольклорного слова организовано на всех трёх уровнях. Первый уровень достигнут в XIX в. в собирательской практике П.В. Киреевского, П.Н. Рыбникова, А.Ф. Гильфердинга, П. Шейна, А.И. Соболевского и др., а также в трудах Ф.И. Буслаева и А.А. Потебни. Второй уровень взят в XX в. А.П. Евгеньевой, П.Г. Богатырёвым, И.А. Оссовецким, Е.Б. Артёменко, филологами, для которых изучение народно-поэтического слова стало делом жизни. Третий уровень стал достижимым в конце XX – начале XXI в., когда в вузах появились научно-исследовательские лаборатории типа «Фольклорная лексикография», а в учебных планах вузов под разными названиями начали оформляться спецкурсы лингвофольклористического направления.
Под научной дисциплиной понимается определённая форма систематизации научного знания. Научная дисциплина является результатом институциализации знания, осознания общих норм и идеалов научного исследования и предполагает формирование научного сообщества, появление специфического типа научной литературы (обзоров и учебников), а также функционально автономных организаций, ответственных за образование и подготовку кадров [Огурцов 1985: 244].
Институциализация знаний реализуется в специфических формах расчленения предмета исследования, в принимаемых теоретических принципах, в дисциплинарных критериях оценки теоретических положений, в постановке новых вопросов, в совокупности используемых методов, в степени методической специализации, в разработке вспомогательных аналитических и технических методик.
Научные дисциплины, по мнению ряда историков и философов науки, обладают социальными признаками – наличием научных школ, конфликтующих исследовательских групп, привлечением последователей, техническим обеспечением, отношением к другим дисциплинам.
Благодаря дисциплинарной организации науки достигнутые результаты социализируются, превращаются в научные и культурные образцы, в соответствии с которыми в системе образования излагается и передаётся знание, строятся учебники.
«Дисциплинарная организация знания выполняет различные функции – трансляции достигнутого знания в культуру, социализацию новых поколений, передачи идеалов и норм, признанных научным сообществом. Для исследователей переднего края науки дисциплинарный уровень является способом идентификации каждого из учёных с научным сообществом, формой отождествления себя и своих профессиональных занятий с социально признанной областью истинного знания» [Огурцов 1985: 245].
Сообразуясь с вышесказанным, лингвофольклористику уже можно считать научной (и учебной!) дисциплиной, у которой сложились тесные связи с другими науками и дисциплинами, среди которых заметное место занимают этнолингвистика и лингвокультурология, а также складывающаяся в наши дни философия повседневности.
Лингвофольклористика, составляя органичную часть этнолингвистики, не подменяет последнюю, поскольку фольклор и его язык лишь частично интересуют этнолингвистов. В этнолингвистическом словаре «Славянские древности» (под ред. Н.И. Толстого) специально оговаривается: «Фольклорные источники привлекаются лишь в той мере, в какой это необходимо для характеристики обрядового и мифологического круга фактов, т. е. в первую очередь обрядовый фольклор, неразрывно связанный с самими обрядами и нередко концентрирующим в себе семантику обряда, затем былички, предания, заговоры и другие жанры, наиболее непосредственно отражающие народное мировоззрение и древнейшие мифологические представления, и наконец, так называемые малые жанры фольклора, т. е. загадки, пословицы, приговоры, заклинания, словесные формулы и клише, которые благодаря своей устойчивости часто сохраняют черты чрезвычайной культурной архаики» [Славянские древности 1995: 13].
Мы полагаем, что лингвофольклористика по отношению к лингвокультурологии является «первичной» дисциплиной. «Первичными» не по времени формирования, а по степени эмпиричности своего материала, на наш взгляд, могут считаться те дисциплины, которые исследуют взаимодействие одной из форм общенародного языка с той или иной формой материальной, духовной и художественной культуры. Лингвофольклористика, например, исследует взаимосвязь явлений языка фольклора русского этноса с духовной и/или художественной культурой этого же этноса.
Фольклорные тексты ставят перед исследователем множество вопросов, каждый из которых может стать отдельным направлением научного поиска. Достаточно назвать такие проблемы, как семантика фольклорного слова; морфемика фольклорного слова; фольклорная лексикография; фольклорная диалектология; идиолект в фольклорном тексте; кросскультурная лингвофольклористика и др. Эти проблемы мы и предполагаем обсудить в настоящей книге.
Рекомендуемая литература
Лингвофольклористика на рубеже XX–XXI вв.: итоги и перспективы: Сборник докладов на Международном научном семинаре (10–12 сентября 2007 г.). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007.
Хроленко А.Т. Лингвофольклористика. Листая годы и страницы. Курск: Изд-во КГУ, 2008.
Хроленко А.Т. Язык фольклора: Хрестоматия. 2-е изд., испр. М.: Флинта: Наука, 2006.
Семантика фольклорного слова
Описание словарной стороны языка фольклора должно идти двумя основными и взаимосвязанными путями: регистрация её инвентаря (слов, конфигураций) – внешний аспект – и исследование специфики фольклорного слова в его системных связях с другими словами в тексте – внутренний аспект. Специфику фольклорной лексики отражает и её количественный аспект, но художественно-поэтические возможности народно-песенного слова надо искать только в семантической структуре. Видимо, не случайно А.С. Пушкин секрет народной речи видел не в морфологии и лексике, а в семантике, синтаксисе и композиции [Виноградов 1941: 30], и в этом направлении он понимал новизну в творчестве: «…Разум неистощим в соображении понятий, как язык неистощим в соединении слов. Все слова находятся в лексиконе; но книги, поминутно появляющиеся, не суть повторение лексикона. Мысль отдельно никогда ничего нового не представляет, мысли же могут быть разнообразны до бесконечности» [Пушкин 1981: 292].
Лаконизм народно-поэтического слова
Теперь понятно, почему никто из писателей не указал на количественную сторону фольклорной лексики как определяющую в выразительной силе народно-песенного слова, все они искали качественную характеристику, и для многих из них таковыми были лаконизм и простота как эстетическая категория. «Каждого, кто более или менее внимательно знакомится с народной песней, поражает тот факт, что высокая степень эмоциональной и интеллектуальной насыщенности достигается здесь прямо-таки неправдоподобно простыми художественными средствами, поражает полнейшая безыскусность, отсутствие каких бы то ни было внешних эффектов, ложной многозначительности и усложнённости» [Барабаш 1977: 203]. У Н.В. Гоголя о стихах Пушкина встречаем: «Слов немного, но они так точны, что обозначают всё. В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт» [Гоголь 1978: 68].
Лаконизм фольклорного произведения зиждется на народном слове с его потрясающей «бездной пространства» мысли и чувства. Вспомним знаменитое гоголевское замечание о меткости русского слова, которое схватывает самую суть обозначаемого явления: «Крестьянин одним своим замечанием освещает всего человека до глубины души. Словно вскрывает его» [Ренар 1965: 465].
Лаконизм в искусстве обладает колоссальным творческим потенциалом. Не случайно в художественной литературе XX в. был так велик авторитет А.П. Чехова и Э. Хемингуэя. «Пропущенное и понятное понимается и радует» [Шукшин 1981: 250], – простое и очень точное по существу объяснение феномена лаконизма. Стремление к лаконизму – черта, по-видимому, типологическая. Например, в японском традиционном искусстве один из четырёх критериев японского представления о красоте («югэн») воплощает в себе мастерство намёка или подтекста, прелесть недоговорённого. «Тайна искусства состоит в том, чтобы вслушиваться в несказанное, любоваться невидимым» [Овчинников 1971: 41]. Лаконизм – первая ступень к художественной простоте, этой неотъемлемой черте народного творчества. Простота народно-песенной речи – это то, что бросается в глаза человеку, приобщающемуся к произведениям народного искусства. «Простота и точность выражений составляют достоинства старинных русских песен…» [Цертелев 1832: 13]. «…Песни славян отличаются чрезвычайной простотою изложения, соединенной с самостоятельностью исполнения, простотою средств и полнотою действия, недостатком, или лучше, отсутствием всякого искусства, и несмотря на то, совершенством отделки, незатейливым, но гениальным» [Бодянский 1837: 148].
Эта простота не от бедности, не от примитивизма мыслей, чувств и выражающих их форм, не от духовной нищеты творца, а от его таланта, и простота при этом, говоря словами Вяч. Шишкова, глубока, мудра и красива. «Единство не чуждается многообразия, а простота предполагает глубину» [Шишков 1979: 19]. Этот тезис, афористически определяющий секрет стиля Пушкина, без всяких оговорок можно отнести к народному искусству. Кажущаяся простота художественных форм народного творчества родилась в многовековом труде многих поколений, искавших истинное воплощение своих эстетических вкусов и воззрений. «Простота формы не затеняет её художественности. Бытовое крестьянское искусство, выраставшее в процессе практически жизненных задач, всегда достигало простоты в своих формальных выражениях» [Воронов 1972: 310].
Истина поражает своей простотой, а простота, достигаемая трудом, всегда истинна. М. Пришвин, напряжённо постигавший секрет философско-этического и эстетического воздействия народно-поэтического слова на слушателя, остро чувствовал, что мудрая простота требует многого от творца и потребителя искусства. Ошибкой считал он призыв Руссо и Толстого «к простоте», ибо жить проще гораздо труднее, не случайно ведь, что стремление к простоте жизни возникает у сложнейших душ, а все простое (уточним: примитивное) стремится к сложности. «В искусстве и быту «простое» означает самое трудное, самое редкое и, чтобы отделить это понятие в этом смысле, первоначальное понятие «простого» называют «примитивным». «Простое» в искусстве означает обыкновенно новое достижение художника в совершенствовании той формы, над которой работали до него другие художники, которая стала привычной и теперь возрождается в новых условиях. Потому эта форма называется «простой», что знакома всем, а потому так особенно трудна, что требует нового совершенствования того, что казалось великим мастерам совершенно законченным» [Пришвин 1975: 334–335].
Эти слова М. Пришвина особенно справедливы по отношению к фольклору, ибо миллионы пристрастных его носителей на протяжении многих лет оттачивали каждый отобранный взыскательным народным вкусом текст. Строжайшая функциональность каждого языкового и стилистического элемента, отсечение всего ненужного, приведение оставленного в гармоническое единство – всё это и создаёт впечатление, что то или иное фольклорное произведение существует извечно.
Горьковские заповеди молодым писателям постоянно включали в себя совет учиться простоте и силе у народного искусства.
«Держитесь ближе к народному языку, ищите простоты, краткости, здоровой силы, которая создаёт образ двумя, тремя словами» [Горький 1954: 215]. «В простоте слова – самая великая мудрость, пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги» [Там же: 402].
Простота неотделима от гармонии, ибо она и условие, и результат её. Всё русское народное искусство в высшей степени гармонично, в нём «вскрывается та завидная и редкая стройность и уравновешенность художественного процесса, в котором все отдельные начала, его составляющие, органически слиты и соединены в стройный и мудрый труд искусства, облекающего невзрачный быт в художественные формы» [Воронов 1972: 96]. Немецкий учёный Р. Вестфаль, сравнивая немецкую и русскую народную лирику, решительно отдавал предпочтение русской, ибо она «превосходит её своею несравненною законченностью формы» [Вестфаль 1879: 127], этим первым и важнейшим условием гармонии.
Гармония рождается на пересечении богатства и единообразия (не путать с однообразием). Н.В. Гоголь тонко уловил эту диалектику: «…Мысли непостижимо странно в разногласии звучат внутренним согласием» [Гоголь 1978: 106]. В лучших образцах народного гения гармония как оптимальное согласование всех элементов формы и содержания доведена до такой степени полноты, что форма как бы растворяется в содержании. А.А. Потебня назвал это состояние прозрачностью. Критикуя тех, кто считал язык народной словесности примитивным, он объяснил это мнение следствием «недоразумения, принимающего прозрачную глубь языка, которая открывается исследователю, за близость дна» [Потебня 1905: 599]. Ср. с аналогичным высказыванием В.Я. Брюсова в лекции о Пушкине (1923): «Пушкин кажется нам понятным, как кажется близким дно родника на большой глубине сквозь абсолютно прозрачную воду».
Секрет гармонии («прозрачности») народной поэзии и в том редком умении создавать многообразие из небольшого количества исходных элементов. Правда, следует оговориться, что в народной словесности эти исходные элементы – слова, синтаксические структуры – семантически сложны и в силу этого обладают неограниченными в пределах традиции конструктивными и выразительными возможностями. Если из немногого создается совершенное многое, можно с уверенностью полагать, что это немногое внутренне чрезвычайно богато.
В свое время А.А. Потебня так объяснил феномен якобы внезапного возникновения и бурного развития великой русской литературы ролью устно-поэтической речи: «Языки создаются тысячелетия, и если бы, например, в языке русского народа, письменность коего лет 300 была лишена поэзии, не было поэтических элементов, то откуда взялось бы их сосредоточение в Пушкине, Гоголе и последующих романистах? Откуда быть грозе, если в воздухе нет электричества» [Потебня 1905: 106].
Решение самых важных вопросов фольклорной лексикологии нельзя себе представить без рассмотрения семантической структуры народно-поэтического слова. Рассуждения о специфике устно-поэтической речи, о богатстве фольклорной лексики, её количественных характеристиках и выразительных возможностях, объяснение многочисленных случаев «алогизма» народного словесного искусства являются беспочвенными без детального анализа семантики фольклорного слова.
Истоки своеобразия фольклорного слова
При научном анализе народно-песенного слова нельзя не учитывать несколько важных факторов. Во-первых, то, что фольклорный текст – это основа художественного произведения, а в художественном произведении, как убедительно показали В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Ю.Н. Тынянов и другие, слово в семантическом отношении заметно отличается от своего внеху-дожественного двойника. В художественном тексте у слова возникает то, что Д.С. Лихачёв назвал «прибавочным элементом».
Во-вторых, семантика фольклорного слова во многом обусловлена своеобразием фольклорного мира.
В-третьих, семантическую структуру фольклорного слова осложняет и такое общее свойство народного искусства, как аккумулятивность – способность накапливать и гармонически уравновешивать элементы различных временных пластов. Замечено, что с появлением нового в фольклоре старое не умирает, но это не значит, что накапливаемое оседает инертным грузом. В сложных смысловых напластованиях в фольклорном слове возникают дополнительные внутренние семантические процессы, которые тоже надо учитывать при лексическом анализе.
В-четвертых, в народно-поэтическом произведении особое соотношение слова и текста, в котором, как нам кажется, трудно установить приоритет той или иной стороны.
В-пятых, текст хотя и важнейшая, но не единственная составная того сложного единства, которое именуется фольклорным произведением. Современная фольклористика совсем не случайно выдвинула идею комплексного подхода к изучению любого явления народной культуры. Напев, декламация, жест, даже обстановка исполнения – всё это не безразлично для семантики каждого отдельного слова.
В-шестых, устно-поэтическое слово – результат обобщения свойств устной речи. Устная речь заметно отличается от письменной. Наиболее важные отличия осуществляются на уровне лексики и синтаксиса. Для устной речи характерна приблизительность словоупотребления, которая приводит к диффузии семантики фольклорного слова. В этом отношении фольклорное слово во многом сходно со словом диалектным (ср. высказывание о диалектном слове: «…отдельные, чистые смыслы слова, элементы так взаимно проникают друг в друга, что их трудно расчленить на самостоятельные значения» [Коготкова 1979: 19]). Диффузия способствует семантическому насыщению слова, что приводит к известной неопределённости его значения. Насыщенность семантикой слова в свою очередь определяет большую морфологическую и словообразовательную свободу. И всё это сообщает фольклорному слову большие коммуникативные, а также художественно-выразительные возможности. Существенно заметить, что слово стремится к парности – этому важному стилистическому показателю устно-поэтической речи.
Из сказанного вытекает вывод о необходимости поисков таких приемов анализа, которые не привносили бы извне чуждых категорий и не пытались бы ими объяснить необычную семантику народного художественного слова.
Художественный алогизм фольклорного слова
На наш взгляд, эффективен анализ неканонических сочетаний слов в фольклорном тексте. Он позволяет выявить сущностные свойства народно-песенного слова. Давно уже замечены «аномалии»: случаи алогичного сочетания слов и их семантическая неопределённость. В.Г. Белинский, цитируя былинные строчки:
В тридцать пуд шелепуга подорожная, В пятьдесят пуд налита свинцу чебурацкого,недоумевал: «Как же шелепуга могла быть в тридцать пуд, если одного свинцу в ней было пятьдесят пуд?» [Белинский 1954: 358]. Случаев таких в русском фольклоре много:
Приказал пострел в три часа сходить, В три часа сходить, в три минуточки! (Песни, собранные писателями, с. 310). На единый часок, На весь круглый годочек! (Кир. II, № 2208)Эти и подобные примеры послужили основанием для предположения о внелогическом начале в фольклорной поэтике, хотя в свое время А.А. Потебня убедительно показал художественную природу алогизмов: «Невозможно предположить, чтобы здравомыслящий человек не знал разницы между общеизвестными вещами или, зная, называл известное растение в одно и то же время и калиной, и малиной, и смородиной. Остается думать, что сопоставление несовместимых частностей не есть нарушение логического закона, а способ обозначения понятия высшего порядка, способ обобщения, нередко – идеализация в смысле изображения предмета такого рода (например, дерева, кустарника), но необычайного, чудесного, прекрасного» [Потебня 1968: 418]. Так называемый алогизм художественно оправдан, но не объяснён.
Думается, что причины алогизма следует искать не в мировоззрении носителя фольклора и не во внелогических основах фольклорной поэтики, а в свойствах устно-поэтического слова. Богатство народно-поэтической речи и возможности фольклорного слова обусловлены семантической структурой его, которая, предполагаем, существенно отличается от структуры слова литературного языка.
Часто одна и та же реалия обозначается одновременно двумя разными, но тематически связанными существительными, например: «Уж ты ель моя, ёлушка, Зелёная сосёнушка» (Шейн, № 1953), что создаёт обобщённый образ хвойного дерева. Отождествляются слова, обозначающие реалии животного мира (утка-перепёлка, гусь-лебедь и т. п.), существительные, обозначающие офицерские звания (особенно часто в песнях безразлично употребляются слова майор и полковник, что приводит к обобщённому значению – «офицер», «военный человек»). В лирических песнях весьма часто отождествляются слова золото и серебро, а также производные от них прилагательные. Весьма часто отождествляются существительные, входящие в лексико-тематический ряд «вода»: море-озеро, море-речка. Порой безразлично употребляются даже собственные имена персонажей: «Саша-Маша правой ручкой машет, головой качает» (Соб. 5, № 254). Наличие этого явления в языке русского фольклора, на наш взгляд, можно объяснить двойственной природой если не каждой фольклорной лексемы, то хотя бы каждого ключевого слова народно-песенного произведения.
Ключевое слово выступает в поэтическом контексте не только как выразитель конкретного смысла, сконцентрированного в понятии, соответствующем той или иной реалии или признаку фольклорного мира, но и как представитель целого ряда тематически связанных понятий. Покажем это на примере прилагательных шведский, турецкий, немецкий.
Во поход пошёл в ины земли, В ины земли, в Турецкие, В Турецкие, во Шведские (Кир. II, 2, № 1652); Што погиб-пропал добрый молодец, Што под силою под шведскою, Што под армею под турецкою (Кир. II, 2, № 2010); Мне самой девке в Москву ехати, В Москву ехати, в землю Шведскую, В землю Шведскую, во Турецкою (Кир. II, 1, № 1269).Каждое из выделенных прилагательных вне фольклорного контекста имеет строго определённое семантическое содержание, но в русских народно-песенных произведениях они имеют более широкое значение – «всё чужое, не наше»:
Танки вадила Ни па нашаму, Па турецкаму, Па нимецкаму (Хал., № 268); Широко поле турецкое, Что турецкое-немецкое! (Кир., т. 1, № 114).Семантическая область «чужое, не наше, не русское» в народной лирике обычно выражается этими тремя прилагательными шведский, турецкий, немецкий, сочетающимися в парах.
Известно, что основные ярусы языковой системы обнаруживают два типа отношений между своими единицами – синтагматические (отношения следования) и парадигматические (отношения выбора).
Парадигматизм народно-поэтического слова
Парадигматика литературного языка и парадигматика устно-поэтической речи – явления принципиально различные. В литературном языке выбор языковой единицы осуществляется до актуализации высказывания, в пределах готового предложения выбора нет, это – единственно возможный для данного грамматически правильного и в коммуникативном отношении адекватного высказывания. В фольклорном же тексте перебор возможных форм одной смысловой (тематической) парадигмы осуществляется и во время высказывания. Это обусловливает широкую вариантность синтаксических единиц при чрезвычайной устойчивости художественно-смысловых и стилевых констант.
Сравним два песенных фрагмента:
Во поле рябина стояла, Во поле кудрявая стояла (Соб. 2, № 349); Во поле берёза стояла, Во поле кудрявая стояла (Соб. 2, № 347).Ботаническое различие двух реалий – рябины и берёзы – не мешает взаимозамене существительных, обозначающих их, в пределах тождественного контекста, поскольку оба слова входят в парадигму «дерево – символ девичества». Замена одного другим не разрушает общего смысла песни и её эмоционального содержания.
Взаимозаменяться могут не только названия растительных реалий, но и названия птиц, животных, причём в тождественных контекстах, бытовавших в одном и том же месте (например, Курская губерния). Ср.:
Как, рябина, как рябина кудрявая, Как тебе не стошнится, Во сыром бору стоючи, На болотнику глядючи (Соб. 3, № 139); Сосенка, сосёнушка, Зелёная, кудрявая! Как тебе не стошнится Во сыром бору стоючи (Соб. 3, № 140); Соловей мой, соловьюшко, Соловей молоденький! Как тебе, соловьюшко, не стошнится, Во тёмном лесу сидемчи (Соб. 3, № 141).В одну парадигму могут вовлекаться такие реалии, как снег и цветы. Ср.:
Набирает, нажимает ком белого снегу, Он бросает и кидает девушке на колени (Соб. 4, № 381); Он срывает, нажимает аленьких цветочков, Он аленьких-то цветочков в беленький платочек, Он кидает, он бросает во каменну стену (Соб. 4, № 383).Парадигматизм свойствен не только лирике, но и эпосу. Уже отмечалась равнозначность замены слов тур / лось / зверь или туриный/лосиный/звериный в русских былинах [Аникин 1980: 92].
Парадигма ограничивается тематически: в неё входят существительные или прилагательные одного лексико-семантическо-го поля, и прежде всего его ядра. Вот яркий пример:
Я стара мужа потешила, — На осинушку повесила, На осинушку на горькую, На шипицу на колючую, На крапивушку жгучую (Шейн, № 888).Совокупность компонентов одной и той же парадигмы, способствующая возникновению «алогизма», служит эффективным средством передачи эмоционального содержания песни.
На семантике каждого отдельного слова лежит отблеск всей парадигмы, обобщённое значение всех компонентов парадигмы явственно присутствует в семантической структуре каждого отдельного компонента. Отсюда лёгкость замены любого компонента парадигмы, отсюда тот тотальный синонимизм, который присущ фольклорному тексту. Тематическая близость слов одной части речи – вполне достаточное условие их взаимозаменяемости. В фольклорных текстах мы встречаем довольно частые примеры типа:
Лучина, лучинушка берёзовая, Берёзовая поёрзывала, Осиновая поскрипывала; А что же ты, лучинушка, Не жарко горишь? (Кир. II, 2, № 1654)или:
Вечер меня, младеньку, сговорили, За того ли за майора полкового, За солдата рядового, отставного (Кир. II, 2, № 1950).Алогизмы эти, точнее квазиалогизмы, – яркое проявление широкой парадигматической природы опорных слов в устно-поэтическом тексте.
Необычайно широкая парадигматика слова в фольклорном тексте объясняется К.В. Чистовым как проявление свойственного народной духовной культуре принципа эквивалентности. «Термин «эквивалентность» не синонимичен слову «повтор». Эквивалентность – это сопоставление и уравнивание различных в каком-то смысле единиц текста. Например, постановка в сходную ритмическую позицию, звуковое сопоставление, морфологическое или синтаксическое «выравнивание» разнокоренных слов или, наоборот, расподобление слов, лексически родственных. «Эквивалентность» предполагает изоморфность на каком-то уровне и расподобление на других уровнях» [Чистов 1978: 310-311].
Парадигматика фольклорного слова – явление не специфически народно-песенное, а более широкое. И.А. Оссовецкий на материале рязанских говоров показал, что возобладание парадигматического значения над частными значениями компонентов парадигмы встречается и в народных говорах. В этих случаях частное значение бледнеет, становится диффузным и начинает мигрировать по компонентам парадигмы, часто вытесняя собственные исконные значения. Например, в одном из рязанских говоров более общее парадигматическое значение «неродной ребенок» реализуется в «алогичных» частных примерах падчерок «пасынок» и пасынка «падчерица». В говоре д. Деулино (тоже рязанском) парадигматическое значение «высшая степень качества» реализуется в причастиях-прилагательных с отрицанием не– и постпозицией: ненаказанный, неугасимый, непривидный, несосветный и др. Парадигматическое значение настолько подавляет частное значение, что возникают словосочетания типа трава неугасимая – «хорошая, густая трава», дождь неугасимый – «сильный дождь» и проч. Эти словосочетания входят в норму говора [Оссовецкий 1982: 38]. Парадигматизм опорных слов песенных текстов обеспечивает предельный лаконизм языковых средств, свободу лексического варьирования, гибкость по отношению к любому диалекту (имеем в виду восприимчивость), возможность изменений и совершенствования, способность входить в тексты с различными ритмико-вокально-музыкальными характеристиками.
Парадигматизм и семантическое своеобразие фольклорного слова
Соединение в слове видового и родового значения, функционирование этого слова в качестве представителя определённой лексико-тематической парадигмы вполне естественно приводят к подвижности (неустойчивости) семантики, а также к расширению семантической структуры ключевых фольклорных слов, что обусловливает появление необычных сочетаний. Например, частое в фольклоре существительное трава мы можем встретить в таком узком контексте:
Что во этом во садочке растёт трава липа (Печора, № 244)или:
Растёт трава мать калина (Соб. 5, № 46).Напомним определение существительного трава из словаря В.И. Даля: «Всякое однолетнее растенье, или растенье без лесины, у которого стебель к зиме вянет, а весною от корня идёт новый; сорное, дикое растенье, мельче куста; всякое былие, зябь, однолетнее прозябенье, злак и зелье» [Даль 1984: 4: 424].
– Дак сходи, кума, в огород, Сорви траву-морковку (РФЛ, № 344); Что повадилась Варюша в ярово поле гулять, Ярову траву щипать. Она первый сноп нажала, – не видала никого (Соб. 4, № 566).Широкое значение в устно-поэтическом творчестве имеет и слово лист.
Журавль-птица похаживала, Шелковую лист-травушку пощипывала (Кир. II, 2, № 2094); Цвела, цвела черёмуха Белым листом (РФЛ, № 273).В народно-песенном тексте существительное лист совмещает семантические признаки растительного и бумажного листа. Весьма распространена фольклорная ситуация, когда срывают лист и пишут письмо.
Сорву с травоньки листочек, Я лавровый, дорогой, Я начну письмо писать (Соб. 5, № 740); Сорву, млада, кленов лист, Спишу, млада, грамоту По белому бархату, Пошлю, млада, к батюшке (Соб. 2, № 17).Гербовый листок легко может превратиться в вербовый. Ср.:
Я на тонку бумажку – на гербовый на листок (Соб. 5, № 525); Я на камушку срисую, на бумажку распишу, Я на той ли на бумажке – на вербовом на листу (Соб. 5, № 518).О связи древесного листа и слова см.: [Потебня 1914: 144].
Функциональное удвоение смысла слова лист приводит к усложнению семантической структуры определения к нему – бумажный:
Не белая берёза к земле клонится, Не бумажные листочки расстилаются, Сын ко матери приклоняется (Кир. 1, № 11); Речушка разольется, Кореньицы вымоет, Вершинушку высушит, Подмочет бумажный лист… (Поэзия крестьянских праздников, № 559); На ветвях листья бумажны. (Сибирь, № 144); Загуляла я к вам, красна девица, Во цветочках во лазоревых, Во листочках во гумажны… (Сибирь, № 295); На тебе ли берёзыньке Всё листья бумаженныя… (Кир. II, 1, № 1572); Те леса прекрасные казалися мне, Бумажные листики стлались по земле, Шелковая травушка сплетала мой след (Кир. II, 2, № 2129).Прилагательное получает приставку качественности раз-:
Уж и рада бы добровушка не шумела, Шумят-то, гремят разбумажные мои листочки (Кир. 1, № 328).Эпитет бумажный относится не только к существительному лист, но и к словам, обозначающим другие части дерева (ветви, кисти):
Со кореню берёза сволевата, К вершонушки кудревата, Бумажными кисточками щеголевата (Кир. II, 2, № 2377).Даже на ёлке ветви бумажные:
Ты ёлушка, моя ёлушка, Ёлка зеленая! Да все ль у тебя ветъицы, Да все ль у тебя бумажная? (Кир. 1, № 193)Бумажным может быть тело человека:
У ней тело бумажное, кость лебединая (Шейн, № 1749; 1750, 1751).Толкование эпитета бумажный как «белый» или «слабый» нам кажется несколько поспешным. Обратим внимание на определения, занимающие эквивалентные, симметричные позиции, ибо смысл фольклорного слова по-настоящему проявляется только в связи с другими словами. Сопоставление бумажного с лебединым в одном из предшествующих примеров, а лебединый в народной лирике всегда знак высокой оценки, заставляет думать, что первый эпитет тоже выступает в качестве знака оценки. Устойчиво сопоставление бумажный с определением хрустальный, тоже эпитетом оценочным:
Сучки-веточки на старом дубу хрустальный, А листоченьки на сыром дубу бумажные (Соб. 1, № 492); Веточки у дуба – чистые хрустальные: Листочки у дуба – белые бумажные (Соб. 1, № 493).Особенно заметна оценочность эпитета в примерах:
Наперёд у них бежит стар устиман-зверь. На нём шерсточка, на устимане, бумажная, А щетинушки на устимане все булатные (Соб. 1, № 480); У индричка копыточки булатные, Шерсточка на индричке бумажная (Соб. 1, № 481).Ср. с эпической песней, записанной в Карелии:
Почуял Скимян-зверь, На нём шерсточка булатная (Карелия, с. 86); Зашатался я, загулялся, добрый молодец, На своём ли я на добром коне богатырскием, Я на войлочке на бумажныем (Кир. 1, № 159).В других вариантах песни обычно качественное прилагательное:
На мягким на войлочке на бухарским (Кир. 1, № 160).В северной свадебной причети мы можем встретить гумажную стежечку:
Ты ступай, ступай, батюшко, Во пшеничное зернятко! Если хрушко покажется — Во гумажную стежечку (Барсов, № 166, с. 343).Морфемные изменения в прилагательном бумажный тоже усиливают неопределённость семантики, особенно если новая форма попадает в непривычное словесное окружение:
Да вы, камочки мелкотравчастые, Мелкотравчасты – бумажнисты (Новгород, № 180).Расширение семантики слова – это и причина, и следствие более широкого, чем в нефольклорных сферах речи, функционирования этого слова. Например, исследователи давно уже заметили необычность фольклорных цветовых определений, которую можно объяснить предельной широтой функционирования. Ограничимся несколькими примерами употребления прилагательного белый.
Не шути, белый детинка, – мне теперь не время (Соб. 4, № 376); Погубила я ножем парня белого, Парня белого, своего брата родного (Соб. 6, № 417); Провожу дружка до белого двора (Соб. 5, № 446); Станови добра коня Середи бела двора (Соб. 4, № 579); Чесал кудри, чесал кудри Белым рыбным гребешком (Прибалтика, № 263); Пашенька не пахана, бела рожь не сеяна (Кир. II, 1, № 1514); Ковры белые разостланы (Пенза, № 53); Что ходил-то, гулял, добрый молодец, да вдоль по лужку, Что по крутому по белому бережку (Соб. 6, № 204); Ты пчела ли моя белая По чисту полю полётывала (Лир. рус. св., № 11); Моего любезного да перед окошком, Да перед окошком озеро белое (Соб. 7, № 244); Горошек мой беленький, Сеяли тебя хорошо (Курск, № 50); Белый перстень на руке, ладо-люли, на руке (Курск, № 22).Белыми могут быть даже румяна:
Сведу козла на базар, Променяю на товар — На белые румяна (Пермь, № 196).Обобщающий характер эпитета белый хорошо виден на следующем примере:
Тогда-то я с милым загуляю, Как бела рыба по Дунаю, Как белая птица по цветочку, Как красная девка в теремочку (Воронеж, № 7).Видовые обозначения птиц обычно сочетаются с более или менее индивидуализированными определениями типа сизый, чёрный, серая, рябая и т. п. Когда же использовано редкое в песенных контекстах родовое обозначение птица, эпитетом к нему даётся прилагательное белая.
Сравнительная форма белей может быть синонимичной с формой лучше:
Но Аннушка лучше всех, Она убрана лучше всех: Шушуночек на ней всех бялей (Воронеж, № 61).Функциональная и семантическая широта эпитета белый – явление типологическое, по крайней мере для славянского фольклора.
Широта семантического диапазона прилагательного белый может восходить к доистории языка – словари и исследования по исторической лексикологии дают основание так полагать. Русские диалекты сохранили те значения или оттенки значений прилагательного белый, которые не вошли в семантику литературного эквивалента этого слова. Слово белый сохранило, вероятно, и отголоски мифологических представлений наших предков. Возможно, что дополнительные семы прилагательное получает в фольклорном тексте в результате постоянного сопряжения с другими словами, например со словом горюч.
Ярким примером семантической и функциональной широты народно-песенного слова может служить существительное (и производное от него прилагательное или наречие) виноград, которое в истории русского языка сначала означало любое плодовое растение, плодовый сад, позднее же оно стало означать «виноградная культура». В фольклорных же текстах виноград, равно как и производное от него прилагательное, имеют широкую семантику, что делает обычным сочетания типа поле-виноградничек, малина виноградная, рубашка виноградная, желты пески виноградные и т. п.
Ты играй, играй, молодец, Вдоль по улице шаром и мячом, В чистом поле-виноградничке (Сибирь, № 37); Да поломало в саду вишенку, Да в саду вишенку с малиною, В саду вишенку с малиною, Да со малиной виноградною (Лир. рус. св., № 19); Вы молодчики молоденьки, Полушубочки коротеньки, А рубашки виноградные (Новгород, № 79).Полагаем, что частое в русской лирике сочетание сад-виноград едва ли правомерно воспринимать как «сад, в котором растёт виноград», хотя некоторые примеры заставляют так думать. Например:
Повёл её в зеленый сад гулять; Заблудилась Катеринушка в виноград (Курск, № 42).Следующий пример внешне походит на предыдущий:
Уж ты, сад мой, садочек, Сад зелёный мой, виноградный, Не по порам, садик, виноградный (Соб. 3, № 95).Однако последняя строка красноречиво свидетельствует, что это прилагательное не относительное, а качественное – не по времени стал виноградным сад. Следующий пример с отождествлением разных реалий, на наш взгляд, подтверждает качественность не только прилагательного виноградный, но и существительного виноград:
Грушица, грушица, зелёный виноград… Под грушицей светлица стоит (Соб. 4, № 25).Один из поэтических контекстов даёт основание полагать, что в слове виноград содержится сема «всё, что украшает». Ср.:
Во саду много вишенья, винограду-украшенья (Новгород, № 166).Наличие дополнительных сем в слове ощущается в случаях симметричного сопоставления:
Бережка были хрустальные, Деревца-то виноградные (Лир. рус. св., № 10); Бережки были хрустальны, Стоят древы виноградные (РФЛ, № 384); Берега были хрустальные, Желты пески виноградные (Шейн, № 1916).Слово виноград настолько расширило свою семантику, что может служить даже знаком характера действия, превращаясь в своеобразное наречие:
Девка белёшенька, румяшёнька, Что по блюду катается, Виноградом рассыпается (РФЛ, № 234).«…Тексты (обрядовых песен. – А.Х.) носят намёки на обычаи и обряды дохристианской эры и напоминают нам о том древнем времени, когда русские славяне жили на иной далёкой родине, среди виноградников, на берегу синего моря», – размышлял Н.М. Лопатин [Лопатин 1889: 1]. Едва ли это так. Фольклор охотно использует слова с неопределённым понятийным содержанием, ибо определённость реалии мешает семантическому расширению слова.
Предельное расширение семантики и функционирование двух и более слов в качестве представителя одной и той же целой смысловой парадигмы приводят к взаимозаменяемости слов. Особенно заметно это на примере колоративных («цветовых») прилагательных. Например, лазоревый взаимозаменяем с эпитетами белый, алый:
Ах, свет мои, лазоревы, алы цветочки, Чего рано расцветали в зелёном садочке (Кир. II, 2, № 1939);Щёчки – аленъки-лазоревый цветок (Соб. 4, № 35);
Уж ты, аленький, лазоревый цветок, Ты далеко во чистом поле цветёшь! (Соб. 4, № 368. То же: Соб. 5, № 166; Кир. II, 2, № 2383). Нет ни травоньки в горах, ни муравыньки, Ни муравыньки, алых цветочков лазоревых (Лопатин, с. 57); Я пойду на рынок, выйду на базар. Продам те лазоревы-алые цветы (Соб. 5, № 158); Примечайте-ка, милы подружки, Тот цветок лазоревый, аленький, И принесите-ка тот алый цветочек (Новгород, № 474).Интересно, что в этом контексте пара отождествленных определений лазоревый, алый равна единичному определению алый. Это еще одно свидетельство тому, что использование прилагательного лазоревый не преследует цели уточнить или конкретизировать признак реалии. Цель его – усиление эмоционального воздействия. «…В народных песнях «алый» и «лазоревый», как правило, не несут цветового признака, а являются своеобразной заменой не характерных для народной песни оценочных определений» [Ерёмина 1978: 76].
Есть и другие случаи отождествления цветов:
Сонимала с себя палевый алый платок (Соб. 2, № 206).Универсальной заменой «цветового» прилагательного может служить прилагательное разноцветный. Таковой может быть даже девица:
Подбежала к нему девица-душа. Она белая, намазанная, разноцветная (РФЛ, № 234).Только для русского народно-песенного фольклора характерно особое семантическое соотношение эпитетов алый и голубой:
Которого цвету надобно тебе, Голубого или аленького? Голубой-то цвет алее завсегда (Соб. 5, № 47); У меня ли, у младыя, Есть три ленты голубыя: Перва лента алая (Соб. 5, № 243).Аналогично соотношение глаголов алеться и голубеться:
В чистом поле цветёт аленький цветок. Он алеется, голубеется (Соб. 4, № 79).Алый выступает здесь как общая оценка, а лазореветь как синоним «красиво цвести»:
Аленькая-аленькая веточка, Что ты не цветёшь, не лазоревеешь… (Песни, собранные писателями, № 31).Взаимозаменяемость прилагательных хорошо наблюдать на примере эпитетов к опорному народно-песенному существительному камень. В устойчивых песенных блоках камень может быть белым (Кир. II, 2, № 1798), синим (Шейн, № 739), горючим (Кир. II, 2, № 1987).
Поскольку в фольклоре семантика слова шире своего разговорно-бытового «номинала», легко объяснить, почему так широко распространены в народном творчестве ассоциативные сочетания типа гуси-лебеди, хлеб-соль, злато-серебро и др., в которых семантический объём пары больше суммы значений каждого компонента (гуси-лебеди не только гуси и лебеди).
Наблюдения и анализ «алогичных» конструкций дают основание полагать, что в устно-поэтическом слове компоненты организованы по принципу антиномий.
Прямое и символическое (метафорическое) значение
Эта антиномия давно уже привлекла внимание учёных. Невозможно представить себе русскую народную лирическую песню без символов, в которых косвенно воплотились эстетические идеалы народа. «Под символикой понимается система изображения персонажей, их внутреннего состояния и взаимоотношений при помощи традиционных и устойчивых иносказаний, представляющих собой различные виды замены одного предмета, действия или состояния другими предметами, действиями или состояниями» [Астафьева-Скалбергс 1971: 3]. Значительное количество образов-символов определило наличие широкой группы слов, в которых символическая компонента является доминирующей. Правда, канонический список таких характерных для русского фольклора слов-символов сравнительно невелик, однако наблюдения свидетельствуют, что круг слов с символической компонентой гораздо шире этого традиционного списка.
Как показывают материалы Я. Автамонова, все слова, называющие растения, в русском фольклоре символичны, однако нет строгой определённости между реалиями флоры и её символическим значением. Например, очень многое подразумевается под словом калина. Черемуха, груша, яблоня символизируют и «жену», и «мать», и даже «отца». Диффузность символики определяет использование даже редких растений, не известных русскому носителю фольклора. Столь широкий разброс значений Я. Автамонов объясняет тем, что «от народного творчества нельзя требовать безусловно строгой последовательности: на него влияет и место, и время, и индивидуальность того или другого лица, передающего песню» [Автамонов 1902: 247]. Появившиеся на заре устного словесного искусства под влиянием окружающего мира («Смотрим на неисчерпаемо богатые формы скал. Замечаем, где и как рождались образцы изображений символов. Природа безвыходно диктовала эпос и все его богатые атрибуты» [Рерих 1974: 77]), символы эволюционируют, утрачивают свою смысловую определённость и сохраняются в поэтических формулах, жанрово дифференцируя свои функции и значение.
Известная диффузность символических значений, приводящая к их неопределённости и, как следствие, к забвению смысла, а с другой стороны, обязательность символики в идейно-художественной структуре лирической песни – всё это обусловливает необходимость поддержания символического значения. Если существительное не имело такового или утратило его, оно получает или восстанавливает его с помощью метафоризации. Появляется метафорическая (символическая) «метка», действительная только для данного контекста. Для неё не обязательно какое-то внутреннее основание для сравнения, она предельно условна и может обозначать в одном контексте разные реалии. Например, забытая традиционная символическая компонента слов море, берег и рыба компенсируется метафорической компонентой, которая свойственна слову только в данной песне:
Море, море – у Филата двор. Море, море – у Пафнутьевича; Круты берега – Маремьянушка, Круты берега – Филатьевна; Белая рыбица – Маремьянушка, Белая рыбица – Филатьевна (Кир. 1, № 976).«На рябинушке три кисти хараши» – начинается песня. Существительное кисти уже заранее получает метафорическое значение лица:
Вот и первая кисть хараша — Митреюшка Хьвёдаравич душа; Втарая-та кисть хараша – Аляксандра Макаравич душа; А третья кисть хараша – Микалай Якавлявич душа.(Затем повторяется начало песни и величаются девушки).
Примечание М.Г. Халанского (Хал., № 870).
Символическое и метафорическое в фольклоре разграничить трудно [Лосев 1971: 3], потому что одна и та же единица, например лебедь белая, в зависимости от контекста может быть и символом, и просто поэтическим синонимом слова невеста. Эта трудность очевидна хотя бы на примере из украинской народной лирической песни: Ти зацвiтеш бiлим цветом, а я калиною (Укр. пiснi 1964: 447). Калина – символ или метафора красного цвета, противопоставленного белому?
Поскольку символ общеизвестен, а метафора окказиональна, критерием разграничения может служить частотность употребления: у символов она выше, чем у метафор. Однако настоятельной необходимости в строгом разграничении их нет. Важно их обязательное наличие.
Возникает вопрос, является ли символическая (метафорическая) компонента постоянной величиной семантической структуры фольклорного слова или она привносится данным контекстом. За пределами фольклора ответ был бы однозначным: символическое значение не является органической частью семантики слова, поскольку оно «подразумевается, для его раскрытия требуется не анализ собственно языковых факторов, а простое знание значения символа или своеобразная «разгадка» на основе контекста». Природа же народного лирического произведения такова, что в ней всё подчинено описанию эмоционального мира человека. И в этом смысле использование любого явления из мира природы изначально носит двойственный характер. «Человеческий аспект» любой растительной или животной реалии появляется не в данном тексте, а задан потенциально, включен в фольклорное слово в качестве тенденции с условием обязательной реализации. Поэтому можно считать символическое или метафорическое постоянной, языковой, а не речевой, текстовой компонентой семантической структуры слова.
Текстовое и коннотативное (затекстовое)
Народное творчество предельно лаконично. То, чего не может сделать былина в своем повествовании (перенестись в прошлое героя, охарактеризовать его одновременно в различных ситуациях, развить несколько сюжетных линий и пр.), можно домыслить на основе максимально сжатого высказывания в его народно-этимологическом имени. Лапидарность народного творчества обычно объясняют его устной природой, ограниченными возможностями памяти человека и многоканальностью прохождения эстетической информации. Действительно, в фольклорных произведениях «пропускная» способность неречевых каналов высока. С этим связано требование комплексного изучения фольклорных произведений. Однако нельзя забывать об особой природе народно-поэтического слова: устная природа обусловила его аккумулирующие свойства.
За каждым тщательно отобранным в многовековом использовании фольклорным словом стоит обязательное коннотативное содержание. Народно-поэтическое слово, как айсберг, состоит из видимой (текстовой) и невидимой (затекстовой) частей. Второй аспект слова отмечен Б.Н. Путиловым на примере папуасского фольклора [Путилов 1976: 87]. Эта сторона устно-поэтического слова еще не изучена, но можно полагать, что фольклорная коннотация отличается от нефольклорной принципиально. За пределами народно-поэтической речи она в известной мере случайна и не системна. В фольклоре же коннотация обусловлена всей системой фольклорного мира и его языка. П.Н. Рыбников заметил: «Почти в каждой личности из народа хранится такой запас этих песнопений, что посредством их крестьяне могут отозваться на каждое событие в жизни, на каждое движение в сердце» [Рыбников 1909: XCIX].
Если справедливо, что в художественном произведении любой приём обладает «релейным эффектом» – небольшим усилием достигать весьма больших результатов, – то в фольклоре «релейный эффект» максимален. «Огромное несоответствие между кипением страсти и крохотным поводом, породившим её, – отличительная черта именно гениальных вариаций, которые являются воплощённым отрицанием всякой риторики» [Роллан 1957: 152], – эти слова следует отнести прежде всего к народному словесному искусству.
Достаточно использовать отдельные фольклорные слова в тексте литературного произведения, как возникает устойчивый колорит народно-поэтической эпики и лирики. Это возможно потому, что каждое такое слово несёт включённую в себя устойчивую ассоциацию с той или иной совокупностью фольклорных образов и ситуаций.
Конкретное и семиотическое
Исследователи заметили, что фольклорное слово не только обозначает понятие или реалию, но и реализует семиотическую оппозицию. Например, окно, ворота в русском фольклоре являются знаками границы между своим и чужим миром, существительное лес – это «лес» и «не-лес, нечто чужое». «При анализе семантики фольклорной лексики всегда необходимо учитывать этот семиотический аспект фольклора, его остаточную ритуальность. Например, лебедь, ворон – это и разные птицы, и «светлое» и «тёмное»» [Оссовецкий 1975: 77].
Думается, что надо разграничивать первичную семиотичность – рефлексы древних моделирующих систем – и семиотичность вторичную, возникшую в самом фольклоре как результат обобщения символики и тенденции к неопределённости. Видимо, не будет ошибкой сказать: семиотичность в фольклоре – это предельная обобщённость символики. Символы, сведённые в классы, создают оппозицию. Так, Я. Автамонов, сопоставив многочисленные символы, взятые из растительного мира, пришёл к выводу, что все они распадаются на хорошие и печальные, причём преобладают символы печали. Деревья и кусты – знаки печали – противопоставлены траве, знаку «светлого» [Автамонов 1902: 247].
Сопоставлением реки и моря, как показывает контекст, осуществляется семиотическая оппозиция «тихое/бурное»:
С реченьки утушка слётывала, С тихой серая вспархивала; Прилетала утушка, Прилетала серая На бурное, на синё море… (Кир. 1, № 961).Семиотичностью фольклора можно объяснить отмеченную еще А.А. Потебней широкую взаимозаменяемость символов: жених = конь = олень = стадо топчет зелье = руту = васильки или проч. или = сад невесты [Потебня 1883: 44]. Стремлением к семиотичности можно объяснить неопределённость имён собственных. Так, существительное Литва является знаком 1) воинской силы; 2) страны, куда отвозят дань и в результате военного столкновения освобождаются из этой зависимости; 3) места трудного богатырского подвига; 4) страны, чей правитель угрожает русскому городу; 5) косвенной характеристики силы и враждебности персонажа былины; 6) места полона и др. [Митропольская 1974: 26].
Семиотичны столь частые в народном творчестве имена числительные. Утратив чётко фиксированную за каждым числом символику, числительные стали знаками лиричности, фольклорности, пространства, ожидания и т. д.
На материале цветовых прилагательных в русской народной лирической песне видно, что цветовой эпитет соотносится не столько с тем или иным существительным, сколько с той или иной лексико-семантической группой существительных. Он является своеобразным индексом этой группы. Так, белый – универсальный знак положительного. «…В сербской народной поэзии все предметы, достойные хвалы, чести, уважения, любви, – белые…» [Веселовский 1940: 83].
Потеря лексической определённости слова также приводит к превращению его в «условный знак для обозначения чего-то, не вполне ясно представленного» [Оссовецкий 1975: 77].
«Искусство сводит разнообразие явлений к относительно немногим символическим формам» [Потебня 1905: 62] – этими словами можно охарактеризовать развитие в фольклоре вторичной семиотичности.
Номинация и оценка
Народно-поэтическое слово не только строит фольклорный мир, но и оценивает его. Это обусловливает наличие в семантической структуре фольклорного слова особой оценочной компоненты, которая довольно часто преобладает и даже нейтрализует номинативную, как в словах свет, душа, сердце и т. п. Здесь слово превращается в своеобразный артикль сверхположительной оценки.
Особенно заметно это на примере прилагательных, по сути своей являющихся определителями. Например, «цветовые» прилагательные белый, лазоревый, красный, зелёный, чёрный и др. выступают в функции оценочных слов, теряя свою цветовую определённость. Этим объясняются «алогичные» примеры типа:
Под белым шатром под лазоревым Спит, почивает добрый молодец (Кир. 1, № 596); Во саде-та все цветики заблекнут: Аленький мой беленький цветочек, Желтый лазоревый василёчек (Кир. 1, № 341).«Часто сами по себе прилагательные обозначают просто качества (зелёный, алый, сизый), но эти качества в народной песне имеют экспрессивный оттенок, чаще всего положительный» [Оссовецкий 1957: 498].
Обычно оценочность выражается морфологически, при помощи префиксов и суффиксов: раскуст, раздворянчик и т. п. Если же морфологический показатель отсутствует, номинативную и оценочную компоненты разграничить трудно. Чаще всего кажется, что последняя отсутствует. Однако в тех случаях, когда употребление прилагательного в номинативном значении противоречит логике здравого смысла, мы отчётливо видим оценочный характер его. Так, О.И. Богословская, указав на семь значений слова белый, в анализе песенного примера: «Отшумела рожь белым колосом, Откричал милой громким голосом» – объяснила употребление эпитета белый «влиянием «чистой» традиции» [Богословская 1974: 149]. На самом же деле прилагательное в условиях необычного сочетания ярко проявило свою оценочную компоненту. Подобное свойственно не только «цветовым» прилагательным:
Я пойду ли сам крутым бережком, Я найму ль себе новых плотничков… (Песни, собранные писателями, с. 196).Частое в фольклорных текстах прилагательное новый содержит в себе компоненту «лучший», так как новый не противопоставлен старому. Иных плотников, домов, теремов в фольклоре не бывает.
Обязательное наличие оценочной компоненты в лексическом значении слова является требованием лирического жанра с его нравственной оценкой всего сущего в фольклорном мире и обеспечено свойствами диалектной лексики, обладающей повышенным эмоциональным тонусом и аккумулирующей максимальный набор средств экспрессивного выражения.
Собственное и иерархическое (ценностное)
Собственным назовем свойство фольклорного слова как автономной сущности, иерархической (ценностной) – доминанту, возникшую в слове в результате постоянного и длительного совместного употребления его с другими словами.
В.Г. Белинский отметил эту антиномию как «бессмыслицу»: «…в третьем стихе палица названа медною, а в пятом железною» [Белинский 1954: 428]. В фольклоре предшествующий элемент в какой-то мере программирует последующий. В итоге обязательного следования рождаются иерархически ценностные отношения, закрепляющиеся в семантике слов. Наличие иерархически ценностной компоненты у прилагательных сосновый и дубовый:
Ва сасновах сенсах Ва дубовах сенсах, – Казак дефку выкликая (Хал., № 368) –объясняет столь частый «алогизм». Второе слово выступает фольклорным, аналогом сравнительной или превосходной степени.
Насланы полы да там дубовыи, Перекладинки положены кленовые (Барсов, с. 27); Там лежала жёрдочка, Жёрдочка еловая, Досточка сосновая (Кир. 1, № 367); На том каню сиделичка Черкасская, нимецкая (Кир. 1, № 534); Уж вы кудри, вы кудри мои, Золоты кудри, серебряные, Через волос позолоченыя (Кир. 1, № 15).Иерархической компонентой обладают и существительные:
Что по сахару река текла, По изюму разливалася (Кир. 1, № 27).Иерархические свойства слова позволяют наиболее органично и экономно достичь эстетического эффекта при помощи композиционного приёма символического накопления, заключающегося в расположении однозначных ситуаций с одинаковой эмоциональной направленностью по степени их нарастания, от ситуации обобщённого характера – к конкретной.
Помимо эстетической функции – быть средством аккумуляции эмоционального напряжения, – иерархические свойства фольклорного слова выполняют и мнемоническую функцию: быть «вехой» запоминания.
«…Различать структурно-семантические категории в искусстве – отнюдь не значит понимать их как какие-то взаимно изолированные метафизические субстанции. Наоборот, все эти различения проводятся нами только для того, чтобы исследовать их конкретное смешение в реально-исторических произведениях, а смешение это фактически доходит иногда до полного совпадения» [Лосев 1971: 7] – эти слова характеризуют соотношение компонентов в фольклорном слове.
Многокомпонентность и внутренняя антиномичность значения ведут к смысловой неопределённости слова, повышающей его информативность.
Диффузность свойственна и литературной, и диалектной лексике. Там это «болезнь роста» языка. В словесном же искусстве неопределённость – принципиальное свойство поэтического слова и является фактором эстетического порядка:
Только чернь чернеется, Только бель белеется, Только синь синеется, Только крась краснеется (Лир. рус. св., № 344).Она объясняет феномен тотальной синонимичности в устном народном творчестве, когда почти любое слово одной части речи практически может быть синонимом любого другого.
На особых свойствах народно-поэтического слова основываются фольклорные приёмы. Например, приём «символической трансформации»:
По пути она (смерть. – А.Х.) летела чёрным вороном, Ко крылечку прилетела малой пташечкой, Во окошко влетела сизым голубком (Барсов, с. 167).Этот приём использует широкие возможности семантики фольклорного слова, и на нём можно увидеть все выделенные нами антиномии: совмещённость видовой и родовой номинации, символику, оценочность, иерархичность.
Совмещение видовой и родовой номинации позволяет органически слить конкретность изображения и его предельную обобщённость. Наличие оценочной компоненты удовлетворяет постоянной тенденции фольклора к идеализации изображаемого мира. Неопределённость семантики создаёт стереоскопичность изображения, обусловливает повышенную синонимичность, тенденцию к парности (бинаризму) и, как следствие, появление своеобразного параллелизма внутри слова.
Возникает вопрос, не приписываем ли мы слову свойства, которыми оно вне данного текста не обладает, не смешиваем ли мы лексическое с синтаксическим и фразеологическим.
Действительно, семантическая структура слова зависит от того, в составе какого сочетания оно употреблено. «В контексте всего произведения слова и выражения, находясь в тесном взаимодействии, приобретают разнообразные дополнительные смысловые оттенки…» [Виноградов 1959: 234]. Однако не следует преувеличивать роль сочетаемости в определении семантической структуры слова. Хотя объединение слов в тексте подчинено существующим в языке синтаксическим правилам, сочетаемость каждого слова и модели обусловлена его собственной индивидуальной семантикой.
В фольклорном тексте слово обладает отчётливо выраженным «блоковым» характером. В нём заранее уже заданы все свойства, которые будут реализованы в тексте. Контекст определяет выбор слова, но выбор этот сравнительно ограничен, и выбранное слово уже имеет те коммуникации, которые органически подключаются в общую систему связей фольклорного произведения. Родовая обобщённость, символика, метафоризм, оценка и иерархичность её – всё это существует в слове как непременно реализующаяся тенденция. И хотя своеобразный оттенок слова в фольклоре может восприниматься не как принадлежность самого слова, а вытекает из всей ситуации, в которой оно произносится, из художественного облика исполняемого произведения, в пользу языковой, а не текстовой природы семантической сложности слова говорит тот очевидный факт, что фольклорное слово, будучи перенесённым в инородный текст, не только сохраняет свои свойства, но и преобразует смысловую и художественную ткань новой для себя фразы.
Семантическое своеобразие колоративов
Мы не раз останавливались на своеобразии семантики слов, называющих цвет в народной лирике (колоративов), столь же своеобразна семантика колоративов в былинных текстах. С этим мы столкнулись, лексикографически описывая лексику онежских былин в записи А.Ф. Гильфердинга.
Некоторые цвета в эпическом фольклорном мире предстают как зримое предшествование чуда (дива):
А там-то есть три чудушка три чудныих, Там-то есть три дивушка три дивныих: Как первое там чудо былым-бело, А другое-то чудо красным-красно, А третьеё-то чудо черным-черно (Гильф. 1, № 49, 27).Для феномена чуда цвет предстаёт чем-то самодостаточным. Цвет – само по себе чудо, тем более речь идет о цвете предельной интенсивности.
Масть лошади у русских – сущностная характеристика животного, отсюда частотность видовых обозначений его с помощью специальных существительных: бурый > бурко (бурка), вороной > воронко (воронок), гнедой > гнедко, сивый > сивко. Эти существительные, сохраняя сему цветовой определённости, приобретают потенциальную сему 'сверхъестественность', актуализируемую в сочетании существительного с эпитетом (например, частое вещий каурка). При этом цветовые семы «микшируются», в результате чего «цветовое» слово перестаёт обозначать конкретную масть. Актуализация в каждом имени масти семы 'сверхъестественное' делает синонимичными слова, которые за пределами фольклора таковыми не являются. Концентрация нескольких обозначений масти для одной лошади – форма представления существа с необычайными свойствами. В. Даль подмечает: «Сивка бурка, вещий каурка, в сказках, конь и сивый, и бурый, и каурый» [Даль: 1: 144]. Смешение цветов – знак сказочности животного.
В «Онежских былинах» каурка используется только с существительным бурка в постпозиции как своеобразный эпитет к предшествующему слову, которое может употребляться и без этого эпитета:
Берёт узду себе в руки тесмяную, Одивал на мала бурушка-ковурушка; По колен было у бурушка в землю зарощено. Он поил бурка питьем медвяныим. И кормил ёго пшеною белояровой, И седлал бурка на седёлышко черкальское (Гильф. 2, № 152, 53).Гнедой – 'красновато-рыжий с чёрным хвостом и гривой (о масти лошади)' [МАС: 1: 320]. В былинных собраниях, например, в сибирских былинах в записи С.И. Гуляева этот эпитет сопровождает существительные конь или лошадь:
Увидал-то Илья Муромец На гнедом коне млада юношу (Гуляев, № 8, 11).Однако во всех одиннадцати случаях словоупотребления гнедой в «Онежских былинах» это прилагательное определяет только существительное тур (туриха):
Обвернула-то Добрынюшку гнедым туром (Гильф. 2, № 163, 82).Во-первых, налицо пример территориальной дифференциации народно-поэтической речи на уровне словосочетания. Во-вторых, прилагательное гнедой в неявной форме актуализировало такую сему, которая и обеспечила выбор определяемого слова тур, обозначающего животное в особой эпической функции – некий вестник чуда, дива, явления богородицы (в последнем случае влияние духовных стихов на былину).
Необычное, но устойчивое эпитетосочетание – симптом неявной актуализации новой для колоративного слова семы. Примером могут служить прилагательные червленый, черленый, черливый – номинанты красного цвета: 'багряный и багровый, цвета червца, ярко-малиновый' [Даль: 4: 591]. В «Онежских былинах» у этих прилагательных всего одно определяемое слово – вяз 'дубина':
Кто истерпит мой черленый вяз (Гильф. 1, № 44, 49).В «Беломорских былинах, записанных А. Марковым», чер-леный во всех восьми словоупотреблениях – эпитет к существительному корабль. В 28 случаях корабль определяется как черненый. Трудно представить, что главное достоинство боевого оружия – богатырской дубины – цвет, даже самый престижный – красный. Налицо исследовательская задача – выявить неявную сему в содержательной структуре цветового прилагательного.
На примере существительного чернавка можно наблюдать диффузию в семантической структуре корня, когда контекст даёт основание одновременно видеть и цветовое, и переносное значения: (1) темная лицом, «чиганочка», по Далю, смуглянка [Даль: 4: 595]; (2) «поварная девушка», выполняющая чёрную работу, чернорабочая; (3) по сюжету «чёрный человек» – предательница, доносчица, разрушительница семьи.
Интересен пример семантического расширения прилагательного белый и преобладания оценочного компонента:
Целовала тут его в белы уста (Гильф. 1, № 23, 170).Аналогичные примеры встречались и в народной лирике.
Континуальность цветовой волны, а также изменение окраски в связи с атмосферными факторами и законами психологического восприятия цветов способствуют существованию в языке слов, обозначающих некий цветовой диапазон, например, бусеть 'Синеть, сереть, темнеть, чернеть' [Даль: 1: 145]; 'становиться серым, голубым, темнеть' [Фасмер: 1: 252].
Семантическое своеобразие народно-поэтического слова сказывается на морфемике слова в фольклорных текстах и на характере устойчивых конструкций, образующих так называемую поэтическую фразеологию.
Рекомендуемая литература
Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993.
Хроленко А.Т. Семантика фольклорного слова. Воронеж, 1992.
Морфемика слова в фольклорном тексте
Своеобразие семантики фольклорного слова не может не отразиться на устройстве этого слова, на его морфемике. Не следует забывать, что народно-поэтическое слово живёт только в тексте и вся его содержательная и словообразовательная специфика предопределена этим обстоятельством.
Полипрефиксальность глаголов в фольклорном тексте
Своеобразной приметой русской устно-поэтической речи служит наличие полипрефиксальных глаголов. «.Самую главную особенность глаголов, встречающихся здесь, составляет то, что большая часть их образована с надставкою предлогов» [Барсов 1872: XXVI].
Что вы, девушки, ох, да призадумались (Мезень, № 26); У гуслей ещё струночки призаржавели (Мезень, № 210); Да я со вечера в саду водой споливала (Мезень, № 124); Испостроены были пала… ой, палатушки (Мезень, № 52).Многоприставочность в языке фольклора объясняют различными причинами, и на первое место ставится необходимость уточнения смысла слова, изменения его лексического значения. Это предположение не вызывает сомнения. Действительно, приставка – эта минимальная значимая часть слова – теоретически должна привносить в общее смысловое содержание слова определённый семантический элемент, недаром же приставки в подавляющем большинстве своем выполняют словообразовательную, деривативную функцию.
Второй причиной полипрефиксальности в устно-поэтической речи обычно называют ритмомелодику. Фольклорный стих со своей специфической метрикой подчас требует удлиннения слова, и на помощь приходит вторая (и даже третья) приставка. «Широкое употребление глаголов с дополнительными приставками "по-", "вы-", "от-", "за-" способствует превращению этих глаголов в удобные в метрическом смысле формулы (дактилическое окончание с предшествующими несколькими слогами)» [Путилов 1966: 233]. Префикс, таким образом, выполняет роль «звукового балласта», обеспечивающего метрическую полноту каждого стиха.
В-третьих, употребление некоторых вторых приставок пытаются объяснить причинами грамматического плана: специфическая дифференциация видовых отношений, особая передача завершённости действия.
В-четвертых, полипрефиксальность интерпретируется как удачное средство особой выразительности фольклора. К сожалению, это чрезвычайно туманное понятие «особая выразительность» не раскрывается. Неясно, почему «вторичные приставки выступают как средство. превращения их (префиксальных глаголов. – А.Х.) в яркие изобразительно-выразительные средства языка» [Эбель 1970а: 63].
Все четыре объяснения многоприставочности, на наш взгляд, недостаточны. Всё дело в том, что каждое из них в отдельности вступает в противоречие с очевидными фактами и выводами исследователей. Семантическое объяснение игнорирует противоречие между стремлением к расчленённости значений и отсутствием чёткой дифференциации значений приставок, например, в былинах. В автореферате А.А. Эбель «Значения и стилистическое использование префиксальных глаголов в русских былинах» автор, с одной стороны, утверждает, что приставочные образования теряют часть своих значений, развиваются в направлении всё большей расчленённости значений, с другой стороны, констатирует, что в былинах нет чёткой дифференциации значений приставок, и приводит убедительные примеры, свидетельствующие, что былинные приставки обнаруживают смысловую нерасчленённость [Эбель 1970б]. Известна тенденция приставок в разговорной речи лишаться семантической определённости с последующими нарушениями законов их сочетаемости и повышением взаимозаменяемости.
Семантическое объяснение, пригодное, вне всякого сомнения, в целом ряде случаев, не может быть исчерпывающим. В этом смысле справедливо замечание: «Из словообразовательных морфем они (вторичные приставки. – А.Х.) постепенно становятся на путь превращения в морфемы словоизменительного (курсив наш. – А.Х.) типа (особенно «по – "), в литературном же языке это явление не наблюдается» [Ройзензон 1966: 164].
Столь же уязвимо и ритмико-мелодическое объяснение полипрефиксальности, по крайней мере в значительном ряде случаев. Например, в многоприставочных глаголах вторая приставка с-, не составляет слога и потому не удлиняет слово.
Не спромолвишь ты слова ль со мной? (Мезень, № 80); Спроводи меня домой (Мезень, № 102); …Послала спроведать. Сама-то не поехала (Мезень, № 213).Приведённые примеры, противоречащие ритмико-мелодическому объяснению полипрефиксальности, как будто подтверждают мнение о том, что прибавление второй приставки обусловлено целями грамматическими – изменением видового значения. Однако как объяснить то обстоятельство, что две приставки в одних случаях передают одно и то же значение совершенного вида, а в других – разные видовые значения? Ср., например:
Ой, одно полюшко, поле спокрыто (Мезень, № 35); А повыросла поболе – Полюбила молодца (Мезень, № 102); По всему-то ему грудь да попримеряла (Мезень, № 215).Напрашивается мысль, что многоприставочность глаголов в фольклоре нельзя объяснить однозначно, тем более что каждый отдельный случай полипрефиксальности хорошо укладывается в одно из четырёх объяснений. На самом же деле необходимо продолжить поиски адекватного объяснения исследуемого явления, учитывая и такие очевидные факты, как высокая частотность многоприставочных глаголов в фольклоре и единообразие второй приставки.
Действительно, по сообщениям исследователей и нашим наблюдениям над соответствующими глаголами сборника «Песенный фольклор Мезени», в качестве вторичных выступают всего 15 приставок, из них наиболее продуктивны префиксы пои при-. Реже встречаются приставки с-, из-, за-, ещё реже – воз-, раз-, на-, пере-, у-, под-, вы-, про-, о– и от-.
Почему же именно по– и при– являются типично вторичными приставками, хотя в семантическом, грамматическом, ритмомелодическом (один слог) и экспрессивном отношении они ничем не отличаются от многих других односложных приставок?
В поисках объяснения этого явления не следует упускать из виду ещё одно обстоятельство: разные приставки в фольклорном тексте становятся синонимичными. «Семантическое сближение приставок приводит к синонимизации образований с различными префиксами. Нередко такие глаголы функционируют не только как синонимические, но и как тождественные образования. Эволюция приводит к семантической индифферентности» [Эбель 1970: 11]. Это положение иллюстрируется примерами синонимичных рядов одноприставочных глаголов: достичь – пристичь – состичь; истоптать – претоптать – притоптать – потоптать; переломать – преломить – приложить – поломать, зачать – начать – почать – учать и др.
В значительном числе случаев такая смысловая неопределённость приставок приводит к нарушению характерного для русского языка закона соотношения предлогов и глагольных приставок, например: выскочить на коня, выйти с дуба, выпадать в море.
По наблюдениям исследователей, синонимия в фольклоре нередко настолько широка, что семантически сближаются и даже отождествляются не только приставки в однокоренных глаголах, но и такие разнокоренные глаголы, которые по нормам общенационального русского языка синонимичными не являются. Так, в исторических песнях XVII века о Степане Разине постоянно синонимизируются несинонимичные в литературном языке глаголы: плыть – идти – бежать – парусить; выплывать – выбегать; приплыть – прибежать – пригрянуть; схоронить – положить – повалить. О.И. Соколова, сопоставив употребление приставок в литературном языке, диалектной речи и фольклоре, пришла к выводу о том, что в пудожском говоре, например, наблюдается «замещение» значений, выражаемых одними приставками, значениями, присущими другим приставкам, и это «определяет свободу (курсив наш. – А.Х.) выбора той или иной приставки носителями пудожского говора» [Соколова 1970].
На наш взгляд, факт многоприставочности глаголов и рост употребительности таких глаголов в современном фольклоре объяснить чисто лингвистически нельзя. Разгадка секрета по-липрефиксальности кроется в двуприставочности (слова с тремя приставками сравнительно редки, их можно не принимать во внимание, к тому же они не противоречат общему правилу).
Двуэлементность построения многих единиц разных ярусов языка фольклора чрезвычайно продуктивна в устно-поэтической речи. Здесь уместно вспомнить тавтологические повторы, парные синонимы, паратактические конструкции, двандва (парные ассоциативные сочетания), составные числительные, постоянные эпитеты и т. д. Наличие их объясняется особой ролью симметрии в народном искусстве, в основе которой лежит повторяемость смысловых комплексов [Мелетинский 1972: 151]. Стремление к всеобъемлющей симметрии приводит буквально к тотальной синонимичности, когда почти любое слово в определённой позиции может быть синонимом к каждому слову. «.В поэтическом тексте возникает некоторая вторичная «синонимия»: слова оказываются эквивалентными только лишь в силу своего изометризма» [Лотман 1970: 146].
Бинарность и связанная с ней всеобъемлющая синонимия являются эффективным средством передачи дополнительной информации, способствуют так называемому приращению смысла. «Приращённая» информация шире простой суммы содержания компонентов и отличается особым свойством – неопределённостью, что увеличивает семантическую ёмкость конструкции, её смысловую валентность. Неопределённость возникает в результате того, что «в фокус изображения попадают самые общие, родовые, типические, и, таким образом, «идеальные», «сущностные» стороны предмета», наблюдается своеобразное «качение» смысла в любой симметричной конструкции [Неклюдов 1972: 207–208].
Все эти соображения о двуэлементности, симметрии, «скрытой» синонимии, семантической «неопределённости» любой бинарной конструкции в фольклоре объясняют, как нам представляется, кажущиеся несообразности в употреблении полипрефиксальных глаголов. Поскольку использование второй приставки не обусловлено (по крайней мере в большом количестве случаев) задачами конкретно смысловыми, т. е. дифференциацией значения именно данного глагола, постольку отпадает необходимость в широком выборе вторичных приставок, круг этот сужается, и в пределах этого круга львиная доля нагрузки падает на приставку при-. Предпочтение, оказываемое этой приставке, видимо, можно объяснить её свойствами. «Приставка при– в говорах широко используется как словообразовательное средство и характеризуется особенностью вносить в глагол разнообразные значения. Многие глаголы с приставкой при– многозначны за счёт смысловых оттенков, вносимых приставкой, эти значения настолько тесно бывают взаимосвязаны, что их трудно разграничить (курсив наш. – А.Х), тем самым эти глаголы обнаруживают тенденцию к полисемии» [Андреева-Васина 1966: 104]. Если в качестве первичной приставка при– обнаруживает столь широкую многозначность, то, когда она является вторичной, комбинаторика приставок ещё более увеличивает её многозначность, ср.:
Призасыпят очи ясны девки красной (Мезень, № 24).Приставка при– вносит значение неполноты действия, приставка за– значение законченности. В итоге создаётся значение неопределённости степени действия. Многозначность и связанная с нею неопределённость порождают смысловые алогизмы, например:
Мураву траву шелковую спотаптывала (Мезень, № 43).Однако эти алогизмы в художественном плане оправданны, ибо позволяют наиболее экономным способом передать сложность и многоаспектность явления, его диалектику.
В любом случае можно утверждать, что и здесь мы сталкиваемся ещё с одним ярким проявлением диалектики языкового и художественного в структуре поэтического произведения: система поэтики, вырастая из языковой материи, усиливает в ней те свойства и признаки, которые наиболее рациональным образом реализуют поэтические приемы.
Сложные слова с корнем БЕЛ-в народно-поэтической речи
Обращает на себя внимание интересная закономерность в построении сложных прилагательных, имеющих в своем составе «цветовой» корень. Несмотря на то, что все жанры фольклора активно используют колоративные слова, обозначающие цвета как хроматические, так и ахроматические, «цветовым» корнем может быть только ахроматическая морфема черн, бел, сер: тюрьма, палаты, стены белокаменные, перчатки белолайковые, сарафан белорозовый, шатер белобархатный, чудь белоглазая, пшено и пшеница белояровые, береза белокудрявая, стол белодубовый, заяц белоногий; кафтан чернобархатный, девка чернобровая, мужики черноусые. Даже в самых современных частушках эта закономерность проступает чрезвычайно отчётливо. Конечно, объяснить это «чисто» лингвистически невозможно. Выделение и обозначение цветов, их символика и функция – это область этнического, психофизиологического.
Столь же любопытные наблюдения можно сделать над сложными словами, включающими в себя квантитативные (количественные) морфемы: трезвенный, трёхмесячный, семиглавая, семишелковая, двоюмесячный, троелетечко, треугольная, двоеколые, семисаженная, пятистенная, триаршинная и т. д. Специфический отбор «количественных» морфем вряд ли можно объяснить только лингвистическими особенностями.
Среди сложных слов, извлечённых из записей русского поэтического фольклора, выделяются прилагательные с корнем бел-:
Она гуляла, разгуливала По высоку нову терему, По палатам белокаменным… (Лир. рус. св., № 154); Да идёт-то покоем белодубовым… (Гильф. 2, № 118); Вы цветы ли, мои цветики, Цветы алые, лазоревые, Да голубые, белорозовые! (Лир. рус. св., № 11).Наличие сложных прилагательных с корнем бел– во всех жанрах русского фольклора и повышенная их частотность не случайны. Возникает вопрос, почему корень бел– так охотно используется в словосложении и каковы стилистические функции этих сложных прилагательных. Нам представляется, что наиболее плодотворным в данном случае будет сравнение устно-поэтического материала с данными различных словарей. Сопоставление словарей писателей со словарями современного русского языка и словарями историческими позволит увидеть интересующее нас явление во временной и функциональной перспективе.
Словари произведений А.С. Пушкина, Д.Н. Мамина-Сибиряка и А.М. Горького зафиксировали сравнительно небольшой круг сложных слов с корнем бел– и отметили низкую их частотность.
В значительном по объему художественном наследии А.С. Пушкина, включая и письма, использовано всего 15 интересующих нас слов: белоснежный, белобрысый, белокрылый и др., из которых четыре – оттопонимические образования: Белогорская, Белорецкие, Белозерский, белорусский [Словарь языка Пушкина 1956: 92].
В «Приваловских миллионах» Д.Н. Мамина-Сибиряка белокурый встретилось пять раз, белобрысый – трижды, белоголовый, белорусый и белоснежный использованы автором однажды [Генкель 1974: 26]. В автобиографической трилогии А.М. Горького отмечен столь же узкий круг сложных слов с корнем бел-: белобрысый, беловолосый, белокурый, белорусы [Словарь трилогии Горького 1974: 100]. Выводы напрашиваются сами собой: рассматриваемые сложные слова в художественной литературе используются редко и представляют собой, если отвлечься от топонимов, весьма ограниченную по семантике группу. Корню бел– присуще только цветовое значение.
Семнадцатитомный «Словарь современного русского литературного языка», отразивший более чем столетний период истории русского языка, естественно, фиксирует большее количество сложных слов с корнем бел-: 1) белый цвет материала: беловойлочный, беломраморный; 2) сочетание в окраске белого с иным цветом: бело-красный, бело-румяный; 3) белый цвет органов тела, частей организма: белобокий, белобородый, белозубый; 4) контрреволюционные объединения: белополяки, белобанди-ты и т. д. [БАС: 1: 374–375]. Совершенно очевидно, что и здесь корень бел– обнаруживает «цветовую» семантику. Исключение составляют терминологические образования типа белогорячечный (от белая горячка) и беломестный (белое место – «земля или двор, освобождённые от податного тягла»). Если сравнить перечень сложных слов с корнем бел– этого словаря с рассмотренными выше словарями, можно определённо сказать, что различие чисто количественное.
«Словарь русского языка XI–XVII вв.» зафиксировал 35 сложных слов с корнем бел-, из них у девяти бел– в значении «свободный от подати»: белодворец, беломестец, белопашня, бе-лопоместец, белопашенный и др. [Сл. РЯ: XI–XVII]. Особняком стоят слова белоризец, белоризный, явно образованные от словосочетания белая риза, но совместившие со значением «белый» дополнительное значение «свободный от монашеского обета».
Сравнение фольклорного материала с данными словарей русского литературного языка, начиная с XI века и до наших дней, показывает большую продуктивность сложных образований с корнем бел– в народно-поэтической речи и семантическое своеобразие этого корня.
Каковы причины продуктивности, своеобразия и функционирования интересующих нас сложных слов. Обратимся к диалектным словарям. Заметим, что издаваемый «Словарь русских народных говоров» включает в себя и фольклорную лексику, что даёт возможность сравнительного анализа обиходно-бытовой и устно-поэтической речи.
Во втором выпуске «Словаря русских народных говоров» зафиксировано 143 сложных слова с корнем бел-. Мы не принимаем во внимание немногие случаи, когда второй корень с неясной семантикой. По принадлежности к частям речи они распадаются на три весьма неравноправные в количественном отношении группы: существительные – 98, прилагательные – 43, остальные – 2 (наречие бело-на-бело и глагол белохвостить в значении «бездельничать») [СРНГ: 2: 225].
Все существительные с корнем бел– распределяются на четыре лексико-семантические группы: 1) растения (34): белоголов, белогубка, белоколоска, белокопытник, белолистка, белолаз и т. д.; 2) животные, птицы, рыбы (21): белоглазка, белогузик, бело-душка, белозобка, белокрыл, белорожка, белорыбица и т. д.; 3) характеристика человека (21): белобрыска, белоголовик, белоличка, белонога, беломойка, белоус, белокоска и т. д.; 4) неодушевлённые предметы и явления (22): беловодье, белогорье, белозерка, белоног («кол»), белорозовка (ткань), белоярка (береста) и т. д. В подавляющем большинстве семантика корня бел– очевидна – это цветовая характеристика. Заметим, как охотно русский человек, называя то или иное явление флоры и фауны, опирался на этот цвет. Возможно, в этом одно из объяснений повышенной частотности прилагательного белый в русском языке в сравнении с другими «цветовыми» прилагательными.
Сложные прилагательные с корнем бел– тоже можно классифицировать по тем же тематическим группам: 1) относящиеся к флоре (6): беловиловая (о капусте), беломясый (об арбузе); 2) относящиеся к фауне (11): белоглазый (о животном), белопле-кий (о птице), белохвостый (о беркуте), белопахий (о животном) и т. д.; 3) относящиеся к человеку (2): белокурый, белокрысый (= белобрысый); 4) относящиеся к неодушевлённым предметам (13): белосветный, белоярная (о бересте), беломехая (о гармони) и т. д. В приведённых примерах семантика корня бел– тоже «цветовая».
Если же теперь мы взглянем на все сложные слова с корнем бел– под углом их речевой принадлежности (обиходно-бытовые или устно-поэтические), то обнаружим закономерность. Из 143 сложных слов 34 (или каждое четвёртое слово) составителям словаря встретилось только в фольклорных текстах (соответственно в словаре приводятся цитаты только из произведений народно-поэтического творчества). Само собой разумеется, что в фольклоре используется большее количество сложных слов с корнем бел-. Скажем так, любое из 143 слов можно отыскать в текстах русского фольклора, но 34 из них в бытовой речи диалектологами зафиксировано не было. Эти «чисто» фольклорные слова в подавляющем большинстве своем являются прилагательными (27 против 7 существительных).
В семантическом отношении корень бел– в фольклорных сложных словах не столь однозначен, как в перечисленных выше 109 существительных и прилагательных, принадлежащих обиходно-бытовой речи. Рассмотрим эти фольклорные существительные. Белозаюшка – «снег» (переносно), беломоюшка, беломоечка, беломойница – «женщина, стирающая белье» – бел– содержит значение цвета, осложняемое уже значением «чистота». Белоножка – эпитет отрицательной характеристики ленивой женщины, соответствует литературному белоручка – на значение «чистота» наслаивается значение отрицательной оценки. Белополынянка – «пленница». Здесь можно предположить влияние тюркских языков, в которых понятие «белый» ассоциируется с понятием «западный» (ср.: белый царь для тюрок – это правитель живущего западнее народа). С другой стороны, учитывая особую роль эпитета белый как оценочного слова, можно с большой долей уверенности думать, что перед нами сугубо русское фольклорное образование. Белокаменье – составители словаря не дают толкования этого слова и ограничиваются цитатой: Уж мы сроем хрящи да белокаменьё, Отомкнём-ко замки да мы заморская (Григорьев). Можно полагать, что это существительное образовано из устойчивого сочетания белый камень с помощью продуктивного в народно-поэтическом языке суффикса собирательности.
Все 27 сложных прилагательных, зафиксированных только в фольклорных текстах, распадаются на две группы: 1) образованные от словосочетаний «прилагательное + существительное» типа: беломшаный, белобисерный, белополотняный и 2) образованные присоединением корня бел– к прилагательным типа: белобраный, белохрущатый, белояровый и др. Существенно отметить, что первым способом образуются и нефольклорные сложные прилагательные, а вторым – только фольклорные.
Сложные прилагательные, образованные от соответствующих словосочетаний, в известной мере сохраняют элементы «цветового» значения: беловилковая, или беловиловая, – «белая» (о капусте), белоивовый – «похожий на белую иву во время цветения», белолапчатый – «с белыми лапами», белобисерный – «вышитый белым бисером», белополотняный – «из белого полотна» и т. д.
В большей части рассматриваемых слов корень бел-, помимо цветового, обретает дополнительное значение. Интуитивно ощущая это, составители словаря толкуют слова белодубовый (бело-дубый) как «дубовый» и белолиповый как «сделанный из липы», с примечанием: «Постоянный эпитет в произведениях народного творчества». При толковании этих слов корень бел– фактически не учитывается как несущий дифференцирующее значение. Слово беломшаный толкуется не как «оконопаченный белым мхом» (что вполне возможно), а как «оконопаченный лучшим мхом».
О том, что корню бел– может быть свойственно значение 'хороший, лучший', можно судить и по некоторым обиходно-бытовым диалектным словам. Например, белоголовица – «красавица». Диалектное слово белокупый толкуется как «в высшей степени глупый». Это значение у корня бел– видится нам в тех случаях, когда фольклорное прилагательное образуется из двух прилагательных. Не случайно, на наш взгляд, составители словаря толкование таких слов, как белобраный, белосиненький, белотканый, белохрущатый, заменяют пометами типа: «эпитет к словам скатерть, шатёр и т. п.», «эпитет невода», «эпитет шатра», «эпитет камчатой ткани». Объясняя прилагательное белобельчатый, составители с сомнением указывают на значение «белый» – «очень белый, хорошо выбеленный (?)». Весьма частое прилагательное белояровый (белоярый, белоярский) толкуется как «лучший (курсив наш. – А.Х.) сорт (пшена, пшениц)». Прямое указание на наличие значения «качество в превосходной степени» содержится в объяснении слова белоладный – «крепкий, основательный и ладный». Только у немногих фольклорных сложных прилагательных, образованных вторым способом, авторы словаря указывают на признак «белый»: беловышитый – «белый, с вышивкой», белотравчатый – «имеющий узор белого цвета». Вообще прилагательному белый изначально присуща многозначность.
Этимологический словарь отмечает, что оно образовано посредством суффикса – L – от индоевропейского *bha – «светить, сиять, блестеть».
В памятниках древнерусского языка отмечено семь основных значений этого слова: 1) белого цвета, 2) светлый, ясный, прозрачный, 3) чистый, 4) относящийся к белью (белая казна), 5) освобожденный от феодальных повинностей, не тяглый, 6) не постриженный в монашество, 7) непорочный, безгрешный. Каждое из этих значений может дифференцироваться. Так, прилагательное со значением «чистый» в устойчивых сочетаниях слов обнаруживает дополнительные оттенки: белый двор – «передний, главный»; «имеющий дымоход через трубу» (о помещении); «чистовой, беловой» (о документе).
В современном русском языке некоторые значения прилагательного утрачены и обнаруживаются только в отдельных словосочетаниях, извлечённых из художественных произведений прошлого столетия: белая изба, баня – «постройки с дымоходом и дымоотводом», белая горница – «парадная, приёмная, лучше обставленная и чище содержимая», белая кухарка – «повариха, готовящая кушанья для хозяев» и др.
Прилагательное белый чрезвычайно употребительно и в русском фольклоре. Это объясняется тем, что рассматриваемое прилагательное обладает повышенной частотностью в диалектах, при этом частота использования определяется многозначностью прилагательного.
Наличие у фольклорного прилагательного белый «нецветового» значения заметно на примере так называемых алогичных сочетаний:
Ты пчела ли, моя пчёлынька, Ты пчела ли моя белая По чисту полю полетывала… (Лир. рус. св., № 11); Не белый горох рассыпается: Чурилина-то кровь разливается… (Рыбн., II, № 23); Да и понесе ён, конь могучий, Своего боярина со царевною По белому люду христианскому российскому таскатися… (Рыбн., II, № 26).Строго говоря, никакой алогичности здесь нет, прилагательное белый актуализирует «нецветовое» значение.
Об оценочном компоненте в значении прилагательного белый говорят и довольно многочисленные случаи синонимических замен. Например, в народно-поэтическом творчестве широко известно сочетание широкий двор:
Заезжал он скоро на широкий двор… (Рыбн., II, № 16).В былине, записанной А.Ф. Гильфердингом, зафиксирован случай, когда на месте широкий было употреблено белый:
Въехать бы туда русскому могучу богатырю На широк туды на белой двор… (Гильф. 2, № 120).Этот пример из Гильфердинга приведен также и в «Словаре русских народных говоров». Белый двор толкуется как «огороженное место вокруг дома» [СРНГ: 2: 233]. Поскольку в былине это значение неактуально, так как нет противопоставления «чистого» двора какому-либо другому, думается, что прилагательное белый употреблено как эквивалент прилагательного широкий.
Русскому фольклору свойствен такой композиционный приём, сущность которого состоит в том, что одна фраза дробится на две, построенные по принципу синтаксического параллелизма:
Я по бережку, млада, ой, да ходила, Ох, да по крутому, млада, гуляла… (Мезень, № 80).В таком случае легко проверяются синонимические отношения между словами. Прилагательное белый, как правило, соотносится в таких конструкциях с определениями ясный, хороший:
Не ясен-то сокол вылетывал, Не белой-то кречень перекуркивал (Рыбн., II, № 27); Мне родимая матушка — От бела умываньица, Мне родимая сестрица От хороша снаряжаньица (Лир. рус. св., № 455).Эпитет белый может стоять также в синонимической паре с эпитетом хороший:
Пораздёрнула она хорош-бел шатёр… (Рыбн., II, № 20).Сопоставление различных случаев употребления прилагательного белый даёт основание считать, что в нём имплицитно содержится элемент значения «предельности признака». Браный означает «вышитый»:
Садились за скатерти браные. (Рыбн., II, № 28).Прибавление корня сам(о) – усиливает качественную характеристику: самобраные скатерти – «прекрасно вышитые». Корень сам– может заменяться корнем бел-:
И как садил он их за столики да за кленовые, И за тея ли за скатерти за белобраные… (Гильф. 2, № 175).Значение «предельность признака» у прилагательного белый зафиксировано и в диалектах. Например: Белая нужда – крайняя нужда. Дожить до белой нужды! Отмечено оно в 1885–1898 гг. в Олонецкой губернии. Сходное значение усматриваем и в отдельных окказиональных словоупотреблениях прилагательного белый в литературном языке:
И сады, и пруды, и ограды, И кипящее белыми воплями Мирозданье – лишь страсти разряды, Человеческим сердцем накопленной (Б. Пастернак).Резюмируя, можно сказать, что в фольклоре прилагательное белый, помимо «цветового», обладает ещё рядом значений оценочного характера. Комплексность и известная семантическая недифференцированность этих побочных значений обусловили широкое использование прилагательного белый в словосложении. При этом заметна закономерность: если второй производящей основой является существительное, то корень бел– актуализирует «цветовое» значение, если же производящей основой является основа прилагательного, то бел– проявляет оценочное («нецветовое») значение. Присоединение корня бел– к прилагательному является специфической чертой фольклорного словообразования. Наличие у корня бел – «цветового» и «нецветового» значений не является уникальным свойством только этого прилагательного. Сходное было замечено на примере эпитета лазоревый [Голубева 1970].
Можно предположить, что если в литературном языке каждое многозначное слово в контексте актуализирует только одно какое-либо значение, исключая случаи намеренной или ненамеренной двусмысленности, то в фольклорном контексте могут одновременно актуализироваться несколько значений. Этим достигается изобразительность, экспрессивность и эмоциональность устно-поэтического произведения. И в этом одно из объяснений поразительной ёмкости фольклорного слова.
Разграничение устойчивых словесных комплексов и сложных слов в устно-поэтическом тексте
Слово в фольклорном тексте – это не только теоретическая проблема, но и вопрос самый что ни на есть практический. Эдиционная (издательская) практика требует однозначных решений относительно границ слова в тексте.
Такое грандиозное национальное предприятие, каким является работа над созданием Свода русского фольклора, потребовала не только колоссального труда по учёту, систематизации и отбору имеющегося фольклорного материала, но и теоретического решения многих вопросов эдиции, в частности, связанных с орфографией публикуемых текстов. О том, что эти вопросы актуальны, свидетельствует тот факт, что даже в высокоавторитетном академическом «Собрании народных песен П.В. Киреевского» [Кир., т. 1] найдётся не один пример орфографической непоследовательности в разграничении сложных слов и устойчивых словесных комплексов. Ср.:
Надёжинька, надёжа, мил сердечный друг (Кир., т. 1, с. 290); Ты скажи, не утаи, мил-сердечный друг (Кир., т. 1, № 302); Раскидывал-разметывал бел-танкой шатёр (Кир., т. 1, № 227); Раскидывал, развёртывал Бел тонкой шатёр (Кир., т. 1, № 229); Полети ты, млад-ясен сокол далеконько (Кир., т. 1, № 303); Растужился млад ясен сокол (Кир., т. 1, № 320); Он стрельнул в сыр матер дуб (Кир., т. 1, № 1); Породился сыр, матерый дуб (Кир., т. 1, № 146); Он скидал тут скоро сафьян-сапог (Кир., т. 1, № 11); На ним черной бархатной кафтаньчик, Зелен сафьян сапожки (Кир., т. 1, № 53); Как по камешку бежит быстра реченька, Быстра реченька, славная Дон река (Кир., т. 1, № 142); Приезжает добрый молодец ко Неве-реке (Кир., т. 1, № 162); Они били-разбивали наш Чернигов-град (Кир., т. 1, № 234); А еду в Киев град (Кир., т. 1, № 1).Список примеров подобной непоследовательности можно было бы продолжить.
Эти и аналогичные случаи нельзя отнести только на счёт непоследовательности собирателя или небрежности редактора. Они объективно свидетельствуют, что проблема цельности фольклорного слова трудна и требует специального рассмотрения с целью установления строгих критериев разграничения устойчивых словесных комплексов и сложных слов в тексте устно-поэтического произведения.
Невозможно полное и адекватное описание лексического, фразеологического и синтаксического строя, особенностей словообразования устно-поэтической речи без решения вопроса о границах фольклорного слова. Особенно остро этот вопрос стоит в эдиционной практике.
Если в литературном языке разграничение сложных слов и сочетаний слов таит многие теоретические и практические трудности, то в устно-поэтической речи эти трудности возрастают. Считается, что характерными признаками сложного слова в литературном языке и говорах являются следующие: 1) контактность частей слова, невозможность самостоятельного функционирования компонентов; 2) одноударность; 3) неизменяемость первой части; 4) наличие соединительной гласной.
Полагают, что третий критерий обладает наиболее универсальным характером, все остальные – факультативны. Т.Н. Молошная, монографически описывая субстантивные словосочетания в славянских языках и разграничивая словосочетания и сложные слова, пришла к выводу, что никакие другие критерии, кроме формального, не продуктивны, а таким формальным критерием для неё является морфологическая цельнооформленность, выражающаяся в неизменяемости по падежам и числам первого компонента анализируемого образования [Молошная 1975]. Однако этот критерий, в целом успешно «работающий» при описании сложных слов литературного языка, не всегда выдерживает проверку на материале фольклорных текстов.
Во-первых, для устно-поэтического текста характерна частая дистактность частей тех образований, которые в литературном языке считаются сложными словами типа жар-птица (мы не имеем в виду разрывы слов при распеве):
Жар как птицю опустила я со клеточки (Барсов, № 61).Во-вторых, не «работает» в качестве дифференцирующего признака и критерий фонетической цельнооформленности (единичности ударения). Известно, что фольклорному тексту свойственна повышенная подвижность акцента, а также постоянная тенденция к энклитизации и проклитизации. Недаром в фольклористической литературе появилось понятие эпической лексемы (А. Лорд), которая может включать два морфологически цельнооформленных слова. Например, одним ударением обладают устойчивые сочетания типа сине море, чисто поле и т. п. Предельная подвижность ударения, снятие речевой интонации и замена её просодией, повышенная вариативность и т. п. обусловливают гибкость и прихотливость фольклорного слова. Например:
Ты писала б письма-грамотки По-заране-пору-времечко [Орлов 1962].В-третьих, неизменяемость компонента, графически изоморфного слову в литературном языке, служит достаточно убедительным аргументом в пользу того, что перед нами часть сложного слова. Согласно критерию морфологической цельно-оформленности, мы должны были бы следующие случаи вывести за пределы сложных слов:
И стал Васильюшко по Нову-граду похаживать. Ище есть ему цена да во Нов'е-городе? (Рыбн. II, с. 33)Однако столь же широко распространены аналогичные слова с неизменяемым первым компонентом:
Давно ль выехал из Волын-града из Галича? (Рыбн. II., с. 28)Неизменяемым может стать компонент, который обычно склоняется:
Красну девочку в полон взяли, К граф-Румянцеву приводили (Рыбн. II., с. 44).Близки к этому случаи, когда первый компонент изменяется, но по своей падежной форме не совпадает со вторым компонентом:
Ай, по бережку конь идёт. Сива-гривушкой помахивает (Лир. рус. св., № 107); Да на подушке плиса бархатной <…> Да тут Иван-от чесал кудри (Лир. рус. св., № 140).С учётом критерия морфологической цельнооформленности сочетания с приложениями свет-батюшка, свет-дубровушка Т.Н. Молошная безоговорочно относит к разряду сложных слов [Молошная 1975: 39]. И действительно, в значительном количестве случаев компонент свет морфологически не меняется:
– Ой кому же эти перья подбирать будет? – Да вдовушке да свет Марьюшке (РФЛ, № 163).Однако компонент свет очень часто варьируется в морфологическом и словообразовательном отношении:
По мостиночке с утра стану похаживать, Я на светушков – на братьицов поглядывать (Барсов, с. 43); Разрядят да светы – братцы богоданыи (Барсов, с. 43); Светов братьицов я не одобряю (Барсов, с. 43); У кормильца света – батюшка (Барсов, с. 51).Аналогично и приложение может не соответствовать определяемому существительному в падеже:
Я проглупала родитель свою матушку (Барсов, с. 62); Как приду я нонь, горюшиця, Ко родитель – своей матушке! (Барсов, с. 52)Факультативность изменения первого компонента приводит к парадоксальным случаям, когда однотипные конструкции в пределах одного и того же контекста принципиально различны: по критерию литературного языка, в первом случае это слово, во втором – сочетание слов. Например:
Как я буду величать свёкр-батюшка, Как я буду называть свёкру-матушку (РФЛ, № 66).Думается, что решение вопроса о границах фольклорного слова возможно только при том условии, что мы откажемся от привычных нам критериев литературного языка и взглянем на фольклорный текст как явление особого рода. Вспомним классика языкознания: «В самом деле, что такое «слово»? Мне думается, что в разных языках это будет по-разному. Из этого собственно следует, что понятия «слово вообще» не существует» [Щерба 1958: 9]. Этот тезис необходимо иметь в виду в анализе такого специфичного явления, как народно-поэтическая речь, где почти каждое слово «запрограммировано» другим словом и всем текстом произведения в целом.
Строка народно-поэтического произведения пульсирует, сжимаясь и разжимаясь, гибко подчиняясь напеву или плясовому ритму. Это отражается на грамматической структуре стиха. Вот почему мы обнаруживаем две полярные тенденции. С одной стороны, разрывы слова при распеве (ср.: При-прикладиночка кленовая (Владимир, № 61)) и функционирование частей слова в качестве эквивалента полного слова. С другой стороны, слова сжимаются, прессуются в композиты, наличествующие только в фольклорных текстах. Именно здесь мы видим, как один и тот же комплекс то меняется, уподобляясь слову, то окостеневает и в силу этого сливается с последующим словом.
Фольклорное слово в стихотворном тексте становится своеобразной «поэтической морфемой», т. е. такой речевой единицей, которая равно может быть и отдельным словом, и частью окказионального композита. Только в песенной строке мы можем встретить окказионализмы, которые представляют собой усечённые имена существительные:
Еду я лесом – лес мой невесел, Еду я полем – поль мой незелен (Прибалтика, № 60); Венок вила милому. – Кому этот вен достанется? Достался вен ровнюшке (Пенза, № 87); Куст черемухи стоит, А под этой чермой Солдат битый лежит (Прибалтика, № 69).Или слова, в равной степени относящиеся к существительным и к прилагательным:
Ты подуй-ка, подуй, Бурь-погодушка (Пенза, № 92); Во секрет слова говаривали (Кир. II); Милый бережком идёт, Радость-песенки поёт (Прибалтика, № 278).Основной единицей стихотворно-песенного фольклора является строка, которая характеризуется музыкальной, просодической и синтаксической цельностью. Составляющей строки и является «поэтическая морфема» – аналог узуального слова. Думается, что именно это обстоятельство обусловило сохранность кратких прилагательных в атрибутивной функции. Совпадающие по структуре с изолированным корнем, они в равной степени воспринимаются и как автономные определения, и как часть специфического фольклорного композита. В исходной форме (им. – вин. пад. ед. ч. м. р.) они так похожи на морфемы, что в тех случаях, когда одно краткое прилагательное следует за другим, собиратель или редактор соединяют их дефисом: част-крупен дождик, сив-бур-шахматный, бел-горюч камень, сив-космат (Кир., т. 1, № 110, 244, 254, 362). Впрочем, соединяются дефисом и полные прилагательные: удалый-добрый (Кир., т. 1, № 138, 140).
Относительная самостоятельность таких «поэтических морфем» получается из-за ослабления связи между ними, возможной дистактности и перестановки. Например, частое в причитаниях, записанных Е. Барсовым, «слово» дайволюте-тко объясняется в сноске как результат перестановки внутри сочетания дайте-тко волю: «Дайволюте-тко народ да люди добрые» (Барсов, с. 64).
Композиты в фольклорном тексте
Диалектическое единство отдельности и связанности «поэтической морфемы» в устно-песенной строке первым уловил А.А. Потебня, обозначив его термином сближение. «В устной словесности, а отчасти в просторечии довольно часты не сложения (…) а сближения грамматически самостоятельных слов [Потебня 1968: 415]. Это сближение определяет уникальность композитов, их окказиональный характер, предельный динамизм каждого сложного образования, который проявляется в большой амплитуде вариаций от сочетаний слов до несомненного сложного слова. Наличие постоянного сближения как раз и вызывает затруднения собирателей и редакторов в определении границ слова. Сложные образования, возникшие вследствие интенсивного сближения, мы условно назовём композитами, понимая под этим термином случаи промежуточного состояния между словосочетанием и сложным словом.
Каковы же критерии выделения фольклорных слов, этих «поэтических морфем» песенной строки? Кажется, что легче решить вопрос с теми композитами, в которых грамматически активные компоненты – по форме имена существительные (типа нов город, свет братец, стольно Киев град и т. п.). Второй, находящийся в препозиции, компонент представляет собой краткое или усечённое прилагательное, утратившее способность изменяться по родам, числам и падежам. Полагаем, что перед нами атрибутивные словосочетания с тенденцией наиболее частых превращений в поэтические фразеологизмы. Нет нужды считать сложным словом (с соответствующим орфографическим оформлением) словосочетание буй ветер, если в одновременно бытующих в Воронежской области песенных текстах мы находим примеры морфологической вариативности прилагательного буйный в одном и том же словосочетании. Ср.:
Буйный ветер в лицо бьёт (Воронеж, № 42); Буен ветер воротца растворил (Воронеж, № 14); Шумит вода без буй ветра (Воронеж, № 13).Конечно, не во всех спорных случаях мы можем представить полную парадигму определения – полное / краткое / усечённое. В текстах найдем значительное количество окказиональных образований типа искат гора, золото цепочка и др. Например: По искат-горам вы издили высокиим (Федосова, с. 15. Комментарий на с. 300: искат (искатная) гора 'крутая, со скатами').
Выше мы уже приводили мнение Т.Н. Молошной о принадлежности образований с компонентом свет к разряду сложных слов, а также показали, что в фольклорных текстах компонент этот ведет себя как грамматически активное слово. Не оспаривая мнения Т.Н. Молошной (она говорит только о нормах современного русского литературного языка), полагаем, что для устно-поэтической речи это самостоятельная лексема. В двух примерах из одного и того же сборника:
Будут грубно светы братцы разговаривать (Федосова, с. 106); И я иду, да подневольна красна девушка, И по своим светам – желанныим родителям (Федосова, с. 216).Графическое оформление первого из них больше соответствует истинной природе лексемы свет.
В современном русском литературном языке самым бесспорным показателем сложного слова считается наличие соединительной гласной о или е. Применительно к фольклорным композитам надёжность этого критерия не столь очевидна. В русских песнях, записанных на территории Латвии, мы встретим золото-ключи и золото-цепочку. Наличие о в конце первого компонента не даёт основания автоматически отнести оба эти образования к числу бесспорных сложных слов, поскольку в одном и том же тексте, но в различных метрических условиях равноправно используется бесспорное атрибутивное словосочетание золотой ключ и золота цепочка. Ср.:
Разгулялась красна девица-душа, Потеряла свои золото-ключи… Моим поясом помахивает, Золотым ключам побрязгивает (РФЛ, № 408); Тебя хочет Иван-сударь целовать. Через цветную платью парчёвую, Через золото-цепочку жемчужную… Уж я золоту цепочку разорвала (РФЛ, № 56).Наличие подобной «соединительной» гласной о у компонента стольно: На бумагу-то продаст пусть стольно-Киев-град (Русские эпические песни Карелии, № 172) – так же не даёт оснований квалифицировать композит столько Киев-град сложным словом (мы пока не принимаем во внимание принадлежность компонента град). Само соединение нарицательного определения с именем собственным существительным кажется противоестественным, да и примеров с полным прилагательным стольный в сочетании с существительным Киев былинные тексты дадут нам в значительном количестве.
«Соединительная» гласная о и в композите часто рыбий (гребень): И часто-рыбий-то несет да она гребешок (Федосова, с. 219) – тоже не даёт оснований отнести его к сложным словам. Нет в фольклорном тексте словосочетания частая рыба (?!?), а есть цепочка определений к существительному гребень – частый и рыбий.
Любопытно остановиться на простом, казалось бы, случае с композитом нов город (собиратели и составители предпочитают Иов-город).
Народно-песенные тексты насыщены словосочетаниями с определением новый, которые практически не противопоставлены словосочетаниям с прилагательным старый:
Вы сходите-ко, дети, в нову рощицу (Печора, № 196); Иовы травоньки помял (Соб., 5, № 247); Что за речкой село, село новенькое (Новгород, № 111); Жил я в новенькой деревне, не видал веселья (Соб., 5, № 124); По улочке по новой Ехал мальчик молодой (Соб., 3, № 351).Отсутствие противопоставления даёт основание полагать, что определение новый включает в свою семантическую структуру сему положительной оценки. Это подтверждается случаями квазиалогизмов:
Долина ж, моя долинушка, нова, широкая (Соб., т. 5, с. 205); Я ни вор был ни разбойничик, маладой был охотничий ходить гулять по прилукам, Па прилучушкам ходить, па новиньким по речонкам, Па красненьким по девчонкам (Кир. II., 2, 1842).Если не принимать во внимание предположения о наличия в прилагательном новый оценочного компонента, трудно объяснить эти окказиональные словосочетания. Близок к этим пример:
Он (француз. – А. X.) в свою землю жить пошёл, Он пошёл, к новой речки подошёл (Кир. II., 2, № 1857).В поэтических текстах устойчивый бином зелёный сад может дополняться эпитетом новый:
Ах да во зелёненькой новенькой садок (Истомин-Ляпунов, № 224); Не прокладывай следа К нову зелену саду (Соб., 4, № 647); А за тыном было тыничком, За зелёным новым садичком (Мезень, № 99);По-за рощице сизенький спустился
Во зелёненький новенький садок (Соб., 4, № 577).Аналогичным может быть объяснение генезиса таких словосочетаний, как новый город, новая песня, новая слобода, новое веселье и др. Даже губернатор может быть новым, хотя о другом, старом, не было и речи:
Астраханскому новому губернатору просьбу сучиняла (Кир. II, 2, № 1648. То же: № 1795).Оценочность в слове новый и объясняет повышенную частотность его в русской лирике.
Теперь мы можем иначе взглянуть на часто используемый в фольклорных текстах композит нов/Нов/город:
Он пошёл по Нову-городу (Кир., т. 1, № 211); Не диковинка во Нов город сходить (Кир. II., 1, № 1587).Думается, что только наличие реалии – города Новгород – заставляет собирателя или редактора в тексте песни оформлять композит как сложное имя собственное. В поэтическом сознании носителей русской лирики нов город – составное обозначение города вообще с положительным знаком оценки. Об этом свидетельствует контекст:
Поеду я, удалец, Во дальние города, Во новые ворота (Соб., 3, № 549),и аттракция определения нов:
Ах, да что пойду, молодец, во Нов-город, Куплю нов тесов корабль (РФЛ, № 325), и замена определения нов кратким прилагательным бел, царь и др. в устойчивом фрагменте различных вариантов одной и той же песни. Ср.:
Пойду, пойду Под бел город каменный (Соб., 2, № 608); Уж я подойду, подойду, Я под Царь-город подойду (Соб., 2, № 609); Подойду ли я Под нов город я подойду (Соб., 2, № 612).На месте Новгорода часто используется Китай город. Ср.:
Я поеду, молоденек, во Новгород, Я закупочки там буду закупати (Соб., 3, № 537); А я уеду да во Китай город. В Китай город торговать, Да всякие товары да закупати (Соб., 3, № 538).Любопытно отметить, что в новгородских вариантах этой распространённой песни мы найдём только Китай город (Соб., 3, № 543, 547). Новгород зафиксирован в костромском и сибирском вариантах песни. Этот парадокс отмечен на примере лексемы Дунай: чем дальше от реальной реки живут носители фольклора, тем чаще вспоминают дунай, превращая название реалии в знак особой реки. И вообще имена собственные в фольклоре обнаруживают постоянную тенденцию к обобщению и превращению в имена нарицательные.
Определение нов сочетается с названиями городов:
Распостроился ещё нов город Москва (Истомин-Дютш, № 34); В новом городе во Спленскому (=Смоленск) Стоят вереи точеныи (Кир. II., 2, № 1759).Краткая форма прилагательного нов и создает иллюзию, что в композите нов город имеется в виду определённый географический объект. Как только появляется полная форма, становится очевидным, что прилагательное не часть сложного слова, а определение:
Стоять со полком под тынком, Под новеньким городком, Под каменной стеной (Курск, № 52); Сама пошла матушка Во новенький городок Купила сударыня Лёгкое судёнышко (Кир. II., 2, № 1951).Полагаем, что в песенных текстах мы должны воспринимать композит как атрибутивное словосочетание нов город (исключая, естественно, случаи, когда в тексте былины, например, Нов город служит обозначением реального города Новгорода, центра древнерусской цивилизации). Ср.:
Подойду ли я, Под нов город подойду (Соб., 2, № 612).Труднее разграничивать сложное слово и устойчивое сочетание слов в тех случаях, когда оба компонента изоморфны прилагательному. Имеем в виду примеры типа бел кудрявый, мил сердечный, чужа мужняя, млад ясен и т. п. Выше мы как раз и приводили их в ряду других как пример орфографической непоследовательности. Попытаемся дать однозначное решение вопроса их правописания, попутно решая для того и теоретическую проблему цельности слова.
В песенных текстах очень част композит бел кудрявый. Почти всегда это сложный/составной эпитет к существительному молодец. В значительном числе случаев определяемое существительное опускается и композит совмещает функции и определяемого, и определяющего: Не ходи, бел-кудреватый, мимо моей хаты (Соб., 3, № 159; 4, № 329, № 330). Видимо, это обстоятельство и послужило основанием для более тесного стяжения компонентов, что и отразилось в дефисном оформлении композита. Если расширить круг примеров использования композита, то заметим существенную морфологическую вариативность компонента бел.
Во-первых, он достаточно часто выступает в форме полного прилагательного:
Нельзя Машеньке любить парня браваго, Парня браваго, белого, кудрявого (Кир. II., 1, № 1544); Ваня белый, кудреватый, холост, не женатый (Соб., 4, № 382); Приходил к её детина, белый, кудреватый? (Карел. Помор., № 118).Во-вторых, компонент в форме краткого прилагательного обладает способностью изменяться по родам и числам:
Лебедушка белая, Коса кудреная, бела-кудреная. Уже кто кудри кудрил (Соб., 4, № 81); Два удалыих идут молодца. Да два-то уда…, ой, два-то удалые, белы-кудря… кудрявые (Новгород, № 48).В-третьих, компоненты могут меняться местами:
Молодец – кудрявый, белый (Соб., 4, № 537),соединяться сочинительным союзом:
Э-ой, Ванька ле белой да ку… кудреватой (Печора, № 37),относиться к различным существительным:
Э-ой, Ванька-то белой, парень кудреватой (Печора, № 201).В пределах узкого контекста бел кудрявый употребляется параллельно с эпитетом кудрявый:
Люблю, девка, молодчика, Кудрявую голову. Он, мой милый, бел-кудрявый (Соб., 5, № 77).Совершенно очевидно, что компоненты параллельно определяют существительное и не находятся между собой в отношении семантической зависимости. Нет в русском фольклоре устойчивого сочетания белые кудри (есть русые и жёлтые). Отсутствие словосочетания белые кудри – еще один аргумент в пользу того, что бел кудрявый не сложное слово, а цепочка автономных определений. И мы совершенно солидарны с составителями сборников, в которых композит оформлен без дефиса:
Ходя Ваня бел кудрявый, Бел кудрявый, кучерявый (Воронеж, № 126); Да постой, парень бел кудрявый (Печора, № 284).В общем языкознании для нужд фонологии разработана так называемая методика коммутационной проверки, которая в общем виде формулируется так. Если в звуковой последовательности АВ оба элемента А и В или один из этих элементов (либо А, либо В) не могут быть заменены никаким другим элементом, в том числе нулевым, то АВ является реализацией одной фонемы, в противном случае комплекс АВ может рассматриваться как реализация двуфонемного сочетания.
Думается, что эта методика пригодна и на более высоком языковом ярусе. Возьмем, к примеру, композит бел горюч (камень), который в сборниках орфографически оформляется непоследовательно: бел-горюч (чаще), бел горюч (очень редко). Методика коммутационной проверки свидетельствует однозначно: перед нами ряд определений, а не сложное слово. Во-первых, в пределах узкого контекста сосуществуют сочетания бел горюч камень/ белый камень/горючий камень. Ср.:
Бел-горюч камень лежит, Из камешка, из белого, Бела рыбица воду мутит (Кир., т. 1, № 169); На синием море бел-горюч камень. Из-под белого камешка ручьи-воды бьют. Горючему камешку наверх не всплывать (Кир., т. 1, № 244).Приведенные контексты дают основание полагать, что в поэтическом сознании носителей традиционного русского фольклора определения белый (бел) и горючий (горюч) автономны.
Во-вторых, компонент бел легко заменяется формами сер, синь:
Как синь горюч камень, Камень разгорается (Шейн, № 446); Ой, да спородили-то вы, да горы, ой, горы, да Сер-то горяч ка… ой, камень (Печора, № 152).Обратим внимание на вставку частицы то внутрь анализируемого композита.
Аналогично рассуждая, приходим к выводу, что и другие композиты с компонентом бел (белы каменны, бел полотняный, бел крупищатый, бел тонкой) относятся к рядам автономных определений, а не к сложным словам. Ограничимся одним примером. Ср.:
Белы каменны палаты велю убирати (Соб., 4, № 439); Отвезите Семенушку Победную головушку Во каменны белы палаты (РФЛ, № 472).Сравнение песенных контекстов в аспекте методики коммутационной проверки позволяет уверенно относить к числу сочетаний слов композит мил сердечный:
Говорил-то мне мил-сердечный друг (Соб., 5, № 218); Зазнобушка, милый сердечный друг, Зазнобил меня, повысушил (Соб., 5, № 225); Зазнобил сердце сердечный друг (Соб., 5, № 229); Уж как третья-то заботушка Ея миленький сердечный друг (Соб., 5, № 230); Милу дружку на подушечку, Сердечному, сердечному, Сердечному под головушку (Воронеж, № 58).В последних собраниях мил сердечный оформляется как сочетание определений:
Ты скажи, не утай, мил сердечный друг (Кир., т. 1, № 302); Ох на синем на море – больша погодушка, Уж погодушка, да мил сердечный друг (Карел. Помор., № 19).Думается, что такие частые определения, как новый (нов), белый (бел), можно и должно рассматривать как своеобразный аналог артикля сверхположительной оценки. Этим можно объяснить, что нов и особенно бел начинают ряды определений к одному существительному, а также стремление к морфологическому окостенению, как в примере:
Ох, огороды горожу Да бел капустоньку сажу (Печора, № 280).Краткость формы тоже свойство артиклей. Близки к статусу артикля и такие частые краткие прилагательные, как мил (мил сердечный, мил любезный), млад (млад ясен, млад сизой), чуж (чужа дальняя, чужа мужняя) и др.
По аналогии сочетаниями самостоятельных слов мы считаем случаи типа: шито мытую, мил молодой, мил добёр и т. д.
Возникает закономерный вопрос: а разве не могут окказиональные композиты, появившиеся в результате стяжения грамматически самостоятельных слов, считаться сложным словом? Есть ли вообще сугубо фольклорные сложные слова? «Поэтическая морфема» в ряде случаев стремится стать морфемой в прямом, грамматическом, смысле этого слова.
Превращению «поэтической морфемы» в собственно морфему в большой степени способствует смысловая близость контактирующих компонентов. Известно, что тавтологические конструкции обнаруживают тенденцию к слиянию в одно слово. Подчеркнём: тенденцию, а не обязательную реализацию. Например, в ряде случаев мил-милёшенек мы считаем одной лексемой, в которой компонент мил теряет семантическую определённость и уподобляется приставке раз-в значении «предельная степень качества». Ср.:
Только размилёшенек добрый молодец, Да мил-милёшенек добрый молодец (РФЛ, № 255).Однако и мил, и милёшенек могут вести себя как самостоятельные единицы:
Не мил, не милёшенек ни мать, ни отец (Владимир, № 70).Относительно примеров типа трудным-труднёшенько, красён-красной А.П. Евгеньева пишет: «Творительный тавтологический образа действия или способа становится средством усиления значения глагола, прилагательного, наречия и существительного <…> превращаясь из самостоятельного значимого слова в составную часть сложного целого (в большинстве случаев даже сложного слова)» [Евгеньева 1963: 244]. Яркий пример тому прилагательное белояровый, где корни бел– и – яр – (= светлый) этимологически тавтологичны.
В.А. Сирцев, описывая сложные прилагательные в народно-песенной речи, приходит к выводу о том, что фольклорные образования, характеризующиеся разнооформленностью компонентов, твёрдым порядком расположения их и одним основным ударением, представляют собой сближения, находящиеся на пути превращения в сложные слова. Причем конструкции сиз носатый, млад сизой и т. п., по его мнению, находятся ближе к словосочетаниям, а конструкции зла-лиха, мил-сердечный тяготеют к сложным словам, поскольку компоненты их синонимичны [Сирцев 1975: 71]. Однако, думается, нет нужды фетишизировать словообразующую роль синонимии, иначе в фольклоре, где удельный вес её необычайно высок, многое пришлось бы неоправданно квалифицировать как сложное слово. Сложным словом будем считать композит мил-милой:
Без мил-милого грусть тоска берет (Воронеж, № 5).Признак тавтологичности (повторы корня) как признак сложного слова учитывается нами только в том случае, если композит состоит из прилагательных. Если же один из компонентов изоморфен существительному, то для нас это словосочетание. Например, чуж чуженин (чуж чужбинничек), тем более что компоненты часто разведены другими словами строки:
И столько чуж сидит теперечко чужбинничек (Федосова, с. 196).Учитывая особую связь слов внутри народно-песенной строки, следовало бы в эдиционных целях ввести особый знак – вертикальную прямую между стягивающимися компонентами (например, на|пяту, хлеб|соль). Употребляемые в фольклорных сборниках дефис или запятая не отражают сути связи компонентов: дефис представляет композит как сложное слово, запятая – как независимое слово.
Поскольку с термином композит мы ассоциируем некий элемент теоретической спорности, мы предпочитаем этот термин как кандидат в сложное слово термину сложное слово.
Рекомендуемая литература
Оссовецкий И.А. Стилистические функции некоторых суффиксов имен существительных в русской народной лирической песне // Труды Ин-та языкознания АН СССР. Т. VII. 1957.
Язык русского фольклора – диалект или наддиалект?
Диалектная природа языка русского фольклора
Большинство диалектологов, как и собирателей фольклора, полагает, что язык фольклора генетически диалектен. «Местный говор сохранён почти везде. Я говорю почти везде, потому что некоторые из лиц, обязательно доставивших мне песни своей родной местности, не обратили достаточное внимание на это главное требование науки» [Шейн 1898: VI]. Знатоку тюркских песен В.В. Радлову была очевидна тождественность языка фольклора и диалекта, которым пользовались в быту носители этого фольклора. «…В языке которых (эпических песен. – А.Х.) нигде не находятся старинные слова или обороты, несвойственные настоящему разговорному языку кара-киргизов и которых поэтому совершенно достаточно для очертания кара-киргизского наречия» [Радлов 1885: XXVI].
В 1939 году А.П. Евгеньева писала о грубой ошибке отрывать фольклор от живой среды диалекта и рассматривать его как нечто «общее», особое. Язык произведений устного творчества должен изучаться в связи с изучением говора, и это даст возможность проследить, как осуществляется процесс отбора языковых средств, процесс создания лучших образцов народного языка [Евгеньева 1939: 53–54].
Для О.И. Богословской язык фольклора – одна из функционально-стилевых разновидностей диалектной речи. Сравнив былины кижских сказителей Рябининых и местный говор, носителями которого были эти прославленные былинные певцы, пермский диалектолог сделала вывод: «Сопоставление системы именного склонения в былинах и местных говорах <…> позволяет утверждать, что в том и другом случаях перед нами один и тот же тип говора» [Богословская 1983: 149].
Мнение известного воронежского диалектолога В.И. Собинниковой было аналогичным: «…Хотим только подчеркнуть, что кажущееся специфически фольклорным языковое средство бытует в повседневной диалектной речи и что фольклор черпает из неё свои речевые приёмы, расцвечивая их яркими красками и превращая в стабильное фольклорное средство» [Собинникова 1969: 79]. В.И. Собинникова делает этот вывод после изучения параллелизма в южновеликорусских говорах. «Самые разнообразные средства художественной выразительности (поэтические тропы) мы находим в обычной бытовой речи» [Зубова, Сыщиков 1981: 67].
Итак, язык фольклора понимается как «литературная форма диалекта» (А.П. Евгеньевна), как «одна из функционально-стилевых разновидностей диалектной речи» (Л.И. Баранникова), как «эмоционально-экспрессивная форма диалекта», «диалект в его образно-эстетической функции», «художественный тип диалектного языка» (В.И. Собинникова).
Мнение о том, что язык фольклора – разновидность диалектной речи, подтверждается не только русистами, но и исследователями языка и фольклора других народов. Специалист по адыгскому фольклору А.М. Гутов тоже считает диалектную речь естественной формой жизни фольклорного произведения. «Как и следовало ожидать, – пишет А.М. Гутов, – интонационные и фонетические особенности каждого информатора в определённой степени отличны от установленных норм живого языка… Отклонения могут быть нескольких типов – диалектного, общеязыкового, разговорного или индивидуального характера. <…> Ряд особенностей вызван именно эстетической функцией текста. К сожалению, именно такие случаи труднее всего зафиксировать, поскольку эмоциональное состояние зачастую выражается интонацией, жестами и мимикой» [Гутов 1981: 133].
Специфика фольклорной речи
В то же время самый стойкий приверженец идеи диалектного статуса языка фольклора не отрицает факта отличия фольклорной речи от бытовой речи носителей данного фольклора.
Все без исключения исследователи признают, что язык устно-поэтических произведений шире бытовой речи носителей данного фольклора. Диалектолог М.Е. Соколов, записавший в 1908 г. сказку об Илье Муромце, сравнив её с языком песен и с разговорной речью населения, обратил внимание на то, что «одни и те же слова в сказках, песнях и разговорной речи произносятся неодинаково. В сказках употреблены полные, растянутые формы <… > В песнях встречаются и полные и краткие формы, согласно требованию рифмы». Вывод: «…речь сказочников, сказочниц, певцов, певиц и областной говор – не одно и то же» [Соколов 1908: 128–129].
М. Сперанский в работе «Русская устная словесность» пишет, что язык устной поэзии в общем отличается от языка обыденной речи. В нём много диалектных черт, но есть и особенности: архаизмы, а также изменения, обусловленные потребностью формы произведения. «Область диалектологии при этом, разумеется, – резюмирует автор, – должна быть оставлена в стороне: она характеризовать будет данную запись, а не произведение» [Сперанский 1917: 150]. Обратим внимание: запись (= текст) из области диалектологии им не исключается, за пределами диалектного лежит сам феномен художественного произведения. Ещё один образчик широкого понимания термина язык фольклора.
Вот мнение выдающегося слависта П.Г. Богатырёва, сложившееся в ходе исследования западнославянского фольклора: «…Язык песни нельзя отождествлять с языком разговорной речи». Он ссылается на Яна Оравца, который считал, что языком песни может стать литературный язык или диалект, считающийся «красивым» (см.: [Богатырёв 1963: 264]). Польский исследователь Е. Бартминский сравнил фольклор Люблинского воеводства и говоры этой местности и обнаружил своеобразные качественные и количественные черты: специфические словообразовательные формы, лексические и семантические различия [Bartminski 1973: 38].
Если налицо нетождественность обиходно-диалектной и устно-поэтической речи, бытующей на одной и той же территории, то возникает вопрос – каков же характер этого несовпадения? «Язык этих песен, по существу, обычный разговорный; но благодаря параллелизму, повторам или более или менее строго выдержанной пятислоговой строфе, он отличается от повседневного разговорного языка; это «язык напевный»…» [Невский 1972: 14]. Языковая основа песни – диалект (разговорная речь), а отмеченные специфические черты – совокупность поэтических приёмов. Это наблюдение характерно не только для языка песен айнов, но приложимо и к фольклору других народов. В частности отмечают, что язык гриотской поэзии (Мали) в целом совпадает с разговорным языком, но включает в себя также большое количество языковых единиц, которые отсутствуют в разговорном языке и образуют в своей совокупности выразительные средства гриотско-поэтического стиля. Языковые единицы этого стиля строятся на базе разговорного языка. Они понятны всем носителям языка, но не употребляются в обыденной речи и тем самым образуют «отдельный стилистический регистр языка» [Журинский 1977: 150]. И здесь основа – диалектная, а отличия – в выразительных средствах. А как же «чисто языковые» различия?
Помимо диалекта как основы есть «в языковом материале разных жанров устной народной словесности комплиментарные средства речевого выражения». Это инодиалектные элементы, этнографизмы, историзмы, архаические словоформы и выражения – «внесинхронносистемный местно-диалектный остаток» [Гельгардт 1977: 12]. И.А. Оссовецкий доказательно утверждает, что черт, свойственных только языку фольклора, немного [Оссовецкий 1979: 205]. Здесь стоит повторить сказанное: специфические черты устно-поэтической речи только на первый взгляд кажутся специфическими, на деле же генетически, в тенденции, в элементах, они плоть от плоти говора данной местности или типологические черты диалектного языка в целом. Думается, что вывод О.А. Богословской: «…Было бы неверно рассматривать народно-поэтическую и народно-разговорную речь как адекватные. Вместе с тем язык фольклора – особая функционально-стилистическая разновидность данного, местного диалекта» [Богословская 1985: 62] – диалектичен и справедлив.
В приведённых мнениях и наблюдениях исследователей о диалекте как базе языка фольклора и наличии в этом языке отличительных черт обозначились два аспекта вопроса: 1) диалектный генезис народно-поэтической речи и 2) синхронная нетождественность народно-поэтической и обиходно-диалектной речи. И здесь следует обратить внимание на то, что мы понимаем под словом диалект. Если оно синонимично словосочетанию обиходно-бытовая речь, то теоретические трудности с выявлением характера взаимоотношений двух форм речи сохраняются, но если представить, что диалект – это термин родовой по отношению к двум используемым составным терминам обиходно-бытовая речь и устно-поэтическая речь, то всё становится на свои места: объясняются подавляющие черты сходства (тождества) и сравнительно немногочисленные специфические приметы последней.
Исследователи как-то не связывают с фактом своеобразия устно-поэтической речи то обстоятельство, что эта речь сама жанрово дифференцирована, и дифференцирована весьма определённо. В своё время К.С. Аксаков, сравнивая язык и стиль русской былины и сказки, пришёл к выводу: «…Если вглядеться попристальнее, то сейчас увидишь существенную разницу языка и слога песенного и сказочного» [Аксаков 1861: 402]. Жанрово обусловленная нетождественность былинной, лирико-песенной или сказочной речи не даёт нам оснований для объявления их самостоятельными объектами; тогда почему, сравнивая обиходно-бытовую и устно-поэтическую речь, объединённые в одном диалекте как два «регистра», мы последнюю выводим за пределы диалекта и объявляем феноменом наддиалектным?
«Стилистический остаток» в объёме понятия «устно-поэтическая речь», выделенная в результате сравнения его с понятием «обиходно-бытовая речь», как раз и считается некоторыми исследователями собственно языком фольклора. Ср.: «…Язык фольклора обладает идиоматичным набором единиц разного уровня, выходящим далеко за пределы как одной какой-либо частной языковой системы, так и диалектного языка. Этот набор и позволяет трактовать язык фольклора как особую имманентную, замкнутую в себе систему художественного языка, не сопоставимую ни с каким-либо конкретным говором, ни с диалектным языком в целом» [Оссовецкий 1979: 204].
Факт нетождественности двух форм речи в пределах единого диалекта объясняется системным характером устно-поэтической речи. Известно, что принципиальное свойство любой системы – наличие определённой структуры связей и отношений, которые обусловливают у каждой единицы системы наличие особых – системных – свойств. Отсюда совокупность звуков, семантика и форма слова, частотность синтаксических конструкций, «рекрутированных» из обиходно-бытовой речи в устно-поэтическую, заметно меняются. Став средством формирования, существования и хранения канонического искусства, язык фольклора замедляет темпы изменений, что приводит к накоплению архаизмов различного типа, которые постепенно начинают осмысляться как средство эстетическое, а это отзывается на всех других ярусах устно-поэтической речи. Сложность в том, что система языка фольклора неоднородна. С усилением жанровой дифференцированности внутри её складываются подсистемы былинной, песенной, сказочной и др. речи.
Были попытки исследователей проблему генезиса языка фольклора решить диалектически. М. Сперанский рассматривал соотношение языка фольклора и диалекта на двух уровнях – уровне языка и уровне речи (записи, по М. Сперанскому). «…Что касается языка устно-народных произведений (морфологии, отчасти фонетики), то как в виде творчества традиционном, скованном определённой формой речи, он, естественно, будет в общем отличаться от языка обыденной речи носителей этих произведений» [Сперанский 1917: 150]. «Область диалектологии при этом, разумеется, должна быть оставлена в стороне: она характеризовать будет данную запись, а не произведение» [Сперанский 1917: 150]. Речь (запись) – диалектна, язык же лежит за пределами диалекта. Кажется, эта мысль для лингвофольклористики не нова. «.Фольклорное слово существует во множестве диалектных вариантов – фонетических, морфологических, лексических» [Никитина 1988: 12].
Многие исследователи видят особенности языка фольклора в наличии явлений двух типов – архаизмов, восходящих ко времени создания произведения, и изменений, обусловленных потребностями формы произведения. Основа сохранения их – аккумулятивное свойство народной культуры, его языка и замедленный, в сравнении с бытовой речью, темп эволюции канонических текстов. Вот как описывается процесс становления специфических свойств устно-поэтической речи: «Сохраняя ряд форм, несвойственных разговорной речи, язык фольклора довольно существенно отличается от разговорного. Дело здесь в большой устойчивости языковых норм, в известной архаичности по сравнению с языком повседневно-бытового общения. Художественные образы фольклора, ярко отражавшие явления окружающей действительности и прошлого мировоззрения народа, переходили из поколения в поколение. В своём бытовании они закреплялись в определённых словесных формулах, складывающихся с течением времени в те или другие трафареты, которые с незначительными изменениями переходят из одного фольклорного произведения в другое. Одни и те же словесные образы наблюдаются в произведениях различных жанров, независимо от формы исполнения (повествовательной или песенной), хотя вместе с тем каждый жанр имеет свои особенности. Эти застывшие словесные образы составляют одну из специфических черт языка фольклора и потому нуждаются в особом изучении» [Терещенко 1980: 42]. В результате диалектные различия как бы стираются.
На характер языка фольклора влияют многие факторы, в том числе и факторы многоязычности населения той или иной территории. Об этом пишут те, кто исследует фольклор, скажем, в Дагестане. М.М. Курбанов, изучавший табасаранскую народную поэзию, отмечает, что многие жанры табасаранского фольклора (сказки, легенды, предания, притчи, пословицы, поговорки, загадки, причитания, исторические сказания, детский фольклор и др.) бытуют на родном языке. Внеобрядовая лирика, за исключением песен на темы социальной жизни народа, календар-но-аграрный цикл песен, свадебная поэзия, дастаны бытуют на табасаранском, а также на азербайджанском и лезгинском языках. Произведения соседей сохраняют лексику оригинала и небольшое количество слов и выражений из языка исполнителей.
В табасаранской бенде однако встречаются и такие бенды, для которых трудно установить, на каком языке они сложены, хотя и подчиняются законам табасаранской грамматики [Курбанов 1977: 21–23].
Критики концепции диалектного статуса языка фольклора ссылаются прежде всего на тот факт, что в фольклорных текстах сравнительно немного диалектизмов. А. Смирнов в 1847 г. опубликовал «Песни крестьян Владимирской и Костромской губерний с соблюдением местного выговора.» В текстах песен курсивом выделены некоторые фонетические и все морфологические и лексические диалектные особенности. Таких особенностей оказалось сравнительно немного. О том, что черт, свойственных только языку фольклора, немного, говорил и И.А. Оссовецкий [Оссовецкий 1979: 205]. Однако возникает вопрос, что такое много и немного применительно к весьма немногословным текстам песен.
Сравнительно небольшое количество лексических и морфологических диалектизмов в каждом отдельном фольклорном тексте даёт повод для предположения об «экспансии» диалекта в область устно-поэтической речи. «.Экспансия диалекта в фольклорную речь осуществляется в различной степени на разных языковых уровнях и в разных фольклорных жанрах» [Никитина 1982: 423].
Язык русского фольклора – наддиалект?
Неоспоримый факт некоторого различия устно-поэтической и диалектной речи одной и той же местности, возможное несовпадение территории «фольклорного диалекта» и просто диалекта подтолкнули к возникновению представления о наддиалектности языка фольклора.
Мнение о наддиалектности языка русского фольклора поддерживается многими исследователями. Однако внимательное чтение их публикаций вызывает ощущение, что большинство авторов понимает термин наддиалектность либо слишком широко, либо неопределённо. Дело в том, что и сам термин язык фольклора понимается неоднозначно. Для одних – это единственно план выражения, строительный материал, «система дискретных (членораздельных) звуковых знаков, служащая для целей коммуникации и способная выразить всю совокупность знаний и представлений человека о мире» [Русский язык… 1979: 410]. Для других – «определённая система, имманентно развившая в себе такие выразительные средства, которые за пределами этой системы или не встречаются вовсе, или же находятся совсем в иных количественных соотношениях с другими фактами языка» [Оссовецкий 1979: 207]. Для третьих – «язык фольклора» включает в себя поэтику, все средства экспрессии и эстетики. И тогда он рядоположен с такими «языками», как «язык архитектуры» «язык кино», «язык музыки» и т. д. и т. п. [Художественный язык… 1981]. Точки зрения принципиально различаются тем, на что делается акцент: на структуру или функцию. Однако при этом забывается, что сопоставлять и противопоставлять структуру и функцию нельзя, как нельзя сравнивать набор строительных материалов со зданием, сложенным из этих материалов.
Наше понимание сводится к следующему. «Язык фольклора» – это система языковых единиц различного уровня, сложившаяся в процессе художественного творчества в пределах текста устно-поэтического произведения. Для этих единиц характерны потенции (предопределённые структурно-семантические свойства), реализация которых приводит к появлению поэтических приёмов, определяет композицию текста, обусловливает стилистическую (= жанровую) специфику фольклорного произведения и т. д. Если лингвиста интересует только лингвистическая структура безотносительно к фольклорному тексту / контексту, а фольклориста больше интересует текст / контекст, реже поэтические приёмы, другие художественно цельные фрагменты текста, то лингвофольклорист исследует возможности лингвистической структуры, механизм создания фольклорного текста и обратное воздействие текста на его лингвистическую структуру. «Пословица создавалась взаимными силами звуков и мысли» (Ф.И. Буслаев). Думается, что это замечание справедливо для всех жанров фольклора, и задача лингвофольклориста – выяснить, что реально стоит за этим «и». Недаром основоположник лингвофольклористики А.А. Потебня так напряжённо размышлял над внутренней формой слова, и прежде всего слова фольклорного, ибо, по его убеждению, даже самый гениальный писатель не сможет ничего создать без опоры на поэтические потенции языка, на богатство его образотворческих возможностей [Пресняков 1980].
Термин наддиалектность требует уточнения. Единственный словарь, в котором мы отыщем определение этого слова, – «Словарь лингвистических терминов» О.С. Ахмановой: «Наддиалектный. Не подверженный диалектной дифференциации, инвариантный по отношению к диалектам» [Ахманова 1966: 247]. В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» [ЛЭС] толкования термина нет, но в статье «Язык художественной литературы», написанной Ю.С. Степановым, есть выражение «особая, «наддиалектная» форма речи» применительно к понятию «язык художественной литературы» – язык древнейшей индоевропейской поэзии, который не связан ни с одним территориальным диалектом и является языком исключительно искусства, эпоса [ЛЭС: 608].
В фольклористических и лингвофольклористических работах эксплицитных определений термина наддиалектный нам не встретилось, однако попытаемся суммировать имплицитные смыслы этого слова. Наддиалектность, применительно к языку гомеровского эпоса, – это терминологическое разграничение реального и поэтического смешения диалектов и функций этого смешения [Славятинская 1981]. По мнению исследователей адыгского фольклора, наддиалектное – это то, «что объединяет язык представителей разных территориальных диалектов», инвариантное на различных языковых уровнях [Кумахов 1979: 60], негомогенность [Кумахова, Кумахов 1979], максимальная обобщённость языковых форм, относящаяся к морфологии, синтаксису, лексике, фразеологии (и отчасти фонетике) [Кумахов, Кумахова 1986].
Наддиалектность языка фольклора понимают также как совокупность специфических черт: широкой распространённости и богатства устно-поэтического языка, максимальной устойчивости его традиций, поливалентности его функционирования [Кумахова, Кумахов 1981]. Для наддиалектной формы устной речи существенными признают обработанность, устойчивость ряда грамматических конструкций, определённых эпических трафаретов и фразеологических шаблонов [Асланов 1981]. Как видим, суммированные точки зрения близки к словарной дефиниции О.С. Ахмановой.
Есть и другое понимание наддиалектности, сближающее её с понятием «койне». Оно высказано Ф.П. Филиным: «Широкая распространённость языка эпоса ставила его над диалектными расхождениями, выдвигала его на ступень своеобразного народного речевого койне» [Филин 1940: 92].
Заметим, что чаще всего понятие «койне» рассматривают как средство бытового общения в многоязычной (разнодиалектной?) среде. Яркий пример – креольские языки, пиджины и другие «портовые» языки. Ср.: «Койне. Общий язык… в котором слились в IV в. до н. э. различные греческие говоры. В качестве основы для него послужил аттический диалект. В более широком смысле койне – это всякий общий язык, образованный по такому типу» [Марузо 1960: 134]. Или: «Койне. Язык межплеменного или междиалектного общения для ряда родственных племён или народов, образовавшийся на базе наиболее распространённого языка или диалекта, вобравшего черты других языков или диалектов» [НИЭ: 36].
Думается, следует признать ошибочным компромиссное мнение Р.Р. Гельгардта, полагавшего, что произведения традиционного фольклора основаны «на просторечном койне и местно-диалектной форме национального языка» [Гельгардт 1977: 10].
Возможно ли свести понятие «язык фольклора» к понятию «койне»? Видимо, нет. И самое главное здесь в том (на это исследователи обычно внимания не обращают), что койне всегда имеет цель объединить говорящих на разных языках или диалектах, дать им средство речевого взаимодействия. В этом смысле правомерно соотносить с койне национальный язык и его сердцевинную часть – литературный язык, для которого задача объединить живущих в пределах государства – наиглавнейшая. Поэтому очень важно, что литературный язык «состоит из общенародных языковых элементов, прошедших культурную обработку, в нём сосредоточены оптимальные способы выражения идей, мыслей и эмоций, обозначения понятий и предметов, квинтэссенция национальной идиоматики» [Русский язык… 1979: 131].
В цепочке связей койне – литературный язык – язык художественной литературы – язык фольклора манит возможность нарушить первый закон формальной логики («закон тождества»), произвольно отождествить объёмы связанных понятий, «спрямить» их отношения, пренебрегая тем обстоятельством, что язык фольклора только в какой-то мере подобен языку художественной литературы, что объёмы понятий «язык художественной литературы» и «литературный язык» не идентичны, не тождественны, что литературный язык и койне также имеют между собой различия. Пренебрежение этими обстоятельствами приводит к отождествлению крайних в цепи понятий: язык фольклора – это койне.
Представление о языке фольклора (уже: языке эпоса) как койне сложилось в результате изучения эпических поэм Гомера. Исследователи пишут, что греческий эпический язык никогда не имел прямых отношений ни с одним территориальным диалектом: «Извлечённая из реального диалекта форма начинала жить в поэтическом языке новой жизнью, будучи противопоставлена другим формам, в сочетании с которыми она в естественном языке никогда не встречается. Разнодиалектные формы в языке единого произведения становились наддиалектными и образовывали сложное поэтическое единство» [Славятинская 1981: 35]. Подобное возможно и в лирике. Отмечено, что во всех арабских странах сложились народные поэтические языки, характерные для любовной и пейзажной лирики. Эти языки – смесь арабского литературного языка с диалектами и зиджалем, возникшим в Андалусии [Фролова 1977].
В одних случаях наддиалектность как свойство поэтического языка появляется в результате миграции эпоса, в других – как сознательная установка сплотить всех носителей единым средством общения и выражения в условиях ограниченной (например, островной) территории. Классический пример – язык исландских саг [Стеблин-Каменский 1959]. Другой пример – койне рунических памятников [Макаев 1965].
Условия бытования русского фольклора не способствовали выработке койне. Скорее, была тенденция к защите слова («Из песни слова не выбросишь»), отсюда накопление «тёмных мест», которые или почтительно сохранялись, или переосмысливались в духе «народной этимологии» (город Стокгольм превращается в город Стекольный). О том, как сильна в восточнославянском фольклоре охранительная тенденция, свидетельствует наблюдение над взаимодействием фольклора трёх близкородственных народов – русского, белорусского и украинского.
Сибирский фольклорист М.Н. Мельников, характеризуя взаимодействие произведений украинского и белорусского фольклора с русским устным народным творчеством в условиях Сибири, писал: «Среди любовных и семейных песен, не исчерпавших свою бытовую функцию и в наши дни, особенно велик удельный вес белорусского и украинского происхождения. Все они прошли длительный процесс шлифовки, русификации, но исконно национальные черты сохраняются в музыкальном строе, в поэтической образности, проявляются в обилии белорусизмов и украинизмов» [Мельников 1981: 173]. Особенно сильна самозащита русского фольклора и обрядов в условиях иноязычного окружения.
В чём же причина иллюзии наддиалектности языка русского фольклора? Во-первых, причиной является удивительное единство русского языка, распространённого на огромной территории. Диалектные различия не затронули основной части фонетической системы, грамматического строя, ядра словарного состава. Во-вторых, русскому устному народному творчеству свойственна единая фольклорная картина мира, дифференцируемая не территориально, а жанрово [Виноградов 1963]. В-третьих, всему национальному фольклору присуща типологическая однонаправленность закономерностей фольклорного тексто-образования. К тому же очевидна тенденция к уменьшению различий по мере движения от низших ярусов языковой системы к высшим. Если на фонетическом ярусе диалектная дифференциация отчётлива, то на морфологическом и лексическом она резко уменьшается, а на синтаксическом почти пропадает. Может, по этой причине исследователям синтаксиса русских устно-поэтических произведений так близка идея наддиалектности фольклорного языка.
И.А. Оссовецкий, разделяя мнение, что язык русского фольклора наддиалектен, в качестве аргумента указал на то обстоятельство, что фольклор сложился ранее известных диалектных групп русского языка (они сложились к концу XVI – началу XVII в.) [Оссовецкий 1979]. Следует возразить: современные диалектные группы русского языка возникли не на пустом месте, они сложились на базе уже существовавшего языкового материала. Племенные диалекты дали начало диалектам территориальным. К сожалению, у нас нет записей фольклорных произведений, бытовавших до образования нынешних территориальных диалектов, да и XVI–XVII вв. сохранили ничтожный минимум записей.
В дискуссии о диалектном и наддиалектном характере языка фольклора многое стало бы ясно, будь изучена локальная дифференциация фольклорных произведений. Если высказываемая мысль о «фольклорной диалектологии» [Мокиенко 1982] реализуется в конкретных исследованиях, то каждая из сторон может получить весьма убедительный аргумент в пользу своего мнения. На данном этапе развития науки больше аргументов в свою пользу у «диалектологов», чем у «наддиалектологов».
Резюмируя отстаиваемую точку зрения, повторим: язык русского фольклора – функционально-стилевая разновидность диалекта, генетически однородная с диалектно-бытовой речью и отличающаяся от последней своей функцией и жанровой дифференциацией.
Функция и жанровая дифференциация в порядке «давления системы» способствуют появлению в русской устно-поэтической речи отдельных языковых элементов, характерных только для этой разновидности речи, а также изменению валентности и дистрибуции элементов, присущих всем разновидностям диалекта. Суммарно отличия невелики и не позволяют считать язык фольклора явлением наддиалектным, тем более койне.
Подчеркнём особо, что сказанное относится к языку русского фольклора, а не к языку фольклора вообще. Истина конкретна. Вполне возможно, что исследователи, обращаясь к материалу других народов, обоснованно относят язык устной народной словесности к явлению наддиалектности и к койне, как это показано на материале гомеровского эпоса или в тех случаях, когда язык фольклора становится основой литературного языка.
Рекомендуемая литература
Богословская О.И. Язык фольклора и диалект: Учеб. пособие. Пермь, 1985.
Десницкая А.В. Наддиалектные формы устной речи и их роль в истории языка. Л.: Наука, 1970.
Евгеньева А.П. Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII–XX вв. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963.
Оссовецкий И.А. Язык фольклора и диалект // Основные проблемы эпоса восточных славян. М., 1958.
Оссовецкий И. А. О языке русского традиционного фольклора // Вопросы языкознания. 1975. № 5. С. 77.
Фольклорная диалектология
В фундаментальной статье известного американского лингвиста и культуролога Э. Сепира «Временная перспектива в культуре коренного населения Америки: опыт методологии» (1916) была обозначена важная проблема «Традиционная культура и география». Методологически важным оказался вывод о связи пространства культурных явлений со временем их возникновения. «…Чем больше территория распространения явления культуры, тем оно древнее» [Сепир 1993: 517]; «…Элемент культуры с прерывистым ареалом распространения должен считаться более древним, чем культурное явление, распространенное в пределах равного по размеру, но непрерывного ареала» [Сепир 1993: 528]; «.Чем обширнее географическое распространёние культурного слова, тем оно древнее по происхождению и, соответственно, тем древнее связанное с ним понятие» [Сепир 1993: 550].
Академик Н.И. Толстой предложил создать диалектологию славянской духовной культуры, в том числе и диалектологию фольклора. «В связи с тем что славянские культурные диалекты могут служить во многих случаях едва ли не единственным источником для внутренней реконструкции, весьма актуальной становится проблема создания научной диалектологии славянской духовной культуры со всеми вытекающими из этого задачами – выделения классификационных дифференцирующих признаков, характеризующих диалектные различия, картографирования диалектных явлений, применения ареалогического подхода к собиранию и интерпретации диалектных фактов» [Толстой 1989: 12].
Академик О.Н. Трубачёв в итоговой книге «Этногенез и культура древнейших славян» особо подчеркнул положение о «желательности разработки диалектологии культуры, в том числе – диалектологии древней религии славян, иранцев» [Трубачёв 2002: 341].
Мысль о том, что фольклор территориально неоднороден, возникла и укрепилась в процессе сбора и публикации народнопоэтических текстов. Так, А.Ф. Гильфердинг обратил внимание на своеобразие былевой поэзии в каждом районе её бытования и в приложенной к знаменитому собранию «Онежских былин» статье отметил: «Каждая былина вмещает в себе и наследие предков, и личный вклад певца; но, сверх того, она носит на себе и отпечаток местности. Сколько мне показалось, певцы былин в Олонецкой губернии должны быть разделены по местности на две большие группы, из которых каждая имеет затем свои подразделения» [Гильфердинг 1894: 34]. Собиратель с удивлением отмечает, что, хотя между Кижами и Толвуей нет ни природной, ни административной границы, манера у певцов былин в том и другом крае совершенно особая [Гильфердинг 1894: 36]. Кенозерские и мошенские былины отличаются от всех прочих по наречию – особо отмечает собиратель [Гильфердинг 1894: 38].
В наши дни фольклористка С.В. Воробьёва объясняет географическое распространение былин на Русском Севере направленностью брачных связей: «…Направленность и локализация семейных связей крестьян Кижского региона в достаточной степени совпадает с локализацией традиции былинного скази-тельства в районе Пудожского берега и в какой-то мере в районе Космозера» [Воробьёва 2001: 95].
На примере собирательского опыта А.Ф. Гильфердинга видна эвристическая мощь географического подхода к явлениям духовной культуры. За столетие до Л.Н. Гумилева, соединившего историю с географией и вследствие этого высказавшего идею пассионарности в развитии культуры, А.Ф. Гильфердинг, сравнивая территории Олонецкой губернии, отмечает своеобразный пассионарный взрыв исполнительской активности в одной из местностей. «…Особенно замечательно Кенозеро. <…> и в этом оазисе цветёт в настоящее время эпическая поэзия. Крестьяне и крестьянки, поющие былины, насчитываются здесь десятками; поют былины старый и малый; вы здесь услышите один и тот же вариант от пяти-шести человек, мужчин и женщин, которые живут в разных деревнях; в то же время вы встретите трёх братьев, которые живут в одном доме, и из которых каждый знает свои особые былины; вы встретите семейство, в котором и муж, и жена охотники петь былины и поют разные» [Гильфердинг 1894: 19]. «Разные» – свидетельство не моды, а внутреннего порыва.
Фольклористы в территориальной неоднородности произведений устного народного творчества и составляющих их элементов не сомневались [Миллер 1894; Богатырёв 2007; Жирмунский 2004; Путилов 2003]. В концептуальной статье «Задачи изучения народного поэтического творчества (по материалам Русского Севера)» К.В. Чистов писал о том, что диалектическая природа фольклорного процесса «состоит между прочим в сохранении областных различий несмотря и вопреки выработке общенационального репертуара. Общерусские моменты выступали, как правило, в конкретной, областной – сибирской, уральской, донской, средневолжской, севернорусской и т. д. – форме» [Чистов 1958: 11–12]. Мысль о том, что фольклорные явления в рамках каждого этноса, как и язык, дифференцированы не только по половозрастным группам, но и локально, развивалась К.В. Чистовым и в других его работах [Чистов 1979: 5].
Фольклористка С.И. Дмитриева своей монографией «Географическое распространение былин: По материалам конца XIX – начала XX в.» положила начало описанию макрогеографии былин [Дмитриева 1975].
В специальной статье Ю.А. Новикова «Проблема варианта и региональных традиций в изучении русских былин» специфика региональности виделась на трёх уровнях: 1) сюжетный состав; 2) тип обработки конкретного сюжета, 3) «подробности изложения» (имена собственные; клишированные формулы, используемые для описания повторяющихся действий, диалогов, ситуаций; постоянные эпитеты и другие устойчивые словосочетания). Региональные различия постоянно накапливаются. Делается вывод о том, что изучение региональных эпических традиций тесно смыкается с проблемой варианта [Новиков 1984]. Идеи статьи затем были развиты в монографии «Сказитель и былинная традиция». Глава «Специфика региональных традиций» открывается тезисом: «Ареальные исследования былин – одно из направлений фольклорной текстологии. Они важны и сами по себе, безотносительно к другим научным проблемам, так как выявление и анализ специфики региональных традиций – это ступень к более глубокому познанию истории русского эпоса, многообразных форм его бытования, диалектической природы фольклорного процесса…» [Новиков 2000: 109]. Основной вывод статьи – областные традиции объективно реальны, они – естественное следствие сложной истории освоения Севера русскими и результат последующей многовековой эволюции эпоса, протекавшей по разным сценариям [Новиков 2000: 112]. Рассмотрев существующую концепцию школ сказительского мастерства в контексте региональных традиций, Ю.А. Новиков пришёл к выводу, что «школа» на самом деле – одна из частных форм локальных эпических традиций. От термина «школы сказительского мастерства, – считает автор монографии, – целесообразно отказаться, чтобы избежать схематизации и упрощения при исследовании сложных, диалектически противоречивых процессов эволюции былинной поэзии» [Новиков 2000: 266].
Свидетельством интереса к проблеме территориальной дифференцированности языка фольклора служит Всероссийская Летняя школа – 2008, занятия которой посвящены проблеме «География фольклорных фактов и фольклорные диалекты». Устроители – учебно-научный Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ – полагают, что единственной непосредственной «материальной» данностью фольклористики являются фольклорные диалекты и ориентируют участников на выявление примеров проявления «фольклорной диалектности», случаев наличия или отсутствия определённых элементов этнической культуры (вербальных, обрядовых и т. д.) в разных областях её распространения, несовпадение интерпретаций одних и тех же элементов устной традиции. Особо ставится вопрос об историческом формировании подобной диалектности.
На наш взгляд, самый глубокий и перспективный анализ регионального/локального начала в фольклоре дал в своей итоговой книге Б.Н. Путилов. Исходный тезис – «Фольклорная традиционная культура в своём конкретном наполнении всегда региональна и локальна» [Путилов 2003: 156]. Категоричность этого утверждения объясняется тем, что естественная, нормальная жизнь традиционной культуры «повязана» с жизнью определённого, ограниченного теми или иными рамками, коллектива, включена в его деятельность, необходима ему и регулируется характерными для него социальными нормами. Традиционная культура региональна не только в историко-социальном, но и в пространственном отношении, поскольку этнический коллектив занимает определённое пространство, обладающее своими географическими, природными и иными характеристиками [Путилов 2003: 156].
Б.Н. Путилов уточняет категории «региональное» и «локальное» применительно к фольклору. Локальное соотносится с общиной (селом, деревней). Внутри локального можно усмотреть микролокальные традиции (родовые коллективы и семьи). Региональное соответствует более крупным единицам, которые выделяются на основании различных критериев исторического, социо-этнического, культурно-бытового порядка. Путилов замечает, что в фольклористике молчаливо допускается совпадение фольклорной региональности с уже принятой в истории или этнографии [Путилов 2003: 157].
По мнению Б.Н. Путилова, одним из коренных вопросов является вопрос о соотношении регионального и локального с общенародным, общеэтническим. Региональный/локальный фольклор нередко уподобляют диалектам. Однако следует помнить об условности этого уподобления. Языковые диалекты всегда соотносятся с общенародным (национальным) языком, который для них – явление более высокого порядка. Для фольклорных же диалектов нет общенародного фольклора ни в реальности, ни в исторической перспективе. В сфере фольклора, полагает Путилов, нет материализованных явлений (текстов, функциональных привязок и др.), о которых можно говорить как об общенародных. Фольклор в его материальном выражении существует только как региональный/локальный. Общенародные признаки вычленяются региональной/локальной традицией в виде различных обобщений, универсалий, интегрирующих качеств. Общенародное существует как обобщение вариаций, в реальности региональные традиции варьируют по отношению друг к другу [Путилов 2003: 158–159].
«Фольклорная культура этноса – это концентрация (на уровне научных и общекультурных обобщений) всего фонда фактов, содержания, семантики, образности, языка фольклора» [Путилов 2003: 159]. Познать фольклорную культуру региона, зоны, очага можно только на фоне культуры других регионов, зон и очагов. Задача исследователя – определить релевантный материал для сравнения [Путилов 2003: 159].
Если фольклорная традиция в целом чувствительна к фактору территориальности, то можно предположить, что вербальная составляющая этой традиции к географии бытования тоже небезучастна.
Проблема территориальной неоднородности языка русского фольклора, как она виделась курским лингвофольклористам, впервые была сформулирована в докладе А.Т. Хроленко «Изучение региональных особенностей языка русского фольклора» на конференции «Региональные особенности восточнославянских языков, литератур, фольклора и методы их изучения» (Гомель, 1985). В выступлении отмечалось, что длительный и пока ещё не завершившийся спор о диалектном/наддиалектном характере языка русского фольклора требует дополнительных аргументов, среди которых доказанный факт территориальной дифференциации устно-поэтической речи, возможно, стал бы решающим. Говорилось о том, что решение этой задачи затрудняется рядом факторов: 1) единством русского национального языка, которое определяет видимую монолитность языка русского фольклора; 2) единством фольклорной картины мира для всех носителей русского поэтического фольклора; 3) универсальностью характеристик разговорной речи, лежащих в основе устно-поэтической речи; 4) миграцией фольклорных текстов и т. п. Докладчик предположил, что территориальные особенности в языке фольклора можно выявить путём системного сопоставления, когда сравниваются слова и связи слов, выявленные в корпусе текстов различной территориальной принадлежности. Позже в статье «Наддиалектен ли язык русского фольклора?» [Хроленко 1991] детально обсуждался вопрос о соотношении устно-поэтической речи и бытового диалекта. Методологии выявления территориальной дифференциации языка русского фольклора было посвящено выступление А.Т. Хроленко «Словарь языка фольклора как инструмент выявления «фольклорных диалектов»» на конференции «Проблемы региональной лексикологии, фразеологии и лексикографии» (Орёл, 1994).
Язык устного народного творчества в пространственном аспекте практически не изучался и по причине отсутствия эффективной и надежной технологии. Становлению фольклорной диалектологии препятствует неразработанность методологии выявления, идентификации и описания «фольклорных диалектов». Эффективные в рамках традиционной диалектологии и этнолингвистики методики, например, методику изоглосс, изопрагм и изодокс, практически невозможно применить к языку фольклора. Здесь необходим иной инструментарий, выработке которого мешает нерешённость фундаментальных вопросов территориальной дифференцированности языка важнейших жанров русского фольклора.
Предварительным итогом фольклорно-диалектологических разысканий стала коллективная монография «Проблемы фольклорной диалектологии» [Бобунова 2003]. В работе подчёркивается, что подход курских лингвофольклористов к изучению языка фольклора в территориальном аспекте отличается от традиционного, поскольку рассматривается не соотношение лексики фольклорных и диалектных текстов на одной территории, а соотношение лексики фольклорных текстов, зафиксированных на разных территориях.
Мы различаем микро– и макрогеографию языка фольклора. Микрогеография предполагает сравнение былин местностей, сопряжённых в рамках единой территории, например, онежских былин. Сюда же мы относим сопоставление языка былин разных регионов Русского Севера, например, онежских, архангельских или печорских эпических песен. Результат микрогеографии – обнаружение фольклорных «говоров» и «диалектов». Макрогеография предполагает сопоставление фольклора отдалённых друг от друга регионов, например, Русского Севера, Сибири, а также Поволжья. Результат – установление фольклорных «наречий».
Методику выявления региональных различий в языке фольклора (макрогеография) отрабатывали на материале двух собраний былин, бытовавших на Русском Севере и в Сибири. Это «Онежские былины», записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года (В 3 т. 2-е изд. СПб., 1894–1900) и «Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока» (Новосибирск, 1991). Сопоставив сто самых частотных слов онежских и сибирских былин, выяснили, что 66 лексем каждого из двух списков – доминанты, в 32 (сибирских – 33) случаях доминанты одного списка в другом корпусе текстов таковыми не являются, но наличествуют в словнике. Онежская лексема стольнокиевский (578 с/у) в сибирских былинах не зафиксирована.
Наибольший интерес представляют доминанты одного списка, которые во втором списке фиксируются с заметно сниженной частотностью. Это, например, лексема калика/калига. В онежских былинах лексема калика – одна из самых частотных. При 461 словоупотреблении она имеет ранг 47. В сибирских былинах эта лексема в форме калига в число доминантных не входит. Наличествуют, но имеют тенденцию к снижению употребительности в Сибири имена персонажей (король, королевна, боярин, дочь, вдова, калика), глаголы движения (прийти, приехать), глаголы восприятия (видеть), слова, связанные с процессом винопития (вино, пить), оценочные прилагательные (славный, поганый, любимый, честный, почестный, богатый), наречия (скоро, уж, там).
В сибирских текстах сходит на нет употребительность существительного дружина, гораздо реже встречаются слова палатка, двор, дорога. Снижено внимание к соматизму голова. Если на Русском Севере в счётном ряду преобладает лексема другой, то в Сибири – второй. В сибирском списке доминант больший, нежели в онежском, удельный вес приобретают слова, называющие локус (море, струя, корабль, дуб, улица, церковь), именующие персонажей (батюшка, княжна, мать, слуга), соматизм (грудь), глаголы (выходить, здравствовать, спроговорить, хотеть), слова из кластера «оружие» (копьё, лук, сабля, стрелять, тугой), прилагательные (вострый, малый, синий), оценочные слова (ласковый, родимый, собака), порядковые числительные (второй, первый). Чаще, чем в онежских былинах, используются слова жеребий, имя, шляпа. В сибирских былинах появляется глагольная конструкция везти /повезти/ привезти на копье или нести/ понести на копье голову противника как отражение в русском эпическом мире обычая степных кочевников нести или везти голову поверженного на копье: Ещё Тугаринову голову на востром копье повёз (№ 24, 62).
Эмпирической базой выявления территориальной дифференциации лексики одного региона (микрогеографии) стал подготовленный выпуск словаря языка русского фольклора (былинная лексика). Словарь по типу полный, т. е. в окончательном виде представит все знаменательные слова, зафиксированные в лексикографически описываемом корпусе фольклорных текстов, исключая местоимения и имена собственные. При этом каждая словарная статья строится с учётом всех словоупотреблений описываемой лексемы. По существу, статья – это итог сжатия полного конкорданса, в результате чего остаются самые важные, актуальные для данного фольклорного текста связи описываемого слова с другими словами этого текста. Описывая каждое словоупотребление лексемы, составители учитывают исполнителя, использовавшего в своём тексте слово, и место фиксации текста. В том случае, когда слово встретилось в текстах двух и более исполнителей, живущих в одном месте, а в текстах других территорий не зафиксировано, в комментарии к словарному описанию делается соответственная пометка. Приведём несколько примеров.
Все шесть словоупотреблений порядкового числительного сороковой фиксируются в Кенозере как определение к существительному бочка: Вы позвольте мне три бочки сороковые Зелена вина безденежно (Гильф. 3, № 257, 17). На всех остальных онежских территориях в аналогичных случаях используется существительное сороковка. Интересно использование приметного общефольклорного числительного тридевять в кижских былинных текстах, где оно сочетается не с именами пространства (за тридевять земель 'очень далеко'), а с именами конкретных реалий. Числительное пол\сема фиксируем исключительно в Кенозере. Только в Кенозере зафиксировано частое (11 с/у) использование формулы времени долог день до вечера. Отметим, что прилагательное светлый как постоянный эпитет к существительному месяц (32 с/у из 48) используется повсеместно. Светлыми могут быть Владимир, гридня, камень, светлица, но в значении 'у христиан: относящийся к Пасхе; пасхальный' светлый трижды зафиксировано только в Кенозере. Существительное собор мы заметили только в текстах на сюжет «Дюк» у исполнителей из Кенозера: Да садился Дюк на добра коня, Да приехал к собору Богородицы (Гильф. 3, № 225, 209). В Кижах существительное выстрел в значении меры 'на расстоянии выстрела от чего-л.' отмечено в 6 с/у. Существительное деньги встречается повсеместно, а денежка 'от деньга. Старинная русская серебряная или медная монета достоинством в полкопейки' – в 11 случаях из 12 отмечена в текстах из Кенозера. В то же время монета (3 с/у) фиксируется в былинах из Кижей. Исполнители из Кенозера в былине «Молодость Чурилы» активно (9 с/у) использовали существительное скурлат. Глагол упиваться (8 с/у) отмечен исключительно в текстах из Кенозера. Значение 'щеголять напоказ, франтить' (Даль) в онежских былинах передаётся двумя глаголами басить и щапить, но если второй отмечается повсеместно, то басить – только в текстах из Кенозера и параллельно с глаголом щапить. В кластере «Животный мир» отметим актуализированность существительного куна в Выгозере, лиса – в Кенозере, а в Кенозере – формулу с глаголом облаять. Зооним баран (3 с/у) использовал только сказитель Сорокин (Пудога), а прилагательное барановый отмечено исключительно в Кенозере.
Был сделан вывод о том, что явными лидерами в использовании территориально связанных лексем являются сказители Кенозера и Кижей. Одна из причин тому видится в количестве исполнителей: чем шире круг их, тем выше вероятность наличия слов, актуализированных исключительно на данной территории.
Логично предположить, чем больше идиолектов, тем выше вероятность и степень диалектной дифференцированности лексикона былин. Ровно половину (34 из 68) из слов, территориально закреплённых, составляют диалектизмы (31), историзмы (2 – денежка, пестрядинный) и фольклоризм (1 – тридевять). Вторая половина – это кодифицированная, общеупотребительная, литературная лексика, актуализированная исполнителями из той или иной местности.
До сих пор нерешённым остаётся вопрос, что такое «фольклорный диалект» и каковы критерии, лежащие в основе «фольклорной диалектологии».
Словосочетание фольклорный диалект впервые нам встретилось в статье К.В. Чистова «Фольклор и культура этноса». Автор указывает, что «фольклорные «диалекты», известные в XIX–XX вв., формируются в средние века, перерабатывая предшествующую архаическую традицию в относительно стабильные системы, которые оказывают на дальнейшую историческую жизнь фольклора сильное влияние» [Чистов 1979: 7]. «Фольклорные диалекты» в этом контексте – метафорическое отражение факта территориальной неоднородности языка народного поэтического творчества. «Диалекты», по мнению К.В. Чистова, складываются непоследовательно. С одной стороны, фольклорные традиции могли не выработать достаточно ясных различительных особенностей и образовывали некую архаическую непрерывность, многочисленные и перекрывающие друг друга зоны перехода, «вибрацию» отдельных признаков и т. д. С другой стороны, на стадии формирования народности фольклорная традиция переживает расширение и обобщение, возникают укрупнённые ареалы, внутри которых однако продолжаются процессы локальной и региональной дифференциации [Чистов 1979: 6–7]. К.В. Чистов особо подчёркивает то обстоятельство, что территориальная дифференциация фольклора не совпадает с традиционными «диалектными» зонами, в результате чего образуются специфические фольклорные ареалы, не вписывающиеся в этнические границы или не покрывающие всю этническую территорию [Чистов 1979: 9].
Автор рецензии на сборник «Фольклор Судогодского края» Е.А. Костюхин отмечает, что составители сборника остановились перед проблемой регионального своеобразия судогодского фольклора и встали перед теоретической задачей определить «набор слагаемых, демонстрирующих своеобразие фольклора определённой местности». Складывается впечатление, – пишет рецензент, – что своеобразие судогодского фольклора создаётся отсутствием отдельных элементов, зафиксированных в других регионах бытования фольклора. При этом лакуны воспринимаются как результат утраты элементов, присущих фольклорной традиции в целом [Костюхин 2002].
«Фольклорный диалект», по нашему мнению, основывается на актуализации языковой единицы – её выборе, включении в фольклорный текст, сочетании с другими единицами. Выбор единицы обусловливается фольклорной картиной мира в её фольклорно-жанровой версии, народно-поэтической традицией, идиолектом и мастерством исполнителя. Функция актуализируемой единицы учитывается, и количественный фактор её использования становится существенным, в известной мере влияющим даже на семантику единицы. Единицы идентификации – лексемы и формулы.
Думается, что основным критерием выделения «фольклорных диалектов» должна быть фольклорная лексема, поскольку остальные ярусы языковой системы в качестве возможного критерия сомнительны: фонетика в целом диалектна и совпадает с фонетикой диалектной речи носителей фольклора, исключая отмеченные П.Г. Богатырёвым и Р.О. Якобсоном вокалические черты народной песни (йотация, распев и др.); морфология почти не знает специфически диалектных служебных морфем (корневые морфемы здесь не в счёт); синтаксис слишком обобщён. Лексика – самый подвижный и социально отзывчивый ярус языка. «Первое и главное произведение народной словесности есть самое слово, язык народа. Слово – не случайная комбинация звуков, не условный знак для выражения мысли, а творческое дело народного духа, плод его поэтического творчества. Это художественный образ, в котором запечатлелось наблюдение народа над самим собой и над окружающим миром» [Ключевский 1991: 207].
А.Ф. Гильфердинг, обнаружив территориальные особенности в языке былин, главным различием текстов кижских и толвуй-повенецких сказителей считал беспрерывно повторяющиеся вставочные частицы, «которые служат как бы подпорками нашего эпического стиха». В Кижах, например, такими частицами, помимо общеупотребительных да, а, и, ли, служат как, ведь и де. У толвуйских сказителей этих частиц нет, «они опирают стих на частицах нынь или нунь, же, было и есть и е» [Гильфердинг 1894: 36-37].
Помимо частотных служебных слов, приметами той или иной фольклорной территории могут быть эпитетосочетания. Например, сопоставление онежских былин с эпическими текстами, записанными в других регионах, показывает, что эпитетосочетание жёлтые кудри – принадлежность былинной речи Русского Севера, в частности бывшей Олонецкой губернии.
Важным и трудным вопросом выбора критериев является вопрос о том, чему отдать предпочтение – фактам частотным или фактам уникальным. Частотность всегда убедительна, а уникальность – эвристична. Полностью разделяя мысль Ф.И. Буслаева о внимании к мелочам как признаке высшего профессионализма исследователя, учитывая мнение теоретика лексикографии Х. Касареса, соглашаясь с выводами Ю.А. Новикова об эвристическом значении уникальных элементов в фольклорном тексте, мы тем не менее лексемы с частотой один из фольклорно-диалектного рассмотрения исключаем, поскольку они в подавляющем своём большинстве – следствие феномена «вибрации текста» в понимании фольклориста [Чистов 2005: 73] и лингвиста [Ажеж 2003: 254–269].
Работа над словарем полного типа позволила обнаружить факт двуслойности (строго говоря, многослойности, или неоднослойности) фольклорного лексикона. Один слой, количественно ограниченный и интуитивно известный всем носителям устного народного творчества, – это совокупность так называемых «опорных», «ключевых» слов, устойчивых сочетаний и структурных моделей, из которых строится текст. Второй слой – это все остальные слова, используемые в фольклорном тексте. Былинная речь не отгорожена от бытовой речи носителя фольклора, и в былинных текстах достаточно большое количество слов, для этих текстов не узко специализированных. Они отражают диалектическую суть фольклорной речи, соединяющей в себе два начала – канон и языковое варьирование [Хроленко 1995]. Частотные (постоянные) элементы репрезентируют народно-поэтическую традицию, а элементы оригинальные дают информацию о важнейших процессах внутри этой традиции (творческая роль сказителя, наличие исполнительской школы, территориальная специфика, динамика былинной речи и т. д. и т. п.). Роль каждого из двух слоёв лексики аналогична роли ядра и периферии – ядро в первую очередь обособляет систему, отделяет от всего остального, а периферия эту отдельность связывает с окружающим. Оба слоя связаны друг с другом фольклорной картиной мира, его концептами и парадигматикой народнопоэтического слова. Первый слой внешне един, и именно он породил мнение о наддиалектности всей устно-поэтической речи, второй слой заметно дифференцирован и постоянно вызывает мысль о его диалектной дифференциации.
Можно думать, что диалектные признаки для каждого из слоёв лексики специфичны. Для лексики периферийной это актуализация лексем (отсутствие/наличие, частота использования), для лексики ядерной – общефольклорной – характерна актуализация связей слов (эпитетосочетаний и формул). В условиях органичной взаимосвязи двух слоёв диалектность одного не может не предопределить какую-то степень территориальной дифференцированности другого, не обязательно на уровне набора слов, это может быть на уровне текстовых связей.
Как видно из нашего краткого обзора, фольклористы наибольшее внимание обращали на географию былины. Это объяснимо. Сам жанр сохранился в нескольких очагах, и территориальные различия вполне очевидны. Индивидуальный характер сказительства тоже усиливает черты различия былинных текстов. Другое дело народная лирика, массовидность и анонимность которой предельно сглаживают локальные особенности. Правда, собиратели русских народных песен Н.М. Лопатин и В.П. Прокунин в своём известном «Сборнике русских народных песен» отметили территориальное своеобразие русских песен. «. Тогда как в Орловской губернии не упоминается ни об ельнике, ни об березняке и осиннике, а говорится о траве-мураве: окружающая действительность часто отражается в описательной части песен…» [Сборник… 1889: 96]. «В народной поэзии часто являются в основном тексте песни вставки, под воздействием известной местности. И вот, песня называет горы то Воробьёвскими, то Валдайскими, то Ташевыми» [Там же: 59–60].
В наши дни появилась реальная возможность обнаружить и объективно оценить факты территориальной дифференцированности языка русских народных песен. Имеется в виду появление первых конкордансов русских песенных текстов. Сопоставление конкордансов – надёжный инструмент выявления «фольклорных диалектов» в народной лирике.
Напомним, что конкорданс – это перечень всех слов какого-либо текста или корпуса текстов с указанием всех контекстов их употребления. Это лексикографический продукт, органически соединяющий в себе тотальный охват материала (представлены все без исключения слова того или иного корпуса текстов) с вниманием к каждому слову (приводятся все контексты описываемого слова).
На сегодняшний день в руках исследователей имеются четыре конкорданса – конкордансы песен Курской, Архангельской, Олонецкой губерний и Сибири. Конкордансы составлены М.А. Бобуновой и А.Т. Хроленко на базе пяти томов свода «Великорусских народных песен» А.И. Соболевского (тт. 2–6).
Последовательно сопоставляя конкордансы, можно обнаружить два основных типа несовпадений. Во-первых, это наличие лексемы в одном конкордансе и отсутствие в другом (повторим, что мы не учитываем лексемы с единичной употребительностью). Во-вторых, лексемы частотны в текстах одной губернии и единичны в текстах другой. Таким образом, критериями «фольклорных диалектов» в нашем случае можно считать (1) лакунарность и (2) количественную и качественную асимметрию. Сказанное проиллюстрируем примерами из конкордансов (в угловых скобках: номер тома свода Соболевского, номер песни в томе).
Прежде всего обращаем внимание на случаи лакунарности – полного отсутствия лексемы в песенном лексиконе одной губернии при наличии её в другом.
Фольклорные тексты практически любого жанра включают в себя известное количество диалектных слов, что и позволило составителям «Словаря русских народных говоров» считать фольклор одним из важнейших источников диалектной лексикографии. Локальная привязанность того или иного диалектного слова определяет его наличие в текстах одного региона и отсутствие в текстах других территорий. Можно говорить о лакунарности диалектной природы и лакунарности общеязыковой.
Примерами диалектной лакунарности могут служить лексемы, отмеченные в курских текстах и отсутствующие в архангельских: дробный 'меленький, мелкий (о предметах)'[СРНГ: 8: 188], кур 'петух' [СРНГ: 16: 106], кропотливый 'ворчливый, сварливый' [СРНГ: 15: 281], клетка 'нежилая половина крестьянского дома; летняя спальня' [СРНГ: 13: 284–285] ковыла 'ковыль' [СРНГ: 14: 36], кукобница 'хорошая хозяйка' [СРНГ: 16: 38] и др. В архангельских песенных текстах отметим лексемы, отсутствующие в курских песнях: косявчатый, косящатый 'Фольк. С косяками' [СРНГ: 15: 96], тальянский, тароватый и др.
Под общеязыковой лакунарностью мы понимаем отсутствие того или иного литературного слова в текстах той или иной территории. Например, в курских песнях отмечаем такие лексемы и формы слов, как яблоко, яблоночка, яблонька, яблоня, яблочко. В архангельских песнях этих языковых единиц нет вовсе.
Любопытна территориальная привязанность заимствованных слов. В курских песнях используется слово капитан, а в архангельских – компания 'беседа; вечеринка' [СРНГ: 14: 238]. Это существительное в русских говорах прижилось и образовало гнездо родственных слов: компаньица, компаньюша, компаньюшка, фиксируемых на Русском Севере [СРНГ: 14: 238]. В уральских говорах отмечен родственный глагол компаниться 'собираться вместе компанией для отдыха, развлечения' [СРНГ: 14: 237]. В «Словаре русских говоров Сибири» (Новосибирск, 2001) отмечено существительное компанник 'вечерний сбор молодёжи' [СРГС: 2: 99].
Что касается асимметрии, то очевидны два типа – количественная и качественная. Последняя предстаёт в нескольких подтипах: номинативном, словообразовательном, атрибутивном, валентностном.
Количественной асимметрией мы считаем случаи, когда одно и то же слово используется в сравниваемых корпусах текстов, но в одном из них по частотности в разы превосходит употребление в другом корпусе. Так, существительное улица в курских песнях использовано 67 раз, а в архангельских – только 17. В таком случае можно считать приметой «фольклорного диалекта» доминирование того или иного топоса (или хронотопа, но это надо исследовать специально). В курских песнях существительное конь зафиксировано 44 раза против 14 в архангельских. Чем южнее, тем чаще упоминается улица и конь. В сопоставимом по объёму конкордансе песен кубанских линейных казаков слово конь фиксируется в 170 с/у. Заметно преобладающими в курских песнях будут слова утка (9 против 2), утушка (12 против 1), ковёр (12 против 3). В архангельских песнях чаще, чем в курских, встречаются слова колечко, ласковый, любушка, тужить.
Наглядно сопоставление словарных статей лазоревый/лазуревый в обоих конкордансах[1].
{К} Лазоревый 1. Цветы мои лазоревы разгорчивы, разгорчиваты…<5,661>
{А} Лазоревый 5. На лугах да на лугах зелёных, На травах да на травах шелковых, На цветах-то, цветах лазоревых, Выростала тут грушица зелёная, Расцветала ли яблоня кудрявая <2,180>; Выростала трава шелковая, Расцвели цветы лазоревые <2,305>; Зеленаго саду жаль: в садику трава росла, Мурава-трава росла, Травонька муравая, все лазоревы цветы…<4,152>; Я по цветикам ходила, По лазоревым гуляла, Цвета алаго искала…<4,743>; Во зелёных-то лугах, там растет трава, Растет травонька шелковая, Разцвели цветы лазоревые, Разнеслись духи малиновые, Все малиновые, анисовые <5,26>; Лазуревый 6. Цветики, цветочки, лазуревы мои! <3,400>; Нападала порошица, Нападала молоденька, Что на землю на талую, На траву на муравую, На цветочки лазуревы <4,784>; Нападала порошица что на землю на талую, На траву на муравую, на цветочки лазуревы <4,785>; А растёт травонька, да все шелковая, Шелковая, да разцвели цветы лазуревы, А разцвели цветы лазуревы, да разнесли духи анисовы. <5,25>; Не журите вы, лазуревы, во зелёном саду, Не давайте-тка надзолышки сердцу моему! <5,662>.
Чем южнее, тем реже используется этот фольклорный колоратив.
Примером качественной асимметрии в её номинативной версии может служить вербализация концепта «народная хореография». В курских песнях он номинирован фразеологизмом водить танок, в архангельских – глаголом танцевать. Ср.:
{К} Танок 9. Девки танки водят <2,18>; Она взяла платок, пошла во танок <2,21>; Танок вывела, платок кинула…<2,21>; Узяла платок, повела танок…<2,22>; Танок вывела, платок ки-нула.<2,22>; Я на это не гляживала – Я на улицу хаживала, Круглый танок важивала…<2,81>; Мой кривой танок не довоженный.<2,633>; Мой кривой танок да довоженный.<2,633>; На третью неделю Стала обмогаться, Стала обмогаться, В танок собираться…<4,851>; Таночек 1. Не доиграна игра, Не допета песенка, Не довожен таночек…<4,108>
{А} Танцевать 5. Кто по мыслям танцевать? <2,165>; Со коленей меня снявши, Танцовать с собой просил. <4,314>; Я недолго танцовала, Милый руку больно жал… <4,314>; Я немного посидела, Танцовать с милым пошла. <4,315>; Я немного танцовала, Милый крепко руку жал. <4,315>
Существительное хоровод отмечено и в курских, и в архангельских песнях, но слово корогод '1. Устар. Собрание молодёжи на улице (с пением, плясками, игрой на гармони и т. п.)'; 2. 'Группа, кучка, небольшое собрание людей' – только в курских песнях.
{К} Корогод 7. У батюшки у ворот Стоял бабий корогод <3,586>; Он на улицу выходил, К корогоду подходил, Увесь корогод раскорил, А свою жену похвалил…<3,586>; У корогоде молодец, Не холостой, а женатенький…<3,586>; Всему миру каза-ла, Всему миру-народу – Девичьему карагоду! <4,19>; Выйду я на улицу, Разыграю карагод…<4,108>; Уж я выду на улицу, стану в карагоде…<5,420>
Словообразовательная асимметрия видится тогда, когда в одинаковых сюжетных позициях курские песни выбирают слово узел, а архангельские – узелок. Ср.
{К} Узел 5. Во платочку три узла: Первый узел – василёк, Другой узел – маков цвет, Третий узел – люб-трава <4,234>; То голову чешет, то косу плетет, То алую ленточку воплетывает, Немецкие узлы завязывает! <5,110>.
{А} Узелок 4. Я ронила горючи слезы из глаз, Я ронила в полотняный белый платок, Завязала во немецкий узелок… <2,441>; Мы завяжем цветок Да во тальянский во платок, Во тальянский ли платок, Во немецкий узелок… <5,13>; Мы положим узелок Да на кроватку в уголок… <5,13>; Мы развяжем узелок, Да посмотрим на цветок… <5,13>
Лебединый, лебёдка, лебёдушка, лебедь – эти слова достаточно активно используются в песенных текстах обоих регионов, однако только в курских песнях найдём существительное лебедек:
{К} Лебедек 11. Лебедь мой, лебедек, Да лебедушка белая! <2,430>; Лебедь мой, лебедек, Да лебедушка белая! <2,430>; Лебедь мой, лебедек, Да лебедушка белая! <2,430>; Лебедь мой, лебедек, Да лебедушка белая! <2,430>; Первый у нас лебедек, Лебедек – Иванушка…<4,107>; Другой у нас лебедек, Лебедек – Михайлушка…<4,107>; Третий у нас лебедек, Лебедек – Фили-пушка…<4,107>; Лебедек у нас – Семенушка, Беленький Иванович.<4,108>. В кубанских песнях отыскалось слово лебедик.
Если в архангельских текстах словоупотребление ладо единично:
{А} Ладо 1. Свалился твой ладо Со новых сеней! <2,622>, то в курских отыщутся однокоренные существительные:
{К} Лад 2. Мил сердечный друг, милая ладушка, Да и тот со мной не в ладу живёт, Не в ладу живёт и не в совести.<2,475>. Ладо 3. Мое ладо ревниво <2,516>; Как меня ладо будет бить… <2,516>; Ой, и свет мое прежнее ладо, Я котораго попреж сего любила…<3,206>. Ладушка 5. Мил сердечный друг, милая ладушка … Милая ладушка, обернись ко мне! <2,475>; А милая ладушка, А белая ластушка, Во след гонится.<2,509>; Иде батюшка журливый, Мой ладушка ревнивый…<2,518>; Шлёт ко мне ладушка одного посла – Шелковую плеть <2,633>.
Если в сравниваемых корпусах текстов одно и то же существительное определяется разными постоянными эпитетами, то можно говорить об атрибутивной асимметрии. Ср.
{К} Кафтан 6. У зеленом кафтане, Рубашка тонкая <3,262>; На детинушке зелен кафтан…<3,390>; Через тихий Дон поплыть, – Зелен кафтан намочить.<3,465>; Он во зеленом кафтане.<4,673>; Зелен кафтан моего друга на столе лежит.<5,702>; Зелен кафтан изодрал, по заборам лазючи.<4,704>
{А} Кафтан 7. Конички вороные, Извощички молодые, На них кафтаны голубые.<2,185>; Туда шел-прошел детинка уборненький, Уборненький детинка, снарядливый: Голубой на нем кафтан, полы машутся.<3,457>; Туды шел-прошел детина, голубой на нем кафтан.<3,458>; Тут и шел-прошел детина, голубой на ем кафтан.<3,459>; Головка с кудрями, Синь кафтан со сборами.<4,82>; Надо синь кафтан со сборами, Кушак полосами.<4,357>; Там и шел-прошел детинка, Голубой на нём кафтан, Голубой, с галуном…<4,416>.
Возникает интересный культурологический вопрос, почему на севере кафтан голубой или синий, а на юге – зелёный.
Видимо, можно говорить и о валентностной (сочетательной) асимметрии, когда одно и то же прилагательное в обоих корпусах различается набором определяемых существительных. Так, эпитет кленовый в архангельских тестах определяет единственное существительное ворота, а в курских – лист, горенка, ворота. Каменной в архангельских песнях (всего 1 с/у) предстаёт только Москва, в курских (8 с/у) – палата, гора, стена, Москва. В курских песнях ярый хмель, в архангельских – ярый воск.
Наши материалы, кажется, подтверждают правоту замечания Путилова о том, что в поисках диалектных различий не следует искать доминанту, нечто необычное, выдающееся из привычного набора признаков. Следует анализировать специфику «общеизвестного» и широко распространённого. Фольклорный репертуар зон и локальных очагов может не обладать доминантой, а характеризоваться обыденностью, ординарностью [Путилов 2003: 158-163].
Рекомендуемая литература
Бобунова М.А., Праведников С.П., Хроленко А.Т. Проблемы фольклорной диалектологии. Курск: КГУ, 2003.
Гильфердинг А.Ф. Олонецкая губерния и её народные рапсоды // Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. 2-е изд. Т. 1. СПб., 1894.
Жирмунский В.М. Методика социальной географии (Диалектология и фольклор в свете географического исследования) // В.М. Жирмунский. Фольклор Запада и Востока. Сравнительно-исторические очерки. М.: ОГИ, 2004.
Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура; In memoriam. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003.
Толстой Н.И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.
Личность в фольклорно-языковом процессе
«Жизнь языка открыта всем, каждый говорит, участвует в движении языка, и каждое сказанное слово оставляет на нём свежую борозду» [Мандельштам 1987: 179]. Язык и традиционная культура считаются феноменами массовыми и в силу этого анонимными. Однако в XX в., когда в гуманитарных (да и не только) науках стала утверждаться антропоцентрическая парадигма, интерес исследователей с массы носителей языка и культуры переместился на личность.
Известный американский лингвист и культуролог Э. Сепир утверждал, что два человека одного поколения и одной местности, говорящие на одном и том же диалекте и вращающиеся в той же социальной среде, никогда не будут одинаковы по складу речи, они говорят на слегка различающихся диалектах одного и того же языка, а не на одном и том же языке. Правда, индивидуальные различия речи молчаливо «корректируются» или «уничтожаются согласованностью обычая», но никогда не устраняются полностью и дают начало территориальным диалектам. Начало всех изменений (дрейфа) в языке начинается с идиолекта – речи индивида. По Сепиру, территориальные диалекты – это лишь проявление в социализированной форме универсальной тенденции к индивидуальному варьированию речи [Сепир 1993: 143–144].
Лингвисты говорят о так называемом «эффекте отцов-основателей» популяции. Каждый человек обладает индивидуальной лексикой, особенностями произношения и построения фраз (в лингвистике это называется идиолект). В небольшой популяции идиолект может быть легко перенят потомками, не знающими «правильного» языка. Здесь срабатывает хорошо известный из генетики эффект дрейфа: внутри малых популяций у случайных изменений больше шансов сохраниться, не будучи подавленными – доминантными аллелями в случае биологии или «правильным» языком в случае лингвистики.
Предел социальной дифференциации языка – языковая личность. В последнее время интерес лингвистов обращён в сторону так называемой индивидуальной дифференциации речи носителя данного языка (микролингвистика). Дело в том, что выбор слов и построение синтаксических конструкций от предложения до более сложных форм не является постоянным в одно и то же время, они меняются беспрерывно в зависимости от ситуации разговора и собеседника. Японские исследователи ввели специальный термин «языковое существование», включающий в себя понятие индивидуальной дифференциации речи [Конрад 1959].
В конце XX столетия проблема языковой личности становится актуальной. Практической реализацией идеи может служить словарь личности. В отечественной науке известен опыт создания диалектного словаря личности: профессиональный лингвист составил и опубликовал словарь своей матери, неграмотной крестьянки [Тимофеев 1971].
Теоретическое осмысление проблемы начинается с монографии Ю.Н. Караулова «Русский язык и языковая личность» [Караулов 1987]. В 2007 г. вышло уже 6-е издание книги, что свидетельствует об интересе многих к указанной проблеме.
В отечественной науке известен опыт создания диалектологического словаря личности. Интересна попытка группы российских исследователей создать языковой портрет конкретного человека на примере языковой личности с рельефными языковыми чертами, уникальной индивидуальностью, ярко воплотившей в себе черты своего времени, культуры, народа, носителя языковой традиции поколения русской интеллигенции, замечательного языковеда А.А. Реформатского. Для авторов исследования языковая личность – это произносительная манера, особенности устной речи, своеобразное использование знания иностранных языков, словаря, заметки на полях любимых книг, любовь к прозвищам, манера общения в семейном кругу, язык писем, стиль написания научных текстов и т. п.
Языковая личность – это личность, выраженная средствами языка в языке (текстах) и в основных чертах выявляемая в результате анализа языковых средств. Полагают, что за каждым текстом стоит языковая личность, которая характеризуется не только степенью владения языком, но и выбором – социальным и личностным – языковых средств различного уровня. Для личности характерно своё видение мира, определяемое индивидуальной языковой картиной мира. Индивидуальная дифференциация речи – залог всех других форм дифференциации языка, основная пружина его эволюции.
По Караулову, структура языковой личности состоит из трёх уровней:
1) вербально-семантического, предполагающего для носителя нормальное владение естественным языком, а для исследователя – традиционное описание формальных средств выражения определённых значений;
2) когнитивного, единицами которого являются понятия, идеи, концепты, складывающиеся у каждой языковой индивидуальности в более или менее упорядоченную, более или менее систематизированную «картину мира», отражающую иерархию ценностей. Когнитивный уровень устройства языковой личности и её анализа предполагает расширение значения и переход к знаниям, а значит, охватывает интеллектуальную сферу личности, давая исследователю выход через язык, через процессы говорения и понимания – к знанию, сознанию, процессам познания человека;
3) прагматического, заключающего цели, мотивы, интересы, установки и интенциональность. Этот уровень обеспечивает в анализе языковой личности закономерный и обусловленный переход от оценок её речевой деятельности к осмыслению реальной деятельности в мире [Караулов 1989: 210].
Об языковой личности стали размышлять и диалектологи. «Идиолектное варьирование структуры, нормы и узуса диалектного идиома определяется различиями не только биологических, социальных, но и психологических, мировоззренческих характеристик говорящих индивидуумов, различиями в сфере их интересов, моральных ценностей и т. д. Степень языковой инициативы говорящего зависит также от большей или меньшей его склонности к рефлексии над языком, к языковой игре, к словотворчеству» [Нефедова 2001а: 68]. Наблюдения над словоупотреблением одной из жительниц архангельской деревни, у которой более 300 единиц с прагматическим компонентом из 1400 – продукт индивидуального словотворчества, подтверждают уже не раз звучавший вывод диалектологов о необходимости изучать динамику современных говоров, источники, ресурсы и средства варьирования с учётом фигуры носителя идиолекта – конкретной языковой личности [Нефедова 2001б].
Идиолектность – органическое свойство традиционной культуры в любой её области, включая мифотворчество. Известный религиовед и писатель М. Элиаде в книге «Аспекты мифа» пишет: «В архаических обществах, как и везде, культура создаётся и возобновляется благодаря творческому опыту нескольких индивидов» [Элиаде 2000: 141]. Роль творческих личностей всегда была более значительной, чем это можно предположить. Шаманам и сказителям, – пишет М. Элиаде, – удавалось в конечном счёте внушить соответствующим сообществам по крайней мере некоторые из своих воображаемых видений. Современные исследователи уже высветили роль творческого индивида в разработке мифов и в передаче их. Можно предположить, что роль эта в прошлом была ещё значительнее, когда поэтическое творчество «имело общую природу с эстетическим опытом и было ему подвластно» [Элиаде 2000: 140–141].
Давно уже подмечено, что каноническое искусство, оставляющее, казалось бы, ничтожную возможность для индивидуального начала, тем не менее способствует изобретательности в области формы, стимулирует своего рода творческое «соревнование» мастеров, следование традиции становится творческим состязанием мастера с предшественниками и последователями [Конявская 2000: 85]. В таком соревновании и возникают уникальные элементы формы и языка, изменяющие даже такую устойчивую структуру, как жанр.
Идея идиолектности была близка известным собирателям произведений устного народного творчества и фольклористам. В очерке «Олонецкая губерния и её народные рапсоды» А.Ф. Гильфердинг отмечает: «Кроме местных влияний, в былине участвует личная стихия, вносимая в неё каждым певцом; участие это чрезвычайно велико, гораздо больше, чем можно бы предполагать, послушав уверенья самих сказителей, что они поют именно так, как переняли от стариков» [Гильфердинг 1895]. Аналогичный вывод сделан на материале эпической традиции Югославии [Лорд 1994]. Успешно исследовалась типология искусства севернорусского былинного сказителя [Черняева 1976].
К.В. Чистов на примере знаменитой плакальщицы И.А. Федосовой показал, насколько подвижен текст причети и как зависит он от условий записи, на которые чутко реагирует творческий индивид. Диапазон изменений огромен – от отдельных стихотворных вставок, стихотворной или прозаической экспозиции до глубокого преобразования всего текста, превращения обрядового текста в плач-поэму [Чистов 1993: 99].
Такое приметное свойство былинных текстов, как синонимические пары, по мнению Ю.А. Новикова, не только проявление специфики поэтического языка, но и способ незаметного и безболезненного обновления лексики эпических песен, ибо наряду с устаревшими или диалектными словами содержат их «переводы», более употребительные и понятные синонимы. Через свои идиолекты новые поколения сказителей «омолаживают» словарный состав эпических текстов [Новиков 2000: 83–84].
Индивидуальное видится даже в фольклорных произведениях, исполняемых коллективом. П. Флоренский на страницах книги «У водоразделов мысли» так описал свои впечатления от народного хорового пения. «…Полная свобода всех голосов, «сочинение» их друг с другом, в противоположность подчинению. Тут нет раз навсегда закреплённых, неизменных хоровых «партий». При каждом из повторений напева, на новые слова, появляются новые варианты как у запевалы, так и у певцов хора. Мало того, нередко хор, при повторениях, вступает не на том месте, как ранее, и вступает не сразу, как там, – вразбивку; а то и вовсе не умолкает во время одного или нескольких запевов. Единство достигается внутренним взаимопониманием исполнителей, а не внешними рамками. Каждый более-менее импровизирует, но тем не разлагает целого, напротив, связывает прочней, ибо общее дело вяжется каждым исполнителем – многократно и многообразно. За хором сохраняется полная свобода переходить от унисона, частичного или общего, к осуществлённому многоголосию. Так народная музыка охватывает неиссякаемый океан возникающих чувств, в противоположность застывшей и выкристаллизовавшейся готике стиля контрапунктического. Иначе, русская песня есть осуществление того «хорового начала», на которое думали опереть русскую общественность славянофилы». Это явление философ назвал термином гетерофония [Флоренский 1990: 30–31].
Индивидуальность певца во всех указанных выше работах оценивается интегрально: эпический запас, выбор тем и сюжетов, величина текста, отношение к традиционному тексту, использование устойчивых формул, манера исполнения и т. п. Собственно языковой анализ текстов проводился фрагментарно и без учёта принадлежности того или иного языкового явления конкретному сказителю.
В наши дни, когда сформировалось специальное направление – лингвофольклористика, в повестку дня исследований языка фольклора встал вопрос о личном вкладе того или иного сказителя в народно-поэтическую речь.
Курской исследовательницей М.А. Караваевой под нашим руководством была успешно защищена диссертационная работа на тему «Идиолект былинного певца». Обратившись к текстам трёх кижских сказителей, М.А. Караваева определила активные (использованные в текстах) лексиконы и сопоставила их между собой. Несовпадающие части лексиконов позволили исследовательнице нарисовать языковой портрет каждого певца и попытаться определить личностные черты, проступившие в этих портретах.
Если судить по лексиконам сказителей, то в идиолекте Рябинина человек – деятель, воин, много значат для него родственные отношения. Отсюда большое количество лексем, характеризующих виды деятельности, её результат, состояния и ощущения, названия воинских атрибутов. Для певца существенны как борцовские и деятельностные качества богатыря, его отношение к этносу, так и различного рода характеристики бытовых реалий, наименования флоры и фауны. Эпитет в текстах Рябинина – это средство, придающее значимость и масштабность реалиям былинного мира, где нет неопределённости. Для сказителя характерно употребление не только двухэпитетных структур, но и целых атрибутивных цепочек. Лексика певца семантически полярна, что обусловливает присутствие большого количества антонимичных пар. Рябинин пространно характеризует деятельностный мир былины, дифференцируя глагольным словом оттенки происходящего, акцентируя внимание на глаголах говорения, движения и волеизъявления. В лексиконе Рябинина расширены словообразовательные типы с пре– и при-, сложные формы с корнем бел-; нашли применение различные языковые приёмы: употребление тавтологических сочетаний разного рода, бинарных структур, широкое использование возможностей многозначных слов, активное варьирование синонимов – в текстах Рябинина обнаружены целые группы слов, которые совпадают или близки по значению. Оформление типических мест в былинах певца отличается индивидуальностью.
Человек в идиолекте Чукова – управитель, с более выраженным интересом к мыслительной деятельности индивида и его этнической принадлежности. Певец меньше внимания обращает на описание животного или растительного мира, отдавая предпочтение характеристике различных материалов, веществ, жилища и его частей. Признаковый мир в идиолекте Чукова содержит немало прилагательных, определяющих человека, детальных характеристик местности, ощущений и состояний, нередко содержащих как родовые, так и видовые понятия. В деятельностном мире былины у сказителя выделяются слова, обозначающие бытие, процесс еды, глаголы, выражающие различные чувства и характерные движения. Идиолект Чукова отличается большим количеством диалектизмов различного рода, в числе которых много слов, подвергшихся фонетической трансформации. В лексиконе певца присутствует немало индивидуально употребляемых двухэпитетных структур, синонимических рядов, биномов различного характера, сравнений и формульных фрагментов.
Сказительскую манеру Романова характеризуют мягкость стиля, присутствие большого количества диминутивных форм с различной морфемной структурой. Певец акцентирует внимание на обозначениях женщины и ребёнка, названиях характерных примет человека. Пространно описывая бытовые реалии, мир рыб, он немногословен в характеристиках воинских атрибутов и животного мира. В текстах певца практически нет атрибутивных цепочек, немного двухэпитетных структур, среди определений преобладают слова с положительной коннотацией. Романов оригинален в использовании сложных прилагательных, тавтологических эпитетосочетаний, но традиционен в употреблении глагольной тавтологии. Сказитель напрямую связывает процессуальный мир былины со сферой человеческих ощущений, волеизъявлений и различного рода передвижений в пространстве, будучи лаконичным в области глаголов говорения и слов, описывающих единоборства и деятельность, с ними связанную. Певец нередко представляет авторский вариант формульных мест былины, демонстрируя наличие в своей эпической памяти запаса синонимов и традиционных сочетаний [Караваева 1997].
Проблему идиолектности народно-поэтической речи гораздо легче решать, когда в руках исследователя оказывается лексикографический продукт, в котором широкий охват текстового материала согласуется с пристальным вниманием к каждой языковой единице. В 90-е годы ушедшего столетия курские лингвофольклористы приступили к осуществлению давно задуманного проекта – созданию словаря языка русского фольклора. Первые статьи словаря сразу же указали на факт индивидуальной дифференциации былинной речи. В 2000 г. выходит пробный выпуск словаря, а в 2006 г. увидели свет два выпуска «Словаря языка русского фольклора: Лексика былины» [Бобунова 2006]. В специальной части статьи словаря содержатся сведения о диалектном или идиолектном характере лексемы или словоформы. Словарь оказывается справочником, из которого видны индивидуальные особенности былинной речи каждого сказителя. Приведём примеры. В словарных статьях приняты следующие условные обозначения:
заглавное слово (количество словоупотреблений); ⇔ : производящее слово (факультативно); 'дефиниция' (факультативно); иллюстрация; =: варианты; S: связи с существительными (Ss и So при описании глаголов); A: связи с прилагательными; Pron: связи с местоимениями; Num: связи с числительными; V: связи с глаголами (Vs: с субъектом; Vo: с объектом); Adv: связи с наречиями; Voc: функция обращения;❒: ассоциативные ряды; F: поэтическая функция; +: дополнительная информация, комментарии.
Обратимся к кластеру словаря «Двор и дом». Под кластером мы понимаем совокупность слов различной частеречной принадлежности, семантически и / или функционально связанных между собой, которые служат для репрезентации того или иного фрагмента картины мира (концептосферы). В избранном кластере 152 лексемы. Это имена существительные (амбар, верея, дом, двор, ворота и т. д.), прилагательные (брусовый, грановитый, стекольчатый, косищатый и т. д.), глаголы (выстроить, подворотничать, приворотничать), наречия (в/доме, в/дому, на/пяту, настежо и т. д.), композиты (печка-муравленка) и неоднословные обозначения (дом питейный).
Сорок лексем, или 26 %, – это гапаксы, т. е. слова, употреблённые во всем корпусе лексикографически описанных текстов всего один раз. Среди гапаксов наличествуют слова общеупотребительные (забор, половица, пробой, рама, ременный, ступень, сундук и др.), словообразовательные варианты (перинчатый-перильчатый, подворница, подворотничать, приворотничать, при-дворник, ступенцы и др.), диалектизмы (подкладёнки, придворье, пристенок, упеченка, одверьице и др.), заимствованные слова (балкон, кабинет, карниз). Например:
Забор (1) Широкий двор на семи верстах, И около заборы позолочены (2, № 180, 46) +: Захаров (Выгозеро) «Дюк».
Подворотничать (1) 'Быть привратником' [СРНГ, 27: 368] Три году Добрынюшка ключничал, Друго три Добрыня подворотничал, А третье три Добрынюшка пир держал (2, № 168, 1) +: Макарова и Пастухова (Кижи) «Добрыня и Алёша».
Одверьице (1) ⇔ Одверье 'Дверная коробка' [СРНГ, 23: 6] Да и вышиб дверь он и с одверьицем (2, № 158, 108) +: Касьянов (Кижи) «Михайло Потык».
Кабинет (1) Да заходит ли младый Добрынюшка Никитинич Во свой ли кабинет богатырский Да берёт три златницы три серебряных (2, № 118,187) +: Щеголенок (Кижи) «Святогор и Добрыня».
К гапаксам близки слова с частотой 2 как результат повтора. Например:
Домашный (2) 'Внутренний, внутригосударственный' [СлРЯ XI–XVII вв.: 4: 308] Говорил Василий да Никулин де: Что ваше дело-то домашнее, Домашнее дело княженецкое, А наше дело-то посольное (2, № 151, 141) +: Чуков (Кижи) «Ставер».
Помимо гапаксов, которые квалифицируются как факт идиолектной (индивидуальной) актуализации, можно выделить лексику идиолектную, т. е. зафиксированную в текстах исключительно одного исполнителя не менее трёх раз. Например:
Загородь (3) 'Изгородь' [СРНГ, 10: 23] Не было ни ветра, ни вихоря, Терем пал, загородь поломал И вышибло ворота середи двора (2, № 164, 83) V0: поломать 3 +: Еремеев (Кижи) «Хотен Блудович».
Ободверенка (3) 'Дверной косяк' [СРНГ, 22: 153] Прискочит тут Добрынюшка к ободверенке, Вырвал тут Добрынюшка он ободверенку <…> Зачал ободверенкой помахивати (1, № 34, 104) +: Гришин (Толвуй) «Дунай».
Оконница (3) 'Оконная рама, окно' [СРНГ, 23: 149] Теремы-то ведь тут пошаталися, Хрустальнии оконнички посыпались (1, № 48, 129) =: оконнички 1 А: хрустальный 3 Vs: посыпаться 3 ❒: терема … оконницы +: Прохоров (Пудога).
Светлица (3) 'Светлая, имеющая много окон комната в верхней части дома' [СлРЯ XI–XVII вв.: 23: 142] [Катерина Викулична] Проводила Чурилу во светлы светлицы (2, № 189, 42) А: светлый 3 V0: идти в с. 1, пойти во с. 1, проводить в с. 1 +: Висарионов (Выгозеро) «Смерть Чурилы».
Череда (4) 'Пол – примеч. собир.' [Гильф., 3: 507]. Чурилкова головушка с плеч свалиласе На ту ли на череду кирпичную (3, № 309, 116) А: кирпичный 4 V0: бросить на ч. 1, валяться по ч. 1, проливаться на ч. 1, свалиться на ч. 1 +: Швецов (Моша).
Словарные статьи фиксируют идиолектные эпитетосочетания: амбары мугазенные (2. Здесь и далее количество словоупотреблений) – Поромской (Кенозеро), ворота белодубовы (2) – Романов (Кижи), горенка столовая (29) – Рябинин (Кижи), двери белодубовы (4) – Попова (Повенец), дом питейный (1) – Рябинин (Кижи).
Словарные статьи наиболее частотных имён существительных показывают, как на фоне так называемых постоянных эпитетов выступают идиолектные (авторские) определения. Например: замочек шурупчатый – Лисица (Выгозеро), замочки весучие – Швецов (Моша); спальняя палата – Сарафанов (Кижи), жи-лецкая палата – Щеголёнок (Кижи), палаты вдовиные – Чуков (Кижи), палаты передние – Касьянов (Кижи); горница оружейная – Романов (Кижи), великая горница – Елисеев (Выгозеро); особый потайный покой – Прохоров (Пудога), белодубовый покой – Щеголёнок (Кижи), особлив(ый) покой – Романов (Кижи); каленовая скамеечка – Лисица (Выгозеро), скамейка хрустальная и скамеечка рыбчатая – Суханов (Водлозеро).
Одна из форм идиолектной актуализации – перенос постоянного эпитета на иное имя существительное. Так, косивчатым обычно бывает окно, околенка, окошко, а у Поромского (Кенозеро) отметим косивчатые сени. Обычно косерчатым определяется окошко, а у Кукшинова (Кенозеро) – косерчатые сени.
Словарь фиксирует идиолектные формулы: терем златой верх (12), поразмахиватъ дверь на/пяту (6), снять крышу со бела шатра (4), кланяться до полов кирпичных (4) – Рябинин (Кижи), тридевять замков (3) – Сурикова (Кижи), из замочка в замочек замыкаться (2) – Георгиевская (Кенозеро), с крюков замков дверь выставливатъ (3) – Поромской (Кенозеро).
В онежских былинах достаточно частотно определение леванидов.
Леванидов (25) Леванидов крест 'Название чудодейственного креста, также местн. н. в устн. народн. творчестве'. От греч.
«из ливанского дерева» [Фасмер: 2: 472] Да к тому кресту поехал Леванидову (1, № 6, 102) S: дуб 1, книга 2, крест 22
Однако наряду с устойчивым эпитетом в текстах зазвучали различные гапакс легомена.
Деванделидов (1) См. Леванидов. Из-под белые берёзки кудревастенькие, Из-под чуднаго креста Деванделидова Шли туто четыре гнедые туры (3, № 258, 1) +: Лядков (Кенозеро) «Василий Игнатьевич и Батыга».
Мендалидов (3) См. Леванидов. Двор у Чурила на Почаи реки, У чудна креста де Мендалидова (3, № 223, 115) S: крест 3 +: Поромской (Кенозеро) «Молодость Чурилы». Частица де собирателем могла бы быть воспринята как часть последующего слова и оформлена как Демендалидов. Ср. с предыдущим Деванделидов.
Левантинов (1) См. Леванидов. Из-под белыя берёзки кудревастенькия, Да из-под чуднаго креста да Левантинова. Выходила тут турица златорогая (2, № 116, 1) +: Корнилов (Кижи) «Василий Игнатьевич и Батыга».
Леванидин (1) См. Леванидов. Сидит Соловей Рахманович, Сидит у реченки у Черной, У того дуба Леванидина (2, № 112, 18) +: Дьяков (Кижи) «Илья Муромец и Соловей разбойник».
Левинов (1) См. Леванидов. Собрались три сильних русских, три могучиих богатыря Ко кресту да ко Левинову (2, № 1 58, 29) +: Касьянов (Кижи) «Михаил Потык».
Аналогичные «веера» изофункциональных определений мы увидим, листая страницы словаря, описывающие различные кластеры – фрагменты фольклорной картины мира. Рядом с узуальным багрецовый находим багречевый и батрецовый.
Багрецовый (5) от багрец 'красная краска' [СлРЯ XI–XVII вв.: 2: 63] Розстиланы сукна багрецовые (3, № 230, 305) S: сукна 5 +: Кенозеро.
Багречевый (2) от багрец 'красная краска'. Утяни все сукна багречевыя. Убивай гвоздьём шеломчатыим (3, № 304, 42) S: сукна 2 +: Швецов (Моша) «Илья Муромец и Калин-царь».
Батрецовый (1) [Знач.?] [СРНГ: 2: 147] Да мощёны-де были мосты всё дубовые, Сверху стланы-де сукна батрецовые (3, № 225, 289) +: Поромской (Кенозеро) «Дюк». В СРНГ прилагательное батрецовый представлено без толкования (знач.?) с былинной цитатой из Гильфердинга. Полагаем, что батрецовый – искажённое слово багрецовый 'красный', определение к существительному сукна.
Рябинин характеризует сукно иным по форме, но близким по семантике словом.
Гормузинный (2) [Знач.?] [СРНГ: 7: 46]. Отсылка: см. Гармазинов. Гармазиново сукно 'Красное сукно' [СРНГ: 6: 142] Настланы-то у ней сукна гормузинные (2, № 85, 123) ||: кармазинный +: Рябинин (Кижи) «Дюк».
В идиолекте возможен «цветовой алогизм» – синие чулки красного цвета.
Кармазинный (3) '1. Ярко-красный', '2. Только в сочет. Кармазинное сукно – тонкое красное сукно' [СлРЯ XI–XVII вв.: 7: 71] Да ставал Илья на чеботы сафьянные, Да на сини чулки кармазинные (3. № 219, 55) ||: гормузинный +: Поромской (Кенозеро).
Шире всего наборы изофункциональных по цели и индивидуальных по форме определений к вещам, привезённым с Востока. Вот как певцы определяют копьё или меч.
Буржамецкий (4) См. Бурзамецкий. Во-вторых брал копьё боржамецкии (2, № 75, 187) =: боржамецкий 2, буржомецкий 2 S: копьё 4 +: у Швецова (Моша) в тексте «Хотен Блудович» и буржомецкое, и буржамецкое.
Бурзамецкий (9) 'Бурзамецкий «языческий», устн. народн. творчество. См. мурзамецкий' [Фасмер: 1: 244]; 'Бурзамецкий и бурзомецкий, фольк. Эпитет копья, меча' [СРНГ: 3: 286] Да не было у Добрыми платья цветнаго, Да не было меча да бурзомецкаго (2, № 156, 51) =: бурзомецкий 5 S: копье 8, меч 1.
Муржамецкий (6) 'фольк. То же, что мурзамецкий. Копьё муржемецкое' [СРНГ: 18: 354]. Мурзамецкий 'фольк. То же, что мурзавецкий' [СРНГ: 18: 354]. Музавецкий 'фольк. Восточный; татарский' [СРНГ: 18: 354] Приударить надо в копья в муржа-мецкии (2, № 77, 159) S: копье 6.
Мурамецкий (4) 'фольк. Восточный; татарский (о копье)' [СРНГ: 9: 351] В головы клали саблю вострую, Возле себя копьё мурамецкое (2, № 139, 158) S: копьё (4) +: муржамецкое и мурамецкое в текстах кижских певцов, причём первое – у Рябинина, второе – у Суриковой и Дутикова.
Бурманецкий (2) Да спущали телеги ордынские, Становили-то копья бурманецкие (3, № 296, 193) S: копьё 2 +: Ст. Максимов (Кенозеро) «Илья Муромец и Калин-царь».
Китайский шёлк определяется «веером» изофункциональных эпитетов, и у каждого такого эпитета свой автор.
Маханский (2) См. Муханский. Ай как подпруги у его седелышка да шелковыи, Ай как того шелку ли китайскаго, Да славнаго того маханскаго… Ай маханский шолк да не сорвется (3, № 216, 29) 2: китайский… маханский 1 +: Панов (Водлозеро) «Илья Муромец».
Муханьский (3) 'фольк. Шемаханский. Шелки муханские. Былины Севера. Астахова' [СРНГ: 19: 36]. Также: Мухан 'Магометанин' [СРНГ: 19: 36] Подвязывал шелками муханьскими (2, № 138, 132) +: трижды в одном тексте у Суриковой (Кижи) «Илья Муромец и Калин-царь».
Шамахинский (4) Шемахинская плётка 'шёлковая плётка', часто в былинах о Добрыне Никитиче… Производное от названия города Шемаха, в Азербайджане» [Фасмер: 4: 427] Выдернул же плётку шамахинскую А семи шелков да шамахинскиих (1, № 5, 470) S: плётка 3, шёлк 1 +: Калинин (Повенец) «Добрыня Никитич».
Шемаханский (14) Он подтягиват подпруги шелковыя, А семи шелков да шемаханскиих (2. № 115, 68) S: шёлк 14.
Шемахинский (2) А не нашего шолку, шемахинскаго (3, № 206, 70) S: шёлк 2.
Шемуханский (1) [Знач.?] Двенадцать попружков подтягивал Шелку да шемуханскаго (2, № 145, 47) +: Дутиков (Кижи) «Добрыня и Алёша».
Шаматинский (1) [Знач.?] А и того ль кладьте шолку Шаматиньскаго (3, № 213, 44) +: Федулов (Водлозеро) «Дюк».
Шанский (4) [Знач.?] И во уздицах повода были шелковыи, Ведь разных шолков, шолков шанскиих (2, № 128, 41)5: шёлк 4 +: Щеголенок (Кижи).
Шахтанский (1) [Знач.?] Не просты были подпруги, семи шелков, Не простого-то шолку, шахтанскаго (1, № 64, 32) +: Антонов (Пудога) «Добрыня и змей».
Рассыпанные на словоупотребления, тексты, превращаясь в лексиконы, вдруг как бы заговорили языком своих исполнителей. По аналогии с термином П. Флоренского это явление мы могли бы назвать гетеролексией.
Заинтересованный читатель нашего словаря найдёт в нём самые разнообразные элементы идиолектов практически всех исполнителей, увековеченных в «Онежских былинах». Это могут быть индивидуальные устойчивые конструкции, варианты общеэпических формул, неожиданные определения (типа золочёная речка), авторские цепочки определений, свои ассоциативные ряды. Можно суммировать речевые отличия каждого исполнителя и выявить степень дифференцированности активного сказительского лексикона каждого певца.
Рекомендуемая литература
Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.
Караулов Ю.Н. Предисловие. Русская языковая личность и задачи её изучения // Язык и личность. М., 1989.
Караулов Ю.Н. Языковая личность // Русский язык: Энциклопедия. М., 2003. С. 671–672.
Хроленко А.Т. Идиолект былинного певца в словаре языка русского фольклора // Мастер и народная художественная традиция Русского Севера. Петрозаводск, 2000. С. 298–308.
Кросскультурная лингвофольклористика
Сопоставительное и кросскультурное направление в лингвофольклористике
К началу нового столетия сложилось направление, которое можно было назвать сопоставительной лингвофольклористикой. В 2002 г. была опубликована коллективная монография «Опыт сопоставительного анализа в лингвофольклористике» [Хроленко 2002], а на следующий год вышел в свет сборник научных трудов «Сопоставительная лингвофольклористика» (Курск, 2003). В этих изданиях обсуждались различные проблемы нового научного направления с первостепенными вопросами: что сопоставлять, с какой целью и как.
Выяснилось, что сопоставление возможно внутреннее в рамках одной народно-поэтической культуры и внешнее – сопоставление тех или иных фрагментов народно-поэтической культуры двух и более этносов. Список целей сопоставления может быть достаточно обширным. Для внутреннего сопоставления – это общее / своеобразное картин мира различных фольклорных жанров; территориальная дифференцированность языка фольклора; эволюция фольклорного лексикона жанров и всего фольклора в целом и др. Сопоставительная лингвофольклористика предполагает сравнение объектов фольклорно-языковых (вариантов текста, разновидностей текстов внутри жанра, самих жанров и т. д.). Цель сопоставительной лингвофольклористики – выявление общефольклорных, общежанровых, диалектных и идиолектных явлений, в конечном счёте углублённое изучение вербальной составляющей одной конкретной фольклорной культуры. При этом анализ не выходит за пределы языка фольклора. Отсюда идея названия – внутреннее сопоставление.
Поскольку термин сопоставительная лингвофольклористика достаточно широк и может употребляться как для внешних, так для внутренних сопоставлений, мы предложили для сравнения фрагментов культур разных этносов использовать особый термин кросскультурная линвофольклористика.
В академических словарях русского языка прилагательное кросскультурный отсутствует. Нет его в наиболее популярных энциклопедиях и справочниках, даже в энциклопедическом словаре «Культурология» [Хоруженко 1997]. В то же время слово кросскультурный используется чрезвычайно широко. Поисковая система Яндекс в этом отношении весьма красноречива. Самые частотные словосочетания охватывают широкий круг определяемых существительных: (кросскультурный) анализ, аспект, аспекты деловых отношений, взаимодействие, исследование, коммуникация, менеджмент, некомпетентность, образование, образовательная интеграция, особенности управленческой этики, проблемы в образовательном пространстве, компетенция и др.
Что касается правописания, мы предпочитаем слитное написание. Изофункциональность прилагательных кросскультурный и кросскультурный несомненна. Будучи заимствованием (Cross-Cultural), лексема у большинства авторов сохраняет дефисное написание, однако онлайновый словарь русского языка предлагает бездефисную форму. Поисковая система портала «Русский язык» () показывает наличие исключительно формы кросскультурный со ссылкой: Русский орфографический словарь Российской академии наук / Под ред. В.В. Лопатина [Электронный ресурс] электр. дан. М., 2001–2002.
Отсутствие слова в толковых словарях осложняет определение его значения. Как авторы понимают используемое ими слово, можно видеть на примере аннотаций к публикациям. В аннотации к книге Л.М. Симоновой и Л.Е. Стровского «Кросскультурные взаимодействия в международном предпринимательстве» [Симонова 2003] читаем: «В пособии отстаивается кросскультурный подход к практике ведения международного бизнеса, анализируется воздействие национальной культуры на особенности международного предпринимательства, эффективность коммуникаций в международных экономических отношениях, а также определяются пути, с помощью которых можно получить знания о других бизнес-культурах и подготовить менеджеров к международному взаимодействию». В другом документе в сети
Интернет говорится: «Кросскультурная психология – изучение особенностей и проблем вживания людей в чуждые им изначально культурные среды». «Глоссарий. ру» в сети Интернет даёт следующее определение: «Метод кросскультурного сравнения – метод выявления универсальных и специфических образцов поведения индивидов, социальных групп, организаций, институтов в контексте различных культур».
Несмотря, а может быть, и благодаря некоторой семантической расплывчатости, термин кросскультурный вполне приемлем и, как видим, востребован. Инициаль слова – кросс – содержит семы 'активность', 'контакт'. Думается, кросскультурный в русской речи означает ситуацию активного проявления культурной специфичности, будь то поведенческий контакт представителей различных национальностей (и, как следствие, различных культур) или теоретический анализ сопряжения языков и культур.
Слово входит в синонимический ряд терминологических определений: межнациональный – интеркультурный – компаративный – транскультурный. Экспансия прилагательного кросскультурный ощущается даже в теории языка. Некоторые авторы уже называют традиционный сравнительно-исторический метод методом кросскультурным. В номенклатуре научных специальностей наличествует дисциплина «Лингвистика и межкультурная коммуникация». Ныне этот двусловный термин подвергается трансформации: оказывается, в Москве функционирует «Центр кросскультурных коммуникаций». Не очень выразительное межкультурный заменяется энергичным кросскультурный.
Кросскультурная лингвофольклористика основывается на сравнении фольклорно-языковых явлений, принадлежащих устному народному творчеству двух и более этносов. Цель кросскультурной лингвофольклористики – выявление культурных смыслов, аккумулированных в отдельных лексемах, формулах, текстах и в совокупностях текстов как атрибутов фольклорной картины мира и как манифестантов этнической ментальности, поиск общего и специфичного в традиционной культуре этносов, углублённое исследование феномена этнической ментальности, разработка эффективного инструментария для выявления культурных смыслов в единицах языка. Анализ выходит за пределы собственно языка фольклора и вторгается в область антропологии, лингвокультуроведения и этнолингвистики.
Сопоставительная лингвофольклористика выявляет своеобразие языка фольклора, кросскультурная – специфику этнической культуры и определяющей её этнической ментальности. В целом обе ветви лингвофольклористики исследуют феномен фольклорного слова во всём объёме его внутренних и внешних связей и отношений.
В 2005 г. вышел сборник научных трудов «Сопоставительная и кросскультурная лингвофольклористика» (Курск, 2005). Развитием идей кросскультурного сопоставления стали две содержательно, идеологически и методологически связанные монографии А.Т. Хроленко и К.Г. Завалишиной «Кросскультурная лингвофольклористика: народно-песенный портрет в трёх этнических профилях» [Завалишина, Хроленко 2005] и «Кросскультурная лингвофольклористика: тело человека в лексике русских, немецких и английских народных песен» [Завалишина, Хроленко 2006]. Авторы исходили из предположения, что специфика этнической культуры, своеобразие национального мировосприятия особенно очевидны при рассмотрении топологически однородных объектов, к которым можно отнести человеческое тело. При этом учитывались место и роль «телесной парадигмы культуры» в современном мире и отмечалась недостаточная изученность семантики и функции соматизмов в фольклорных текстах.
Технологию кросскультурного анализа в лингвофольклористике можно продемонстрировать на примере сопоставительного описания концептов «волосы» и «губы». Базой эмпирического материала стали следующие источники: Киреевский П.В. Песни. Новая серия. М., 1917; Великорусские народные песни / Под ред. А.И. Соболевского. В 3 Т. СПб., 1896–1897; Deutsche Lieder. Texte und Melodien. Ausgewahlt und Eingeleitet von Ernst Klusen. Frankfurt am Main und Leipzig, 1995 (Kl.); Sharp's Collection of English Folk Songs. Vol. I, II. London, 1974 (Sh.).
Концепт «волосы». Волосы в народных представлениях славян – средоточие жизненных сил человека. В магии отрезанные волосы (как и ногти, пот, слюна и др.) воспринимались как заменитель (двойник) человека. Волосы (как и шерсть) символизировали множество, богатство, изобилие и счастье [Славянские древности: 1: 422]. Поскольку волосы аккумулируют жизненную силу, их использовали в обряде наведения порчи. Отсюда в Древней Руси для женщин считалось позором даже во двор своего дома выйти с непокрытой головой – «опростоволоситься». Волосы – символ эротической энергии, и потому в Западной Европе того времени женские волосы расценивались как соблазн. Для многих привлекательных женщин в средневековой Европе красивые волосы были путёвкой на костры инквизиции.
Считалось также, что волосы символизируют и духовные силы (одухотворенную энергию). Отсюда символика волос: на голове – это высшие силы, на теле – преобладание низших. Волосы на голове сравнивали с океаном. Древние греки и римляне не сомневались, что наличие густых волос у Зевса и Юпитера олицетворяло их исключительную духовную, нравственную и физическую силу. Библия стояла на том же: Давид и Самсон обладали пышными шевелюрами, в длинных волосах богатыря Самсона таилась удивительная сила.
Потерю волос воспринимали как знак нравственного падения и бедности. Рабов стригли, чтобы подчеркнуть их зависимое положение и лишить покровительства богов. Древние египетские жрецы, индийские брамины и буддийские монахи в знак рабского подчинения божеству волосы брили. То же делают мусульмане, приносящие волосы в жертву Аллаху. В период хаджа (паломничества в Мекку) правоверные не только бреют голову, но и скоблят её.
Волосы – один из обязательных компонентов представления о женской красоте. Английский поэт Александр Поп писал следующее:
…На гибель всей мужской породе Носила кудри по последней моде: Два локона спускались вдоль ланит, Кудрями был затылок нежный скрыт. Плен для влюблённых – лабиринты эти Для сильных душ страшны такие сети!В традиционной культуре различных этносов волосы выступают необходимым элементом различных обрядов – от свадебных до похоронных, а также составляют часть этнического портрета.
Обратимся к русским народно-песенным текстам. Слово волосы в севернорусских текстах встретилось всего два раза, а в южнорусских – один.
Не сидела бы красна девица одна. Не чесала бы русы волосы частым гребешком, Не заплетала бы трубчатой косы (Кир., № 1271/87/); «Еще что же ты, Параша, Не весело идешь? Позаплаканы глаза, Порастрёпаны волоса!» (Кир., № 1363/16/).Этот феномен объясняется просто. Концепт «волосы» в русской традиционной культуре вербализуется двумя другими существительными – кудри и коса.
Возникает вопрос, каково место лексемы волосы в текстах других жанров. По данным словаря фольклорной лексики, в онежских былинах отмечено 44 словоупотребления существительного волос. В 14 с/у это компонент популярной в былинных текстах пословицы о женском интеллекте: «У ней волос долог, ум короток». Значительная часть словоупотреблений приходится на описание ситуации, когда любящая жена отправляется на выручку попавшего в беду мужа и ей приходится жертвовать своей причёской, принимая обличие мужчины – волосы брить, обрубить, подбривать, подрубить, подстригать. Во всех этих случаях волос никак не определяется. В русском эпосе волосы выступают и знаком возраста: Приберите вы мне невесту супротив меня Возрастом и волосом (Рыбн., т. 1, с. 426).
Что же касается немецкого и английского фольклора, то здесь дело обстоит иным образом. Наиболее часто волосы (hair) упоминаются в английских народных песнях, в немецких же песенных текстах слово Haar (Hart, Harlein) встречается реже.
Если сопоставить соответствующие зоны в словарных статьях русского, английского и немецкого фольклора, можно увидеть, как дифференцирована цветовая характеристика волос в традиционной культуре трёх этносов. Специалисты различают шесть видов основных цветов, присущих человеческому волосу, – чёрный, каштановый, русый, белый (блондин), рыжий, пепельный, – и насчитывают до тридцати вариантов комбинаций разных видов [Этинген 2002: 147].
В двух из трёх русских словоупотреблений использовано прилагательное русый. В немецких песнях цветовая палитра волос достаточно разнообразна, поскольку из 25 словоупотреблений в 19 лексема Haar характеризуется прилагательными, причем 17 из 19 – прилагательные колоративные.
В английских песенных текстах hair определяется прилагательными с морфемой 'чёрный': coal-black 'чёрный, как уголь', curlyblack 'чёрный кудрявый'. Аналогичные эпитеты мы найдём и в немецких текстах – kohlschwarz 'чёрный, как уголь' и schwarz-lockig 'чёрный кудрявый':
Общими для немецких и английских текстов являются эпитеты со значением 'тёмно-каштановый'.
She did appear like Venus fair And her dark brown hair did shine [Sh. I, 145A]'Она появилась, как Венера прекрасная, а её тёмно-каштановые волосы блестели'
Und wenn ich dann wiederum komm, Mein Herz ist vor Freuden so voll; Dein Auglein so klar, Dein schwar-zbraunes Haar Vergnugen mich tausendmal [Kl., 306]'И если я потом снова приду, моё сердце будет полно радости; твои глазки ясные, твои тёмно-каштановые волосы будут радовать меня тысячу раз'
Только в немецких песенных текстах отмечены колоративные определения с морфемой 'золотистый' – golden 'золотой', goldfarb kraus 'золотистого цвета кудрявый', goldfarbig 'золотистого цвета'.
В немецких песнях встречаются также blond 'белокурый', blondgelockt 'белокурый', braun 'каштановый', gelb 'жёлтый', kir-schenschwarz 'тёмно-вишнёвый', rot 'рыжий'.
Ich möcht ein Kränzlein tragen Auf meinem blonden Haar [Kl., 257]'Я хотела бы носить венок на моих белокурых волосах'
Wer sitzt denn darin? Ein Mann mit roten Haaren [Kl., 719]'Кто сидит там? Мужчина с рыжими волосами'
В английской песне отмечаем long ravening 'длинный с чёрным отливом'.
And her bare neck was shaded with her Long, ravening hair [Sh., 160]'И её обнажённая шея оттенялась длинными с чёрным отливом волосами'
Соотносительны немецкие и английские эпитеты, определяющие характер волос 'курчавые' – kraus и curled, 'вьющиеся' – lo-ckig и curly.
And curly was her hair [Sh., 127B] Holder Knabe im lockigen Haar, Schlaf in himmlischer Ruh, Schlaf in himmlischer Ruh! [Kl., 812]'А волосы у нее были вьющимися'
'Милый мальчик с вьющимися волосами, спи в небесном покое, спи в небесном покое'
Немецкое существительное Haar и английское hair в функции имени субъекта действия предполагают конструкции, которые характеризуют цвет и форму волос, а также их состояние. В немецких народных песнях: kohlschwarz <sein> wie Schimmel '<быть> чёрным, как смоль'; в английских – to be coal-black 'быть чёрным, как уголь', to be black as a raven's feather 'быть чёрным, как вороново крыло', to be curly 'быть вьющимся', <to be> like the velvet so soft '<быть> таким мягким, как бархат', to grow grey 'седеть', to hang down 'ниспадать', to hang over 'свисать', to lay 'лежать', to shine 'блестеть'.
В немецких и английских песенных текстах действия, производимые с волосами, разнообразны и направлены, прежде всего, на украшение внешности: ein Kranzlein auf das Haar setzen 'надевать венок на волосы', auf dem Haar tragen 'носить на волосах', streichen 'пригладить', to curdle 'закручивать', to go <a comb> through/in one's hair 'прикасаться <гребнем> к волосам'.
Глаголы со значением 'стричь, подстригать, отрезать', возможные в русском эпосе, но практически отсутствующие в русской лирике, обычны для немецких и английских песенных текстов. Так, в немецком тексте говорится о подстригании волос, когда персонаж против своей воли должен идти в монастырь.
Im Kloster, im Kloster, Da mag ich nicht gesein, Da schneidt man mir mein Härlein ab; Bringt mir groB schwere Pein [Kl., 428]'В монастыре, в монастыре, там я не хочу быть, там подстригут мне мои волосики; причинят мне этим большую боль'
Волосы подстрижены, если персонаж уже в монастыре.
Das Nönnlein kam gegangen In einem schneeweiBen Kleid Ihr Harl war abgeschnitten, Ihr roter Mund war bleich [Kl., 447]'Прошла монашка
в белоснежном платье,
её волосы были подстрижены,
её красный рот был бледным'
В английской песенной лирике волосы подстригают, когда героиня хочет изменить внешность.
Then I will cut off my curly hair, Man's clothing I will put on And I will follow after you To be your waiting-man [Sh.I, 532]'Тогда я отрежу свои вьющиеся волосы, и надену мужскую одежду, и я везде буду следовать за тобой, чтобы быть твоим слугой'
В немецкой и английской песенной традиции волосы можно zu-binden или to tie up 'связывать (завязывать)'; to ringle 'обвязывать'.
Bind du dein Haar mit zu! Ich will mein Haar nit binden, Ich will es hangen lan [Kl., 212]'Свяжи свои волосы вместе!
Я не хочу связывать свои волосы,
Я хочу их оставить распущенными'
If she will consent to marry me and tramp the country round I will dress my love in velvet, I'll ringle her hair in blue, If she'll consent to marry me and tramp the country through [Sh.I, 93]'Если она согласится выйти за меня замуж и пройти пешком по стране, я наряжу свою любовь в вельвет, и обвяжу её волосы голубым, если она согласится выйти за меня замуж и пройти пешком по стране'
В результате метонимического переноса имя волос определённого цвета и формы может обозначать ту или иную группу группу людей. В немецком фольклоре, например, weiβes Haar 'седые волосы' употребляется в значении 'пожилой человек'.
Wir bringen Gottes Segen heute Dem braunen wie dem weiβen Haar [Kl., 815]'Мы приносим сегодня божье благославление как молодым, так и пожилым (как каштановым, так и седым волосам)'
Schwarzlockige Haare 'чёрные кудрявые волосы' называют цыган.
Nach den Zigeunern lange noch schau'n Muβt ich im Weiterfahren, Nach den Gesichtern dunkelbraun, Nach den schwarzlockigen Haaren [Kl., 542]'Смотря ещё долго за цыганами, я должен был ехать дальше, за тёмно-коричневыми лицами, за чёрными кудрявыми волосами'
В английской народно-песенном тексте найдём паракинему to tore hair 'рвать волосы', выражающую отчаяние, горе, безвыходность.
She wrung her hands and tore her hair, Crying, asking: What shall I do? [Sh. I, 416]'Она ломала руки и рвала волосы, Крича, спрашивая: Что я должна делать?'
Как было сказано выше, минимальное количество словоупотреблений существительного волосы в русских народно-песенных текстах компенсируется наличием двух слов – кудри и коса. Родовое обозначение заменяется видовыми.
Концепт «губы». В русском песенном фольклоре лексема губы относится к числу редких. В проанализированных русских текстах отмечено всего два словоупотребления, да и те в одном песенном фрагменте:
У солдатки губы сладки, У солдата слаже: Солдат губы мёдом мажет (Соб, 4, № 387)Редко использовалось слово губы и в эпической речи. Так, словарь онежской былинной лексики указывает на семь словоупотреблений. Авторы словаря отмечают особо: «губы в былине – знак греховности. Никаких определений они не имеют, и единственный управляющий глагол при лексеме губы – отсечь (единично – не надобно)» [Бобунова, Хроленко 2000: 27].
Немецкая лексема Lippe 'губа' с её четырьмя словоупотреблениями частотностью тоже не отличается. Как субъект действия губы могут <sein> frisch und gesund '<быть> свежими и здоровыми', Dank wohlgefallen 'выражать благодарность'. Губы можно schliefien 'сжимать', uberflieβen 'наполнять'.
А вот в английских песенных текстах lips 'губы' – достаточно частотная лексема. 27 словоупотреблений для соматизма в фольклорной песне – это весьма высокий показатель. Почти во всех случаях существительное lips определяется прилагательными, которые можно классифицировать по группам: (a) цветовая характеристика (red ruby 'красные рубиновые', ruby 'рубиновые', lily-white 'белые как лилия'); (b) тепловые ощущения: (cold 'холодные', cold clay 'холодные, как глина', lily cold 'холодные, как лилия'); (c) вкусовые ощущения: sweet 'сладкие'; (d) оценка: (dear 'дорогие'); (e) комплекс признаков: pale cold 'бледные холодные', pretty ruby 'красивые рубиновые', sweet rosy 'сладкие румяные'.
And then he kissed her lily-cold lips Ten thousand times over, while she lied fast asleep [Sh. I, 16A]'И потом он целовал её лилово-холодные губы десять тысяч раз, в то время как она лежала словно спящая'
Lips определяется с помощью существительных: baby's cold lips 'холодные губы ребёнка', lips of my own sailor 'губы моего морячка'.
Губы характеризуются и с помощью предикативных конструкций: to be as cold as clay 'быть холодными, как глина' , to be blue 'быть синими', <to be> sweet '<быть> сладкими', to be so blue like the violets 'быть, как фиалки, синие'.
Единственный управляющий глагол при существительном lips – это to kiss 'целовать'.
He kissed her sweet lips as she lay fast asleep [Sh. I, 98]'Он поцеловал её сладкие губы, когда она крепко спала'
Итак, в английских песенных текстах lips с определениями – знак жизни и смерти. В первом случае губы дорогие, ярко-рубиновые, румяные, сладкие, во втором – холодные, белые, синие. С мёртвыми губами устойчиво ассоциируются лилия и глина.
Эмоциональный опыт
Дальнейшим шагом в постижении феномена человека, отражённого в фольклорном дискурсе, стала попытка исследования эмоционального опыта этноса средствами кросскультурной лингвофольклористики [Хроленко 2007а].
В своё время, сравнивая русский и английский языки, А. Вежбицкая пришла к выводу, что англо-саксонской культуре свойственно неодобрительное отношение к ничем не сдерживаемому словесному потоку чувств и что англичане с подозрением относятся к эмоциям, в то время как русская ментальность считает вербальное выражение эмоций одной из основных функций человеческой речи. «Эмоциональная температура текста» у русских весьма высока, гораздо выше, чем в других славянских языках [Вежбицкая 1997: 55].
Эти слова известного лингвокультуролога припомнились, когда курские лингвисты осуществляли сопоставительный анализ кластера «человек телесный» в песенном фольклоре русского, немецкого и английского этносов.
Фактический материал свидетельствует, что концепт «лицо» весьма активно вербализуется в песенных текстах трёх народов, однако удельный вес русской лексемы лицо в три раза выше, чем немецких лексем Gesicht и Angesicht, и в четыре раза выше, чем английского существительного face.
В английских песенных текстах все случаи словоупотребления face связаны с внешней оценкой физических достоинств лица: blooming 'цветущее', ugly 'безобразное', pretty 'хорошенькое, прекрасное'. В немецких песенных текстах лицо определяется как lieb 'милое', schon 'прекрасное', rauh 'грубое'. Как субъект действия, оно может lachen 'смеяться', leuchten wie ein Spiegel 'светиться, как зеркало', <sein> wie Milch undBlut '<быть> как кровь с молоком'. Во всех случаях демонстрируется безусловный мажорный настрой.
В русских лирических песнях лицо предстаёт как экран эмоционального переживания с характерными симптомами любовного чувства: Видно печаль и по ясным очам, Видно кручинушку и по белому лицу (Соб, 3, № 10). Психологам эта метафора близка: «Оно (лицо. – А.Х.) подобно информационному экрану, на котором с высокой точностью и динамизмом разыгрываются перипетии внутренней жизни человека. Именно с него в процессе непосредственного общения считываются сложнейшие «тексты» состояний, мыслей, интересов и намерений коммуникантов». «Сложнейшие узоры переживаний человека, его темперамент и характер оказываются как бы вынесенными вовне и доступными восприятию другого» [Барабанщиков, Носуленко 2004: 355, 357].
Эмоциональная жизнь, отражённая на лице, предстаёт в динамике цветовых характеристик. Динамизм цветовой характеристики предопределяет наличие финитных глаголов с «цветовым» корнем (белиться, румяниться, черниться).
С радости – лице белится, Белится лице, румянится; С печали – лице чернится, Чернится лице, марается (Соб, 3, № 8).Цвет – это репрезентация двух обобщенных эмоциональных состояний – «жары» и «остуды». Знаком любовной страсти выступает «жар». Жар 1. Румянец на лице; 3. Любовь, сильная страсть [СРНГ: 9: 71]: нажгать жаром лицо, проявиться жар в лице, появиться [жар] в лице.
Стояла, стояла, Жаром лицо, жаром лицо, Жаром лицо нажгала (Кир. № 1178/6/). Проявился у Саши в лице жар (Соб, 2, № 285). Я немножко с милым танцевала, Мил за ручку крепко жал, Я руки не отнимала Появился в лице жар (Кир.,№ 1328 /15/)С существительным жар ассоциируются глаголы разгораться /разгореться, пылать [кровь] в лице, разгорать лицо.
Приду домой, догадается, С чего лицо разгорается (Соб, 2, № 56). Отчего-то пылает в лице кровь? Она пылает, лице разгорает (Соб, 3, № 85). Разгорелось мое белое лицо, Зазноблялося сердечушко, Разыгралась кровь горячая (Соб, 2, № 52).Образ «любовь – горение» предопределяет наличие прилагательного с корнем – гар– или – пыл-:
Не шути-ка, парень, шуточки, Не задень меня по белому лицу. Мое личико разгарчивое, Ретиво сердце зазнобчивое! (Соб, 2, № 52). Уж ты, вдовка, ты, вдовка моя, Вдовья, вдовина, победна голова, Твое личико разгарчивое, Ретиво сердце доносливое! (Соб, 2, № 116).Разгарчивый 'Фольк. Легко, быстро покрывающийся румянцем (о лице, щеках)» [СРНГ: 33: 301]. Диалектный словарь фиксирует также разгарчистый. С тем же значением используются прилагательные разгасивчивый, от разгасить «Разгорячить, разрумянить кого-л. ' [СРНГ: 33: 301]; разгаситься 'раскраснеться, разрумяниться' [СРНГ: 33: 301].
Не щипли меня за белое лицо: Мое личико-то вспыльчивое, Щечки алыя разгарчивыя: Разгорятся, так не уймутся (Соб, 2, № 56).Симптомом любовного «жара» в русской народной лирике является румянец:
Во всем белом вашем лице румянец играет (Кир., № 1340).«Жару» и его симптому – румянцу – противостоит «остуда» физическая или эмоциональная. Примеры физической «остуды»:
Вышла в сени Саша простудиться, Чтобы жар с лица согнать (Соб, 2, № 285); Пойду, выйду млада на крылечко, Простужу бело лицо, Чтобы жар с лица сошёл (Кир. № 1328 /15/).Простужать, простудить лицо, голову и т. д. 'Освежить, вызывать чём-л. ощущение свежести, бодрости' [СРНГ: 32: 255]. Эмоциональная «остуда» связана со слезами:
У душечки ли у красной девицы Не дождичком ли белое лицо смочило Не морозом ли ретиво сердце по-знобило: Смочило ли лицо белое, лицо слезами Позябло ли лицо белое, лицо слезами, Позябло ли ретиво сердце с тоски-кручины (Кир. № 1248/64/).Не плачь, девка, не плачь, красна, Не рони слёз понапрасну: Слёзы ранишь, лице мочишь, Назад дружка не воротишь (Кир. № 1295/19/).
Следствие «остуды» – утрата красоты и её атрибутов – белил и румян:
Скоро Сашу взамуж отдадут, Скоро волюшка минуется, Красота с лица стеряется (Соб, 2, № 116); Скоро, скоро девку замуж отдают, Все минуются у девушки гульбы, Красота с лица покатится (Кир. № 1289 /13/); Вы, белилички, румянчики мои, Полетите со бела лица долой (Соб, 2, № 454).Белилички и румянчики – это не только косметические краски, но и естественный цвет лица, теряемый горюющей героиней песни:
Вся гульба моя пропала, Все румянцы с лица спали! (Соб, 2, № 111).Попутно заметим, что былинный эпос лаконичнее лирики в описании эмоций. Лицо как показатель эмоциональных переживаний упоминается редко: смениться в лице, спасть с лица, пристыдить лицо, стыдить лицо (студ /стыд, студа, стыдоба/ 'застывание крови от унизительного, скорбного чувства' [Даль: 4: 347]). Чаще (8 словоупотреблений) встретим формулу скорбить лицо (скорбить 'плача, обливаясь слезами, придавать скорбное выражение (лицу)' [СРНГ: 38: 84]).
Итак, русское лицо в народной лирике кардинально отличается от лица в песенном фольклоре немцев и англичан.
Разрабатывая основы кросскультурной лингвофольклористики на материале таких тематических групп, как «небо», «человек телесный», «художественная и религиозная культура», мы в полной мере ощутили те трудности, которые ожидают тех, кто попытается представить эмоциональный опыт этноса в текстах традиционной культуры.
Концептосфера «человек эмоциональный» вербализуется с помощью дескрипторов, т. е. слов и словосочетаний, описывающих эмоции. Ядро дескрипторов составляют имена эмоций – эмономы. Этот термин нам впервые встретился в статье «Эмоциональный опыт в контексте разных культур» [Багдасарова 2005: 108–109]. Полагаем, что более удачным, соответствующим системе онимов, был бы термин эмоним (ср. омоним, синоним, фитоним, зооним, эстематоним и др.), которым мы и намерены пользоваться.
Замечено, что нет ни одного переживания, которое доступно для одного этноса и недоступно для другого, поскольку эмоции универсальны, а вот словарь эмотивной лексики, вербализующей эмоциональный опыт, в разных языках различен. Это различие обусловлено национальным характером и культурой.
«У русских описание страха сопряжено с упоминанием слёз и пота, а англичане предпочитают употреблять слова, связанные с активным состоянием организма. И прямо противоположная картина наблюдается для гнева: активность у русских и слёзы у англичан» [Багдасарова 2005: 109].
Если в описании таких кластеров фольклорных лексиконов, как «небо», «религиозная культура», «человек телесный» и др., лингвофольклористы особых трудностей в определении границ кластеров и семантизации содержащихся в них лексем не встретили, то в случае с кластером «человек эмоциональный» такие трудности очевидны. Покажем это на примере гнева – эмоции, казалось бы, достаточно определённой.
Психологи свидетельствуют: гнев как эмоциональная реакция реализует адаптивную функцию, позволяющую индивиду преодолевать возникшие препятствия: придаёт новые силы, мобилизует организм, позволяет добиться намеченной цели. У гнева чёткая физиологическая основа: брови опущены и сведены, между бровями появляются вертикальные складки, веки напряжены, глаза выпячиваются, оставаясь неподвижными, ноздри расширены, рот перекошен.
Обратимся к русским и английским народным песням и констатируем, что в текстах эмоция гнева весьма эпизодична. В собрании Киреевского обнаружим всего три примера с формулой гнев держать: Мне подружку взять, будешь гнев держать (Кир., № 1340). В собрании Соболевского (т. 3) эта формула отмечена четырежды. В ряде примеров формула развивается глагольной формой: Мне подружку взять, будешь гнев держать, Будешь гневиться (Соб-3, № 357).
В русской народной лирике эмоция гнева воспринимается как нежелательная: Уж я, млада, не слушала, Игры своей не портила, Подруженек не гневила (Соб, 2, № 631); Нейду домой, не слушаюсь, Игру с гульбою не кидаю, Подруженек не гневаю (Соб, 2, № 629). Для персонажей русских народных песен характерно обращение с просьбой не проявлять гнев. Эмоция упоминается как бы превентивно: Не гневайся, радость, на меня, Что я не был вечер у тебя (Кир. № 1383); Не прогневайся, мой милый, – Не уборна к тебе вышла (Соб, 4, № 554); Свекрушка батюшка, Не гневайся на меня, Что ягода зелена… (Соб, 2, № 587).
В английских песнях эмоция гнева упоминается столь же редко. Мы фиксируем всего три словоупотребления соответствующего существительного anger.
When these two true lovers was fondly talking О the wicked father in anger flies (Sh. I, № 83, A, 343) 'Когда эти двое влюблённых нежно беседовали, Злой отец летал в гневе' Don't fear my father's anger, For I will set you free, Don't fear my father's anger, And appear she did not fail And she freed me from all danger (Sh.I, № 88, B, 359) 'Не бойся гнева моего отца, Ибо я освобожу тебя, Не бойся гнева моего отца, И она появилась, И освободила меня от всех опасностей'Фиксируем пять словоупотреблений однокоренного прилагательного angry 'сердитый'. Обращаем внимание на то, что в английских песнях источник гнева – отец, иногда – родители. В русских песнях субъекты гнева – герой, героиня, подруги.
Сравнивая употребление лексем гнев, гневный, гневаться, гневиться//anger, angry, мы сталкиваемся с тем, что сопоставление может быть неполным, поскольку каждое основное наименование эмоции входит в состав квазисинонимических или ассоциативных рядов. Русское слово гнев в словарях синонимов сопровождается словами бешенство, запальчивость, сердце, ярость и др. Английская лексема anger связана с существительными rage 'гнев, ярость, неистовство', fury 'неистовство, бешенство, ярость', fren неистовство, бешенство' и др.
Возникает вопрос, как в этом случае вести адекватное сопоставление эмонимов. Рассматривать их как самостоятельные концепты или считать именами этапов переживаемого гнева: презрение > раздражение > злость > гнев) [Барабанщиков, Носуленко 2004: 359].
Описание осложняется наличием диалектных и окказиональных слов, как в онежской былине: А ты в торопях есть в озарности Убил бы тя старушку не за что-то я (Гильф. 1, № 54, 223). В озарности от озаряться 'приходить в ярость, разъяриться' [СРНГ: 23: 85].
Полагаем, что полноценное описание эмоционального опыта этноса возможно только в том случае, если будет привлечён большой корпус фольклорных текстов двух и более народов и концептографическому описанию подвергнется вся совокупность элементов с целью установления концептуальной, репертуарной и квантитативной асимметрии как результата асимметрии культурной. Объяснение последней является предметом кросскультурной лингвофольклористики.
Лингвофольклористика в целом и кросскультурная лингвофольклористика в частности используют традиционные лингвистические методы, однако сама специфика объёма и предмета исследования потребовала дополнительного исследовательского оснащения.
Практически все используемые нами инструменты разработаны на лексикографической основе, что соответствует современной тенденции в развитии методологии гуманитарных наук.
Для кросскультурного анализа исходными являются понятия лакунарности и асимметрии.
Под лакунарностью понимают случаи, когда концепт есть, а лексема для его вербализации отсутствует. Лакунарность – это не дефект языка, а одно из его свойств.
В этом отношении интересны соображения известного философа Хосе Ортеги-и-Гассета, высказанные им в статье «Нищета и блеск перевода», об одном из парадоксов языка: «…Мы никогда не поймём такого поразительного явления, как язык, если сначала не согласимся с тем, что речь в основном состоит из умолчаний. <… > И каждый язык – это особое уравнение между тем, что сообщается. Каждый народ умалчивает одно, чтобы суметь сказать другое. Ибо всё сказать невозможно. Вот почему переводить так сложно: речь идёт о том, чтобы на определённом языке сказать то, что этот язык склонен умалчивать» [Ортега-и-Гассет 1991: 345].
«Умалчивание» в языке на уровне лексики как раз и принято называть лакунами. Примером лакуны может служить отмеченное известным философом О. Шпенглером отсутствие в древнегреческом языке слова для обозначения пространства. Феномен лакуны притягивает внимание исследователей. Обсуждаются такие вопросы, как феномен лакунарности в различных подсистемах национального языка, проблема типологии лакун, методика выявления лакун, лакуны как несовпадающие (разъединяющие) элементы в языках и культурах и межкультурная коммуникация, модель лакун в теории и практике перевода, феномен лакунарности в аспекте культурологии, лакунарность и лингвострановедение, лакуны как предмет лексикографии, лакуны в тексте и т. д.
Различают лакуны в языке, речи и культуре. В кросскультурных исследованиях наличие лакун – повод для интересных и содержательных размышлений.
Асимметрия (несоответствие) сравниваемых корпусов фольклорных тестов проявляется на нескольких уровнях, а потому мы разграничиваем асимметричность концептуальную, репертуарную, квантитативную и культурную.
Сказанное покажем на примере кросскультурного изучения концептосферы «человек телесный» в русской, немецкой и английской фольклорной традиции.
Концептуальная асимметричность видна на примере концептов «рот» и «губы» у немцев и «уста» у русских.
Репертуарная асимметричность обнаруживается прежде всего в форме лакун, т. е. отсутствия в фольклорных текстах лексем, называющих тот или иной элемент лица. Русские считают бровь важной чертой портрета, в немецких и английских текстах соответствующие лексемы не фиксируются. Нет в русских текстах слова подбородок, а в английских, хоть и редко, упоминается chin. В английской песне встретилось eyelid 'веко', а в русских и немецких песнях аналога нет. В анализированных немецких текстах отсутствуют концепты «бок» и «живот» и вербализующие их соматизмы.
Квантитативную асимметричность можно продемонстрировать на примере английских лексем cheek 'щека' и lips 'губы', которые встречаются чаще, чем их эквиваленты в других сравниваемых традициях. Если русские очень редко упоминают шею, то англичане этот концепт реализуют гораздо чаще.
Культурная асимметричность отчётливо заметна на примере одинаково частотных эквивалентов в трёх традициях. Так, концепт «лицо» в русской, немецкой и английской фольклорно-песенной традиции предстаёт этнически дифференцированным, причём русская традиция заметно отлична от традиции германских этносов как в количественном, так и в качественном отношении. Русская фольклорная песня гораздо чаще обращает внимание на лицо лирической героини. При этом песня никогда не даёт лицу специальных характеристик эстетического характера – красивое оно или безобразное. Русское лицо всегда белое. Изменение белого цвета лица – показатель сильных, контрастных эмоциональных переживаний – «жара» или «остуды». В немецких и английских песнях сильные чувства и яркие эмоции описываются иными способами.
Сходство и различие в частотности и функционировании лексем, называющих волосы на голове и лице в фольклорных текстах трёх этносов, обусловлены не только единством соматической топологии головы и лица, но и этнокультурными факторами и эстетическими предпочтениями, идеалами каждого из этносов. В немецких и английских текстах концепт «волосы» вербализован словами с родовым значением, в русских же лексема волосы единична, доминируют гендерно противопоставленные лексемы кудри и коса. Русский песенный фольклор акцентирует внимание на обрядово-гендерной стороне причёски мужчины и женщины, немецкий и английский фольклор сосредоточен на эстетической стороне описания волос. Отсюда различия в их цветовой характеристике: русые у русских, золотистые (с уклоном в тёмные) у немцев и чёрные у англичан. Различны и глагольные ряды, сопровождающие существительные, вербализующие концепты «кудри» и «коса». У русских глаголов преобладают имена обрядовых и ритуальных действий (чесать, завивать, заплетать, расплетать, распускать), в немецких и английских песнях преобладают глаголы, называющие элементы ухода за волосами, их украшением и изменением.
Культурно предопределены различия на уровне синтагматики и парадигматики соматизмов. Так, этнически дифференцирован цвет глаз и набор соответствующих эпитетов.
Этнические культуры различаются своеобразными «точками красоты» лица. Для русских это брови и глаза, для немцев – волосы на голове, для англичан – щёки и губы.
Культурная асимметрия обнаруживается в актуализации концептов «плечо» и «спина». Синтагматические связи соответствующих им соматизмов указывают на этнические различия в оценке этих частей тела. То же самое видится и в случае с концептом «живот», который занимает в русской фольклорно-языковой картине мира иное место, нежели в английской модели мира. К культурной асимметрии относятся примеры гендерности, которая обнаруживается у русского концепта «тело» и немецкого «грудь».
Кросскультурная лингвофольклористика и этнолингвистика. На наш взгляд, кросскультурную лингвофольклористику можно рассматривать как специфический аспект этнолингвистики.
В своих «Постулатах московской этнолингвистики» С.М. Толстая заметное место отводит роли фольклористики и использованию фольклорных текстов в этнолингвистических исследованиях. Фольклорный текст воспринимается с точки зрения обрядовости. В зависимости от жанра обрядовая составляющая обладает различной степенью интенсивности. Она максимальна в магических заклинательных текстах, в календарных песнях. Менее «прагматичны» повествовательные жанры. Особое место занимают пословицы и поговорки, т. е. малые фольклорные формы, тесно связанные с обрядовой или бытовой, но всегда ритуализованной ситуацией [Толстая 2006: 17–19].
За пределами интереса московских этнолингвистов в целом остаются такие жанры и формы народно-поэтического творчества, как былина и необрядовая лирическая песня. Именно эти жанры и формы составляют основную область кросскультурной лингвофольклористики.
Этнолингвистика и лингвофольклористика решают одну и ту же проблему – связь языка и культуры, но подходят к её решению с противоположных сторон. Этнолингвистика идёт от культурного смысла к слову, а лингвофольклористика – от слова к смыслу.
Перспективы кросскультурной лингвофольклористики
На Международном семинаре «Лингвофольклористика на рубеже XX–XXI вв.: итоги и перспективы» (Петрозаводск, 10–12 сентября 2007 г.) были подведены предварительные итоги кросскультурных исследований в лингвофольклористике [Хроленко 2007б] и высказано предположение о целесообразности новой научной дисциплины и её очевидных эвристических возможностях. Достаточно сказать о двух проблемах, перспективных как в теоретическом, так и в практическом отношении. Это вопрос о «неявной» культуре и проблема идентификации региональной культуры, сложившейся на основе двух культур и двух языков.
Кросскультурной лингвофольклористике оказывается близкой гипотеза антропологов о существовании так называемой «скрытой культуры» (К. Клакхон), «имплицитной культуры» (Р. Ле Ван) или «культурной модели» (А. Крёбер). Скрытая культура не поддаётся непосредственному восприятию человеческими органами чувств, она проступает как тончайший намёк, непонятный даже самим её носителям, как лёгкие «дуновения», самые невероятные «бормотания» культуры, основополагающие её самобытность, как своеобразное «поле культурного подразумеваемого». Именно в сфере непонимания различий форм скрытой культуры кроются причины «конфликта культур» [Чернявская 2005]. Скрытая» культура представляет ту среду, где этническая ментальность формирует «матрицу» национальной культуры.
Хранимая языком в целом и народно-поэтической речью в частности, скрытая культура выявляется прежде всего путём анализа языковой ткани культуры – положительной и отрицательной семантики слов и выражений, ключевых для данной культуры слов и т. п. По мнению Ю.В. Чернявской, язык фольклора оказывается самым значимым хранителем «эзотерической» культуры.
Становится очевидной сверхзадача лингвофольклористики – выяснение через язык фольклора сущности этнической культуры. Перспективна постановка таких фундаментальных вопросов, как этническая ментальность и культурная архетипика.
Кросскультурная лингвофольклористика ближе других наук к предметному выявлению и описанию скрытого пласта этнической культуры. Отсюда культурологическая ценность кросскультурной лингвофольклористики.
Интересной задачей для кросскультурной лингвофольклористики может стать, например, изучение языковой стороны кубанской традиционной народной культуры. Генетическая двуслойность кубанского фольклора – русско– и украиноязычность – ставит вопрос об итогах более чем двухсотлетней жизни этой культуры.
Рекомендуемая литература
Завалишина К.Г., Хроленко А.Т. Кросскультурная лингвофольклористика: народно-песенный портрет в трёх этнических профилях. Курск: Изд-во КГУ, 2005.
Завалишина К.Г., Хроленко А.Т. Кросскультурная лингвофольклористика: тело человека в лексике русских, немецких и английских народных песен. – Курск: Изд-во КГУ, 2006.
Хроленко А.Т. Лингвофольклористика. Листая годы и страницы. Курск, 2008. Раздел «Кросскультурная лингвофольклористика».
Современные информационные технологии в лингвофольклористике
Известно, что объектом и предметом всех филологических наук является отражённая действительность, материализованная в устных или письменных текстах. Лингвофольклористика как наука филологическая имеет дело исключительно с текстами. Известный отечественный фольклорист Б.Н. Путилов в своей итоговой работе писал: «Абсолютной реальностью вербального фольклора является текст. Все нити творческого процесса сводятся к нему и все реалии его (непосредственные носители фольклорной культуры, среда, искусство исполнения и его особенности, формы функционирования текстов) так или иначе сосредоточены вокруг текста, обращены к нему, им в конечном счёте определяются» [Путилов 2003: 166].
Если фольклорист имеет дело прежде всего с живым, исполняемым устно-поэтическим произведением, у которого вербальная составляющая – устный текст, то лингвофольклорист работает исключительно с зафиксированным, письменным текстом. Лингвофольклорист всегда идёт вслед за фольклористом и анализирует записанное им произведение. Фиксированная форма многое теряет, а потому лингвофольклористу гораздо труднее анализировать явление фольклора.
«Вербальный текст – это завершённая в содержательном и структурном плане самостоятельная единица, организуемая по законам и правилам той микросистемы, к которой она принадлежит, и обращающаяся в культурной сфере по законам как той же микросистемы, так и целостной фольклорной макросистемы. Отсюда сложнейший пучок взаимозависимостей текста с другими текстами, со всей микросистемой и её составляющими, с общефольклорной макросистемой и, наконец, с невербальными текстами и системами» [Путилов 2003: 166].
В отличие от фольклориста, лингвофольклорист обязан привлекать по возможности исчерпывающий круг текстов, отвечающих тому или иному критерию отбора. Необходимость анализа множества текстов заставляет искать современные способы облегчения технической работы.
Информационные технологии открывают новые возможности в обработке и анализе текстов, в создании, распространении, поиске и учёте текстовой информации. Лингвофольклористика и технология заинтересованы в кооперации и взаимопомощи. Специалисты припоминают, что лингвисты одними из первых начали применять вычислительную технику в исследованиях по машинному переводу, в создании машинных словарных фондов и словарей, в разработке методов и алгоритмов морфологического анализа лексики, которые легли в основу программного обеспечения современных поисковых систем, а также в работах по синтаксическому и семантическому анализу текстов [Вигурский, Пильщиков 2003].
В лингвофольклористике значительное место занимают стандартные процедуры, выполняемые вручную любым исследователем, как-то: поиск необходимых изданий и релевантных текстовых сегментов; составление и проверка библиографических описаний; многократное переписывание цитат; всевозможные сортировки и т. д. При условии их хотя бы частичной автоматизации интеллектуальный труд становится продуктивным. Рутинные процедуры доверяются машине, а сэкономленное время тратится на творческую деятельность.
Филологическая мысль и практика видят несколько путей работ, целесообразных с точки зрения использования современных информационных технологий в интересах гуманитарной практики. Среди них фольклористическое направление. В материалах конференции «Современная технология и филология» (Москва, ИЛИ РАН, 2005) приводятся конкретные примеры использования информационных технологий в деятельности собирателей и исследователей народного творчества: фольклорный архив Кабинета фольклора и теории литературы филфака СПбГУ [Веселова 2005]; электронная версия фольклорного архива Сыктывкарского государственного университета [Канева, Чаркова 2005]; электронное издание удмуртского фольклора на примере локальной традиции [Попова, Перевозчиков 2005];
система СКАЗКА как инструмент исследования волшебных сказок [Рафаева 2005]; мультимедийные технологии описания фольклорной и хозяйственно-бытовой традиции села [Серов 2005]. В материалах международной научной конференции «Типология фольклорной традиции: актуальные проблемы полевой фольклористики» (Москва, 22–23 ноября 1999 г.) есть специальный раздел «Компьютерная систематизация полевых записей и мультимедийные публикации».
Суть материалов этого раздела выражена в статье о проблемах компьютеризации фольклорных архивов [Мороз 2004]. Автор пишет о том, что большинство фольклорных, диалектологических и этнолингвистических архивов организовано по старинке, что позволяет использовать информацию не более чем на 30 %, поскольку записи в картотеках рассортированы по минимуму признаков; записи хранятся в папках или в аудиокассетах с краткой описью; классификация, сортировка и поиск возможны по одному параметру; доступ лиц, не причастных непосредственно к созданию архива, затруднителен; публикация материалов в значительном объёме затруднена; записи в одном селе дублируются разными экспедициями. Первые попытки применения компьютерной техники ориентируются на те же принципы, что и рукописные архивы. Автор формулирует принципы использования компьютера в создании фольклорных архивов: одновременный перекрёстный поиск по разным параметрам: соединение текстовых, аудио-, фото– и видеоматериалов в одном архиве; широкие возможности распространения (в том числе и через Интернет); создание единой информационной системы, объединяющей несколько архивов.
Информационные технологии можно классифицировать как коллективные и индивидуальные. Коллективные технологии делятся на технологии общего пользования, способные решать неограниченный круг задач, и технологии специализированные, тематические, создаваемые с целью решения определённых задач. К первым относятся технологии, основанные на корпусной лингвистике. Ко вторым можно отнести, например, ресурсы для исследования топонимии. Индивидуальными можно назвать те, которые создаются если не самим пользователем, то при активном его участии и ориентированы на решение определённых исследовательских задач.
Начнём с вопроса, в какой реальной помощи со стороны информатики нуждается гуманитарий-исследователь? Ответ: в наличии электронного корпуса текстов и программном обеспечении, позволяющем быстро и точно представлять пользователю все необходимые языковые единицы в отвлечении от текста и в форме конкорданса. Информационная технология должна дать сведения о наличии требуемого элемента, его количестве (словоупотреблении) и функции в контексте. В итоге в руках исследователя должен оказаться своеобразный текстовый информационный комплекс: текст – программа – промежуточные вспомогательные материалы, полученные с помощью программы на базе привлечённого текста.
Как используются индивидуальные информационные системы, покажем на примере созданного нами информационного текстового комплекса «Конкорданс русской народной лирики».
Из семитомного свода А.И. Соболевского «Великорусские народные песни» (СПб., 1895–1902) (тома 2–6) были извлечены песенные тексты, записанные в XIX веке в Курской, Архангельской и Олонецкой губерниях. Также учитывались былинные тексты, записанные А.Ф. Гильфердингом от Т.Г. Рябинина. В итоге сформировались четыре корпуса текстов – «Курск», «Архангельск», «Олонец» и «Рябинин».
Тексты подверглись некоторой адаптации: были сняты все примечания и указания на место записи, сборник и год публикации, каждый текст получил паспорт – в ломаных скобках номер тома свода Соболевского / Гильфердинга и номер песни / былины в томе. В результате каждый корпус превратился в единый текст, похожий на гипертекст, под которым понимается некое информационное пространство, позволяющее разрушить формальную оболочку отдельного конкретного текста, в него помещённого, за счёт создания системы связей, служащих объединению этих отдельных текстов в сверхтекстовые единства [Дедова 2003: 106–107]. В нашем случае гипертекст – это корпус текстов, представленный одним файлом в текстовом формате с системой паспортизации.
Далее гипертекст с помощью компьютерной «Программы автоматизированного составления и обработки словников» (авторы – Михаил Викторович и Елена Викторовна Литус из города Славянска-на-Кубани) преобразуется в лексикографические продукты.
Рабочее окно программы состоит из трёх полей: (1) поле словника, (2) поле слияния словоформ в лексему и (3) конкорданс отмеченной словоформы (лексемы). В нижней строке отмечается наличие / отсутствие текстового файла, необходимого для составления словника.
Меню первого поля «Файл» содержит команды следующих операций.
Открыть – открывается анализируемый текстовый файл. В специальной строке внизу указывается имя открытого файла, его адрес и степень готовности словника (в процентах).
(Рис. 1)
Сохранить – словник словоформ (лексем) фиксируется в специальном файле с расширением. slv, который раскрывается только программой NewSlov.
Экспорт – создаётся текстовый файл словника.
Выход – завершение работы программы.
Меню первого поля «Вид» обеспечивает обе основные операции программы – (1) операцию по слиянию словоформ в лексему и (2) предъявление контекста со словоформой.
Меню первого поля «Сервис» содержит следующие команды.
Загрузить словник – открывается текстовый файл словника с расширением. slv.
Создать словник – загруженный текстовый файл «рассыпается» на словоформы. Одинаковые словоформы суммируются. Например,
ала 1
алаго 2
алее 1
алой 2
алу 1
алую 1
алы 1
алые 1
алым 1
алыя 1
В итоге в словнике появляется лексема алый 12.
Сортировать – производится алфавитное упорядочение списка словоформ (лексем).
Поиск – обеспечивает возможность нахождения любой словоформы (лексемы).
Удалить контекст – используется при редактировании введённого текстового файла.
Правая клавиша «мышки» обеспечивает операции:
Удалить – удаляет слово из словника.
Копия – делает копию выделенного в словнике слова (для разведения омонимов)
Удалить контекст – удаляются контексты, не соответствующие тому или иному омониму
Отправить в Word – создаёт файл с конкордансом избранной словоформы (лексемы).
Итак, мы загрузили олонецкие песни в текстовом файле и в меню «Сервис» использовали команду «Создать словник». В результате в левом поле появился алфавитный список словоформ с указанием частотности. По умолчанию одна из словоформ автоматически случайным образом выделена. Эта выделенная словоформа появляется в центральном поле. Как только в квадратике будет поставлена «галочка», внизу в окошке «Слово для замены» появится эта же словоформа, которую можно редактировать, заменяя её на исходную форму. По команде «Слить» в левом поле появится исходная форма. В правом поле – конкорданс словоформы (лексемы). Если в окошке «Использовать паспортизацию» стоит галочка, то каждый контекст сопровождается указанием номера тома и номера песни (былины) в томе (в ломаных скобках) (рис. 2). «Упорядочить паспортизацию» – конкорданс сортируется в порядке следования томов и номеров песен (былин).
(Рис. 2)
Следующая операция – слияние словоформ в лексему. В левом поле мы выделяем все словоформы одной лексемы, которые тут же появляются в центральном поле (рис. 3).
(Рис. 3)
Проверив, нет ли среди появившихся словоформ ошибочно выделенного слова, мы перед каждой словоформой ставим галочку, а внизу набираем исходную словоформу (рис. 3) и отдаём команду «Слить». Результат операции виден на рис. 4. В левом поле словоформы заменены лексемой, а в правом поле появляется полный конкорданс этой лексемы – все двенадцать контекстов с формами слова алый.
В процессе создания словника мы сразу же сталкиваемся с частым лексикографическим затруднением – необходимостью развести омонимы. Например, в гипертексте выявилось пять словоформ верно, которые принадлежат двум лексемам – верно наречие к верный' и верно 'в знач. ввод. слова' (рис. 5).
(Рис. 4)
(Рис. 5)
Обращаемся к конкордансу в правом поле.
1) <4,447>
Зло твое мученьице на свете терплю, Не ради того, кого верно люблю.2) <4,447>
Пущай люди любят, – я на свете никого, Но ради того, кого я верно люблю!3) <4,739>
Перстенечек ко дну пал, — Верно миленький отстал!4) <5,258>
Безсчастная-то Машенька с горя пошутила — Размолодаго мальчишка верно полюбила.5) <5,622>
Верно у Ванюшки другая нажита, Другая милая, получше меня…Операция по разведению омонимов состоит из следующих шагов. В левом поле создаётся копия интересующей нас словоформы. На рис. 6 видны две строчки верно 5.
Первое верно отнесём к наречию верно1, второе – к вводному слову верно2. Конкорданс в правом поле свидетельствует, что верно1 (от верный) использовано в трёх контекстах (первом, втором, четвертом), а верно2 (вводное слово) зафиксировано в двух – третьем и пятом – контекстах.
Далее поступаем следующим образом. Выделяем первую форму и правой кнопкой мышки исполняем команду «Удалить контекст». Появляется окошко «Введите номер удаляемого контекста». Вводим номер лишнего – третьего контекста – 3. Третий контекст удаляется. Так же поступаем и с пятым контекстом. В итоге в словнике оказывается лексема верно1 3. Аналогично поступаем со второй выделенной строчкой (копией). В итоге остаётся верно2 2. Отдаём команду «Сортировать», и лексемы занимают соответствующее алфавитному порядку место.
(Рис. 6)
Так лексема за лексемой создаётся словник, который позволяет лингвисту или литературоведу удостовериться в наличии / отсутствии в текстах того или иного слова, в частотности этого слова, увидеть все без исключения контексты, содержащие интересующее исследователя слово. Таким образом, в руках заинтересованного человека оказывается текстовый комплекс – информационный ресурс, состоящий из гипертекста (корпуса текстов), словника и компьютерной программы NewSlov, позволяющий пользоваться текстами, словником как словоуказателем и создавать требуемые конкордансы. С помощью такого комплекса достаточно легко и быстро создаются конкордансы, которые служат надёжной базой исследований различного характера.
Представляя списки языко конкорданс относится к разряду и используется, главным образо фии. Как правило, слова в конк ветствии с алфавитом. Эта особ отражение в дефинициях термин слов какого-л. текста с указание [БТС: 449]; 'расположенный в; встречающихся в книге слов с (в несколько слов) или сходных 1995: 61]. Если дается перечень указанием всех контекстов их уп конкордансе. В свою очередь ка и избирательная цитация яв конкорданса, который был хара авторской лексикографии [Русс
ческих групп лексики, сопоставительных наблюдений и др. По мнению ряда исследователей, интерес к конкордансам является свидетельством характерной тенденции современной науки – стремления преодолеть «гуманитарный» субъективизм при анализе явлений искусства.
Таким образом, конкорданс предстает как высоко информативная форма словарного описания. Полагаем, что опыт создания конкорданса народной поэзии будет востребован и найдёт продолжение в создании конкордансов других собраний и иных жанров.
Предложенная нами технология не ограничивается рамками фольклорной лексикографии.
Достаточно было применить предлагаемую нами технологию к анализу фундаментальной статьи основателя отечественной научной педагогики К.Д. Ушинского «Труд в его психическом и воспитательном значении», составить соответствующий комплекс (электронная версия статьи, компьютерная программа, словник статьи, частотный словарь и конкордансы лексем) и проанализировать полученные лексикографические продукты, как перед нами предстал концептуарий выдающегося педагога, и мы увидели то, что традиционным способом обнаружить не удаётся.
Два составленных М.А. Бобуновой и А.Т. Хроленко комплекса «Тютчев» и «Фет» дали возможность осуществить оригинальный лексикографический проект «Тютчев и Фет: опыт контрастивного словаря» [Бобунова 2005]. Имея в руках такой контрастивный словарь, филолог может ставить множество задач, успешно и сравнительно быстро их решать, поскольку подобное издание в книжной или электронной версии обеспечивает исследователя предельно достоверным и исчерпывающим (в рамках привлекаемого корпуса текстов) фактическим материалом. Предлагаемая информационная технология берёт на себя львиную долю рутинной работы и оставляет специалисту творческую часть поиска.
Рекомендуемая литература
Вигурский К.В., Пильщиков И.А. Филология и современные информационные технологии (К постановке проблемы) // Известия РАН. Серия литературы и языка. Т. 62. № 2. 2003. С. 9–16.
Хроленко А.Т., Денисов А.В. Современные информационные технологии для гуманитария. М., 2007.
Источники фактического материала
Барсов – Причитания Северного края, собранные Б.Б. Барсовым. Ч. 1. М., 1872.
Владимир – Традиционный фольклор владимирской деревни: В записях 1963–1969 гг. М., 1972.
Воронеж – Народные песни Воронежской области. Воронеж, 1974.
Генкель М.А. Частотный словарь романа Д.Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы». Пермь, 1974.
Гильф. – Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. 2-е изд. СПб., 1894–1900.
Гильф. 1 – Онежские былины: В 3 т. / Под ред. А.Ф. Гильфердинга. 4-е изд. М.; Л., 1949.
Даль – Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1980.
Истомин-Дютш – Песни русского народа: Собраны в Архангельской, и Олонецкой губерниях в 1886 г. / Записали слова Ф.М. Истомин, напевы Г.О. Дютш. СПб., 1894.
Истомин-Ляпунов – Песни русского народа: Собраны в губерниях Вологодской, Вятской и Костромской в 1893 г. / Записали слова Ф.М. Истомин, напевы – С.М. Ляпунов СПб., 1899.
Карелия – Русские народные песни Карельского Поморья. Л., 1971.
Кир. II – Песни, собранные П.В. Киреевским: Новая серия. М., 1917. Вып. 1; М., 1929. Вып. 2.
Кир. Т. 1 – Собрание народных песен П.В. Киреевского: Записи Языковых в Симбирской и Оренбургской губерниях. Л., 1977.
Курск – Курские народные песни / Сост. П. Бульбанюк, П. Лебедев. Курск, 1962.
Лир. рус. св. – Лирика русской свадьбы. Л., 1973.
Лопатин – Сборник русских народных лирических песен Н.М. Лопатина и В.П. Прокунина: Опыт систематического свода лирических песен с объяснением вариантов со стороны бытового и художественного их содержания Н.М. Лопатина, с положением песен для голоса и фортепьяно В.П. Прокунина. М., 1889.
Мезень – Песенный фольклор Мезени. Л., 1967.
Новгород – Традиционный фольклор Новгородской области: По записям 1963–1976 гг. Л., 1979.
Пенза – Мартыненко О.П. Фольклор Пензенской области. Рязань, 1977. Пермь —
Лирические народные песни / Собрал и составил Н.В. Зырянов. Пермь, 1962.
Песни, собранные писателями // Литературное наследство. Т. 79. М.: Наука, 1968.
Печора – Песни Печоры. М.; Л., 1963. Поэзия крестьянских праздников. Л., 1970.
Прибалтика – Фольклор русского населения Прибалтики. М., 1976.
Рус. св. песни – Балашов Д.М., Красовская Ю.Е. Русские свадебные песни Терского берега Белого моря. Л., 1969.
Русские эпические песни Карелии – Русские эпические песни Карелии. Петрозаводск, 1981.
РФЛ – Русский фольклор в Латвии. Рига, 1972.
Рыбн. – Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. Ч. II. М., 1862.
Рыбн. П – Песни, собранные П.Н. Рыбниковым: В 3 т. 2-е изд. М., 1910.
Сибирь – Русские свадебные песни Сибири. Новосибирск, 1979.
Соб – Великорусские народные песни / Изд. А.И. Соболевским: В 7 т. СПб., 1895–1902.
Украiнсью народы пiснi. Ктв, 1964. Ч. 1.
Федосова – Федосова П.А. Избранное. Петрозаводск, 1981.
Хал. – Халанский М.Г. Народные говоры Курской губернии. СПб., 1904.
Шейн – Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. / Материалы, собранные и приведенные в порядок П.В. Шейном. СПб., 1898. Т. 1. Вып. 1.
Kl. – Deutsche Lieder. Texte und Melodien. Ausgewahlt und Eingeleitet von Ernst Klusen. Leipzig, 1995.
Sh. – Sharp's Collection of English Folk Songs. London, 1974. V. 1–2.
Словари и справочники
БАС – Словарь современного русского литературного языка. Т. 1. М.; Л., 1948.
Бобунова М.А., Хроленко А.Т. Словарь языка русского фольклора: Лексика былинных текстов. Вып. 1. Курск, 2000.
Бобунова М.А., Хроленко А.Т. Тютчев и Фет: опыт контрастивного словаря. Курск, 2005.
Бобунова М.А., Хроленко А.Т. Словарь языка русского фольклора: Лексика былины. Ч. 1: Мир природы; Ч. 2: Мир человека. Курск, 2006.
Бобунова М.А., Хроленко А.Т. Конкорданс русской народной песни. Т. 1: Песни Курской губернии. Курск: КГУ, 2007.
Бобунова М.А., Хроленко А.Т. Конкорданс русской народной песни: Песни Архангельской губернии. Курск, 2008.
Бобунова М.А., Хроленко А.Т. Конкорданс русской народной песни: Т. 3: Песни Олонецкой губернии. Курск: КГУ, 2009.
Бобунова М.А., Хроленко А.Т. Конкорданс русской народной песни: Песни
Сибири. Курск: КГУ, 2010.
БТС – Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 2000.
Даль – Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1978–1980.
Комлев Н.Г. Словарь новых иностранных слов. М.: МГУ, 1995. Литус Е.В. Фольклорное слово Кубани: Конкорданс народных песен линейных казаков Кубани. Курск: КГУ, 2007.
ЛЭС – Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
МАС – Словарь русского языка: В 4 т. 2-е изд., испр. и доп. М.: Рус. яз., 1981–1984.
НИЭ – Новая иллюстрированная энциклопедия. М., 2000. Русская авторская лексикография XIX–XX веков: Антология М.: Азбуковник, 2003.
Русский фольклор: Библиографический указатель 1991–1995. СПб., 2001. Русский язык: Энциклопедия. М., 1979.
СД-1 – Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т. / Под общ. ред. Н.И. Толстого. Т. 1: А – Г. М.: Междунар. отношения, 1995.
СД-2 – Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т. / Под общ. ред. Н.И. Толстого. Т. 2: Д – К (Крошки) М.: Междунар. отношения, 1999.
СД-3 – Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т. / Под общ. ред. Н.И. Толстого. Т. 3: К (Круг) – П (Перепелка). М.: Междунар. отношения, 2004.
Сл. РЯ XI–XVII вв. – Словарь русского языка XI–XVII вв.: Вып. 1. М., 1975.
Словарь автобиографической трилогии М. Горького. Вып. 1. Л., 1974. Словарь языка Пушкина. Т. 1. М., 1956.
СРГС – Словарь русских говоров Сибири. Новосибирск, 2001. СРНГ – Словарь русских народных говоров. М.; Л. (СПб.), 1965. Вып. 140 (издание не завершено).
Фасмер – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. 2-е изд. М., 1986–1987.
Литература
Автамонов Я. Символика растений в великорусских песнях // Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1902, декабрь.
Ажеж К. Человек говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарной науке:
Пер. с фр. М., 2003.
Аксаков К.С. О различии между сказками и песнями русскими // К.С. Аксаков Полное собрание сочинений: В 3 т. М., 1861. Т. 1.
Андреева-Васина Н.И. Значения глагольной приставки ПРИ– в русских народных говорах и произведениях устного народного творчества // Лексика русских народных говоров. М.; Л., 1966.
Аникин В.П. Теория фольклорной традиции и ее значение для исторического исследования былин. М., 1980.
Асланов В. Преемственность наддиалектных форм в истории азербайджанского языка // Типы наддиалектных форм языка. М., 1981.
Астафьева-Скалбергс Л.А. Символика в русской народной лирической любовной песне: Автореф. канд. дис. М., 1971.
Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
Багдасарова Н.А. Эмоциональный опыт в контексте разных культур // Человек. № 5. 2005.
Барабанщиков В.А., Носуленко В.Н. Системность. Восприятие. Общение. М., 2004.
Барабаш Ю. Вопросы эстетики и поэтики. М., 1977.
Баранникова Л.И. Русские народные говоры в советский период. Саратов, 1967.
Белинский В.Г. Полн. собр. соч. Т. V. М., 1954.
Бобунова М.А., Праведников С.П., Хроленко А.Т. Проблемы фольклорной диалектологии. Курск, 2003.
Бобунова М.А., Хроленко А.Т. Методология выявления «фольклорных диалектов»: словарь языка фольклора об идиолектной и диалектной дифференцированности былинной лексики // Локальные традиции в народной культуре Русского Севера (Материалы IV Международной научной конференции «Рябининские чтения – 2003»). Петрозаводск, 2003. С. 288–290.
Богатырёв П.Г. (Ответ на вопрос № 19) // Славянская филология. Т. 2. Материалы за V международен конгрес на славистите. София, 1963.
Богатырёв П.Г. Язык фольклора // Вопросы языкознания. 1973. С. 106116.
Богатырёв П.Г. К вопросу об этнологической географии // П.Г. Богатырёв Народная культура славян. М., 2007.
Богословская О.И. Язык фольклора и диалект: Учеб. пособие по спецкурсу. Пермь, 1985.
Богословская О.И. Язык фольклора и диалект // Живое слово в русской речи Прикамья. Вып. 4. Пермь, 1974.
Богословская О.И. Соотношение народно-поэтической и народно-разговорной речи: Автореф. канд. диссертации. Пермь, 1965.
Богословская О.И. Язык фольклора как функционально-стилистическая категория // Структура лингвостилистики и ее основные категории. Пермь, 1983. С. 147–153.
Бодянский И. О народной поэзии славянских племен. М., 1837.
Васильев М.И. О причинах неравномерного географического распространения русских былин (по материалам XIX– начала XX в.) // Советская этнография. 1990. № 3. С. 78–83.
Васильев М.И. О распространении былин на Русском Севере // Этнографическое обозрение. 1993. № 3. С. 97–109.
Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1997.
Веселова И.С. Электронные проекты в фольклористике: от полевой записи до звуковой хрестоматии // Современные информационные технологии и филология. М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 9–10.
Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., 1940. С. 83.
Вестфаль Р. О русской народной песне // Русский вестник. 1879.
Вигурский К.В., Пильщиков И.А. Филология и современные информационные технологии (К постановке проблемы) // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2003.
Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963. Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М., 1959. Виноградов В.В. Стиль Пушкина. М., 1941.
Воробьёва С.В. К вопросу о географическом распространении былин на Русском Севере (ареалы брачных связей и микрогеография былинной традиции на территории Заонежья) // Кижский вестник. № 6. Петрозаводск, 2001.
Воронов В.С. О крестьянском искусстве // Избранные труды. М., 1972.
Гельгардт Р. Р. К вопросу о лингвистической основе фольклора и его культурно-историческом статусе // Вопросы лексикологии, стилистики и грамматики в аспекте общего языкознания. Калинин, 1977.
Гильфердинг А.Ф. Олонецкая губерния и ее народные рапсоды // Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. 2-е изд. Т. 1. СПб., 1894.
Гоголь Н.В. Несколько слов о Пушкине // Собр. соч.: В 7 т. Т. 6.
Гоголь Н.В. О малороссийских песнях // Собр. соч.: В 7 т. Т. 6.
Голубева Н.П. Какого цвета лазоревый цветок // Русская речь. № 5. 1970.
Горький А.М. М.Г. Ярцевой // Собр. соч.: В 30 т. Т. 28. М., 1954.
Горький А.М. Репертуарной секции Большого драматического театра // Собр. соч.: В 30 т. Т. 28. М., 1954.
Гутов А.М. Материалы к изучению языка новых записей традиционного адыгейского фольклора (экспедиция 1978) // Художественный язык фольклора кабардинцев и балкарцев. Нальчик, 1981.
Дедова О.В. О гипертекстах: «книжных» и электронных // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. № 3. 2003.
Десницкая А.В. Наддиалектные формы устной речи и их роль в истории языка. Л., 1970.
Дмитриева С.И. Географическое распространение былин: По материалам конца XIX – начала XX в. М., 1975.
Евгеньева А.П. О языке фольклора // Русский язык в школе. № 4. 1939.
Евгеньева А.П. IV раздел Введения // Русское народное поэтическое творчество. М.; Л., 1953.
Евгеньева А.П. Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVIIXX вв. М.; Л., 1963.
Еремина В.И. Поэтический строй русской народной лирики. Л., 1978.
Жирмунский В.М. Методика социальной географии (Диалектология и фольклор в свете географического исследования) // В.М. Жирмунский Фольклор Запада и Востока. Сравнительно-исторические очерки. М., 2004.
Журинский А.Н. Роль гриотской поэзии в языковой ситуации республики Мали: (На материале эпоса «Буакариджан») // Проблемы языковой политики в странах тропической Африки. М., 1977.
Завалишина К.Г., Хроленко А.Т. Кросскультурная лингвофольклористика: народно-песенный портрет в трех этнических профилях. Курск, 2005.
Завалишина К.Г., Хроленко А.Т. Кросскультурная лингвофольклористика: тело человека в лексике русских, немецких и английских народных песен. Курск, 2006.
Зубкова Л.В., Сыщиков А.Д. Бесценный клад // Рус. речь. № 1. 1981.
Иванова С.И. Заонежская былинная традиция и проблема географического распространения былин // Рябининские чтения – 95. Петрозаводск, 1997.
Канева Т.С., Чарков И.Д. О создании электронной версии Фольклорного архива СыктГУ // Современные информационные технологии и филология. М., 2005.
Караваева М.А. Идиолект былинного певца: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Курск, 1997.
Караулов Ю.Н. Предисловие. Русская языковая личность и задачи ее изучения // Язык и личность. М., 1989.
Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.
Караулов Ю.Н. Языковая личность // Русский язык: Энциклопедия. М., 2003.
Карпова О.М. Словари языка писателей: Монография. М., 1989.
Ключевский В.О. Ф.И. Буслаев как преподаватель и исследователь // В.О. Ключевский. Литературные портреты. М., 1991.
Коготкова Т.С. Русская диалектная лексикология. М., 1979.
Конрад Н.И. О «языковом существовании» // Японский лингвистический сборник. М., 1959.
Конявская ЕЛ. К вопросу об авторском самосознании Епифания Премудрого // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 1. 2000.
Костюхин Е.А. [Рецензия] // Живая старина. № 4. 2002.
Кумахов М.А. К проблеме языка эпической поэзии // Вопросы языкознания. № 2. 1979.
Кумахов М.А., Кумахова З.Ю. Вопросы изучения языка народного эпоса // Известия АН СССР. Серия лит. и яз. Т. 45. № 4. М., 1986.
Кумахова З.Ю., Кумахов М.А. Функциональная стилистика адыгских языков. М., 1979.
Кумахова З.Ю., Кумахов М.А. Язык западнокавказской устной поэзии как наддиалектная форма речи // Типы наддиалектных форм языка. М., 1981.
Курбанов М.М. Табасаранская народная поэзия: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Махачкала, 1977.
Лопатин – Сборник русских народных лирических песен Н.М. Лопатина и В.П. Прокунина. М., 1889.
Лорд А.Б. Сказитель: Пер. с англ. М., 1994.
Лосев А.Ф. Символ и художественное творчество // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. XXV. 1971.
Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.
Макаев Э.А. Язык древнейших рунических надписей. М., 1965.
Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987.
Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. М., 1960.
Мелетинский Е.М. Первобытные истоки словесного искусства // Ранние формы искусства. М., 1972.
Мельников М.Н. Записки фольклориста// Сибирские огни. № 11. 1981.
Миллер Вс. Наблюдения над географическим распространением былин // Журнал министерства народного просвещения. № 5. 1894.
Митропольская Н. Литва в русском эпосе. (К поэтике имен) // Литература, XV (2). Вильнюс, 1974.
Мокиенко В.М. К разграничению генетических и типологических связей славянской поговорки // Современные славянские культуры: развитие, взаимодействие, международный контекст. Киев, 1982.
Молошная Т.М. Субстантивные словосочетания в славянских языках. М., 1975.
Мороз А.Б. Проблемы компьютеризации фольклорных архивов // Типология фольклорной традиции. М., 2004.
Невский Н.А. Айнский фольклор. М., 1972.
Неклюдов С.Ю. Особенности изобразительной системы в долитературном повествовательном искусстве // Ранние формы искусства. М., 1972.
Нефедова Е.А. Идиолект как источник диалектного варьирования // Русский язык: исторические судьбы и современность: Международный конгресс исследователей русского языка. М., 2001а.
Нефедова Е.А. Экспрессивный словарь диалектной личности. М., 2001б.
Никитина С.Е. Устная народная культура как лингвистический объект // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. 41. № 5. М., 1982.
Никитина С.Е. Словарь языка фольклора: принципы построения и структура // История, культура, этнография и фольклор славянских народов: X Международный съезд славистов. М., 1988.
Никитина С.Е. Размышления на темы семинара // Лингвофольклористика на рубеже XX–XXI вв.: итоги и перспективы: Сборник докладов на Международном научном семинаре (10–12 сентября 2007 г.). Петрозаводск, 2007.
Новиков Ю.А. Проблема варианта и региональных традиций в изучении русских былин // Русская литература. № 4. Л., 1984.
Новиков Ю.А. Сказитель и былинная традиция. СПб., 2000.
Овчинников Вс. Ветка сакуры. М., 1971.
Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки: Ее генезис и обоснование. М., 1985.
Орлов В.П. Плачи Ильменьского Поозерья // Филологические науки. 1962. № 2.
Ортега-и-Гассет Х. Нищета и блеск перевода // Х. Ортега-и-Гассет Что такое философия? М., 19911.
Оссовецкий И.А. Некоторые наблюдения над языком стихотворного фольклора // Очерки по стилистике художественной речи. М., 1979.
Оссовецкий И.А. О языке русского традиционного фольклора // Вопросы языкознания. 1975. № 5.
Оссовецкий И.А. Лексика современных русских народных говоров. М., 1982.
Оссовецкий И.А. Стилистические функции некоторых суффиксов имен существительных в русской народной лирической песне // Труды Ин-та языкознания АН СССР. Т. VII. 1957.
Оссовецкий И.А. Об изучении языка русского фольклора // Вопросы языкознания. 1952. № 3.
Оссовецкий И.А. Язык фольклора и диалект // Основные проблемы эпоса восточных славян. М., 1958.
Попова Е.В., Перевозчиков Ю.А. Опыт электронного издания удмуртского фольклора на примере локальной традиции // Современные информационные технологии и филология. М., 2005. С. 60–62.
Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. III. M., 1968.
Потебня А.А. О некоторых символах в славянской народной поэзии. 2-е изд. Харьков, 1914.
Потебня А.А. Объяснения малорусских и сродных народных песен, 1.
Варшава, 1883.
Потебня А.А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905.
Пресняков О.П. Поэтика познания и творчества: теория словесности А.А. Потебни. М., 1980.
Пришвин М.М. Записи о творчестве // Контекст 1974. М., 1975.
Путилов Б.Н. Проблемы изучения песенно-музыкального фольклора Берега Маклая. Советская этнография. 1976. № 2.
Путилов Б.Н. Искусство былинного певца (из текстологических наблюдений над былинами). Принципы текстологического изучения фольклора. М.; Л., 1966.
Путилов Б.Н. Б.Н. Путилов. Фольклор и народная культура; In memoriam. СПб., 2003.
Пушкин А.С. Об обязанностях человека: Сочинение Сильвио Пеллико // Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М., 1981.
Радлов В.В. Образцы народной литературы северных тюркских племен. СПб., 1885. Ч. 5.
Рафаева А.В. Система СКАЗКА как инструмент исследования волшебных сказок // Современные информационные технологии и филология. М., 2005. С. 64–65.
Ренар Ж. Дневник. М., 1965. Рерих Н. Алтай – Гималаи. М., 1974.
Ройзензон Л.И. Обзор многоприставочных глаголов русского народного языка // Вопросы методики преподавания русского языка нерусским. Ташкент, 1966.
Роллан Р. Собрание сочинений. Т. 12. М., 1957. – С. 152.
Русская авторская лексикография XIX–XX веков: Антология. М., 2003.
Рыбников П.Н. Заметки собирателя // Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. Т. 1. 2-е изд. М., 1909.
Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
Серов С.Н. Опыт описания фольклорных и хозяйственно-бытовых традиций одного села с применением мультимедийных технологий (на примере татарского села Кестым Балезинского р-на Удмуртии) // Современные информационные технологии и филология. М., 2005. С. 68–70.
Симонова Л.М., Стровский Л.Е. Кросскультурные взаимодействия в международном предпринимательстве. М., 2003.
Сирцев В.А. Из наблюдений над сложными прилагательными в народно-песенной речи // Вопросы теории и методики преподавания русского языка в школе. Воронеж, 1975.
Славятинская М.Н. Язык гомеровского эпоса // Типы наддиалектных форм языка. М., 1981.
Собинникова В.И. Конструкция с однородными членами, лексическим тождеством и параллелизмом в народных говорах. Воронеж, 1969.
Соколов М.Е. О языке сказок, песен и областных словарях: (По поводу фонетической записи сказки об Илье Муромце) // Труды Саратовской ученой архивной комиссии. Вып. 24. Саратов, 1908.
Соколова О.И. Глагольная система диалекта. АКД. Самарканд, 1970.
Сопоставительная лингвофольклористика. Курск, 2003.
Сперанский М. Русская устная словесность. М., 1917.
Стеблин-Каменский М.И. [Вступительная статья] // Исландские саги. М., 1959.
Тарланов З.К. Современная русская лингвофольклористика // Лингвофольклористика на рубеже XX–XXI вв.: итоги и перспективы: Сборник докладов на Международном научном семинаре (10–12 сентября 2007 г.). Петрозаводск, 2007. С. 3–15.
Терещенко Н.М. О некоторых особенностях языка фольклора ненцев // Сов. финно-угроведение. 1980. № 1.
Тимофеев В.П. Диалектный словарь личности. Шадринск, 1971.
Толстая С.М. Географическое пространство культуры // Живая старина. 1995. № 4. С. 2–6.
Толстая С.М. Постулаты московской этнолингвистики // Etnolingwistyka. 18. Lublin, 2006. С. 7–27.
Толстой Н.И. Некоторые соображения о реконструкции славянской духовной культуры // Славянский и балканский фольклор. М., 1989.
Толстой Н.И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.
Трубачёв О.Н. Этногенез культуры древнейших славян: Лингвистические исследования. 2-е изд., доп. М., 2002.
Ушинский К.Д. Родное слово: Книга для учащихся // Избранные педагогические сочинения. М., 1968.
Филин Ф.П. Очерк истории русского языка до XIV столетия // Ученые записки Ленинградского гос. пед. ин-та. Т. 27. Л., 1940.
Флоренский П.А. У водоразделов мысли. Т. 2. М., 1990.
Фролова О.Б. Поэтический словарь арабской песенной лирики // Ученые записки Ленинградского гос. ун-та. Т. 396. Серия востоковедческих наук. Вып. 21: Востоковедение. Т. 5. Л., 1977.
Фуко М. Археология знания: Пер. с фр. Киев, 1996.
Хоруженко К.М. Культурология: Энциклопедический словарь. Ростов н/Д, 1997.
Хроленко А.Т, Петренко О.А. Gold / Золото // Фольклорная лексикография. Вып. 4. Курск, 1995. С. 12–13.
Хроленко А.Т. Еще раз о коэффициенте новизны для лексики былин // Фольклорная лексикография. Вып. 3. Курск, 1995. С. 3–6.
Хроленко А.Т. Проблемы лингвофольклористики: К вопросу о комплексном подходе к изучению языка фольклора // Очерки по стилистике русского языка. Вып. 1. Курск, 1974б. С. 9–23.
Хроленко А.Т. Что такое лингвофольклористика? // Русская речь. № 1. 1974. С. 36–41.а
Хроленко А. Т. Наддиалектен ли язык русского фольклора? // Фольклор в современном мире: Аспекты и пути исследования. М., 1991. С. 59–69.
Хроленко А.Т. Идиолект былинного певца в словаре языка русского фольклора // Мастер и народная художественная традиция Русского Севера (Доклады III Международной научной конференции «Рябининские чтения -99»). Петрозаводск, 2000. С. 298–308.
Хроленко А.Т. Исследование эмоционального опыта этноса средствами кросскультурной лингвофольклористики // Рябининские чтения-2007:
Материалы V научной конференции по изучению народной культуры Русского Севера. Петрозаводск, 2007а. С. 258–261.
Хроленко А.Т. Опыт сопоставительного анализа в лингвофольклористике / А.Т. Хроленко, О.А. Петренко, О.А. Карамышева. Курск, 2002.
Хроленко А.Т. Перспективы кросскультурной лингвофольклористики // Лингвофольклористика на рубеже XX–XXI вв.: итоги и перспективы: Сб. докладов на Международном семинаре (10–12 сентября 2007б). С. 16–22.
Хроленко А.Т. Лингвофольклористика. Листая годы и страницы. Курск, 2008.
Художественный язык фольклора кабардинцев и балкарцев. Нальчик, 1981.
Цертелев Н. О народной поэзии // Труды Вольного общества любителей российской словесности. Ч. 22. 1823.
Чернявская Ю.В. Культура явная и скрытая // Человек. 2005. № 4. С. 5–12.
Черняева Н.Г. К исследованию типологии искусства былинного сказителя // Советская этнография. 1976. – № 5.
Чистов К.В. Фольклор и культура этноса // Советская этнография. 1979. № 4. С. 3–11.
Чистов К.В. Задачи изучения народного поэтического творчества (по материалам русского севера) // Советская этнография. 1958. № 3. С. 9–20.
Чистов К.В. Поэтика славянского фольклорного текста: Коммуникативный аспект // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. VIII Международный съезд славистов. М., 1978. С. 310–311.
Чистов К.В. Исполнитель фольклора и его текст // От мифа к литературе: Сб. в честь семидесятипятилетия Елиазара Моисеевича Мелетинского. М., 1993. С. 91–100.
Чистов К.В. Фольклор. Текст. Традиция. М., 2005.
Шишков В. Мой творческий опыт. М., 1979. Шукшин В.М. Вопросы самому себе. М., 1981.
Щерба Л. В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Л., 1958.
Эбель А.А. О стилистическом использовании префиксальных глаголов в русских былинах. – УЗ Куйбыш. ПИ. Ч. II. Вып. 82. Вопросы диалектологии и истории русского языка. Куйбышев, 1970.
Эбель А.А. Значения и стилистическое использование префиксальных глаголов в русских былинах. АКД. Куйбышев, 1970.
Элиаде М. Аспекты мифа: Пер. с фр. М., 2000.
Этинген Л.Е. Волосы и ногти // Человек. 2002. № 5. С. 145–157.
Язык фольклора: Хрестоматия / Сост. А.Т. Хроленко. 2-е изд., испр. М., 2006.
BartminskiJ. O jezyku folkloru. Gdansk, 1973.
Примечания
1
{К} – курские песни; {А} – архангельские.
(обратно)
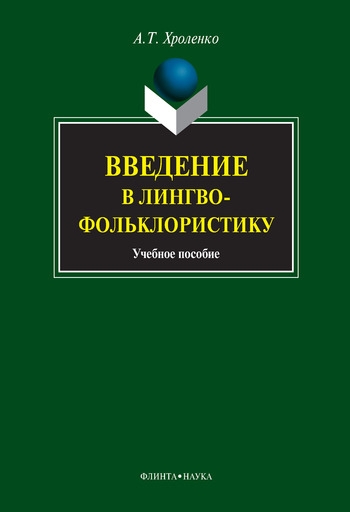




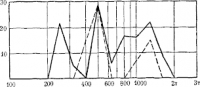


Комментарии к книге «Введение в лингвофольклористику: учебное пособие», Александр Тимофеевич Хроленко
Всего 0 комментариев