Марина Робертовна Шумарина Язык в зеркале художественного текста. (Метаязыковая рефлексия в произведениях русской прозы): монография
Введение
Фиксация внимания на фактах языка и речи, их оценка и осмысление – важная функция сознания, как индивидуального, так и коллективного: каждому носителю языка в той или иной мере свойственна метаязыковая рефлексия.
В соответствии с лингвистической традицией термином «метаязыковая рефлексия» в данной работе обозначаются два взаимосвязанных явления. Во-первых, имеются в виду операции метаязыкового сознания — интерпретации какого-либо факта языка или речи. Содержанием такой операции является формирование метаязыкового суждения, присвоение лингвистическому объекту признака или оценки. Во-вторых, этим термином обозначается словесное оформление подобных суждений в виде метаязыковых контекстов.
Метаязыковые контексты (или, по-другому, рефлексивы), которые являются объектом наблюдения в работе, – это высказывания или группы высказываний, в контексте которых факт языка или речи получает метаязыковую оценку. Понятия «метаязыковое суждение» (с одной стороны) и «метаязыковой контекст», «рефлексив» (с другой стороны) соотносятся как означаемое и означающее, план содержания и план выражения. Метаязыковое суждение является значением (содержанием) метаязыкового комментария и может носить как вербализованный, так и имплицитный характер; ср.:
(1) Особые деньги стояли на комоде в коробке из-под чая, так и назывались «чаевые» (И. Грекова. Маленький Гарусов); (2) Фаддеев заметил, что качка ничего, а что есть на море такие места, где «крутит», и когда корабль в эдакую «кручу» попадает, так сейчас вверх килем повернется (И. Гончаров. Фрегат «Паллада»).
В художественных текстах содержатся многочисленные суждения о фактах языка / речи, которые могут быть выделены как особый объект исследования. Такие суждения рассматриваются в книге в двух аспектах. Во-первых, они интерпретируются как показатели метаязыковых представлений рядовых носителей языка (нелингвистов). Реализация данного аспекта продолжает традицию изучения того специфического объекта, который в различных языковедческих трудах получил названия «наивная лингвистика», «народная лингвистика», «стихийная лингвистика», «обыденная лингвистика», «бытовая философия языка». Во-вторых, рефлексивы анализируются при помощи традиционного инструментария стилистики и лингвопоэтики – как элементы эстетически организованного текста.
В фокус внимания носителя языка могут попадать разнообразные явления языка и речи. В подавляющем большинстве исследований, посвященных рефлексии нелингвистов о языке, рассматриваются комментарии к отдельным словам и выражениям, однако говорящий может обращать внимание на явления грамматики и фонетики, стилистики и словообразования и т. п. Исследователи указывают на факты речевой рефлексии, которая «проявляется в постоянном внимании… к речевому поведению, к соблюдению норм общения, в том числе и этических» [Николина 2006 б: 68]. Как разновидности речевой рефлексии называют «риторическую и жанровую, объектом которых соответственно будут риторические средства и жанры» [Шмелёва 1999: 108]. В данной книге в качестве примеров метаязыковой рефлексии будут рассматриваться все случаи интерпретации явлений, соотносимых с объектами современной лингвистической науки (единицы языка, речевые произведения, процесс речевого общения и т. д.).
Актуальность рассматриваемой проблематики обусловлена по меньшей мере тремя обстоятельствами. Во-первых, современная лингвистика испытывает острый интерес к вопросам содержания и функционирования обыденного метаязыкового сознания, которое, с одной стороны, традиционно противопоставляется научному лингвистическому знанию, а с другой, – выступает как часть общественного сознания и становится все более активной и влиятельной силой в обществе.
Во-вторых, требует дальнейшего рассмотрения вопрос о средствах метаязыковой функции. Регулярность этой функции приводит к формированию в языкеметаязыка – системы средств, при помощи которых эта функция реализуется. В разных видах текстов, в разных условиях коммуникации эти средства варьируются; безусловно, актуальным является описание метапоказателей, используемых в художественных текстах.
И в-третьих, заявленная тема актуальна в контексте современных тенденций лингвопоэтики, которая рассматривает метаязыковую рефлексию в художественном тексте как инструмент экспрессии, область художественного эксперимента.
Материалом для наблюдения послужили произведения художественной прозы XIX, XX и первого десятилетия XXI вв. (указатель процитированных текстов приводится в приложении). К анализу привлекались произведения разных жанров: классическая проза, драматургия, детская литература, приключенческий и детективный роман, фантастика, любовный роман, юмористическая проза и т. д., а также произведения синкретичных жанров: эссе, литературные письма, литературные очерки, литературные дневники и воспоминания и т. п. (Как показывают наблюдения, в текстах синкретичных жанров метаязыковая рефлексия по своим формам и функциям не отличается от рефлексии в собственно художественных текстах.). При изучении отдельных вопросов использовались выборки примеров из Национального корпуса русского языка[1].
Автор монографии выражает признательность коллегам, чей доброжелательный интерес, острые вопросы, ценные замечания, советы и практическая помощь помогли осуществить данное исследование: проф. Н. А. Николиной, д-ру филол. наук Е. В. Огольцевой, проф. А. Д. Шмелёву, д-ру филол. наук Н. Е. Петровой, проф. В. П. Аникину, проф. Д. Н. Голеву, проф. А. М. Плотниковой, преподавателям и докторантам кафедры русского языка Московского педагогического государственного университета.
Глава I Метаязыковая рефлексия как объект лингвистического изучения
Язык играет огромную роль в нашей жизни. Вероятно, именно потому, что мы так с ним свыклись, мы редко обращаем на него внимание, принимая его, подобно дыханию или ходьбе, за нечто само собой разумеющееся.
Л. БлумфилдЯзыковое существование – процесс не только интуитивно-бессознательный. Интуитивное движение языкового опыта неотделимо от языковой рефлексии; говорящий всё время что-то «узнаёт» о языке, все время что-то в нем постигает, находит или придумывает.
Б. М. Гаспаров1.1. Из истории лингвистического изучения метаязыковой рефлексии
Задачи современного языкознания актуализировали целый ряд проблем, которые были поставлены, прокомментированы и в значительной степени изучены языковедами прошлого. В частности, для современных исследований по проблемам метаязыковой рефлексии рядового носителя языка имеют методологическое значение идеи, высказанные классиками отечественной лингвистики. Так, И. А. Бодуэн де Куртенэ указывал на существование «лингвистического, или языковедного мышления», которое возникает на основе «образования ассоциаций и сцепления понятий, относящихся к научному мышлению о предметах из области речи человеческой и из области науки, называемой языковедением» [Бодуэн де Куртенэ 2004: 4]. При этом «языковедное» мышление не является монополией ученого, существует и особое – народное – знание о языке: «…чутье языка народом не выдумка, не субъективный обман, а категория (функция) действительная, положительная, которую можно определить по ее свойствам и действиям, подтвердить объективно, доказать фактами» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 50]. А. А. Потебня в учении о «поэтическом» и «мифическом» мышлении закладывает современное понимание мифа как «технологии» обыденного сознания, в том числе метаязыкового [см., напр.: Потебня 1989: 236–253].
Возникновение интереса к метаязыковым аспектам лингвистики связывают с именем Р. О. Якобсона, который выделяет в системе функций языка – наряду с коммуникативной (референтивной), апеллятивной, поэтической, экспрессивной, фатической – метаязыковую функцию [Якобсон 1975]. Р. О. Якобсон перечисляет наиболее существенные признаки метаязыковой функции. Во-первых, предметом обсуждения при ее реализации является код сообщения; во-вторых, указывается основная форма воплощения метаязыковой функции – толкования. В другой своей работе ученый определяет метаязыковую рефлексию как «осознание речевых компонентов и их отношений» [Якобсон 1978: 163], расширяя таким образом значение термина «толкование». В-третьих, автор говорит о существовании м е т а-языка, то есть языка, «на котором говорят о языке» и который «играет важную роль и в нашем повседневном языке» [Якобсон 1975: 201]. Наконец, Р. О. Якобсон называет причину использования «метаязыка» в конкретных условиях общения: «если говорящему или слушающему необходимо проверить, пользуются ли они одним и тем же кодом». Таким образом, по мысли ученого, метаязыковые комментарии выполняют координирующую функцию, способствуют оптимизации речевого общения.
В рамках исследуемой темы целесообразно также обратить внимание на возможность точек пересечения выделяемых Р. О. Якобсоном метаязыковой функции и поэтической; последняя определяется как «направленность… на сообщение как таковое, сосредоточение внимания на сообщении ради него самого». И хотя автор особо обращает внимание на то, что «поэзия и метаязык диаметрально противоположны друг другу» [см.: Якобсон 1975: 202–204], можно представить себе некоторые условия, при которых метаязыковая и поэтическая функция совпадут: если код сообщения станет предметом эстетической интерпретации.
В работах отечественных лингвистов первой половины ХХ в. находим многочисленные замечания о рефлексии рядовых носителей языка над собственной речью [см.: Якубинский 1923: 144; Винокур 1929: 83–84; Волошинов 1930: 84, 134; Пешковский 1959: 61; Щерба 1960: 309; Поливанов 1968: 75]. Л. В. Щерба одним из первых обратил внимание на метаязыковой комментарий наивного носителя и использовал его как аргумент в описании языковых изменений, апеллируя к тому, «как чувствуют и думают говорящие» [Щерба 1915: 94].
Внимание лингвистов к рядовому носителю языка активизируется в 1960-е годы в связи с изучением языковых изменений и осмыслением проблем культуры речи [Виноградов 1964: 9; Панов 1966: 155 и др.]. В рамках масштабного проекта «Русский язык и советское общество» (1958–1968), целью которого было «определить… отдельные «точки роста» языка, найти наиболее показательные для языковой эволюции модели» [Русский язык 1962: 3], исследовались и метаязыковые оценки рядовых носителей языка [Русский язык 1968, I: 7].
Целый ряд замечаний, связанных с активным отношением говорящего к языку, обнаруживается в работах зарубежных лингвистов, переведенных на русский язык в 1960-е годы [см., например: Косериу 1963: 177–178; Матезиус 1967 а: 388 и др.].
В отечественном языкознании явление метаязыковой рефлексии исследовалось на различном речевом материале. Наиболее планомерно и систематически суждения рядовых носителей о языке изучались и изучаются в диалектологии, поскольку одним из полевых методов сбора материала является стимулирование высказываний информантов об особенностях говора[2] [см.: Ухмылина 1967; Кирпикова 1972; Лыжова 1976; Дьякова, Хитрова 1980; Блинова 1984; 2008; 2009 и др.; Блинова, Ростова 1985; Лукьянова 1986; Никитина 1989; 1993; 2000; Лённгрен 1994; Лютикова 1999, Ростова 1983; 2000; 2009; Пурицкая 2009; Иванцова 2009; Крючкова 2002; 2007; 2008 и др.].
Необходимость разработки проблем, связанных с культурой речи, обусловила обращение Б. С. Шварцкопфа к информантам другого типа – к носителям литературного языка [Шварцкопф 1970; 1971; 1988; 1996; см. также: Костомаров, Шварцкопф 1966]. Материалом для наблюдения стали суждения о языке образованных членов общества (писатели, журналисты, критики, ученые), письменно зафиксированные в публицистической (преимущественно) и художественной речи.
Исследователи используют данные обыденной метаязыковой рефлексии при изучении активных процессов в лексике и словообразовании [Земская 2005: 12], психолингвистики, психосемантики [Доценко 1984; Сахарный 1970; 1992 и др.], онтолингвистики [Гвоздев 1999; Цейтлин 2000; Гридина 2002; Гарганеева 2008; 2009 и др.], социолингвистики [Вахтин, Головко 2004: 87], различных аспектов языковой личности [Караулов 2007: 259]. Стремительно развивающаяся сегодня генристика (теория речевых жанров) обращается к фактам рефлексии жанра носителем языка, в том числе – в художественном тексте [Вежбицка 1997; Шмелёва 1997; Гольдин 1997; Федосюк 1997; 1998 б].
Серьезный импульс к изучению метаязыкового аспекта языка и речи дала статья Анны Вежбицкой «Метатекст в тексте», опубликованная на русском языке в 1978 году. Автор обращает внимание на то, что «высказывание о предмете может быть переплетено нитями высказываний о самом высказывании» [Вежбицка 1978: 404], которые можно было бы «просто вырезать и их запись поместить отдельно, «на ленте с метатекстом» [Там же: 405].
Метатекстовые элементы в тексте – это проявление особого рода метаязыковой рефлексии, направленной на собственное произведение говорящего, в которое эти метатекстовые элементы «вплетены»[3]. А. Вежбицкая анализирует семантические и структурные типы метатекстовых элементов, определяет их функции в тексте. Работа А. Вежбицкой актуализирует намеченную Р. О. Якобсоном проблему метаязыка – системы формальных средств метаязыковой функции языка.
В языкознании второй половины ХХ века становится предметом изучения так называемая «наивная лингвистика»[4] (в западноевропейской и американской лингвистике – «folk linguistics)), «Volklinguistik», «Laienlinguistik», «linguistique populaire» [см. обзоры: Ромашко 1987; Дебренн 2009 а; 2009 б]), под которой понимаются «спонтанные представления о языке и речевой деятельности, сложившиеся в обыденном сознании человека» [Арутюнова 2000 а: 7].
Первоначально под именем «наивной» лингвистики рассматривались те представления о языке, которые не осознаются говорящими и закреплены в семантике языковых единиц; ср.: «Естественная лингвистика – это нерефлектирующая рефлексия говорящих, спонтанные представления о языке и речевой деятельности, сложившиеся в обыденном сознании человека и зафиксированные в значении металингвистических терминов, таких как язык, речь, слово, смысл, значение, говорить, молчать и др.» [Арутюнова 2000 а: 7; см. также: Язык о языке 2000]. Выражение «нерефлектирующая рефлексия» указывает на то, что использование метаязыковых терминов не требует от говорящего выведения информации в «светлое поле» сознания. Сознательная рефлексия уже состоялась на этапе формирования этих терминов, когда языковой коллектив осуществил категоризацию языковой действительности (как фрагмента мира), осмыслил и принял содержание слова, придал рефлексии «свёрнутый», «конвенционализированный» [Рябцева 2005: 535] характер. В современных лингвистических работах «наивная» (обыденная) лингвистика понимается широко: в ее состав включаются как метаязыковые представления, закрепленные в семантике (и в традициях употребления) языковых единиц, так и осознаваемые, вербализуемые в дискурсе метаязыковые знания, мнения, оценки и т. п. [ср.: Булыгина, Шмелёв 2000].
В конце ХХ века интерес к «стихийной» лингвистике активизируется, что вызвано, с одной стороны, антропоцентрическим поворотом в лингвистике, а с другой, – богатством эмпирического материала, к которому языковеды получили доступ в новых условиях. Метаязыковая рефлексия рядовых носителей языка исследуется на материале текстов СМИ [Вепрева 2005; Васильев 2003; Кормилицына 2000 а; 2006; Батюкова 2009 и др.]. С развитием электронных информационно-коммуникационных технологий в поле зрения исследователей попадают не только соответствующие языковые процессы, но и связанный с этими обстоятельствами факт активизации обыденной метаязыковой рефлексии [см.: Резанова, Мишанкина 2006; Сидорова 2006; 2007 а; Нещименко 2008; Резанова 2008; 2009 б; Сидорова, Стрельникова, Шувалова 2009; Мечковская 2006; 2009: 488–494]. Причина активизации метаязыковой рефлексии в Интернете – необходимость критического осмысления и коррекции привычных «технологий» общения.
«Рефлексия наивных говорящих» (М. Ю. Сидорова) в Сети часто носит активный, творческий характер: они не только осмысливают язык, носителем которого являются, но и творят новую языковую действительность: конструируют новые языки [см., напр.: Сидорова, Стрельникова, Шувалова 2009: 410–419], играют с родным языком [Дедова 2007 и др.], а также декларируют своё «языковое существование» [Соколовский 2008].
В течение последнего десятилетия обращение языковедов к актуальным областям современной российской речесферы позволило сделать интересные наблюдения и выводы относительно метаязыковой рефлексии субъектов политического [Шейгал 2004] и юридического [Лебедева 2000; 2009 а] дискурса, жителей современного города [Шарифуллин 2000; Карабулатова 2008] и др. Материал для изучения обыденного метаязыкового сознания дают обращения рядовых говорящих в различные справочные службы [Геккина 2006]. «Впереди, – считают специалисты, – открытие новых источников, например, текстов естественной письменной речи (конспектов, рефератов, работ на ЕГЭ, материалов дискуссии об орфографии и мн. др.)» [Голев 2008 а: 11].
Ученые обращаются для наблюдения над метаязыковой рефлексией и к традиционному объекту исследования – к художественным текстам [Кожевникова, Николина 1994; Кожевникова 1998 а; 1999; 2006; Зубова 1997; 2000; 2003; 2010 и др.; Николина 1986; 1996; 1997; 2004 а; 2004 б; 2005 б; 2006 в; 2009 б и др.; Ляпон 1989; 1998; 2001; 2006 и др.; Черняк В. Д. 2006; 2007; Санджи-Гаряева 1999; Фатеева 2000; Смирнова 2008; Судаков 2010; Попкова 2006; Батюкова 2009 и др.] и фольклорным произведениям [Рождественский 1978; 1979; Сперанская 1999; Шмелёва, Шмелёв 1999; 2000 и др.; Радзиховская 1999; Седов 2007; Шумарина 2010 б и некот. др.].
Новый этап в изучении метаязыковой рефлексии связан с оформлением особого научного направления, в центре внимания которого находится обыденное метаязыковое сознание как самостоятельный объект. Рядом ученых (А. Н. Ростова, Н. Д. Голев и др.) были предприняты действия по объединению и координации усилий языковедов, изучающих различные аспекты обыденного метаязыкового сознания: В октябре 2007 г в Кемеровском государственном университете прошла научная конференция «Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика» по материалам которой выпущен сборник статей [Обыденное… 2008]. В 2009 г. выходят из печати две части коллективной монографии «Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты» [Обыденное… 2009, I; 2009, II], к участию в которой Н. Д. Голев (научный редактор монографии и руководитель проекта) привлек ученых из разных регионов России[5]. Издание монографии, как отмечается в предисловии к I выпуску, является частью общего плана, нацеленного на концептуальное оформление целого направления в отечественной науке (на наш взгляд, оно может быть обозначено как теорияо быденной лингвистики). Материалы сборника статей и монографий обобщают разрозненные до этого момента представления учёных о феномене обыденного метаязыкового сознания, подводят итоги и намечают дальнейшие перспективы исследования.
Под метаязыковым сознанием авторы статей и монографии понимают «проявление гносеологической функции языкового сознания (и – опосредованно – самого языка)» [Голев 2009 а: 10]. Обыденное метаязыковое сознание как объект внимания языковедов «представляет собой своеобразный узел системных связей, объединяющих, с одной стороны, язык и сознание, с другой – обыденное языковое сознание и лингвистику как науку, а с третьей – ментально-языковую сферу с другими сферами социальной жизни человека, сопряженными с языковой деятельностью: обучением языку., культурно-речевой политикой, языковым строительством, специальным использованием языка в различных сферах профессиональной деятельности и т. п.» [Обыденное. 2009, I: 5–6]. Кроме того, проблематика, связанная с обыденным метаязыковым сознанием, оказывается важной для решения некоторых крупных теоретических задач: «без выделения метаязыкового сознания и изучения его места и роли в языковом сознании и в сфере обыденной гносеологии – да и вообще в когнитивной лингвистике – трудно рассчитывать на построение полной модели языкового сознания» [Там же: 6].
Авторы сборника и монографии представили различные подходы к интерпретации феномена «народной» лингвистики, разные уровни его осмысления и «разметили поле» проблематики новой научной дисциплины. Содержание указанных изданий дает представление о специфике научного направления, которое проявляется в специфической проблематике, привлекаемом эмпирическом материале и методах исследования [см.: Шумарина 2010 в].
Анализ материалов сборника и монографии позволяет сделать вывод о формирующейся (и сложившейся в общих чертах) отрасли лингвистической науки, которую можно назвать теорией обыденной лингвистики. Внимание этой науки направлено на метаязыковую деятельность рядового носителя языка. Теория обыденной лингвистики и металингвистика, понимаемая в данном контексте как наука о научной лингвистике[6], вместе образуют область знания, которая пока не получила названия и которую можно условно обозначить как «общая металингвистика».
1.2. Основные направления изучения метаязыковой рефлексии в современной лингвистике
Анализ литературы показывает, что сегодня в языкознании сложилась основная проблематика изучения метаязыковой рефлексии. Так, А. Н. Ростова очерчивает три круга проблем, нуждающихся в исследовании: 1) моделирование языка – объекта на основе высказываний носителей языка, 2) изучение закономерностей метаречевой деятельности, 3) описание средств экспликации метаязыковых знаний [Ростова 2000: 76–78]. Перечислим основные вопросы и охарактеризуем результаты исследования.
I. Сущность феномена метаязыковой рефлексии. Исследователи пытаются осмыслить феномен метаязыковой рефлексии, определить его сущность, причины возникновения и условия протекания. Большинство ученых делает акцент на двух моментах: 1) стимулом к возникновению рефлексии является переживаемая коммуникативная неудача или предвидение возможной неудачи [Матезиус 1967 б: 445; Хлебда 1998: 63, 65; Булыгина, Шмелёв 1999: 160; Вепрева 2005: 101–115]; 2) в процессе рефлексии языковая личность выступает одновременно в двух ролях: как говорящий, автор речи и как критик собственного речевого поведения [напр.: Трунов 2004: 81].
А. Н. Ростова выделила шесть «причин-стимулов», которые приводят к сбою автоматизма речевой деятельности: 1) наличие лакун в языковом коде говорящего; 2) оценка собственных речевых тактик; 3) ситуация речевых неудач и нарушения языковых норм; 4) нарушение норм речевого этикета; 5) непонимание из-за разных представлений о референтной ситуации; 6) прогнозирование говорящим ситуации непонимания с учетом различий в языковом коде собеседников [Ростова 2000: 72–73].
Н. Д. Голев называет пять аспектов речевой деятельности, которые требуют «включения» метаязыкового сознания, и располагает их в порядке возрастания потребности в рефлексии: 1) планирование речи (иллокуция); 2) контроль за реализацией плана выражения (локуцией); 3) интерпретация речевых произведений получателем; 4) овладение языком; 5) некоторые специальные виды деятельности (работа учителя, писателя, журналиста, редактора) [Голев 2009 а: 15–18].
В. Б. Кашкин обращает внимание на активизацию метаязыковой рефлексии в условиях «языкового контраста», в частности – при межкультурной коммуникации [Кашкин 2002; 2008].
По наблюдениям И. Т. Вепревой, метаязыковая рефлексия возникает как ответ на коммуникативное или концептуальное напряжение (которое можно понимать как некое предвидение возможной коммуникативной опасности), а рефлексив «выступает как опережающая реакция говорящего», «как метацензоры» [Вепрева 2005: 103–104].
На вопрос, насколько регулярна метаязыковая деятельность в коммуникативной практике личности, ученые дают разные ответы. В эпиграф к I главе вынесены суждения Л. Блумфилда [Блумфилд 1986: 17], который считает, что рефлексия не является непременным атрибутом речевой деятельности, и Б. М. Гаспарова, полагающего, что метаязыковая рефлексия сопровождает все «языковое существование» личности [Гаспаров 1996: 18].
М. М. Бахтин указывал, что «отбор всех языковых средств производится под большим или меньшим влиянием адресата и его предвосхищаемого ответа» [Бахтин 1979 б: 280], в то же время «выбор – это спор говорящего с самим собой, это внутренний диалог, в сжатом виде представленный комментарием к собственным словам» [Чернейко 1990: 80], а это значит, что автор речевого высказывания должен в той или иной степени осознавать содержание и оформление речи.
Наблюдения над речевой практикой показывают, что метаязыковая рефлексия отнюдь не редкое явление: действительно, «в норме» комментарий к речи не нужен, однако «норма» (идеальная коммуникация без «осложнений») в реальных условиях трудно достижима. Более того, в типовую модель коммуникации [см.: Shannon 1948; Shannon, Weaver 1969] «шумы» (или «помехи») заложены как обязательный элемент; характерная для речи избыточность как раз и призвана компенсировать потери информации вследствие различных «шумов». Поэтому метаязыковая рефлексия постоянно сопровождает всякую реальную речевую деятельность.
Помимо непосредственных причин возникновения метаязыковой рефлексии, исследователи обсуждают факторы активности метаязыковой деятельности. Так, в целом ряде работ возможность рефлексии прямо связывается со степенью личной и общественной свободы. В. Хлебда соотносит метаязыковую рефлексию не только с внешними стимулами (необходимость коррекции речи), но и с уровнем интеллектуального и духовного развития личности [Хлебда 1998: 63]. А. А. Пихурова считает, что «в 40—50-е годы, при жизни Сталина, языковая рефлексия практически не проявлялась» и только «в конце 50-х – 60-е годы внутри советской культуры появляется диссидентская литература, содержащая богатый материал языковой рефлексии» [Пихурова 2005: 142]. Н. А. Батюкова пишет: «В эпоху соцреализма внимание авторов переключается с формы художественных произведений на их содержание, поэтому языковая рефлексия ослабевает. В «лагерной» прозе 1960—80-х гг., например, в романах А. Н. Рыбакова «Дети Арбата» и В. Д. Дудинцева «Белые одежды», метаязыковые комментарии отсутствуют» [Батюкова 2009: 15][7]. Э. Л. Трикоз в диссертации, посвященной метаязыковому сознанию образованного носителя языка второй половины XIX в., замечает: «Активное использование средств метаязыковой рефлексии связано с раскрепощением говорящего в своей речевой деятельности, что обусловлено определенными общественно-политическими, социальными и культурными переменами» [Трикоз 2010 б: 54].
Видимо, правы исследователи, которые говорят о высокой активности метаязыковой рефлексии в дискурсе современных СМИ и связывают эту активность с усилением личностного начала в публичной речи, что, в свою очередь, обусловлено либерализацией общественной жизни [Вепрева 2005; Кормилицына 2000 б]. Однако не следует воспринимать данный тезис как бесспорный для всех случаев[8] Во-первых, метаязыковые комментарии в текстах были регулярны и в советский период, и не только в произведениях художественной литературы, но и в прессе (см. многочисленные примеры в работах Б. С. Шварцкопфа)[9]. А во-вторых, далеко не все метаязыковые комментарии, которые продуцирует говорящий, обязательно суть знаки свободомыслия. К метаязыковым рассуждениям часто склонны люди, стоящие на консервативных, охранительных позициях в социальной жизни[10] и / или проповедующие пуристские взгляды по отношению к развитию языка – их комментарии трудно назвать «поиском выхода за рамки заданного». Вместе с тем, носитель языка, придерживающийся прогрессивных взглядов, может не иметь личной склонности к метаязыковому комментированию. Так, в текстах «консерватора» М. Загоскина метаязыковые комментарии более часты и подробны, чем, например, в произведениях А. Пушкина. Многие специалисты указывают на существование склонности, предрасположенности к метаязыковой рефлексии, которая свойственна разным личностям в большей или меньшей степени [напр.: Ляпон 1992: 76; Гаспаров 1996: 18; Ростова 2000: 67 и др.]. Наблюдения показывают, что метаязыковая рефлексия в той же мере свойственна консерваторам, в какой и либералам, она характерна для свободно мыслящей личности и для индивида, скованного социальными условностями и взвешивающего каждое слово.
В понимании природы рефлексии важную роль играет установление соотношения сознательного и бессознательного в метаязыковой деятельности. Если для одних специалистов рефлексия есть «документ бдительности нашего сознания вообще, активности ума» [Хлебда 1998: 65], то другие считают, что даже автоматическая речевая деятельность «предполагает активное отношение к средствам языка, как бы механически ни совершался этот отбор средств на практике» [Винокур 1929: 86]. Видимо, языковое сознание способно к различным видам контроля: полностью сознательному, который может выражаться в вербальных формах, и к подсознательному. Р. О. Якобсон считал, что «активная роль метаязыковой функции… остается в силе на всю нашу жизнь, сохраняя за всей нашей речевой деятельностью неустанные колебания между бессознательностью и сознанием» [Якобсон 1978: 163–164]. О протекании рефлексии на бессознательном уровне пишет целый ряд исследователей [Божович 1988: 73; Дуфва, Ляхтеэнмяки, Кашкин 2000: 81; Рябцева 2005: 535; Голев 2009 а: 12; Шмелёв 2009; Ким И. Е. 2009 и др.].
II. Объекты рефлексии и виды метаязыковых оценок. Исследователи отмечают, что объектом обыденной рефлексии «может быть как целое высказывание, так и отдельное слово или словосочетание, т. е. сам знак» [Чернейко 1990: 74].
А. Вежбицкая, рассматривая виды метатекста, называет два объекта, на которые направлены метатекстовые оценки: а) сам акт речи и б) текст и его фрагменты [Вежбицка 1978: 406–411].
Большинство исследователей анализирует комментарии к словам и выражениям [Шварцкопф 1970; Вепрева 2005; Булыгина, Шмелёв 1999 и др.]. В фокус внимания говорящего нередко попадают орфоэпические варианты, отдельные грамматические формы и конструкции, а также «стиль высказывания» [Шварцкопф 1970]. Исследователи определяют признаки языковых единиц, которые чаще всего стимулируют рефлексию [напр.: Николина 1986; Вепрева 2005; Черняк 2006; 2009 и др.]. Комментарием снабжаются, прежде всего, агнонимы – слова, лексическое значение которых неизвестно говорящему [Морковкин, Морковкина 1997]. К агнонимам относятся новые и устаревшие единицы, слова ограниченного употребления, а также единицы, значение которых нуждается в специальном обсуждении, поскольку разные носители языка могут вкладывать в одно и то же слово разное содержание.
В целом ряде работ авторы расширяют материал исследования, включая в него примеры речевой рефлексии [Николина 2005 б; 2006 в], в том числе жанровой [Шмелёва 1997; Николина 2004 б]; специалисты по психолингвистике рассматривают тексты, в которых объектом метаязыковой рефлексии являются закономерности речевой деятельности [Радзиховская 1999; Седов 2007]. Э. В. Колесникова обращает внимание на существование «наивной риторики» как одного из аспектов «наивной лингвистики» [Колесникова 2002: 124]. Особым объектом речевой рефлексии выступает специфика художественной речи и особенности творческой речевой деятельности писателей и поэтов [Григорьев 1982; 1983; Цивьян 1995; 2004; Гин 1996; 2006; Черняков 2007; 2009 а; 2009 б; Штайн 2007; Штайн, Петренко 2006; Пиванова 2008; Шумарина 2008 б и др.].
Б. С. Шварцкопф указывает на необходимость «отличать оценку речевых явлений от оценок реалий и понятий», поскольку высказывание может содержать оценку не языковой единицы, а ее означаемого, например: Много в тундре хороших слов. Хорошее слово – «олень»: мчится быстрее ветра. Хорошее слово – «печь»: согревает. Но самое лучшее слово – «друг»: друг не бросит в беде…» [Шварцкопф 1970: 278]. Подробный разбор данного вопроса находим в статьях Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелёва [Булыгина, Шмелёв 1998; 1999; 2000], которые отмечают: иногда «анализ метаязыковых высказываний носителей языка затрудняется тем, что в таких высказываниях суждения о языке не всегда четко отграничиваются от суждений о внеязыковой действительности» [Булыгина, Шмелёв 1999: 150]. Авторы приводят примеры высказываний о внеязыковой действительности, которые оказываются метаязыковыми суждениями, и примеры суждений «о мире», которые маскируются под метаязыковые высказывания. Авторами предлагаются критерии разграничения высказываний «о языке» и высказываний «о мире»: «Мы можем с уверенностью утверждать, что имеем дело с суждением «о языке», а не «о мире» в тех случаях, когда высказывание содержит указание на хронологические, пространственные, социологические и т. п. рамки употребления рассматриваемого выражения» [Там же: 152].
При этом Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелёв делают два замечания, которые представляются существенными в контексте нашего исследования. Во-первых, четкое разграничение суждений «о языке» и суждений «о мире» не только не всегда возможно, но и не нужно в тех случаях, когда «речь идет о культурно и общественно значимых словах и концептах» [Там же: 158–159]. И во-вторых, случаи, когда «обсуждение. наименования переплетается с описанием денотата», могут носить характер художественного приема и намеренно акцентироваться в литературном произведении [Там же]. Далее в работе мы подтвердим справедливость этих рассуждений.
Объекты рефлексии, на которые направлено внимание носителей языка, получают в рефлексивах разнообразные оценкии характеристики: «от простейших суждений о том, какое употребление является «правильным» и «неправильным»…, до сколь угодно сложных концептуальных построений» [Гаспаров 1996: 18]. Эти оценки являются значениями метаязыковых высказываний. Выявление содержательной типологии метаязыковых контекстов составляет одну из центральных задач изучения языкового сознания «наивного лингвиста». Различные классификации метаязыковых оценок, во-первых, зависят от специфики оцениваемых языковых объектов, а во-вторых, отвечают конкретным исследовательским задачам.
Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелёв отмечают, что к числу наиболее частотных метаязыковых высказываний относятся «многочисленные прескриптивные высказывания, отражающие представления говорящего о нормах литературного языка, о культуре речи, а также его личные языковые пристрастия» [Булыгина, Шмелёв 1999: 147]. Б. С. Шварцкопф выделил два основных типа метаязыковых оценочных высказываний: а) речевая критика и б) функционально-стилистическое комментирование [Шварцкопф 1970: 288–294].
Наиболее типичная и наиболее частотная метаязыковая характеристика, к которой прибегает говорящий, – это семантизация слова, установление его значения [см.: Николина 1986]. Особый интерес вызывает у исследователей описание рядовыми носителями языка оттенков значений, не зафиксированных словарями [см.: Шварцкопф 1970: 284; Булыгина, Шмелёв 1999: 150].
III. Вопрос о средствах метаязыка. А. Н. Ростова отмечает, что структурная организация метаязыковых высказываний представляет собой «скорее систему возможных предпочтений, чем строгих предписаний» [Ростова 2000: 60]. Тем не менее исследователи предпринимают попытки осуществить систематизацию метаязыковых высказываний по формальным признакам [Скат 1991; Шаймиев 1998; Золотова 2003; Воробьева 2006; Одекова 2007; 2008 а; 2008 б; 2009 б; Батюкова 2009 и мн. др.].
В целом ряде работ отмечалось, что метаязыковые оценки могут быть как эксплицитными, так и имплицитными [Скат 1991; Чернейко 1990; Колесникова 2002; Рябцева 2005; Резанова 2008; Голев 2009 а и др.]. Имплицитные оценки знака заключаются «уже в самом его выборе говорящим как наиболее эффективного для решения коммуникативных задач средства» [Чернейко 1990: 74].
Система эксплицитных средств метаязыка впервые была рассмотрена в рамках одного исследования А. Вежбицкой [Вежбицка 1978], объединившей на основе метатекстовой функции разнородные маркеры метатекста – метаоператоры, или метаорганизаторы высказывания, которые ранее изучались (и продолжают изучаться) в рамках различных лингвистических дисциплин и теорий: как явления синтаксиса простого и сложного предложения, структурные элементы текста и т. п. К метаорганизаторам высказывания относятся средства, характерные для письменной речи (вводные конструкции с семантикой оценки речи и логической последовательности; слова, позволяющие говорящему отмежеваться от содержания высказывания: как будто, вроде бы, почти, скорее, довольно и т. п.; конструкции с выделенной темой; выражения с семантикой «примечания»: кстати, между прочим и т. п.; анафорические местоимения и артикли; некоторые союзы, которые могут указывать на отношения между импликациями; перформативные глаголы; графические выделения) и для устной (интонация и мимика).
Линию, намеченную А. Вежбицкой, продолжает И. Т. Вепрева, которая предлагает перечень дискурсивных маркеров (метаоператоров), служащих формальными признаками метаязыковой рефлексии на слово: а) лексическая единица слово; б) глаголы и существительные, обозначающие речевые действия: речь, имя, говорить, называть и т. п.; в) глаголы подполя интеллектуальной деятельности; а также г) «глаголы подполей других видов деятельности, употребляющихся в переносном значении в сочетании с лексической единицей слово» [Вепрева 2005: 80].
Б. С. Шварцкопф, разграничив словесные (прямые) и графические (к ним относятся кавычки) способы выражения оценок, делит словесные способы на нестандартные («более или менее развернутые характеристики языковых средств и стиля выражения, оценки – «высказывания») и стандартные, под которыми понимаются «готовые формулы введения в текст»[11] [Шварцкопф 1970: 301] (чаще всего – вводные слова и предложения). По наблюдениям автора, кавычки оказываются функционально эквивалентными словесным способам выражения оценок.
Целый ряд исследователей указывает на особые средства экспликации метаязыковых оценок в устной речи [Шварцкопф 1970: 301; Вежбицка 1978: 412; Норман 1994 а: 40; Шаймиев 1998: 75; Трунов 2004; Иванцова 2009: 346–347 и др.].
С вопросом структурной организации метаязыкового высказывания тесно связан вопрос о границах метаязыкового контекста. И. Т. Вепрева отмечает: «…границы рефлексива не всегда могут быть определены четко. При условии, что рефлексив задает самостоятельную тему внутри текста, эксплицируя ее в метаоператоре, его начало легко вычленяется. Нижняя граница бывает размытой или прерванной, «растворяется» в структуре основного текста» [Вепрева 2005: 85; см. также: Ростова 2000: 64]. Поэтому рефлексив удобно представлять в виде структуры с ядром и периферией – комментирующей частью. Данное замечание существенно для нас, так как наличие «периферии» весьма характерно для метаязыковых контекстов в художественной прозе.
Говоря о формальных средствах метаязыковой функции, следует обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, средства метатекста не всегда возможно четко отделить от собственно текста, так как они могут носить характер полифункциональных. Во-вторых, формальные признаки, отмечаемые исследователями как безусловные показатели метаязыковой рефлексии (например, метаязыковые термины), далеко не всегда сигнализируют о метаязыковом содержании высказывания. Так, слово слово далеко не всегда указывает на то, что в тексте содержится метаязыковой комментарий; ср., например:
Он аккуратно сложил листок, на котором слово «кукольник» преломлялось и уже махрилось на сгибе, сунул его во внутренний карман куртки и удовлетворенно улыбнулся: все хорошо (Д. Рубина. Синдром Петрушки).
Кроме того, метаязыковой комментарий может вообще не содержать каких-либо однозначных формальных маркеров, например, при использовании квазиавтонимных[12] имен:
– А что такое лактометр, знаешь? / – Я отвечал, что не знаю. /
– Это прибор, показывающий, много ли воды в молоке. Известно, – Николай Антоныч поднял палец, – что молочницы разбавляют молоко водой. Положите в такое разбавленное молоко лактометр, и вы увидите, сколько молока и сколько воды (В. Каверин. Два капитана).
Видимо, следует согласиться с тем, что в большинстве случаев при изучении рефлексивов «фактически невозможна машинная обработка корпуса с помощью поисковой системы – исследователю приходится прочитывать корпус от начала до конца.» [Колесникова 2002: 124].
IV. Функции метаязыковой рефлексии. Большинство исследователей метаязыковой рефлексии стремится выявить ее функции. Описанные в специальной литературе функции метаязыковых контекстов можно условно разделить на три группы – обозначим их как а) текстовые, б) дискурсивные и б) социальные.
Под текстовыми функциями понимается роль метаязыковых высказываний в организации текста; дискурсивные функции проявляются как соотнесение речи с конкретной коммуникативной ситуацией и регулирование процесса общения. Социальные функции связаны с тем влиянием, которое имеет метаязыковая деятельность на социальное взаимодействие людей и – шире – на состояние общества.
По наблюдениям А. Вежбицкой [Вежбицка 1978], метатекстовые выражения могут быть направлены либо непосредственно на текст (речевое произведение), либо «за пределы» текста, к акту речи. «Метатекстовые нити» как элемент текста «проясняют «семантический узор» основного текста, соединяют его различные элементы, усиливают, скрепляют» [Там же: 421]. С текстовыми функциями соотносятся метатекстовые элементы, которые, по А. Вежбицкой, а) выделяют тему высказывания (в конструкциях типа Что касается…); б) указывают на очередность и логическую последовательность частей текста и т. п. Выполняя дискурсивные функции, метаязыковые элементы соотносят речевое произведение с ситуацией, в которой оно создается, участвуют в организации самой этой ситуации, «проясняют» позицию говорящего, управляют деятельностью адресата и т. д. Так, А. Вежбицкая указывает, что элементы метатекста а) акцентируют внимание на самом факте речи (характерно для так называемых высказываний-метаплеоназмов); б) обозначают дистанцирование говорящего от содержания произносимого высказывания; в) дублируют на метатекстовом уровне действия, «которые фактически совершает говорящий самим произнесением остальной части текста» (напоминаю, повторяю, отвечаю, подчеркиваю[13] и т. п.).
В ряде случаев нелегко отделить текстовую роль языковых выражений от дискурсивной. Так, А. Вежбицкая среди элементов метатекста указывает выражения, которые выделяют наиболее важные в смысловом отношении фрагменты. Очевидно, что такие выражения выполняют как внутритекстовую функцию (организуют смысловое пространство текста), так и дискурсивную (управляют вниманием адресата).
В. А. Шаймиев, определяя функции метатекста как иллокутивные, ведет речь о двух разновидностях этих функций: ближайших и дальнейших [Шаймиев 1998: 72–75]. Ближайшие иллокутивные функции названы так потому, что «сферой их действия является сам текст; это внутритекстовые иллокутивные функции метатекста». К ближайшим функциям относятся номинативная («называние речевых шагов говорящего по развертыванию, порождению текста») и орудийная (метатекстовые «конструкции являются и своеобразными средствами речевых действий говорящего»: а именно, следующее, то есть, например и т. п.). Дальнейшие иллокутивные функции, по В. А. Шаймиеву, заключаются в том, что метатекст способствует формированию перцептивной рефлексии адресата речи, то есть проявляются на уровне дискурса.
Некоторые разновидности описываемой В. А. Шаймиевым номинативной (ближайшей, текстовой) функции могут, на наш взгляд, рассматриваться как синкретичные – обращенные и к тексту, и к коммуникативной ситуации, поскольку соответствующие метатекстовые элементы не только «выстраивают» текст, но и управляют перцепцией адресата. Это такие функции, как «изложение «плана действий»», «толкование значений определенных элементов текста», «характеристика особенностей оформления текста» и т. п. Функции метатекста, которые автор цитируемой статьи демонстрирует на примере научного текста, по-видимому, в какой-то степени универсальны.
Б. С. Шварцкопф, описывая роль оценочных высказываний, имеет в виду функции, которые мы определили как дискурсивные: а) облегчение понимания речи и б) «аргументация, защита употребления языкового средства в данном контексте» [Шварцкопф 1970: 293]. И. Т. Вепрева также говорит о функциях рефлексивов в дискурсе (что согласуется с заявленным в работе пониманием рефлексива как «единицы речевого взаимодействия адресанта и адресата» [Вепрева 2005: 10]), выделяя два типа: 1) коммуникативные рефлексивы, имеющие целью координировать взаимодействие коммуникантов, и 2) концептуальные рефлексивы, которые служат средством выражения мировоззренческих установок говорящего [Вепрева 2005: 103].
Исследователи метаязыковой рефлексии в художественном тексте соотносят функции метаязыковых высказываний с эстетическими задачами текста. Так, Н. А. Николина пишет о метаязыковых включениях в текст как о средстве взаимодействия автора с читателем: метаязыковые комментарии «сообщают читателю необходимые сведения, способствуют созданию у него добавочных ассоциаций, важных для автора, устанавливают общий для отправителя текста и его адресата код» [Николина 1986: 65]. Собственно эстетическая роль метаязыковых комментариев в художественном тексте заключается в том, что они служат средством а) характеристики персонажа, б) выражения авторской позиции, в) формулирования основного конфликта произведения [Николина 1986; 1996; 2006 в]. Как одна из частных отмечается функция рефлексии как средства комического [Николина 2006 б: 66; Пихурова 2006: 13–15]. Все эти функциии соотносятся с развертыванием художественного дискурса, и их можно отнести к дискурсивным.
Социальные функции метаязыковой рефлексии выходят за пределы конкретного дискурса, отдельной коммуникативной ситуации. По мнению ученых, метаязыковые высказывания влияют в первую очередь на развитие языка. Так, Б. С. Шварцкопф указывает, что «оценки речи. являются одним из средств воздействия на речь других, так как, выражая оценку речи, говорящий не только ставит факт речи в светлое поле сознания (и свое, и у слушающего), но – что имеет важное значение для культуры речи – навязывает данную оценку речи другим говорящим» [Шварцкопф 1970: 287]. Метаязыковые высказывания в текстах СМИ способствуют процессу узуализации слова в языке [Вепрева 2005: 132; см. также: Трикоз 2006; 2008; 2009 б и др.].
V. Изучение метаязыковой рефлексии в диахронии. Как отмечают специалисты, данный аспект остается сегодня «белым пятном» в общей картине представления об обыденном метаязыковом сознании [Обыденное., I: 482]. Действительно, работы, реализующие указанное направление, немногочисленны [напр.: Вавилова 2005; Селезнев 2005; Судаков 2006; Трикоз 2010 а; 2010 б]. В этом ряду заслуживает особого внимания статья Г. В. Судакова «Гиляровский как знаток русской речи (рефлексия писателя на речевые феномены своего времени)» [Судаков 2006], которая иллюстрирует основные принципы изучения метаязыковой личности с позиций историзма[14]: а) рассмотрение материала в контексте общественно-исторических явлений и тенденций языкового развития, б) описание языковой рефлексии как многофакторного процесса и одного из аспектов развития личности, в) систематизация результатов метаязыковой деятельности по исторически значимым параметрам. Методологическое значение для исследования метаязыкового сознания в исторической динамике имеют положения ряда работ Л. Г. Зубковой [Зубкова 2003; 2009 и др.], в которых развитие метаязыкового сознания (как обыденного, так и научного) связывается с развитием человеческого самосознания в целом.
VI. Методы изучения метаязыковой деятельности. Перед исследователем метаязыковой рефлексии встает также вопрос о выборе методов сбора и обработки эмпирического материала. При сборе свидетельств о деятельности метаязыкового сознания исследователи обращаются как к традиционному наблюдению над письменной и устной речью, так и к методам, стимулирующим метаязыковую деятельность носителей языка в специально созданных условиях. Это следующие процедуры: эксперимент, который позволяет выявить осознаваемые и неосознаваемые представления о языке и речи, анкетирование, интервьюирование и опросы, в том числе письменные, метод субъективных дефиниций [см.: Обыденное… 2008; 2009, I; 2009, II]. При изучении языковой и речевой рефлексии исследователи не только обращаются к эксплицированным суждениям, но и рассматривают речевое икогнитивное поведение носителя языка [Ляхтеэнмяки 1999; Шмелёв 2009; Ким И. Е. 2009; Судаков 2010].
В исследовательской практике используются следующие методы описания метаязыкового материала: а) интерпретационный анализ: комментирование и обобщение метаязыковых высказываний (к которым прибегают практически все исследователи); б) статистическая обработка эмпирических данных [Ким Л. Г. 2009; Орлова 2009 а; 2009 б и мн. др.]; в) семантический и семантико-когнитивный анализ метаязыковых контекстов [Степанов 1997; Демьянков 2000; 2001; Левонтина 2000 а; 2000 б; Стернин 2002; 2006; Тавдгиридзе 2005; Полиниченко 2004; 2007 а; Милованова 2005; Иомдин 2008; Шаманова 2008; Кондратьева 2008]; г) реконструкция невербализованных метаязыковых представлений, стереотипов [Голев 2008 б; 2009 в; Ким И. Е. 2009; Лебедева 2009 б; Шмелёв 2009 и др.]; д) лексикографическое описание «метапоказателей» и метаязыковых комментариев [Перфильева 2006; Николина, Шумарина 2009 а; 2010 а]; е) теоретико – лингвистический и лингвофилософский анализ метаязыковых аспектов языка, речи, личности [Гаспаров 1996; Шмелёва 1999; Зубкова 2003; 2009; Кашкин 1999; 2002; 2008; 2009; Дуфва, Ляхтеэнмяки, Кашкин 2000; Рябцева 2005; Голев 2008 а; 2009 а; Лебедева 2009 б; Ростова 2008 и др.].
VII. Значимость исследования метаязыковой рефлексии.
Рассматривая метаязыковые высказывания, исследователи определяют теоретическую и практическую значимость такого изучения. Прежде всего, обращается внимание на то, что оценки, исходящие от рядовых носителей языка, могут обогатить научное знание: «Наивные языковедческие теории порой на удивление совпадают с теориями, возникающими в рамках профессиональной лингвистики, отличаясь от последних лишь тем, что изложены, так сказать, «простыми словами»» [Колесникова 2002: 121].
Лингвисты указывали на ценность метаязыковых суждений рядовых носителей языка для лексикографии [Щерба 1974: 280 и др.], социолингвистики, стилистики, культуры речи [Шварцкопф 1970: 287]. Исследователи склонны видеть в метаязыковых высказываниях своеобразный индикатор языковых изменений [Шварцкопф 1970; Вепрева 2005]. При этом, как отмечают специалисты, особо важно учитывать такие комментарии, «которые могли бы служить общественным мерилом значимости слова в языке, играли бы роль помет толкового словаря в сознании носителей языка» [Костомаров, Шварцкопф 1966: 27]. Пример такой оценки – «пометы» приводят Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелёв, говоря о соотношении значений слов мятеж и революция: «Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае зовут его иначе. В русских толковых словарях смысловой признак, связанный с «результатом», в значении слов мятеж, бунт, революция и даже путч не выделяется. Нет и стилистических помет типа неодобр.» [Булыгина, Шмелёв 1999: 150].
А. Вежбицкая также считает целесообразным анализ метатекста в аспекте стилистических исследований: «Представляется, что количественный и качественный «вклад» метатекста в текст является одним из существенных показателей стилистических различий» [Вежбицка 1978: 421].
В то же время ученые предостерегают от некорректной интерпретации «наивных» метаязыковых оценок. Так, Э. В. Колесникова подчеркивает, что рядовой носитель языка «может блестяще пользоваться языком, но не описывать (и тем более объяснять) язык с профессиональной точки зрения» [Колесникова 2002: 123; выделено автором]. Следовательно, нет оснований абсолютизировать данные, полученные при изучении рефлексии «наивного лингвиста».
В современных работах обобщающего характера формулируются наиболее актуальные задачи исследования метаязыковой рефлексии «наивных» говорящих. Перечислим те из них, которые имеют отношение к вопросам, рассмотренным в монографии. Так, В. Б. Кашкин перечисляет следующие насущные задачи: а) совершенствование терминосистемы, связанной с изучением обыденного метаязыкового сознания; б) описание различных видов метаязыковой деятельности (вербализованные и невербализованные, статические и динамические представления о языке; приемы «наивных пользователей»); в) создание типологической классификации наивных представлений о языке по разным параметрам; г) выявление соотношения научных понятий и бытовых представлений о языке; д) сопоставление обыденного представления о языке с представлениями из других сфер человеческого знания и познания; е) исследование статуса авторитета в языковой деятельности (авторитет учебника, словаря, носителя языка, эксперта и т. п.) [Кашкин 2008: 39–40].
Н. Д. Голев формулирует вопросы, которые нуждаются в ответах в первую очередь: а) каково соотношение обыденного метаязыкового и научного (лингвистического) сознания; какое место между этими понятиями занимают научно-популярная литература, псевдонаука, народная наука, любительская наука; б) в каком соотношении находятся понятия «обыденное метаязыковое сознание» и «наивная лингвистика»; в) какова специфика «наивной лингвистики» по сравнению с другими «наивными науками»; г) какие черты имеет народная лингвистика, каковы особенности языковой личности «наивный лингвист»; есть ли грань между научным графоманством и естественным стремлением обывателя самому разобраться в языке; имеет ли гносеологическую ценность наивная лингвистика; д) существуют ли в профессиональной лингвистике проявления «научной наивности»; е) каково содержание понятия «лингвистическая мифология» [Голев 2008 а: 10–11].
По свидетельству специалистов в области изучения «наивной» лингвистики есть вопросы, «не только не исследованные, но и редко отмечаемые»; к ним относится и вопрос о «бытовом метаязыке» [Обыденное… 2009, I: 481–483].
VIII. Упорядочение терминологии. Рост интереса к изучению различных аспектов непрофессиональной метаязыковой рефлексии, формирование целого ряда направлений и научных школ сопровождается стремительным обогащением терминологии соответствующей области знания. При этом стихийное развитие терминологии нередко демонстрирует «побочные эффекты», которые затрудняют взаимопонимание ученых. К таким «неудобствам» отнесем: а) наличие большого количества терминологических дублетов, которые функционируют как полные или частичные синонимы (например, «наивная лингвистика», «обыденная лингвистика», «естественная лингвистика» и т. п.); б) существование терминов, которые фактически являются омонимами («фолк-лингвистика», «метатекст»); в) использование одних и тех же терминов для обозначения объекта и изучающей его научной дисциплины («наивная лингвистика», «обыденная лингвистика» и т. п.); г) коннотированность и структурное значение[15] общеупотребительных единиц, на базе которых образуются термины («наивный», «народный», «естественный»[16]); д) затемненность внутренней формы термина, образованного с нарушением словообразовательной нормы (напр., «обыденная металингвистика»).
Выскажем здесь некоторые соображения относительно терминов, которые связаны с вопросами, освещаемыми в монографии. В первую очередь заслуживают внимания наименования, обозначающие область исследования и его объект.
Сегодня, при высокой активности изучения обыденной метаязыковой деятельности, остается открытым вопрос о терминологическом обозначении соответствующего научного направления. Становится очевидной необходимость и – с учётом достижений в данной области – возможность уточнения и разграничения понятий, которые интерпретируются в ряде работ как синонимы: «обыденная лингвистика», «бытовая лингвистика», «стихийная лингвистика», «естественная лингвистика», «фолк-лингвистика» (folk linguistics), «наивная лингвистика», «лингвистика метаязыкового сознания», «обыденная лингвистическая гносеология», «народная гносеология» [Голев 2009 а: 39]. Н. Д. Голев в различных случаях использует термины «обыденная лингвистика», «обыденная металингвистика», «лингвистика метаязыкового сознания», но особо отмечает, что не настаивает на окончательной терминологизации этих обозначений [Голев 2009 б: 371].
Прежде всего, представляется необходимым дифференцировать термины, обозначающие исследуемый объект («обыденное метаязыковое сознание», «наивная лингвистика» и т. п.) и изучающую его дисциплину (например, используемое Н. Д. Голевым обозначение «лингвистика метаязыкового сознания» и под.). В настоящее время, как отмечалось выше, целый ряд терминов используется одновременно и как обозначение объекта, и как обозначение науки («бытовая лингвистика», «стихийная лингвистика», «фолк-лингвистика»[17], «folk linguistics», «наивная лингвистика»). Здесь, видимо, действует традиция терминообразования на основе метонимического переноса, характерная для названий лингвистических наук (ср. термины «синтаксис», «грамматика», «словообразование», которые обозначают и соответствующие языковые феномены, и изучающие их языковедческие дисциплины), так что подобный перенос названия объекта на название науки является закономерным. Однако в ряде случаев такая многозначность термина неудобна, и металингвистическая практика стремится этого избегать (ср., например, появление наряду с термином «словообразование» обозначения «дериватология», а также употребление в лингвистическом дискурсе сочетаний типа «в синтаксической теории», «в грамматических исследованиях» вместо «в синтаксисе», «в грамматике»).
Сложность выработки терминологии обусловлена ещё и тем обстоятельством, что разграничивать приходится даже не уровни языка и метаязыка (что также сопряжено с некоторыми парадоксами сознания), а уровни метаязыка и «мета-мета-языка» (особого рода лингвистику и соответствующую ей металингвистику). Однако терминологическое разграничение в этом случае необходимо, на наш взгляд, и для того, чтобы избежать отождествления онтологического и гносеологического аспектов проблемы, уйти от смешения объекта изучения и знания о нём (Как раз подобное смешение характерно для обыденного сознания и чревато негативными последствиями в сфере практической деятельности [см.: Обыденное… 2009, I: 371–477].)
Таким образом, было бы логично закрепить: а) за объектом изучения обозначения «бытовая лингвистика», «стихийная лингвистика», «народная лингвистика», «наивная лингвистика», «естественная лингвистика», «обыденная лингвистика», а также (несколько отличающийся по значению и связанный с изменением угла зрения на объект) термин «обыденное метаязыковое сознание» и б) за изучающей этот объект наукой – термины «лингвистика метаязыкового сознания», «гносеология обыденной лингвистики» или – рискнем предложить – «теория обыденной лингвистики», «теория обыденного метаязыкового сознания».
Обратим особое внимание на обозначения «обыденная металингвистика» (Н. Д. Голев, А. Н. Ростова) и «наивная металингвистика» (В. Б. Кашкин). Эти термины не кажутся безупречными, т. к. внутренняя форма словосочетаний указывает на то, что речь идёт об интерпретации лингвистики обыденным сознанием, а не о научном анализе самой обыденной лингвистики (здесь префикс «мета-» относится только к термину «лингвистика», а определение «обыденная» характеризует слово «металингвистика»).
Использование термина «обыденная металингвистика» может приводить к путанице и подмене понятий. Так, в одной из статей автор, высказав положение о том, что в центре внимания обыденной металингвистики «находятся факты осмысления языка обычными говорящими», далее продолжает: «Объектом металингвистики является обыденное метаязыковое сознание» [Кузнецова 2008]. Данное употребление иллюстрирует один из недостатков термина «обыденная металингвистика». Как правило, в терминологических субстантивно-адъективных словосочетаниях существительное обозначает родовое понятие, а прилагательное – видовое: простое предложение; гласная фонема; лексическое значение; именительный падеж и т. п. В лингвистическом контексте возможно употребление существительного-термина без уточняющего прилагательного (например, значение вместо лексическое значение), при этом корректность высказывания не нарушается, адресат воспринимает слово значение как кореферентное выражению лексическое значение. Однако термины «металингвистика», «металингвистическая функция», «металингвистический дискурс» соотносятся в современной лингвистике не с разговором о языке, а с разговором о лингвистике [см.: Куликова, Салмина 2002]. Таким образом, исключение из обозначения «обыденная металингвистика» уточняющего прилагательного «обыденная» ведет к некорректному употреблению термина «металингвистика».
Как нам кажется, термин «обыденная металингвистика» мог бы использоваться для обозначения другого феномена, который входит составной частью в обыденное метаязыковое сознание. Фактами обыденной металингвистики можно было бы признать различные суждения рядовых носителей языка о содержании лингвистической науки, о теоретической и практической деятельности языковедов – как, например, в следующих фрагментах из художественных текстов:
(1) Так как в русском языке почти уже не употребляются фита, ижица и звательный падеж, то, рассуждая по справедливости, следовало бы убавить жалованье учителям русского языка, ибо с уменьшением букв и падежей уменьшилась и их работа (А. Чехов. Из записной книжки старого педагога); (2) <…> какую бы фамилию я ни присвоил своему объекту, наши фантазеры тотчас <…> впадут в математические изыски, разлагая слово на гласные и согласные буквы, обращая особое внимание на порядок их шествия в слове, место в алфавите <…> и разъяснят, <…> что на сегодняшний день означает количество букв в указанном имени (П. Кожевников. Жрец).
Более логичным для обозначения лингвистической науки, исследующей метаязыковое сознание «естественного лингвиста», выглядел бы термин, в котором префикс «мета-» относился бы ко всему сочетанию «обыденная лингвистика» (мета- + {обыденная лингвистика}), что в русском языке, однако, невыполнимо. Возможно, обсуждаемая семантика адекватно воплотилась бы в наименованиях типа «теория обыденной лингвистики», или «теория обыденного метаязыкового сознания», или уже известном «лингвистика метаязыкового сознания».
Учитывая изложенные здесь соображения мы разграничиваем следующие термины и стоящие за ними понятия.
А. Под обыденной («естественной», «стихийной», «наивной») лингвистикой понимается совокупность (система) обыденных знаний, представлений, суждений о языке и соответствующих лингвистических «технологий». Субъектом обыденной лингвистики является «стихийный (наивный) лингвист» – то есть носитель языка, не занимающийся профессионально лингвистикой.
Б. Научно-лингвистическую деятельность, направленную на изучение феномена обыденной лингвистики, мы называем теорией обыденной лингвистики.
Совокупность сведений о языке / речи и способов их художественного переосмысления в текстах литературы и фольклора также представляет собой особого рода «лингвистику». Субъектом этой «лингвистики» является автор художественного текста или коллективный автор фольклорного произведения, творчески интерпретирующий метаязыковое знание в соответствии с эстетической задачей. Выбор терминологического обозначения для этой «лингвистики» и соответствующей ей «металингвистики» (то есть научного направления, изучающего метаязыковую рефлексию как элемент художественного текста) – одна из задач, которые ждут своего решения.
Далее уточним значение основных терминов, служащих для номинации «единиц метаязыкового функционирования языка» [Голев 2009 а: 35]. Учеными был предложен целый ряд обозначений[18], каждое из которых а) делает акцент на отдельных свойствах метаязыковых текстов и б) обозначает некоторую разновидность контекстов, служащих для экспликации метаязыкового сознания, и не затрагивает других разновидностей (что обусловлено задачами соответствующих исследований).
Термин «метаязыковые высказывания» [Булыгина, Шмелёв 1999] характеризует метаязыковые контексты с точки зрения их содержания. Обозначения «оценки речи» [Шварцкопф 1971 и др. работы] и «суждения о языке» [Гаспаров 1996: 17] акцентируют внимание на субъективно-оценочном содержании высказываний, на операции присвоения признака тому или иному комментируемому факту языка / речи. Эти три термина обозначают высказывания, в которых обозначен объект, содержание и основание метаязыковой характеристики; в их круг не включаются контексты, в которых отсутствует вербально выраженная оценка.
Сочетания «показания языкового сознания» [Ростова 1983; Блинова 1984; Иванцова 2009] и «маркеры рефлектирующего сознания» [Крючкова 2008] переводят «семантический фокус» на связь высказываний о языке / речи с деятельностью сознания. При этом в кругу обозначенных явлений рассматриваются не только развернутые вербальные комментарии, но и «скрытые показания метаязыкового сознания», способами экспликации которых являются «фонетические средства (интонация, понижение тона голоса, особенности произнесения отдельных звуков), а также смех, мимика и жесты, отбор лексических единиц, эвфемистические замены, фигуры умолчания, формулы извинения при употреблении грубых слов, маркеры неуверенности ли как ли, ли как, ли чё ли, как его и т. п.» [Иванцова 2009: 346–347]. Эти термины в наибольшей степени соответствуют задачам описания разнообразных средств экспликации метаязыковой рефлексии, однако не вполне удобны для использования из-за своей «неоднословности». Более лаконичен используемый рядом авторов в том же значении термин «метатекст», употребление которого, впрочем, также затруднено в силу его неоднозначности.
Обозначение «метатекст» приобрело значительную популярность в современной лингвистике[19] и используется в языковедческом дискурсе в двух основных значениях. Во-первых, метатекст – это «высказывание о высказывании», «комментарий к собственному тексту» [Вежбицка 1978: 409], «авторское повествование об авторском повествовании» [Лотман 1988: 56], «своего рода прагматические инструкции по поводу того, как должно быть распределено внимание адресата при восприятии сообщаемой информации» [Апресян 1995: 151]. Метатекст не является самостоятельным речевым произведением, он включается в текст и составляет своеобразный метатекстовый «каркас» [Падучева 1996: 411]. Это понимание восходит к работам А. Вежбицкой и широко представлено в работах по семантике и структуре текста [см., напр.: Андрющенко 1981; Николаева 1987; Скат 1991; Рябцева 1994; 2005; Падучева 1996; Шаймиев 1998; Фатина 1997; Жогина 1999; Федорова 2006 и др.]. В работах последних лет сформировалось понимание метатекста как функционально-семантической категории текста, которая означает «присутствие говорящего в тексте» и преследует цель «передачи авторского отношения к языковому коду своего высказывания» [Лосева 2004: 9][20].
Во-вторых, под метатекстом понимается любая метаречь [Ахманова 1966: 4], любой лингвистический текст [Куликова, Салмина 2002: 97], «материализованное в высказывании суждение говорящего о своем языке» [Ростова 2000: 55; см. также: Ляпон 1986; Никитина 1989; Норман 1994 а; Голев 2003 в; 2009 а; Черняков 2007 и др.]. В основе такого понимания термина лежит иное ощущение его словообразовательных связей: лексема представляется как результат своего рода телескопического сложения: метатекст – метаязыковой текст).
В настоящей работе термин «метатекст» используется в том значении, в котором понимает его А. Вежбицкая: это элементы текста, референтные самому тексту / дискурсу (или их элементам) и выполняющие функцию автокомментирования.
И. Т. Вепрева, подвергнув критическому анализу существовавшие в конце ХХ в. обозначения, предложила термин «рефлексив» [см.: Вепрева 1999], который быстро вошел в научный оборот [см., напр.: Кормилицына 2000 а; Шейгал 2004; Николина 2006 б; Батюкова 2007; Трикоз 2010 а; 2010 б и др.]. Термин «рефлексив» привлекателен не только своей лаконичностью – он позволяет зафиксировать в качестве специфического объекта изучения особый тип высказываний (по признаку содержания) и подвергнуть этот тип собственно лингвистическому анализу с точки зрения семантики, структуры и функции. Трактовка И. Т. Вепревой рефлексива как комментария к слову или выражению обусловлена задачами конкретного исследования и не препятствует семантическому развитию термина, который в нашей работе понимается достаточно широко – как всякий метаязыковой контекст, реализующий (эксплицитно или имплицитно) метаязыковое суждение о любом факте языка / речи (а не только о слове или выражении). Термины «метаязыковое высказывание» и «метаязыковой комментарий» обозначают частные разновидности рефлексивов; термины «метаязыковое суждение», «метаязыковая оценка (характеристика)» указывают на план содержания рефлексива.
1.3. Метаязыковое сознание и формы метаязыковой рефлексии
Метаязыковая рефлексия – это деятельность метаязыкового сознания, и различные виды рефлексии (метаязыковой деятельности) соотносятся с разными формами метаязыкового сознания и в соответствии со спецификой этих форм демонстрируют неодинаковые свойства. Рассмотрим формы метаязыкового сознания и присущие им способы метаязыковой деятельности.
Различные термины, которыми исследователи обозначали метаязыковое сознание, акцентировали внимание на различных сторонах изучаемого явления. Так, термины «языковедное мышление» [Бодуэн де Куртенэ 2004: 4] и «лингвистическое сознание» [Седов 2009: 110] обращают внимание на содержание соответствующей ментальной деятельности – это «мышление о языке». Обозначение «языковая сознательность» [Ухмылина 1967] актуализирует осознанный характер метаязыковой деятельности. Сочетание «языковая интуиция» [Кирпикова 1972 и др.] подчеркивает интуитивный (не логический) характер обыденной метаязыковой рефлексии. Наконец, введенный В. Хлебдой термин «языковое самосознание» подчеркивает высокий уровень сознания личности, который необходим для осуществления критической рефлексии над языковыми реалиями советского периода [Хлебда 1998]; польский ученый рассматривает метаязыковые высказывания не как показатель деятельности метаязыкового сознания, а как показатель «зарождения свободомыслия», однако сегодня термин «языковое самосознание» употребляется в ряде работ как абсолютный синоним термина «метаязыковое сознание» [напр.: Акишева 2007].
Н. Д. Голев указывает на возможность рассмотрения метаязыкового сознания в трех аспектах: 1) как явления языка, 2) как феномена речевой деятельности и 3) как составной части языкового сознания [Голев 2009 а]. Как показывает обзор исследований (см. § 1.1), первый аспект предполагает описание метаязыка – формально-языковых средств, которые репрезентируют метаязыковую деятельность в речи. В аспекте речевой деятельности предметом изучения становятся условия формулирования метаязыковых высказываний и их функции в речи.
Рассмотрение метаязыкового сознания как части языкового сознания (феномена ментальной сферы) традиционно связано с описанием ряда дихотомий: а) языковое сознание – метаязыковое сознание; б) сознательная – бессознательная деятельность; в) вербализованная – «молчаливая» рефлексия; г) обыденное – научное сознание.
В современной науке под метаязыковым сознанием понимается «область рационально-логического, рефлексирующего языкового сознания, направленная на отражение языка как элемента действительного мира» [Ростова 2000: 45]. Не вызывает дискуссий вопрос о том, что метаязыковое сознание – часть языкового сознания[21]. Если языковое сознание понимается как «совокупность образов сознания, формируемых и овнешняемых при помощи языковых средств» [Тарасов 2000: 26], то «объект языкового самосознания
– язык в целом и его отдельные компоненты, языковое поведение. Языковое сознание рождает тексты, языковое самосознание
– метаязык и метатексты. Языковое сознание реализуется в вербальном поведении коммуникантов, языковое самосознание – разными способами, то есть как вербальными, так и невербальными» [Акишева 2007: 7].
Исследователи, описывающие метаязыковое сознание, определяют его сущность и содержание различными способами. Так, ряд ученых [см.: Ростова 2000, Лебедева 2009 а и др.] характеризуют его как совокупность единиц знания: «Метаязыковое сознание – это совокупность знаний, представлений, суждений о языке, элементах его структуры, их формальной и смысловой соотносительности, функционировании, развитии и т. д.» [Ростова 2000: 45]. В соответствующих описаниях метаязыковое сознание интерпретируется как часть, особая предметная область языкового сознания, в которой можно выделить – в соответствии с содержанием – «метаречевое сознание», «жанровое мышление» [Седов 2009], а также могут быть выделены и другие сферы (например, «метаграмматическое», «металексическое», «метариторическое», «метастилистическое» сознание и т. п.).
Другие исследователи делают акцент на деятельностной природе метаязыкового сознания [Дуфва, Ляхтеэнмяки, Кашкин 2000; Голев 2009 а и др.]. Таким образом, метаязыковое сознание может интерпретироваться и как функция языкового сознания.
Разумеется, любые описания соотношения языкового и метаязыкового сознания представляют собой некие метафоры, при помощи которых исследователь изображает ненаблюдаемую сущность. На наш взгляд, метаязыковое сознание может быть рассмотрено (прибегнем здесь к «компьютерной» метафоре) и как «б а з а данных», включающая сумму представлений о языке, и как операциональная сфера, в которой хранится «программное обеспечение» метаязыковых операций. Своеобразие «данных» и «программ обработки» определяет специфику различных форм метаязыковой деятельности («операции», выполняемые «программами») – «от чувственно-интуитивной рефлексии рядового носителя языка. до глубинной рефлексии профессионала-лингвиста, вооруженного опытом тысячелетней лингвистической мысли и использующего интеллектуальный аппарат, отделенный от чувственно-интуитивной рефлексии множеством опосредующих звеньев» [Голев 2009 а: 9].
Метаязыковая деятельность может осуществляться не только при производстве текстов, но и при их восприятии – в виде различного рода интерпретаций [см.: Алимова 2008; Ким Л. Г. 2009; Сайкова 2009]. Сознательных (и даже творческих) усилий требует восприятие текстов «усложненной» смысловой структуры, особенно художественных и игровых текстов. Ср.: «Понимание может быть только там, где возможно непонимание. Сказанное касается собственно понимания, а не автоматического восприятия привычных речений. Такие речения «понятны и без понимания». Собственно понимание достигается через рефлексию» [Богин 1998: 62].
В психолингвистике, педагогической психологии и дидактике сложилась традиция понимать интерпретацию воспринимаемой речи (вслед за Г. И. Богиным) как «высказанную рефлексию» [Там же] (то есть рефлексия – это ментальная операция, которая протекает «молчаливо», но может воплощаться в вербальной форме в виде высказывания-интерпретации). При этом сама необходимость «высказать» рефлексию служит стимулом для включения механизмов продуктивной деятельности, ибо интерпретация не относится к числу задач, имеющих единственно правильное решение. Интерпретация предполагает выход из режима автоматизма восприятия и верификацию понимания путем анализа собственной метаязыковой деятельности: «Выход в рефлективную позицию есть постановка самого себя перед вопросом такого рода: «Я понял, но что же я понял? Я понял вот так, но почему я понял именно так?»» [Там же: 63].
В качестве свидетельств метаязыковой активности лингвисты рассматривают рефлексивы – вербализованные метаязыковые суждения, однако представление современной науки о сложной структуре сознания, включающей уровни сознательного и бессознательного [см.: Бессознательное 1978–1985], заставляет обратить внимание и на метаязыковую деятельность, локализованную вне «светлого поля» сознания.
К подсознательной сфере относят феномен, который обозначается в специальной литературе терминами «языковое чутье» (ср. «чутье языка народом» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 50]), «интуиция», «чувство языка» [Левина 1978], «молчаливое знание, которое спрятано в «глубинах» человеческого сознания» [Вежбицкая 1996: 244] и которое действует как неосознанный «механизм селекции и контроля языковых единиц» [Божович 1988: 73]. В основе действия этого механизма лежит «система языковых представлений, основанная на преимущественно бессознательном обобщении своего языкового опыта (всей предшествующей речевой практики)»[22] [Ростова 2000: 39].
Говоря о метаязыковом сознании, исследователи отмечают, что «в важнейших проявлениях данного феномена носитель языка встает «над» языком, выступая в роли субъекта, познающего язык во всех его ипостасях и самого себя как носителя языка» [Голев 2009 а: 7]. В то же время «позиция «над» включена в естественную речевую деятельность как механизм ее реализации и тем самым она растворяется до позиции «внутри», в которой осознанное отношение редуцируется до автоматически спонтанного», а компоненты метаязыкового сознания «выступают в роли элементов практического языкового сознания» [Там же]. Обеспечивая возможность автоматизированной речи, сознание подвергает метаязыковую информацию дальнейшему свертыванию и «формирует неосознанный пласт языкового сознания, в котором непроизвольно отражаются знания о мире, в том числе, по-видимому, и такие знания, которые образуют языковую картину мира» [Там же]. Таким образом, метаязыковые представления, воплощенные в компактной форме языкового значения, «нерефлектирующей рефлексии» (Н. Д. Арутюнова), являются, с одной стороны, результатом деятельности метаязыкового сознания, а с другой, – обеспечивают возможность речевой (включающей метаязыковую) деятельности вне «светлого поля» сознания. Такие «свернутые» метаязыковые операции носят латентный характер, неосознаются носителями языка, но при этом «содержат больший или меньший потенциал выхода на метаязыковую «поверхность», если становятся объектом внимания светлого поля сознания» [Голев 2009 а: 8].
О распределенности метаязыкового сознания между сферой сознательного и бессознательного пишет целый ряд специалистов. При этом противопоставление бессознательной и сознательной метаязыковой деятельности носит характер градуальной оппозиции, например, ученые выделяют несколько уровней метаязыковой деятельности в зависимости от ее осознанности: «1) встроенный автореферентный механизм языка (каждая языковая единица сама себя описывает, описывает свой класс), этот механизм по преимуществу имплицитен; 2) эксплицитный регулятивный механизм языковой деятельности (метаязыковые маркеры речевого поведения); 3) скрытый слой мифов и поверий относительно языка, языков, значений, операций со словами и т. п.; 4) эксплицитные мини-теории наивных пользователей языка («надводная часть айсберга») о том, как устроен язык, как его следует изучать, в чем разница между отдельными языками и т. п.» [Дуфва, Ляхтеэнмяки, Кашкин 2000: 81–82].
Н. Д. Голев также выделяет несколько уровней метаязыковой рефлексии по степени осознанности субъектом метаязыковых реакций[23]: 1) исходный (нулевой) уровень ««молчаливого», или имплицитного, метаязыкового сознания»; 2) интуитивный уровень, который предполагает вербализацию интуитивно данной оценки; 3) выведение языкового факта в «светлое поле» сознания и попытка аргументированного комментария (При этом аргументы основаны на личных впечатлениях говорящего о языковом феномене: «бессистемные наблюдения о нем, отдельные эпизоды, примеры, ситуативно-эвристические догадки, выделение поверхностных, бросающихся в глаза дифференциальных признаков»); 4) уровень стихийного теоретизирования: оценка собственных или чужих суждений с точки зрения правильности / неправильности; 5) «повышенный» уровень теоретизирования, предполагающий стихийное обобщение наблюдений и даже использование имеющихся лингвистических знаний [Голев 2009 а: 12–14].
Выделение указанных разновидностей метаязыкового сознания и уровней рефлексии можно интерпретировать как некую «вертикальную» градацию в структуре метаязыкового сознания. Неосознанная рефлексия на нижнем уровне реализует «невербализованные представления о языке, проявляющиеся через выбор наивного пользователя в пользу того или иного оформления своего речедействия» [Кашкин 2008: 39]. Рефлексия высшего уровня представляет собой «зачатки» теоретической деятельности: «стихийное теоретизирование» (Н. Д. Голев), «эксплицитные мини-теории» (Х. Дуфва, М. Ляхтеэнмяки, В. Б. Кашкин).
Поскольку теоретическая деятельность представляет собой рефлексию более высокого уровня, нежели «наивный» комментарий о языке / речи, то данная вертикальная структура легко «достраивается» путем присоединения нового уровня – научного метаязыкового сознания. Исследователи сходятся в том, что метаязыковое сознание существует в двух вариантах[24]: 1) научное, присущее специалисту-лингвисту и вербализованное в виде языковедческой теории и метаязыка лингвистики, и 2) обыденное, принадлежащее каждом у носителю языка (в том числе и профессиональному языковеду) и проявляющееся в виде эксплицитных и имплицитных суждений о языке и речи. Авторы целого ряда работ в этом смысле говорят о двух уровнях метаязыкового сознания: обыденном и научном. Представление об иерархических отношениях научного и обыденного метаязыкового сознания[25] базируется на представлении об обыденном знании как донаучном. Ср.: «Всякая наука коренится в наблюдениях и мыслях, свойственных обыденной жизни; дальнейшее ее развитие есть только ряд преобразований, вызываемых первоначальными данными, по мере того, как замечаются в них несообразности» [Потебня 1993: 40]. Такое представление отражает и систему ценностей, характерных для общественного сознания: как сциентистская, так и антисциентиская ценностные установки базируются на представлении о могуществе науки, о ее «функциональном» превосходстве над другими формами знания [см.: Миронов 1997], в связи с чем «ненаучное» знание может оцениваться как «неполноценное»[26]. В то же время взаимоотношения между научным и обыденным метаязыковым сознанием представляются более сложными, в частности, ученые обосновывают «легитимность» ненаучных представлений о языке, отмечая, что «обыденное метаязыковое сознание занимает не периферийное положение в ментальной сфере языка, как раз напротив – оно составляет ядерный компонент ментально-языковой ситуации в современной России, поскольку с ним связан механизм синтеза онтологического и гносеологического бытия языка. Обыденная лингвистика и металингвистика занимают центральное положение в лингвистической гносеологии, работы в этой области имеют прямой выход в лингводидактику и языковое строительство» [Голев 2008 а: 12].
Многообразие проявлений метаязыковой рефлексии приводит к пониманию обыденного метаязыкового сознания как сложного, неоднородного явления, что побуждает исследователей к презентации его структуры в виде различных моделей, которые с разных точек зрения отражают онтологическую сложность феномена и являются его гносеологическими проекциями. Несовпадение моделей, предлагаемых разными авторами, обусловлено как чрезвычайной сложностью объекта, так и различием исследовательских целей. Специфика нашего исследования также требует построения модели метаязыкового сознания, адекватной задачам работы (см. схему 1 на с. 47).
Представим метаязыковое сознание в виде структуры, распределенной «по вертикали» от степени полного автоматизма метаязыковой деятельности до степени включенности всех ресурсов сознания.
Первый уровень – подсознательный (бессознательный). На этом уровне метаязыковая рефлексия представлена в «свернутом» виде «нерефлектирующей рефлексии», она заключена в семантике языковых единиц и правилах их использования, составляющих содержание языкового сознания. Речевой самоконтроль (основная функция рефлексии) осуществляется на этом уровне автоматизированно и бессознательно – как ««предметаязыковое» сознание, функционирующее. в свернуто-автоматических формах» [Голев 2009 а: 26].
Схема 1
Структура метаязыкового сознания и формы метаязыковой рефлексии
Показателями работы метаязыкового сознания на первом уровне является выбор речевых средств, предполагающий их оценку как адекватных замыслу [см.: Милославский 2010: 24; Чернейко 1990: 80].
Второй уровень метаязыкового сознания связан с выведением метаязыковой операции в «светлое поле» сознания и с возможностью вербализации рефлексии. Речевой самоконтроль на этом уровне заставляет говорящего или исправлять допущенные ошибки, неточности, или предвидеть возможный коммуникативный сбой и предупреждать его, в том числе оправдывая использование того или иного выражения, или давать оценку используемым речевым средствам. Ср.: И на протяжении всей его карьеры, если можно назвать его певческий путь таким противным словом, он оставался человеком; А когда я начал работать как режиссер, то, конечно, многое не то чтобы позаимствовал, а, как бы поделикатнее сказать, – воспринял из западного опыта [примеры из кн.: Вепрева 2005: 77; 186].
Метаязыковая деятельность на втором уровне рефлексии, являясь осознанной, демонстрирует тем не менее значительную стандартизованность. Эта деятельность часто спонтанная, неподготовленная, непреднамеренная. Метаязыковые комментарии на этом уровне носят характер импровизаций и функционально привязаны к конкретной коммуникативной ситуации, в рамках которой порождаются. Высказываемые метаязыковые оценки опираются на собственный речевой опыт говорящего (накопленный, но не обязательно специально осмысленный) и на освоенный (присвоенный) коллективный опыт, воспроизводят этот опыт, и потому формулирование таких оценок представляет собой решение «задач известного типа».
Здесь субъектом рефлексии выступает обыденное метаязыковое сознание, которое проявляется в виде «чувственно-интуитивной рефлексии рядового носителя языка» [Голев 2009 а: 9], однако рефлексия второго уровня может осуществляться с опорой на научное знание, а также в рамках научного дискурса (например, воспроизведение «готового» лингвистического знания в репродуктивных жанрах учебно-научного стиля: лингвистический разбор, пересказ параграфа и т. п.).
Наряду с такой «алгоритмической» рефлексией существуют и метаязыковые операции высокой степени осознанности, предполагающие более глубокое осмысление и творческую интерпретацию фактов языка / речи. Это обстоятельство позволяет нам выделить третий уровень метаязыкового сознания – творческий. Как известно, творчество – это деятельность, создающая нечто новое, никогда ранее не существовавшее. Результат творческой деятельности (в отличие от результата деятельности репродуктивной) уникален, несводим к сумме заурядных действий и в принципе неповторим. Творчество должно «ввести что-то новое в контекст действительности» [Рубинштейн 2000: 575].
Рефлексия на третьем уровне метаязыкового сознания направлена на объект, который уже выведен в «светлое поле» сознания рефлексией предыдущего уровня. Субъект рефлексии не просто осознает объект, но сознательно выделяет его и подвергает творческому переосмыслению. Если рефлексия второго уровня фиксирует объективные свойства объекта (семантика, структура, особенности функционирования), то рефлексия третьего уровня в процессе творческой переработки «материала» создает определенного рода приращения, обогащает содержание объекта и расширяет возможности его использования и интерпретации.
К третьему уровню метаязыкового сознания отнесем, прежде всего, различные примеры нестандартного, личностно окрашенного комментирования фактов языка / речи и языковой игры в различных жанрах и стилях речи. Исследователи отмечали, что творческие способности языковой личности находят применение не только в художественном творчестве, но и в повседневной речевой деятельности [Алимова 2008], в частности – в условиях языковой игры, которая присутствует и в текстах, для которых эстетическая организованность не является конститутивным признаком. Ср. фрагменты из военных воспоминаний инженера-строителя Г. Г. Зубкова[27]:
Через несколько дней меня также в группе арестантов вывели на уборку свинарника и конюшни. И нам тоже удалось найти в кормушках несколько кусочков хлеба. Мы тогда иронизировали, что едим «свиные отбивные», в полном смысле «отбитые у свиней»; Главное в этой пропаганде было, что Дальний Восток – цветущий край. Насчет цветущего края мы иронизировали. У нас, живущих в землянке, действительно цвело, т. е. от сырости все плесневело [Зубкова Л. Г, Зубкова Н. Г. 2009: 274–275].
Нередки проявления творческой рефлексии и в обиходной речи. Тезис Л. В. Щербы о том, что «сознательность обыденной разговорной (диалогической) речи в общем стремится к нулю» [Щерба 1974: 25], допускает уточнение: осознанность речи возрастает при наличии условий, стимулирующих такую осознанность – это, в частности, «устремленность к познанию, к креативной деятельности, нацеленность на языковую игру» [Ростова 2009: 184].
Креативная метаязыковая деятельность рядового носителя языка проявляется и как различного рода «метаязыковые фантазии» [Катышев, Оленёв 2009: 299], лингвистическое мифотворчество (речь идет именно о «сочинении» мифов, а не об их воспроизведении, которое относится ко второму уровню рефлексии). Ср. следующую зарисовку:
В последние месяцы у Ивана появилось новое увлечение. Его, впрочем, и увлечением назвать нельзя, оно сразу показало себя не пустым занятием, а интересом, за которым открылся совсем рядом лежащий потайной и увлекательный мир. Это было совсем не то, что ищут, чтобы чем-нибудь себя занять. Однажды он катал-катал случайно подвернувшееся слово, которое никак не исчезало, – бывает же такое, что занозой залезет и не вытолкнешь, – и вдруг рассмеялся от неожиданности. Слово было «воробей», проще некуда, и оно, размокшее где-то там, в голове, как под языком, легко разошлось на свои две части: «вор – бей». Ивана поразило не то, что оно разошлось и обнаружило свой смысл, а то, что настолько было на виду и на слуху, настолько говорило само за себя, что он обязан был распознать его еще в младенчестве. Но почему-то не распознал, произносил механически, безголово, как попугай (В. Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана).
Кроме того, проявлением творческой метаязыковой рефлексии является «художественное освоение» различных положений о языке и речи в эстетически организованных текстах (художественных, художественно-публицистических, фольклорных, игровых). Ср. пример, в котором эстетической интерпретации подвергается грамматическая омонимия:
А историческая необходимость… исторически необходимо только одно: чтобы добро побеждало зло. Но за это у нас, слава Богу, отвечает грамматика: предложение «добро побеждает зло» справедливо всегда, оно в обе стороны справедливо (Е. Клюев. Андерманир штук).
Наконец, с творческим уровнем метаязыкового сознания связана научно-лингвистическая, исследовательская рефлексия, которая носит творческий характер и создает приращения в виде нового научного знания о факте языка / речи.
Творческий характер исследовательской деятельности получил закрепление в языке в форме устойчивого сочетания научное творчество. Показательно, что приоритет в разработке психологии творчества в России принадлежит ученым-филологам А. А. Потебне, Д. Н. Овсянико-Куликовскому и др. В целом ряде работ отмечаются черты, которые роднят научное творчество и художественное: роль природной одаренности и развитого воображения; наличие вдохновения; диалектическое сочетание напряженной интеллектуальной деятельности (в том числе на бессознательном уровне) и фактора случайности; необходимость этапа «озарения», «инсайта», умение выйти за рамки стереотипа и т. п. [Грузенберг 2010; Рубинштейн 1958; Сорокин 2000 и др.]. Интересный опыт сближения поэтического творчества (Велимира Хлебникова) и научного творчества филолога (М. В. Панова, В. П. Григорьева) представлен в статье Вл. Новикова «Роман с языком в поэзии и науке» [Новиков 2006].
Будучи «добытым» в процессе творческой рефлексии, лингвистическое знание усваивается коллективным и индивидуальным метаязыковым сознанием и воспроизводится уже в процессе стандартизованной рефлексии, которая действует на втором уровне метаязыкового сознания.
Все три формы творческой рефлексии о языке (обыденная, научная и эстетическая) имеют собственные предпосылки. Так, А. Н. Ростова отмечает, что «определяющим фактором формирования метаязыкового сознания на уровне обыденного сознания выступают потребности реального повседневного общения, на уровне теоретически систематизированного сознания – внутренние закономерности развития науки» [Ростова 2000: 47]. Стимулом для эстетической метаязыковой рефлексии служит необходимость реализации эстетического замысла конкретного произведения.
Следует отметить, что, хотя в литературе не обсуждался специально вопрос о выделении этого специфического уровня метаязыкового сознания, различия между «обычной» и творческой рефлексией комментировались учеными. Так, отмечалось, что рефлексия говорящего носит не только пассивный, репродуктивный характер (воспроизведение имеющегося знания), но и активный, предполагающий «собственные находки говорящего, мысль которого обнаруживает в его языковых действиях и языковой памяти какие-то соположения, аналогии, повторяющиеся приемы и модели – от параномастических и этимологических словесных сопоставлений до найденных и взятых на вооружение риторических приемов, интонаций, синтаксических оборотов» [Гаспаров 1996: 17].
В. Г. Костомаров и Б. С. Шварцкопф проводили четкую границу между оценками речи в художественных и нехудожественных текстах, хотя и интерпретировали эту разницу лишь с позиции достоверности / недостоверности. Исследователи подчеркивали, что для изучения массовых представлений о языке «гораздо интереснее не сознательные рассуждения о языке, особенно обусловленные композиционными и иными заданиями, а действительно «случайно-естественные» мнения, отражающие и выражающие языковой опыт, так сказать, в чистом виде» [Костомаров, Шварцкопф 1966: 24]. Другими словами, подчеркивается, что в художественных текстах характер оценок обусловлен стилистическим заданием и эти оценки не являются «случайно-естественными».
В работах, так или иначе затрагивающих проблему сопоставления научного и наивного взгляда на язык, как уже отмечалось выше, научная рефлексия рассматривается как явление более высокого уровня, чем рефлексия обыденная. О возможности творческого озарения при действиях с языковым материалом говорит А. Н. Ростова [Ростова 2000: 39]. На качественно новый характер рефлексии при решении творческих задач указывают и психологи [Семенов, Степанов 1983; Зак 1990; Борисов 1990 и др.].
Таким образом, вывод о возможности выделения третьего, творческого уровня метаязыкового сознания подготовлен многими наблюдениями ученых.
Совокупность рефлексивов, обнаруживаемых в конкретном типе дискурса и отражающих определенный вид метаязыкового сознания, интерпретируется исследователями как та или иная лингвистика (или «лингвистика»): научная, обыденная, «любительская» и т. д.
Схема 1 отражает особенности как индивидуального, так и коллективного (общественного) метаязыкового сознания. Однако, подобно всем другим способам представления не наблюдаемого непосредственно феномена, она имеет условный и упрощенный характер и не отражает всей сложности взаимоотношений между разными формами метаязыкового сознания. В связи с этим необходимо сделать ряд примечаний к данной схеме.
Первое. Следует отметить отсутствие четкой границы между бессознательной рефлексией и осознанной (собственно рефлексией), поскольку «всякое осознанное содержание обычно включает в себя не до конца и не полностью осознанные зависимости и соотношения, т. е. имеет место непрерывность осознанного и неосознанного как одно из фундаментальных свойств психического как процесса» [Залевская 1999: 35].
Второе. Тезис о разграничении «наивного» и научного метаязыкового сознания нуждается в уточнении. Научное знание и обыденные представления можно (и следует) разделять в плане гносеологическом, но не всегда возможно эти сферы разграничить в плане онтологическом. Так, исследователи указывают, что «наивное и научное переплетаются самым причудливым образом и различению не поддаются» [Слышкин 2001: 87]. В специальной литературе отмечалось, что между этими вариантами метаязыкового сознания нет непроходимой границы, или, точнее, граница представляет собой достаточно широкую зону «опосредующих звеньев» и чрезвычайно подвижна. Так, Н. Д. Голев указывает, что на выделенном им пятом уровне метаязыковой рефлексии («повышенном» уровне теоретизирования) рядовой носитель языка может пользоваться метаязыком науки, опираться на знания, полученные в процессе обучения; это явление квалифицируется как «этап перехода от стихийно-теоретической метаязыковой рефлексии к профессиональной» [Голев 2009 а: 14]. Высказывалось мнение, что в противопоставлении «научное – наивное» особое место должны занять «языковые рефлексии И. Ньютона, создавшего проект искусственного языка, Г. Лейбница, предложившего варианты формирования философского языка» [Резанова 2009 а: 121] и т. п., а также «мощное направление лингвофилософского осмысления языка, не опирающееся непосредственно на позитивную, эмпирически определенную лингвистическую традицию» [Там же: 122]. В связи с этим З. И. Резанова предлагает различать научное метаязыковое сознание и научное лингвистическое метаязыковое сознание – два самостоятельных феномена, которые, однако же, находятся в сложных отношениях: они не только противопоставлены, но и демонстрируют взаимодействие, взаимовлияние и взаимопроникновение [Там же: 121–126].
Отсутствие непроницаемой границы между наукой и обыденным знанием обусловлено не только тем, что «в обыденном сознании в рудиментарном или зачаточном состоянии присутствуют 'дички' всех бывших, существующих и будущих научных теорий, верных и ошибочных» [Воркачев 2004: 84], но и спецификой самого «языковедного мышления», поскольку «научный стиль мышления потенциально заложен в языковом сознании, первичном по отношению к теоретическому мышлению» [Зубкова 2006: 173]. Таким образом, обыденное сознание, усложняя способы осмысления языка, способно приближаться к научному; в то же время научное сознание также способно на «ответное движение»; ср. следующее замечание: «Весьма характерными являются и проявления русской метаязыковой ментальности в общественных и научных дискуссиях по поводу судеб русского языка, его «порчи», необходимости борьбы за чистоту и т. п. Нередко в накале этих дискуссий профессиональная наука органично сливается с обыденными представлениями о языковом строительстве и не отделяется от них концептуально» [Голев 2008 а: 9].
Исследователи неоднократно указывали, что в роли носителя «наивного» метаязыкового представления может выступать и лингвист – когда высказывается по проблеме, не входящей непосредственно в круг его научных интересов [Шмелёв 2009: 36], или когда предметом обсуждения становятся вопросы, затрагивающие его «личные взаимоотношения» с языком, вкусы и пристрастия [Кронгауз 2008]. Вообще для личности ученого-лингвиста характерна «конкуренция» профессионального и обыденного сознания, отмеченная многими специалистами [Крысин 1994: 28; Успенский 1994: 53; Караулов 2007: 260 и др.]. Таким образом, граница между обыденным метаязыковым и профессионально-лингвистическим сознанием проходит и «внутри» индивидуального сознания профессионального языковеда.
Интересно заметить, что стратегии метаязыкового мышления «стихийного лингвиста» нередко похожи на способы научного осмысления языка. В частности, метаязыковые контексты в художественных произведениях часто напоминают процедуру и/или данные лингвистических экспериментов. Различие в том, что задание испытуемому даёт не организатор опроса, а сама коммуникативная практика говорящего. При этом «стимулами» в таком естественном эксперименте выступают слова, актуальные для данного дискурса. Так, следующий пример демонстрирует использование «стихийным лингвистом» метода с в о б о д н ы х а с с о ц и а ц и й:
– Я буквально на секунду. Я хотел спросить тебя как представителя target group: какие ассоциации вызывает у тебя слово «парламент»? / Гусейн не удивился. Чуть подумав, он ответил: / – Была такая поэма у аль-Газзави. «Парламент птиц»… (В. Пелевин. Generation «П»).
Вопросно-ответные формы рефлексива напоминают методику интервьюирования (1), а «наивные» толкования – метод субъективных дефиниций (2):
(1) – А какая она, мамона… грешная? Это чего, мамона? / – Это вот самая она, мамона, – смеется Горкин и тычет меня в живот. – Утроба грешная. (И. Шмелёв. Лето Господне); (2) Компетентность – судя по смыслу, слово это должно обозначать какой-нибудь крепкий напиток (Н. Лейкин. Из записной книжки отставного приказчика Касьяна Яманова).
Используемую в экспериментах методику верификации признаков можно проиллюстрировать примером из рассказа Г. Горина «Случай на фабрике № 6». Младший технолог Ларичев берет у рабочего Клягина частные уроки, чтобы научиться ругаться:
– Ну, например, «сука»… <…> / – А как это употреблять? / – Да так и употребляйте. / – Нет, вы не поняли. Я хочу понять какую-то закономерность. Это слово употребляется в отношении одушевленного или неодушевленного предмета? / – Не знаю я. / – Ну, хорошо… Вот, например, отвертка… Она может быть этим… тем, что вы сказали? / – Отвертка? – удивился Клягин. – При чем здесь отвертка? / – Я в качестве примера. Вот, скажем, у рабочего вдруг потерялась отвертка… Может он ее так назвать? / – Если потерялась, тогда конечно… / – А если не потерялась? / – А если не потерялась, тогда чего уж… Тогда она просто отвертка!.
Характерные для творческой манеры И. Гончарова сопоставления близких по значению слов имеют коррелятом метод семантического дифференциала:
Что такое, наконец, так называемая тогдашняя роскошь перед нынешним комфортом? Роскошь — порок, уродливость, неестественное уклонение человека за пределы естественных потребностей, разврат. Разве не разврат и не уродливость платить тысячу золотых монет за блюдо из птичьих мозгов или языков или за филе из рыбы, не потому, чтоб эти блюда были тоньше вкусом прочих, недорогих, а потому, что этих мозгов и рыб не напасешься? Или не безумие ли обедать на таком сервизе, какого нет ни у кого, хоть бы пришлось отдать за него половину имения? Не глупость ли заковывать себя в золото и каменья, в которых поворотиться трудно, или надевать кружева, чуть не из паутины, и бояться сесть, облокотиться? <…> Тщеславие и грубое излишество в наслаждениях – вот отличительные черты роскоши. Оттого роскошь недолговечна: она живет лихорадочною и эфемерною жизнью <…> Рядом с роскошью всегда таится невидимый ее враг – нищета <…> Не таков комфорт: как роскошь есть безумие, уродливое и неестественное уклонение от указанных природой и разумом потребностей, так комфорт есть разумное, выработанное до строгости и тонкости удовлетворение этим потребностям. Для роскоши нужны богатства, комфорт доступен при обыкновенных средствах <…> Роскошь старается, чтобы у меня было то, чего не можете иметь вы, комфорт, напротив, требует, чтоб я у вас нашел то, что привык видеть у себя (И. Гончаров. Фрегат «Паллада»).
Третье. Современное представление о соотношении обыденного лингвистического знания и науки не должно исчерпываться положением о простой иерархии этих форм. Преодолевая стереотипы сциентизма, мы должны признать, что каждый из этих вариантов знания «отражает одну и ту же языковую реальность, но отражает по-разному, исходя из разных предпосылок и условий, используя разные способы отражения и преследуя различные цели» [Ростова 2000: 47; выделено нами – М. Ш.]. Следовательно, каждый из этих вариантов должен признаваться социально ценным; в структуре общественного сознания они дополняют друг друга. В социуме каждый из вариантов выполняет собственные, частично пересекающиеся, но не совпадающие функции. Имея общую онтологическую природу (будучи инструментами отражения языковой реальности), описываемые варианты метаязыкового сознания характеризуются разными стимулами проявления и развития. Обыденное сознание ориентировано на потребности повседневной коммуникации (достаточно разнообразные и непростые), а для научного сознания стимулом является стремление к открытию законов и закономерностей. Если для обыденных суждений о языке / речи «точкой отсчета» является индивидуальный и коллективный опыт речевой деятельности, то «основы научной теории во многом определяются результатами исследовательской работы предшественников, «включенностью» в определенным образом ориентированную парадигму – историзм, психологизм, структурализм, социализм, антропоцентризм и т. д.» [Ростова 2000: 47].
Исходя из такого представления о «стихийном» знании, мы должны согласиться с тем, что установление ошибочности обыденных представлений не является главной целью изучения «наивной» картины языка. И научная, и «наивная» модели языка есть результат членения и систематизации объекта, который дан нам в непосредственном ощущении в виде некой аморфной массы, и «только внимательность и привычка могут помочь нам различить составляющие ее элементы» [Соссюр 1977: 136]. При этом «ни уровневое членение языкового целого, ни разграничение языковых категорий и классов, ни синтагматическое членение языковых единиц не являются и не должны быть жестко заданными» [Зубкова 2006] и могут варьироваться в зависимости от целей и методов анализа. Результат вычленения и группировки составляющих элементов отчасти обусловлен объективными свойствами самих элементов, а отчасти – особенностями позиции и личности (в том числе коллективной) наблюдателя. Взгляд на язык рядового носителя – это позиция пользователя, который не обязан разбираться в тонкостях «устройства», и особенности его «метаязыковой категоризации» (как одного из аспектов языковой категоризации действительности) детерминированы прежде всего потребностями и опытом повседневной коммуникации.
Четвертое. Обсуждая вопрос об «общественном статусе» обыденного метаязыкового сознания как формы коллективного сознания, следует определить круг носителей этого сознания, речевая деятельность которых может в полной мере продемонстрировать содержание «стихийной» лингвистики и особенности «наивных лингвистических технологий».
С представлением об обыденном метаязыковом сознании связано понятие «рядовой носитель языка», которое приобретает различное содержание в трактовке разных исследователей. Так, З. И. Резанова отмечает, что понятие рядовой носитель языка может определяться «относительно места соответствующей личности в культуре» или же «относительно знаний позитивной научной лингвистической парадигмы» [Резанова 2009 а: 124]. Первая точка зрения отталкивается от общеязыкового значения слов обыденный, рядовой, научный как качественных определителей, в частности – учитывает присущие этим словам в неспециальном употреблении коннотации. Согласно этой точке зрения, «научное» и «обыденное» противопоставлено как «правильное» и «неправильное», «зрелое» и «наивное», «интеллектуальное» и «интуитивное», «современное» и «отсталое», «авторитетное» и «достойное пренебрежения». Прилагательное рядовой противопоставляется определениям выдающийся, элитарный и несет негативную оценку определяемого. В ряде авторитетных лингвистических работ выражение рядовой носитель языка – без обсуждения значения – используется именно для противопоставления «заурядного» и «выдающегося» носителя[28]. Очевидно, что в рамках такого подхода термины обыденное (наивное) сознание и рядовой носитель языка неприложимы к персонам и группам, которые пользуются общественным авторитетом – прежде всего, к писателям.
Вторая точка зрения на соотношение научного и обыденного (наивного) метаязыкового сознания основана на понимании этих форм сознания как своеобразных «регистров», которыми способна владеть одна и та же языковая личность[29]. В этом случае определения обыденный, наивный и научный лишены оценочности и функционируют как относительные прилагательные. Согласно второй точке зрения рядовые носители языка, носители обыденного метаязыкового сознания противопоставлены профессиональным лингвистам, носителям научно-лингвистического сознания. При этом определение рядовой не является оценочным и не свидетельствует о низком качестве метаязыковой способности. К рядовым носителям относится и «языковая личность с развитым метаязыковым сознанием… познающая творческая личность, нацеленная на самовыражение и взаимопонимание в коммуникативной деятельности» [Зубкова Л. Г, Зубкова Н. Г. 2009: 267]. Все «наивные» пользователи языка (а не только носители элитарной речевой культуры) обладают тем психическим образованием, которое Ю. Н. Караулов определил как «любовь к языку» (amor linguae) и которое является неотъемлемым свойством языковой личности [Караулов 2007: 259–262].
В то же время следует учитывать, что писатель, являясь рядовым носителем языка, занимает особое место в социуме, его мнение влияет на формирование «языкового вкуса эпохи». Известен вклад российских писателей в формирование русского литературного языка, в развитие языка художественной литературы; публичные дискуссии «шишковистов» и «карамзинистов», «славянофилов» и «западников», выступления писателей по вопросам русского языка[30] и т. п. привлекали внимание общества к проблемам языкового развития и языкового строительства. В. И. Даль резко возражал тем, кто считал, что в развитии языка «частные усилия» не играют роли [Даль 1860: IV]. Активное обсуждение новой лексики в текстах известных писателей становилось фактором скорейшего освоения инноваций языком (см. работы Э. Л. Трикоз).
Известен целый ряд попыток отечественных литераторов обогатить лексику русского языка, активизировав его внутренние ресурсы (А. Шишков, В. Даль, А. Солженицын) в противовес заимствованиям. Эти попытки интересны в аспекте изучения обыденного метаязыкового сознания по двум причинам. Во-первых, они иллюстрируют достаточно устойчивое в русской лингвокультуре противоречие между бытийным и рефлексивным уровнями метаязыково го сознания, а именно – на бытийном уровне рядовой носитель языка охотно усваивает иноязычные элементы (в противном случае не понадобилось бы так активно бороться с этим явлением), предпочитает их «родным» при полной семантической эквивалентности, находит для них семантическую специализацию и т. п.; на рефлексивном же уровне русские неизменно осуждают засилье иноязычных слов, которые угрожают самобытности русского языка[31]. Во-вторых, предлагая собственные дериваты, писатели образуют их по интуитивно ощущаемым словообразовательным моделям русского языка, которые вполне реальны для коллективного бессознательного. Такие дериваты довольно часто представляют собой потенциальные слова и демонстрируют «зону ближайшего развития» лексической системы. Так, В. И. Даль, образуя слова, многие из которых «диковаты на слух», обосновывает возможность таких слов существованием четырех типов существительных, которые могут образоваться от каждой видовой пары глаголов и характеризуются определенными формальными и семантическими признаками [см.: Даль 1860: IX]. Созданный А. Солженицыным «Русский словарь языкового расширения» [Солженицын 1990] «вполовину придуманных, но ярких и смелых слов, не нарушающих принципа русского слова» [Колесов 2003: 45; выделено автором], также демонстрирует интуитивное постижение ряда словообразовательных закономерностей языка.
Словарями В. Даля и А. Солженицына далеко не исчерпываются факты деятельности отечественных писателей в области лексикографии. Так, П. Вяземский писал о намерении составить словарь, который сегодня можно было бы назвать лингвокультурным: «Мне часто приходило на ум написать свою Россияду. домашнюю, обиходную, сборник, энциклопедический словарь всех возможных руссицизмов, не только словесных, но и умственных и нравных… В этот сборник вошли бы все поговорки, пословицы, туземные черты, анекдоты, изречения. Много нашлось бы материалов для подобной кормчей книги, для подобного зеркала, в котором отразились бы русский склад, русская жизнь до хряща, до подноготной» [цит. по: Русские писатели 2004: 119].
Н. В. Гоголь оставил солидное лексикографическое наследство, которое является предметом пристального внимания специалистов [см., напр.: Виноградов 1970; Степанов 2004; Приёмышева 2009; Одекова 2009 а; Бокарева 2010]. В работе над «Вечерами на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголь пользовался записями в «Книге всякой всячины», которую вел в 1826–1832 годах. В эту книгу, в частности, был включен «Лексикон малороссийский», который стал первым лексикографическим опытом молодого автора. В дальнейшем заметки о словах появлялись в записных книжках и эпистолярных текстах Гоголя, а в 1891 были опубликованы собранные писателем «Материалы для словаря русского языка». Над этими материалами Гоголь работал много лет, «занимаясь русским языком, поражаясь более и более меткостью и разумом его» [Цит. по: Русские писатели 2004: 136]. По замыслу автора, этот словарь «выставил бы… лицом русское слово в его прямом значении, осветил бы его, выказал бы ощутительней его достоинство… и обнаружил бы отчасти самое происхождение» [Там же]. В этот лексикографический труд Гоголь предполагал включить (помимо уже зафиксированных ранее словарями единиц) областные слова, украинизмы, архаические и церковнославянские слова, а также некоторые термины и профессионализмы [см.: Виноградов 1970: 31–32; 46].
Заслуживает внимания и лексикографическая деятельность А. Н. Островского [см.: Николина 2006 б; Приёмышева 2009]; подготовленные писателем «Материалы для словаря русского народного языка» используются в современных лингвистических исследованиях как источник ценного исторического и диалектного материала [Ганцовская, Верба, Малышева 2006: 67–70]. Н. Г. Чернышевский, будучи одним из лучших учеников И. И. Срезневского, составил по его поручению словарь к Ипатьевской летописи, который в 1853 г. был опубликован в «Известиях II отделения Академии Наук».
В советский период истории писатели целенаправленно вовлекались в процессы языкового строительства. Так, мастера художественного слова принимали активное участие в обсуждении проекта нового словаря русского языка [см.: Абрамов 1972; Успенский 1972 и др.]. Многие отечественные литераторы (писатели, публицисты, переводчики), не будучи профессиональными лингвистами, писали популярные книги о языке, оказавшие серьезное влияние на формирование коллективной метаязыковой ментальности носителей русского языка [см., напр.: Чуковский 2009; Успенский 2008 а; 2008 б; 2010; Галь 2007 и др.]. Стали прецедентными многие художественные тексты, которые воспринимаются общественным сознанием как воплощение национально-специфического отношения русского этноса к своему языку: стихотворение в прозе И. Тургенева «Русский язык», сборник миниатюр К. Паустовского «Золотая роза», стихотворения И. Бунина «Слово», Н. Гумилева «Слово», А. Ахматовой «Мужество», В. Шефнера «Слова» и др.
Таким образом, мнение писателя о языке, которое формируется в рамках обыденного сознания, тем не менее обладает высоким авторитетом в обществе (подчас более высоким, чем научно обоснованное мнение лингвиста).
В рамках данной работы мы называем писателя рядовым носителем языка, имея в виду, что его взгляд на язык, выразившийся в художественных текстах, – это взгляд через призму обыденного метаязыкового сознания. Конечно, особое место в ряду анализируемых писателей занимают авторы-филологи, чьи метаязыковые оценки не могут не соотноситься с их профессиональным филологическим знанием. В художественных произведениях А. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» (2000), Вл. Новикова «Роман с языком» (2007), Ф. Кривина «Записки бывшего языковеда» (1987) и других писателей-филологов рефлексивы отличаются высокой степенью фактологической достоверности, которая сочетается с особым, художественным взглядом на язык. Ср.:
Вообще скажу такую принципиальную сверхбанальность: ХОРОШО ЖИТЬ ХОРОШО. Неважно, где здесь тема, где – рема, где сказуемое, где подлежащее, – члени в любом месте («Хорошо жить – хорошо» или «Хорошо – жить хорошо»). Как существуют безличные предложения: «Холодно», «Жарко», так существуют и безличные истины, не подлежащие обсуждению (Вл. Новиков. Роман с языком).
Совмещение двух ипостасей автора – художника и филолога – делает метаязыковые комментарии особенно интересными. Показательно в этом отношении замечание В. П. Григорьева: «Фигуры поэта-критика, писателя-филолога, критика-литературоведа, как известно, нисколько не теряли в прошлом и не теряют в наши дни в цельности от жанровой широты; каждая из сфер их интересов обогащается за счет другой, а то и других, так или иначе коррелирует с ними» [Григорьев 1975: 11]. Однако художественный текст привлекает не выверенностью лингвистической информации, а тем, что «писатель как бы фотографирует речевую жизнь народа, и подмеченное им (а не взятое из вторых рук – из словарей, статей, как нередко бывает у неопытных писателей) имеет не меньшую ценность, чем непредумышленные оценки самими говорящими» [Костомаров, Шварцкопф 1966: 24–25]. Поэтому метаязыковые комментарии в художественных текстах «отражают типичные для определенного периода взгляды на типичные языковые явления» [Шварцкопф 1970: 289]. И хотя, как справедливо отмечают ученые, многим носителям языка «может казаться и кажется, что именно писатель в силах и вправе судить о языке, что именно его мнение наиболее авторитетно» [Колесникова 2002, с.123], следует помнить, что «на каком бы обширном языковом материале ни базировалось языковое чутье носителя языка – «неспециалиста», сам способ интуитивного обобщения не может дать более или менее четкого понимания причин и закономерностей рассматриваемых языковых отношений и процессов. Такое понимание может дать лингвистический анализ» [Шварцкопф 1970: 285].
Таким образом, «наивный» характер суждений о языке определяется не только отсутствием профессиональных знаний, но и специфической точкой зрения на предмет – с позиции «пользователя», воспринимающего язык как «часть себя»: своей личности, своей жизни. Метаязыковые взгляды рядового носителя языка являются результатом непосредственного наблюдения (в том числе интроспекции) – без использования специальных процедур лингвистического анализа, без опоры на систематическое[32] языковедческое знание. Осознание себя как «пользователя» оказывается не просто имманентно присущим всякой языковой личности, но и достаточно влиятельным фактором профессиональной метаязыковой и языковой деятельности лингвиста.
Все сказанное дает основания рассматривать метаязыковые контексты в художественных произведениях как показатели деятельности обыденного метаязыкового сознания.
Пятое. Оппозиция сознательного и бессознательного в деятельности метаязыкового сознания не равна оппозиции вербализованного и невербализованного. Так, с одной стороны, вербализованным может оказаться неосознанное знание (например, заключенное в семантике языковых единиц – метаязыковых терминов, метатекстовых операторов – и актуализированное при их использовании), а с другой стороны, не всякая метаязыковая операция, даже выведенная в «светлое поле» сознания, обязательно вербализуется в порождаемом тексте (ср. процесс авторской правки, следы которой сохраняются в черновиках и вариантах, но отсутствуют в окончательной версии произведения). Кроме того, рефлексия может быть частично вербализована, как, например, в следующем случае:
Молодой розовощекий участковый (выглядел он так, что это надо было через запятые писать: молодой, розовощекий, участковый!) надавал рецептов и велел деду не забывать свою поликлинику (Е. Клюев. Андерманир штук).
Приведенный фрагмент текста, безусловно, отражает рефлексию автора[33]: обозначен ее предмет (варианты синтаксического и пунктуационного оформления речи), но сама метаязыковая оценка не расшифровывается, автор рассчитывает не столько на понимание, сколько на сочувствование читателя, который интуитивно поймет идею автора.
Шестое. Рефлексия первого уровня (подсознательная) и второго (сознательная) может эксплицировать различные, иногда противоречащие друг другу метаязыковые представления и установки личности и языкового коллектива. Так, Л. В. Щерба отмечал одну интересную закономерность: «.ошибки. не останавливают на себе нашего внимания в условиях устной речи. всякий нормальный член определенной социальной группы, спрошенный в упор по поводу неверной фразы его самого или его окружения, как надо правильно сказать, ответит, что «собственно надо сказать так-то, а это-де сказалось случайно или только так послышалось» и т. п.» [Щерба 1974: 36]. Речевое поведение (в котором реализуется «лингвистическое бессознательное») и осознанные метаязыковые представления не конгруэнтны и не всегда взаимообусловлены, негативные оценки чужого (и своего) речевого поведения отнюдь не всегда приводят к целенаправленной коррекции. Вслед за психологами, выделяющими рефлексивный и бытийный уровни сознания [см.: Зинченко 1991], лингвисты говорят о существовании бытийного и рефлексивного уровней коммуникативного сознания – содержание представлений на этих уровнях может не совпадать [Стернин 2002: 312–317], например, осознанно осуждая грубость, человек может оценивать грубость как допустимую в определенной коммуникативной ситуации. О несовпадении метаязыкового мнения (знания) и речевого поведения пишет А. Д. Шмелёв. Анализируя пример «Мама, это мне дневник вернули», – предпочла девочка ответить в безличной форме… и подобные[34], исследователь замечает: «Может быть, взрослый носитель языка, вспомнив школьную грамматику или осознав, что ее забыл, не станет утверждать: «Дневник вернули» – это безличное предложение. Однако, если ему надо охарактеризовать это предложение, причем характеристика не попадает в фокус внимания, то он, нимало не сомневаясь, называет его безличным» [Шмелёв 2009: 36–37].
Таким образом, контроль на уровне подсознательного выбора допускает использование речевых средств, которые на уровне сознательного контроля признаются сомнительными или недопустимыми. На втором уровне рефлексии включаются «ограничители», связанные с требованиями внешней культуры, с общественными запретами и предпочтениями.
Указанные обстоятельства заставляют исследователя обыденного метаязыкового сознания учитывать несколько моментов. Во-первых, данные, полученные при изучении метаязыковой рефлексии одного уровня не могут служить надежным средством верификации результатов изучения рефлексии другого уровня. Во-вторых, если неосознанная рефлексия свидетельствует о личном выборе говорящего (естественном, искреннем), то рефлексия второго уровня – это выбор и оценки, в значительной мере испытавшие влияние социальных «ограничителей», а потому в меньшей степени естественные и искренние для конкретной личности[35]. В то же время метаязыковые высказывания, относящиеся ко второму уровню рефлексии, являются валидным материалом для изучения коллективного метаязыкового сознания. И в-третьих, изучение неосознанной и осознанной метаязыковой рефлексии требует разных методов. Если при описании осознанных представлений можно руководствоваться метаязыковыми высказываниями носителей языка, то для выяснения того, «каковы наши неявные знания о нашей речи, т. е. такие, о которых трудно было даже подозревать» [Фрумкина 2001: 182], следует обратить внимание на те компоненты речи, которые играют роль «подразумеваемой базы высказывания», то есть выглядят как «пресуппозиции, коннотации, «фоновые» представления и т. п.» [Шмелёв 2009: 37], а также на особенности стратегий и тактик тех или иных видов речевой деятельности [Ляхтеэнмяки 1999: 32].
Седьмое. «Лингвистики» третьего – творческого уровня – демонстрируют черты сходства и различия. Различие между обыденными суждениями о языке и эстетически преображенными отражает соответствующее различие между мифологическим и поэтическим сознанием, которое было сформулировано А. А. Потебней следующим образом: «Сознание может относиться к образу[36] двояко: 1) или так, что образ считается объективным и потому целиком переносится в значение и служит основанием для дальнейших заключений о свойствах означаемого; 2) или так, что образ рассматривается лишь как субъективное средство для перехода к значению и ни для каких дальнейших заключений не служит» [Потебня 1976: 420]. Осознание субъективности «содержания мысли» роднит поэтический способ мышления с научным [Там же]. В то же время научное мышление предполагает способность к критическому анализу [Там же: 421] и коррекции представлений на основе рациональных аргументов, тогда как поэтическое мышление в этом не нуждается, а обыденное (мифологическое) – к этому не способно.
Изучая примеры метаязыковой рефлексии в художественном тексте, мы ограничиваем предмет исследования двумя «лингвистиками»: обыденной и «эстетической» (на схеме 1 соответствующие области выделены серым), поскольку содержащиеся в этих текстах рефлексивы дают, на наш взгляд, возможность, во-первых, реконструировать содержание обыденного метаязыкового сознания, а во-вторых, выявить специфику поэтического осмысления языка.
Обращение к таким специфическим видам метаязыкового знания требует обсуждения вопроса об отношении к лингвистической корректности метаязыковых суждений в художественных текстах. Для исследователя представляют интерес как безусловно верные представления, так и некорректные метаязыковые суждения, которые в нашем случае играют роль «отрицательного языкового материала» (Л. В. Щерба). Изучение научно достоверных метаязыковых комментариев наивного носителя позволяет выявить те зоны лингвистического знания, которые поддаются познанию путем интроспекции языковой личности, без применения специальных лингвистических знаний. Что касается фактических неточностей и ошибок, то выше отмечалось, что интерпретация их как свидетельства ущербности обыденного знания о языке – это лишь самый поверхностный взгляд на проблему.
Прежде всего, необходимо разграничить ошибки обыденного сознания и фактические неточности, вызванные эстетической задачей автора художественного текста (или интуитивно понимаемой эстетической задачей коллективного автора фольклорного произведения). Только первые есть смысл рассматривать как фактические ошибки, вторые же представляют собою разновидность художественного вымысла. Так, один из регулярных видов некорректных лингвистических комментариев в художественном тексте – это ложная (народная, наивная) этимология, народное словопроизводство[37]. Многочисленные исследователи единодушно отмечали, что от непреднамеренного ложноэтимологического сближения слов (например, в речи малообразованных носителей языка) следует отличать этимологизирование в стилистических целях. Более того, в литературе ХХ в. сложился особый мини-жанр юмористической литературы, сущность которого – установление ложных словообразовательных и этимологических связей, например: Супостат – недоеденное первое блюдо; Табунщик – накладывающий запрет; Утконос – больничная няня (Н. Богословский. Толково-определительный филологический словарь).
Однако в текстах художественной прозы, помимо намеренных «лингвистических вольностей», встречаются и обычные фактические ошибки (причем в художественных текстах – как в речи персонажей, так и в авторской). Такие некорректные суждения (как и неосознанные метаязыковые реакции) рядового носителя языка важны для исследователя, поскольку они представляют собой «субъективные реакции на объективное в языке» [Лабов 1975: 202]. Ученые отмечали, что при столкновении с некорректными с научной точки зрения метаязыковыми комментариями «наивного» лингвиста «задача языковеда состоит не в доказательстве истинности такого суждения, а в изучении закономерностей его формирования, способов и условий его экспликации и особенностей отражения в нем языкового материального и идеального» [Ростова 2000: 51]. Анализ ошибочных высказываний позволяет реконструировать некоторые метаязыковые представления рядовых говорящих. Ср.:
– А я вас, Юрий, как раз хочу спросить про феномен Баркова, только не знаю, как правильно говорить: «феномен» или «феномен»? /
– Я говорю «феномен», – сказал Юрий. / – Вот вы правильно говорите, но в словарях пишут «феномен» (М. Кураев. Записки беглого кинематографиста).
В приведенном высказывании персонажа художественного текста обнаруживается по крайней мере три некорректных суждения: 1) 'Единственно правильным является акцентологический вариант феноме́н`; 2) 'Словарями рекомендован только вариант фено́мен` и 3) 'В словаре содержится неправильная информация'. На основе этих суждений можно сделать вывод о некоторых подсознательных установках и представлениях говорящего, например, о том, что критерием правильности для данного носителя языка является не зафиксированная словарями норма, а личный опыт («так все говорят»).
Иногда в художественных текстах встречаются примеры, когда в основе стилистического приема лежит не намеренное отступление от факта, а искреннее заблуждение. Ср.:
Так лились потоки [осужденных] «за сокрытие соц. происхождения», за «бывшее соц. положение». Это понималось широко. Брали дворян по сословному признаку. Брали дворянские семьи. Наконец, не очень разобравшись, брали и личных дворян, т. е. попросту – окончивших когда-то университет (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг).
Здесь автор ошибается, утверждая, что выражение личные дворяне обозначает «попросту» лиц с университетским образованием. К описываемому в романе моменту выражение не только вышло из употребления, но и забылось, что, по мнению автора, явилось причиной преследования личных дворян в период массовых репрессий. Однако и автор забыл, что личное дворянство приобреталось «получением чина обер-офицера или коллежского асессора, получением ордена или монаршим пожалованием» [МЭСБЕ], а не просто получением университетского диплома. В то же время указанная ошибка органично вошла в структуру градационного ряда, при помощи которого автор хочет продемонстрировать широкий размах репрессий: логика требует, чтобы последним членом перечислительного ряда был кто-то, в ком признак «дворянство» представлен в наименьшей степени или не представлен совсем, и здесь весьма кстати оказываются личные дворяне, которые вовсе не дворяне, а «попросту» выпускники университета.
Как видим, художественная интерпретация некорректного лингвистического положения осуществляется по тем же правилам, что и стилистическое использование правильных утверждений. Подобные примеры могут иллюстрировать как «технологии» особой «лингвистики» художественной речи, так и заблуждения обыденной лингвистики.
1.4. Рефлексив: семантика и структура
Рефлексивы, под которыми в данной работе понимаются отрезки речи, содержащие метаязыковую информацию, обладают набором семантических и формальных признаков; семантика рефлексива (наличие метаязыкового суждения) является его основным опознавательным признаком; система формальных средств представления суждений о языке / речи составляет метаязык – «инструмент самоотражения языка» [Ростова 2000: 67][38].
Р. О. Якобсон подчеркивал системный характер метаязыка [Якобсон 1985: 116]; Н. Д. Голев считает возможным говорить о существовании в языке «функционально-семантического поля метаязыковости» [Голев 2009 а: 36].
Термин «метаязык» получает в лингвистических работах «узкое» и «широкое» толкование. В узком смысле под метаязыком понимается лингвистическая терминология. Метаязык в широком смысле «включает, помимо собственно метаязыка (метаязыка в узком смысле слова – лингвистической терминологии), еще множество различных видов и типов языковых средств рефлексии над языком, его использованием в речи, устной и письменной, специальной и художественной и т. д. и всеми связанными с ними мыслительными, речемыслительными и речевыми операциями, процессами и процедурами» [Рябцева 2005: 439]. К метаязыку в широком смысле относятся «все языковые средства, референт которых способен присутствовать в языке и речи» [Там же]; метаязык «включает метатекст, метаречь, метакоммуникацию, метадискурс и лингвистическую терминологию» [Там же: 440].
Комплексное описание метаязыка, который представляет собой «чрезвычайно богатое, многоообразное, многомерное, разнообразное, разнородное, гибкое, комплексное, системное и активное явление» [Там же], пока не осуществлено, лингвистика находится на этапе накопления и описания материала: отдельных единиц метаязыка [напр.: Лосева 2004; Одекова 2007; 2008 а; 2008 б; 2009 б], метаязыковых особенностей отдельных текстов [Фрикке 2007] и типов текстов [Шаймиев 1998; Валитова 2001; Иванищева 2008; Батюкова 2009 и др.]. Представляется актуальным описание системы метаязыковых средств, используемых в художественной прозе.
Подобно тому как язык воплощается в речи, метаязык реализуется в виде метаречи. Единицей функционирования метаречи служит рефлексив. В рамках данной монографии рефлексив рассматривается как единица дискурса, выделяемая на основе семантики и обладающая типовой семантической структурой (которая соотносится с метаязыковой функцией рефлексива) и определенным репертуаром способов формального воплощения. Рефлексив может представлять собой самостоятельный текст, но может (что бывает гораздо чаще) входить в состав дискурса как отдельный речевой шаг на пути к достижению коммуникативной цели.
Охарактеризуем рефлексив с точки зрения его семантических особенностей. Анализ разнообразных по структуре рефлексивов позволяет выявить общие семантические признаки, которые в той или иной мере присущи всем рефлексивам и образуют типовую семантическую структуру[39].
Семантическая структура рефлексива включает обязательные и факультативные компоненты. К обязательным относятся 1) объект рефлексии, 2) статусный квалификатор, 3) субъект метаязыковой оценки и 4) метаязыковая характеристика.
1. Объектом рефлексии является оцениваемый факт языка / речи: единица языка в автонимном употреблении, жанр речи, особенности речевого поведения и т. д. Ср.:
Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец (М. Лермонтов. Княжна Мери); <…> уже негде было разложить парчовое слово: измена <…> (В. Набоков. Весна в Фиальте).
2. Квалификатор, описывающий статус языкового / речевого факта, – это лексические единицы слово, выражение, обращение, манера поведения, полемический прием и т. д. (в приведенных выше примерах это существительные имя, слово). Наименование оцениваемого объекта часто занимает место аппозитива при квалификаторе.
3. Субъект метаязыковой оценки – это языковая личность или группа носителей языка, для которых данная оценка является истинной. Ср.:
(1) Остротою (der Witz) называю я способность говорить острые слова, в каждом предмете без труда находить смешную сторону и т. п. (А. Погорельский. Двойник); (2) Антагонизм – ад кромешный (слово это перевел содержатель табачной лавочки, человек ученый, так как служил вахтером в кадетском корпусе) (Н. Лейкин. Из записной книжки отставного приказчика Касьяна Яманова).
В первом примере субъектом оценки выступает сам говорящий; во втором – субъектом, присваивающим слову значение, является «затекстовый» персонаж. В обоих случаях наличие субъекта оценки выражено лексическими средствами.
Информация о субъекте метаязыковой оценки может содержаться не непосредственно в рефлексиве, а в предтексте – когда субъектом оценки выступает непосредственно повествователь или персонаж, речь которого передается автором. Ср.:
(1) А «моей души предел желаний» – предел, это что-то твердое, каменное, очень прочное, наверное, его любимый камень, на котором он всегда сидел (М. Цветаева. Мой Пушкин); (2) Родился у нас свой жаргон: борт – самолет, броник – бронежилет, зеленка – кусты и заросли камыша, вертушка – вертолет, глюки видел – галлюцинации после наркотика, подпрыгнул на мине – подорвался, заменщики – кто домой уезжает (С. Алексиевич. Цинковые мальчики).
В первом примере субъект оценки не обозначен вербально, однако в эссе М. Цветаевой «Мой Пушкин» речь идет о восприятии пушкинской поэзии ребенком (самой М. Цветаевой в детстве), и из контекста ясно, что метаязыковой комментарий осуществляется с позиции ребенка. Во втором примере субъект метаязыкового комментирования обозначен при помощи личного местоимения (у нас), а его содержание ясно из предшествующего текста, в котором речь идет о войне в Афганистане.
Семантика субъекта метаязыкового суждения обязательно реализована в рефлексиве: а) при помощи лексических показателей, б) в виде пресуппозиций, формируемых предыдущей частью текста или в) отсутствием каких-либо показателей субъекта. В последнем случае «нулевая форма» выражения субъекта оценки указывает на то, что такая оценка является общепринятой («так думают все»); ср.:
Степь, то есть безлесная и волнообразная бесконечная равнина, окружала нас со всех сторон <…> (С. Аксаков. Детские годы Багрова-внука.); Пирамиды суть здания пирамидальной формы, которые воздвигались фараонами для своего прославления (Н. Тэффи. Древняя история).
Субъект «все, всякий» имплицитно присутствует в метаязыковых суждениях сентенционного характера: в пословицах, поговорках, крылатых словах, афоризмах.
4. Характеристика объекта может иметь разнообразное содержание: присвоение объекту значения (1), в том числе – установление тождества между двумя именами (2), или признака (указание на маркированность единицы с точки зрения нормативной, функциональной, стилистической, социолингвистической, исторической и т. д.) (3), субъективно-эмоциональная оценка объекта с позиции говорящего или другого мыслящего субъекта (4) и другие:
(1) Кулаком называется по-русски прижимистый бесчестный сельский переторговщик, который богатеет не своим трудом, а чужим, через ростовщичество и посредничество в торговле (А.Солженицын. Архипелаг ГУЛаг); (2) – И при вас я пройдусь по рукописи. / – Что значит «пройдусь»? – спросил я. – «Пройтись» — это значит выправить (К. Паустовский. Случай в магазине Альшванга); (3) …очень большой вопрос – удастся ли мне отстоять ее? Да и как мне отстоять ее? Как понимать это величественное слово? (М. Булгаков. Пропавший глаз); (4) Вдова раздиралась надвое между ним и старушонкой. Гирькин ей был мил, но непонятен, как, например, новые слова: мосрайрабкооп или госпромцветмет. От этих слов у нее щемила душа, хотелось прилечь на кровать, обмотать голову шалью (А. Н. Толстой. Сожитель).
В ряде случаев объект может получать характеристику по нескольким признакам, например, описание признака плюс субъективная оценка:
Барон. Но послушайте, дорогой мой!../ Пиджаков. Я вам не дорогой. Если у меня нет знаменитого имени, как вот у этого академического тупицы, так это не дает вам права называть меня «дорогой»! (Л. Андреев. Монумент).
В этом случае обращению дорогой дается скульптором Пиджаковым несколько характеристик: а) такое обращение носит унижающий характер (семантико-стилистическая информация); б) это обращение не подходит для данного обозначаемого (рекомендация по употреблению); в) у говорящего использование данного слова вызывает негативные эмоции.
В семантике рефлексива могут присутствовать факультативные элементы с функцией квалификаторов, указывающие на условия проявления признака или причину оценки. Так, один из рассказов М. Веллера (цикл «Легенды Невского проспекта») называется «Бросай крючья». Начало рассказа содержит метаязыковой комментарий:
Бросай крючья (а)
Была некогда (г) такая команда (б) на флотах (г), когда крючья с тросами летели в такелаж и фальшборт вражеского корабля и, вцепляясь, подтягивали его вплотную для абордажной добычи (в).
В приведенном отрывке семантическая модель рефлексива представлена следующим образом: обозначен объект рефлексии (а) – выражение бросай крючья; присутствует метаязыковой термин команда, выполняющий функцию статусного квалификатора (б); дается информация о смысле данной команды (в): когда крючья с тросами летели в такелаж и фальшборт вражеского корабля и, вцепляясь, подтягивали его вплотную для абордажной добычи, – и, наконец, факультативный элемент – квалификатор, обозначающий условия, в которых всё это имело место (г): некогда… на флотах.
Являясь факультативным элементом семантической модели рефлексива (в том смысле, что возможны рефлексивы и без подобных компонентов), такие квалификаторы в конкретном акте коммуникации могут нести на себе важную смысловую нагрузку.
В ряде случаев семантика компонента рефлексива оказывается диффузной – ее можно трактовать и как указание на условия (место, время), при которых метаязыковая оценка является истинной, и как обозначение субъекта метаязыковой характеристики. Ср.:
<…> в эту самую минуту в околицу Марьинского въехал воз с красным товаром. Въезд сопровождался таким неистовым, единодушным лаем собак, что все стоявшие спиною к околице невольно обернулись. Хозяин воза, или варяг – так называют в наших деревнях этих торгашей, – не успел подобрать ног от собак, которые, как ядра, летели к нему навстречу, как уж вся деревня заметила его появленье (Д. Григорович. Переселенцы); – Вот что, Никита Иванович! На той половине никого из «ветошных» нет? – спросил Сенька, выпивая стаканчик. «Ветошными» на жаргоне воровского мира называются вообще все люди, не причастные к нему (В. Курицын. Томские трущобы).
Семантические компоненты рефлексива могут иметь вид импликаций, например:
Большая дорога возле Становой спускалась в довольно глубокий лог, по-нашему верх, и это место всегда внушало почти суеверный страх всякому запоздавшему проезжему <…> (И. Бунин. Жизнь Арсеньева).
В этом примере вербализована лишь часть семантической структуры рефлексива – отсутствуют метаоператоры (слово, называться и т. п.). Чаще всего опускается именно метаязыковой термин, хотя возможно отсутствие обозначения и самого объекта рефлексии, которому присваивается признак, при наличии метаоператора – например, в случаях, когда точное воспроизведение языковой единицы невозможно по этическим причинам:
Помню только, что под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел (М. Лермонтов. Княжна Мери).
Все случаи, когда говорящий обращает внимание на эвфемистический характер какого-либо обозначения (не приводя дисфемизма), представляют собой такие рефлексивы – с невыраженным объектом оценки.
Компонент «признак», «оценка» также может в ряде случаев представлять собой импликацию (например, во многих случаях формального сближения слов присутствует имплицитное утверждение 'Внешнее сходство свидетельствует о смысловой связи').
В ряде случаев квалификатор, указывающий на обстоятельства проявления признака, может содержаться в тексте за пределами рефлексива и «восстанавливается» с учетом контекста. Ср.:
Копыта вышел на середку. Здесь он срезался (то же, что в гимназии провалился) и не мог перевести одного пункта (Н. Помяловский. Очерки бурсы).
Значение слова срезался выражено в данном рефлексиве вербально ('провалился'), а условия, в которых слову присваивается данное значение (в языке бурсаков) в этом высказывании не обозначено, однако они ясны из контекста – в произведении речь идет о жизни бурсы и регулярно комментируются характерные для жаргона бурсаков слова и выражения.
Описание семантической организации рефлексива является важным для исследования метаязыковой рефлексии: во-первых, обнаружение соответствующих семантических признаков у отрезка речи служит основанием для включения речевого выражения в корпус рефлексивов – даже при отсутствии явных формальных показателей, а во-вторых, представленная модель содержания может служить инструментом изучения и систематизации рефлексивов. В частности, классификация рефлексивов по признаку статусного квалификатора позволяет создать типологию объектов рефлексии.
Охарактеризовав семантику рефлексива, обратимся теперь к его формальным признакам. Под формальными признаками понимаем, во-первых, те структурные формы, в которых воплощается рефлексив в речи, а во-вторых, – определенные внешние признаки, метапоказатели, которые сигнализируют исследователю о том, что данный речевой отрезок должен квалифицироваться как рефлексив.
Рефлексив выступает в речи в различных структурных формах. Прежде всего, можно противопоставить рефлексивы-тексты и рефлексивы-субтексты. К рефлексивам-текстам относятся такие художественно-публицистические и художественные тексты, как стихотворение в прозе И. Тургенева «Русский язык», очерк В. Гиляровского «Ничего», миниатюра В. Дорошевича «Одесский язык», рассказы Н. Тэффи «Реклама», П. Романова «Родной язык», Г. Горина «Случай на фабрике № 6» и т. п. Основная тема таких текстов – интерпретация какого-либо вопроса, связанного с языком / речью [см.: Шумарина 2007; 2008 а; 2009 а].
Рефлексивы, включенные в произведение как его компоненты, «вписаны» в текст структурно и тематически, связаны межфразовыми связями с другими элементами текста. Эти рефлексивы различаются по своему статусу в структуре текста: они могут занимать внутритекстовую или маргинальную позицию. Маргинальные рефлексивы (в другой терминологии «служебные тексты» [Николина 2006 а: 426]) структурно вынесены за пределы текста. К ним относятся авторские примечания, авторские пояснения и ремарки в текстах пьес, предисловия. Маргинальные рефлексивы выполняют метатекстовые, метадискурсивные функции. Несмотря на структурную обособленность и вторичность таких метатекстов, они часто играют важную роль в произведении. Так, примечания позволяют сделать вывод не только о том, какие фрагменты текста автор считал необходимым разъяснить подробнее, но и о том, каким он видел своего читателя (адресата) в момент создания произведения.
Необходимо отметить, что «служебность» таких текстов может различаться. Ср., например, с одной стороны, примечания в «Герое нашего времени» М. Лермонтова (дважды объясняется значение областных слов), и с другой, – в романе «Архипелаг ГУЛаг» А. Солженицына. В романе А. Солженицына обстоятельные примечания придают произведению вид гипертекста[40]: следуя по сноске к примечанию, читатель попадает в новый, самостоятельный текст, иногда развивающий собственный сюжет, который дополняет основной текст романа. Жанр произведения Е. Попова «Подлинная история «Зеленых музыкантов»» обозначен автором как «роман-комментарий»: основное повествование здесь является еще и «входом» в примечания, которые имеют самостоятельное значение и представляют собой мини-эссе по различным волнующим писателя вопросам. Но и в более «традиционных» по форме произведениях примечания могут нести очевидную эстетическую нагрузку. Ср., например, комментарии Н. Гоголя к словам корамора, колядовать в «Мёртвых душах».
Внутритекстовые рефлексивы могут быть разными по объему и с разной степенью четкости выделяются из текста. Сюда относятся крупные фрагменты текстов, посвященные фактам языка и речи, которые представляют собой относительно самостоятельные в композиционном отношении, структурно и семантически законченные речевые произведения (например, лирическое отступление Н. Гоголя в «Мертвых душах»: …у нас на Руси если не угнались еще кой в чем другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться… и мн. др.). Сюда же относятся и рефлексивы, представляющие собой «метаязыковые вкрапления» [Хлебда 1998]; они могут соотноситься с предложением – простым (1) или сложным (2), с фрагментом предложения (3) и даже с одним словом, когда такое слово «помечено» автором как объект оценки (4):
(1) Попасть «под суд» — тогда обозначало спуститься в нижний этаж здания суда, где был буфет (В. Гиляровский. Из репортерства); (2) Итак, мои грибные воспоминания начинаются воспоминаниями о маслятах.
Кажется, правильно, по-книжному, их называют масляниками, но я никогда к этому не привыкну (В. Солоухин. Третья охота); (3) Но так как человек без информации немыслим на земном шаре, им приходится получать сведения с евбаза (еврейский базар), где старушки вынуждены продавать канделябры (М. Булгаков. Слухи); (4) Я очень хорошо понял, что если стану приставать к нему то нарушу кейф его (Я. Полонский. Квартира в татарском квартале); Стояли здесь когда-то снаряженные в дальний путь «лыцари» (И. Бунин. На край света).
Метатекстовая функция (то есть функция комментария к собственной речи) свойственна как маргинальным, так и внутритекстовым рефлексивам[41]. В то же время внутритекстовые рефлексивы могут и не выполнять метатекстовой функции. Так, например, метаязыковые высказывания, использующиеся для характеристики героев, часто выступают как элемент текста, а не метатекста. Ср.:
«Позднее признание» оказалось дневниковой записью женщины, нарушившей закон о семье и браке. В рукописи было много грамматических ошибок, но это странным образом усиливало искренность ее исповедальности и непорочности (К. Воробьев. Вот пришел великан).
В этом примере суждение о связи ошибок в письменной речи с ее безыскусностью, искренностью – метаязыковое (оно отражает речевую рефлексию автора (особенности письменной речи как черты «портрета» пишущего), но не метатекстовое. В то же время следует признать, что довольно часто различие между текстовыми и метатекстовыми элементами определяется выбором способа синтаксического оформления. Так, приведенное выше высказывание можно преобразовать в метатекст, используя вставную конструкцию: *В рукописи было много грамматических ошибок (что, впрочем, странным образом усиливало искренность ее исповедальности и непорочности)…
В художественных текстах именно внутритекстовые рефлексивы представлены наиболее широко и разнообразно; можно вести речь о системе метаязыковых средств (метапоказателей), реализующихся в эстетически организованной речи.
1.5. Метапоказатели в художественных текстах
В работах, посвященных средствам метаязыка и метатекста, предлагались различные варианты систематизации этих средств, которые на первом уровне классификации учитывали а) функциональные особенности единиц метаязыка [Вежбицка 1978; Шаймиев 1998; Валитова 2001], б) их соотношение с уровнями языка (фонетические, словообразовательные, лексические, грамматические средства и т. д.) [Батюкова 2009; Одекова 2007; 2008 а; 2008 б; 2009 б и др.], в) эксплицитность / имплицитность выражаемой рефлексии [Крючкова 2002; Пчелинцева 2006; Иванищева 2008; Иванцова 2009 и др.].
Предлагаемая ниже классификация средств метаязыка охватывает различные способы экспликации метаязыковой рефлексии в художественном тексте. Систему этих средств мы представляем в виде своеобразного «поля» с центром и периферией[42]. В центре этого «поля» располагаются единицы[43] со свойствами прототипических, то есть такие, которые проявляют «в наибольшей степени свойства, общие с другими единицами данной группы» и реализуют «эти свойства в наиболее чистом виде и наиболее полно, без примеси иных свойств» [Демьянков 1996: 140]. Эти единицы наиболее явно и однозначно выражают метаязыковое содержание; будем называть их прямыми сигналами метаязыковой рефлексии (собственно метаоператорами). На периферии поля находятся единицы, которые назовем косвенными сигналами рефлексии; косвенные – значит «предназначенные для другой цели, но способные выполнять и данную, работающие как бы по совместительству, берущие на себя дополнительную нагрузку» [Рябцева 2005: 488–489].
Представим систему метапоказателей в виде обобщающей схемы (см. схему 2 на с. 82) и прокомментируем ее.
I. Собственно метаоператоры. К прямым сигналам метаязыковой рефлексии относятся собственно метаоператор ы (метаорганизаторы высказывания, метатекстовые операторы) [см.: Вежбицка 1978: 409] – особые языковые выражения, которые сигнализируют о метаязыковой операции (переход с уровня текста на уровень метатекста, с языка на метаязык). Для собственно метаоператоров «метаязыковость» является первичной семантической функцией.
Наиболее явными показателями акта рефлексии являются метаязыковые термины, обозначающие процессы речи и речевые произведения (слово, фраза, сообщение, называть(ся), произносить, обозначать и т. д.):
<…> задумался и Капитон Иваныч <…> Имя у него было «как у дворецкого», наружность не обращающая на себя внимания… (И. Бунин. На хуторе); <…> господствующей государственной эстетикой станет ложнославянский стиль. (Этот термин употребляется нами не в негативно-оценочном смысле. В отличие от славянского стиля, которого не существует в природе, ложнославянский стиль является разработанной и четкой парадигмой.) (В. Пелевин. Generation «П»).
Метаязыковые термины могут сигнализировать как о рефлексии осознанной, выведенной в «светлое поле» сознания, так и о «свернутой» в виде семантики лексических и фразеологических единиц.
Следует отметить, что «явный показатель» не означает «неоспоримый», «однозначный». Далеко не всегда наличие метаязыкового термина свидетельствует об акте рефлексии. Особенно справедливо это положение относительно слов, употребление которых не ограничено лингвистическим дискурсом. Подобные слова являются фактом общенационального языка, имеют широкое употребление и приобрели множество значений, в том числе фразеологически связанных (слово, называть, значить и т. п.). Так, например, единица слово может употребляться в составе сочетаний дать честное слово, сдержать слово, и чтоб никому ни слова и т. п., которые вовсе не связаны с осознанием и комментированием факта языка / речи. Кроме того, слово слово и в своём прямом значении может использоваться для называния объекта, не связанного с рефлексией в данном речевом акте (Напр.: На завтра задали выучить двадцать английских слов и написать сочинение). В то же время, как показывают наблюдения, единицы с более узким, «лингвистическим» значением, низкочастотные за пределами научного дискурса, напротив, как правило, сигнализируют о метаязыковой операции (семантика, деепричастие, этимология и т. п.).
К собственно метаоператорам относятся также единицы, которые в грамматике квалифицируются как вводные конструкции [Шварцкопф 1970; Баранов, Кобозева 1984; Харченко 1984; Розина 2009], модальные слова и частицы [Лосева 2004], которые характеризуют манеру изложения [Виноградов 1947: 736–737] или служат лексическими маркерами чужой речи [Арутюнова 2000 б; Девятова 2009]. Ср.:
[Славу Каменщикова] чуть не оженили на дочери хозяина, по-нашему, по-конюховски, чуть было не осаврасили <…> (В. Астафьев. Обертон); Когда я произнесла роковые слова о том, что Алине не грозит одиночество, Лёва как-то болезненно улыбнулся, беспомощно развёл руки в стороны (дескать, что тут поделаешь!) <…> (А. Алексин. Мой брат играет на кларнете) и т. д.
Схема 2
Сигналы метаязыковой рефлексии
Вводные конструкции с семантикой оценки речи могут включать в свой состав метаязыковые термины (мягко выражаясь, как бы точнее сказать, как говорят в Одессе… и т. п.):
Из-под черного шейного платка белели маленькие брыжи сорочки – «лиселя», как называли черноморские моряки, носившие их, отступая от формы, даже и в николаевские времена (К. Станюкович. Смотр); Дело обычное: сколько звезд вышло из секретарш и экономок посредством, как бы это выразиться, личного обаяния (М. Веллер. Миледи Хася) и т. п.
Функции собственно метаоператоров выполняют также прилагательные и наречия с семантикой квалификации речи:
<…> я скажу не запинаясь, что английский юмор и русское балагурство, или веселость, в существе своем одно и то же <…> (М. Загоскин. Москва и москвичи); Его общей эрудиции было вполне достаточно, чтобы понять, что Cr есть сокращенное cancer, то есть «рак» по-русски (М. Чулаки. Примус).
К собственно метаоператорам относятся все синтаксические конструкции, оформляющие чужую речь: от таких достаточно традиционных объектов синтаксиса, как предложения с прямой и косвенной речью, до попавших лишь недавно в поле зрения ученых конструкций с репрезентируемой речью [Светашова 2009].
Функция метапоказателей как первичная свойственна и графическим средствам[44], которые используются для выделений в тексте: кавычки (1), курсив (2), разрядка (3), капитализация (написание заглавными буквами) (4), жирный шрифт (5):
(1) Руфина Онисимовна была передовой женщиной, врагом предрассудков, доброжелательницей всего, как она думала и выражалась, «положительного и жизнеспособного» (Б. Пастернак. Доктор Живаго);
(2) Лев слышал, что об одной говорили как о школе с уклоном, о другой – как о школе без уклона. «Только бы сразу в обе не отдали!» – с ужасом думал он. / Сам Лев хотел во вторую школу, без уклона, – потому что рядом с дедом (Е. Клюев. Андерманир штук); (3) Через полтора месяца он ощущал себя абсолютно другим человеком – да он и был другим: деловар с башлями (М. Веллер. Легенда о родоначальнике фарцовки Фиме Бляйшице); (4) Говорит, до Взрыва все иначе было. Придешь, говорит, в МОГОЗИН, – берешь что хочешь, а не понравится, – и нос воротишь, не то, что нынче (Т. Толстая. Кысь); (5) Убрался к чертовой матери. Не самое плохое дополнение к / отчалил; / отвалил; / слился; / сделал ноги; / навострил лыжи (В. Платова. После любви).
В тексте любого стиля и жанра графическое выделение практически всегда свидетельствует о том, что выделенный фрагмент был осознан автором как важный в смысловом отношении. Дело в том, что всякое графическое выделение осуществляется не непосредственно при порождении высказывания, а в процессе самоконтроля и коррекции речи: автор оценивает текст с позиции читающего и принимает решение о графическом выделении тех или иных фрагментов.
Особенности «метаязыковой семантики» различных способов графического выделения описывались различными исследователями. Справедливым представляется следующее замечание: «Автор специальным маркером отмечает сам факт рефлексии, обдумывая уместность выбора номинации, предоставляя адресату возможность соучаствовать в процессе оценки выбора, вовлекая его в процесс порождения текста» [Пчелинцева 2006: 70].
Среди перечисленных средств графического выделения кавычки наиболее часто привлекали внимание исследователей, которые стремились упорядочить описание всех случаев употребления кавычек [Шварцкопф 1967; 1997; Зализняк Анна 2007]. Анна А. Зализняк определяет инвариантное значение этого знака препинания следующим образом: «кавычки являются показателем разрушения стандартного семиотического акта в письменной речи» [Зализняк 2007; выделено автором]. Речевой акт предполагает наличие у пишущего ряда пресуппозиций, в частности, таких, которые касаются использования кода: «.во-первых, что человек говорит то, что он сам думает или хочет сказать слушающему; во-вторых, что каждое употребленное им слово выражает нужный смысл (т. е. содержит все необходимые смысловые компоненты и не содержит никаких лишних). Наконец, в-третьих, что говорящий употребляет все слова в тех значениях, которые ожидает в них найти слушающий» [Там же]. Таким образом, кавычки сигнализируют о нарушении той или иной семиотической конвенции и в этом смысле, как мы полагаем, они всегда выполняют метаязыковую функцию, являясь сигналом рефлексии и стимулируя рефлексию читающего[45].
Мы рассматриваем кавычки среди графических средств выделения, а не в составе пунктуационных знаков, так как в большинстве случаев выделение при помощи кавычек оказывается синонимичным другим способам выделения (курсив, капитализация и др.). Так, курсивное начертание, подобно кавычкам, может быть сигналом интертекста, указанием на цитату:
На одном балконе, опершись локтями о решетку, сидела молодая женщина с матовым лицом, с черными глазами; она смотрела бойко: видно, что не спала совсем. Вот вечером тут, пожалуй, явится кто-нибудь с отвагой и шпагой, а может быть и с шелковыми петлями[46] (И. Гончаров. Фрегат «Паллада»); А уж как любил, какой родней считал все скульптурное народонаселение пражских зданий – все, что обитало вверху, над головами прохожих: эти тысячи, тысячи ликов – святые и черти, фавны, русалки и кикиморы; львы, орлы и куропатки[47]; драконы, барашки и кони, крокодилы и змеи, рыбы, медузы и морские раковины <…> (Д. Рубина. Синдром Петрушки).
Графические маркеры метаязыковой рефлексии, как отмечает Э. Л. Трикоз, функционально коррелируют со словарными пометами типа «в профессиональной речи», «у медиков», «в речи моряков» [Трикоз 2009 а: 112], однако следует отметить, что абсолютного равенства между этими метаязыковыми маркерами нет. Графическое выделение является для читателя сигналом о том, что слово «необычно» (или необычно употребляется), однако информацию о характере данной «необычности» читатель должен выводить самостоятельно. Поэтому имплицитный метаязыковой комментарий в подобных случаях, условно говоря, складывается из двух составляющих: собственно авторской импликации ('Обратите внимание: это слово необычно') и «выводного» знания, которое формулирует читатель с опорой на контекст (в частности – на общую тему текста, предмет изображения). Так, например, в романе А. Солженицына «Архипелаг ГУЛаг» многочисленные курсивные начертания выделяют слова, которые автор представляет как специфическую лексику языка ГУЛага:
Всеобщая невиновность порождает и всеобщее бездействие. Может, тебя еще и не возьмут? Может, обойдется? А. И. Ладыженский был ведущим преподавателем в школе захолустного Кологрива. В 37-м году на базаре к нему подошел мужик и от кого-то передал: «Александр Иваныч, уезжай, ты в списках!» Но он остался: ведь на мне же вся школа держится, и их собственные дети у меня учатся – как же они могут меня взять?.. (Через несколько дней арестован.) <…> Большинство коснеет в мерцающей надежде. Раз ты невиновен – то за что же могут тебя брать? ЭТО ОШИБКА! Тебя уже волокут за шиворот, а ты всё заклинаешь про себя: «Это ошибка! Разберутся – выпустят!» <…> Ты еще рассматриваешь Органы как учреждение человечески-логичное: разберутся-выпустят (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг).
При этом автор, учитывая многозначность (асемантичность) графического метаоператора, может облегчать задачу читателя своеобразной «специализацией» графических выделений[48]. В том же романе А. Солженицына используются и другие виды графических средств. Так, курсивом выделяются слова «языка ГУЛага» (1), а кавычками, как правило, – слова, которые используются в специфическом, непервичном или устаревшем значении (2), не связанном, однако, непосредственно с языком ГУЛага:
(1) «Был бы человек – а дело создадим!» – это многие из них так шутили, это была их пословица; (2) Кого сажают в «золотом» потоке? Всех, кто когда-то, 15 лет назад, имел «дело», торговал, зарабатывал ремеслом.
Начертание прописными буквами в этом романе используется, как правило, для интонационного выделения:
Этот пункт давал возможность осудить ЛЮБОГО гражданина, бывшего под оккупацией, прибил ли он каблук немецкому военнослужащему, продал ли пучок редиски, или гражданку, повысившую боевой дух оккупанта тем, что танцевала с ним и провела ночь. Не всякий БЫЛ осуждён по этому пункту (из-за обилия оккупированных), но МОГ быть осуждён всякий.
Метапоказателем является и знак ударения. Поскольку традиционно в русской письменной речи ударение не обозначается, то факт его использования выглядит отмеченным:
<…> отец, взявши сына, выехал с ним на тележке, которую потащила мухортая пегая лошадка, известная у лошадиных барышников под именем сороки (Н. Гоголь. Мёртвые души); Дорогой Иванов скромно мечтал о какой-нибудь должности на железной дороге или в конторе, о чистенькой комнатке, о женитьбе (В. Гиляровский. Потерявший почву).
Постановку ударения читатель оценивает как импликацию: 'В данном слове можно ошибиться в ударении. Обратите внимание!' или 'Не спутайте: это именно такое слово, а не его омограф'.
К собственно метаоператорам относится и ряд знаков пунктуации. Так, многоточие, которое отмечает перебивы, замедление речи, регулярно используется как показатель заминки[49] при выборе говорящим нужного обозначения из ряда синонимов (1), при подборе эвфемизма (2) или как обозначение «интригующей» паузы (3), которая может интерпретироваться как импликация 'А сейчас будет сказано то, что вас удивит'.
(1) «Как же скоро ты забыл фамилию своих бывших… помещиков!» – подумала княгиня. Слово «господ» княгиня не смела подумать: фигура бывшего крепостного была слишком внушительна) (А. Чехов. Цветы запоздалые); (2) – Но у кого же вы их… присвоили? / – Вы хотели сказать: «украли»? Говорите теперь слова прямо (Ф. Достоевский. Братья Карамазовы); (3) Расстреливали те три морфиниста-хлыща, начальник Охраны Дегтярев и… начальник Культурно-Воспитательной Части Успенский. (Сочетание это удивительно лишь поверхностному взгляду. Этот Успенский имел биографию что называется типическую, то есть не самую распространенную, но сгущающую суть эпохи <…>) (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг).
Как видно из приведенных примеров, причина паузы может комментироваться повествователем или становиться ясной из последующего контекста. Но при отсутствии комментария многоточие становится единственным метапоказателем:
– Нигилист, – проговорил Николай Петрович. – Это от латинского nihil, ничего, сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который… который ничего не признает? (И. Тургенев. Отцы и дети).
Эксперименты с пунктуацией прямо интерпретируются в современных исследованиях как метапоказатель [Сидорова, Стрельникова, Шувалова 2009: 447; Мечковская 2009: 485]. В работах, посвященных использованию пунктуации как средства художественной выразительности [Чернышев 1970; Иванчикова 1979; Орехова 1993; Дзякович 1995; Жильцова 1996; Ковтунова 1996 и др.], как правило, обсуждается вопрос о том, что автор хотел выразить при помощи нестандартного использования знаков препинания, то есть исследователями признается факт осмысления семантических возможностей пунктуации авторами художественных текстов.
В основе нестандартного использования знаков препинания лежит осмысление их семантического потенциала. Из средства интонационной разметки и грамматического членения знак препинания превращается в сознании носителя в своеобразный иероглиф (подобно смайлику) и, обладая неким значением, ведет себя как всякая единица, обладающая значением: выявляет специфику своего значения на фоне своеобразной парадигмы (1), создает ряд повторений, «умножая» свою семантику (2), актуализируется в виде самостоятельного сообщения (3) и т. п.:
(1) На четыре времени года раскладывается человеческая жизнь. Весна!!! Лето. Осень… Зима? (Т. Толстая. Милая Шура); (2) <…> хоть в воду, хоть к черту, лишь бы не вставать на голову, лишь бы не понимать, что в голове окончательно спутаны мозги, бред, ерунда, а желудок, кишечник, – желудок лезет в горло, в рот – – и тогда все равно, безразлично, нету качки, – единственная реальность – море, – бред, ерунда – …нет, с Петром I надо мириться (Б. Пильняк. Заволочье); (3) <…> землемер (!) Саунин получил 15 лет за… падеж скота (!) в районе и плохие урожаи (!) <…> (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг).
В качестве косвенных метапоказателей выступают различные единицы и конструкции, для которых метаязыковая функция не является первичной. Косвенные сигналы, в свою очередь, разделим на две группы по наличию / отсутствию материально выраженных средств рефлексии. Косвенные сигналы, обладающие регулярной материальной формой, назовем аналогами метаоператоров, а сигналы, не имеющие материального выражения, – нулевыми метаоператорами.
II. Аналоги метаоператоров. Под аналогами метаоператоров мы понимаем такие языковые средства оформления рефлексива, для которых метаязыковая функция не является первичной (в отличие от метаязыковых терминов), но которые «приспособлены» для её выполнения[50]. В качестве аналогов метаоператоров выступают а) некоторые синтаксические конструкции, б) отдельные лексические средства, в) нестандартная графика и орфография.
Прежде всего, к аналогам метаоператоров отнесем конструкции, устанавливающие семантическое тождество языковых выражений [Арутюнова 2005: 300–325]: биноминативные (1), биинфинитивные (Inf сор Inf) (2) и инфинитивно-номинативные (Inf – N1) (3), – предложения, в которых подлежащее является объектом метаязыковой характеристики, а предикат эту характеристику (как правило, толкование) выражает:
(1) «Акварель» – это хорошая девка (N1), так я соображаю, а «бордюр» — вовсе даже наоборот, это не что иное, как гулящая баба <… >(М. Шолохов. Поднятая целина); (2) – Тогда мы берём вас правщиком, – сказал Август. Быть правщиком значило приводить в годный для печати вид поступающие в редакцию малограмотные и страшно длинные письма рабочих-железнодорожников (В. Катаев. Алмазный мой венец); (3) <…> «антресоли» крутить – это и есть самая твоя любовь, Агафон, на какой ты умом малость тронулся <…>(М. Шолохов. Поднятая целина).
К аналогам метаоператоров отнесем также а) пояснительные конструкции в составе простого предложения (1), бессоюзные сложные предложения с пояснительными отношениями (2) и б) вставки[51] (3):
(1) Отец показал мне деревянный ларь, то есть ящик, широкий вверху и узенький книзу, как я увидал после, в который насыпают хлебные зерна (С. Аксаков. Детские годы Багрова-внука…); (2) У этого, впрочем, гэбушная основа была сильно затемнена явной принадлежностью к так называемым нынешним «структурам»: бобрик волос, темные очки, «треник» из шелка-сырца и поверх здоровенная кожаная куртка, все вместе – униформа дельцов из малых и средних бизнесов (В. Аксёнов. Негатив положительного героя); (3) То, что произошло в этот вечер, оказалось потрясающим воображение событием, фантастическим по своей наглядности и – пусть это слово прозвучит — трагедийности… (А. Азольский. Диверсант).
Метапоказатели могут существовать и на сверхфразовом уровне, когда «метаязыковые значения» реализуются как межфразовые связи в тексте. К этому ряду аналогов отнесем межфразовые «сцепки», вопросно-ответные единства и диалогическую цитацию.
Межфразовые «сцепки» представляют собой пары предложений, в первом из которых используется единица или упоминается факт языка / речи, а во втором содержится комментарий по поводу их значения или употребления (предложения связаны пояснительно-распространительными отношениями). Ср.:
<…> наконец единогласно все решили, что видно такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком, и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание<…> (А. Пушкин. Метель); Он у нас сейчас первым топхэндом работает. Это главный помощник у старшого, кто за гурт отвечает (Б. Акунин. Долина мечты).
В приведенных примерах формальными показателями межфразовых связей служат обобщающий метаязыковой термин (нравственные поговорки) и указательный элемент (это); в других контекстах метаязыковая информация носит характер «выводного» знания и реконструируется читателем. Ср.:
– У нас журнал нового типа, – стала рассказывать Алтын. <…> наш шеф-редактор взял на вооружение принцип Генри Форда – каждый занимает на конвейере свое место. 1 Скаут — это специалист по сбору и проверке информации. 2Райтер – мастер концепции и стиля. 3Есть хедлайнер — он отвечает только за заголовки. 4Есть «болван» – то есть натуральный болван, образование – заочный техникум физкультуры, ему платят зарплату, чтоб он весь номер прочитывал и показывал, если где не врубается. 5Эти места переписывает адаптер, есть у нас и такая ставка (Б. Акунин. Алтын-Толобас).
В этом тексте очевидными метапоказателями выступают биноминативные предложения (1 и 2), бессоюзные сложные предложения с пояснительными отношениями между частями (3 и 4). «Сцепка» 4-го и 5-го предложений в сопоставлении с конструкциями аналогичной семантики, но другого синтаксического оформления, на фоне общей коммуникативной направленности текста (толкование специальных обозначений) также воспринимается как фрагмент, несущий метаязыковую информацию: (…если где не врубается. Эти места переписывает адаптер, есть у нас и такая ставка. Читатель при восприятии формулирует эту информацию следующим образом: 'Адаптер – это тот, кто переписывает тексты, непонятные читателю'.
В качестве метапоказателя мы рассматриваем вопросно-ответные единства – конструкции типа Что такое N? – N это… Вопрос, стимулирующий метаязыковую рефлексию, и ответ могут принадлежать репликам разных лиц – собеседников в диалоге (1), но может использоваться и в монологической речи (2):
(1) – Не иначе как тридцаточка идет, – сказал повар. / – Что за тридцаточка? – спросил Чехардин. / – Суховей, – пояснил Скворцов. <…> / – А почему так называется? – спросила Лида. / – Примета такая. Дует он и дует, и три дня, и три ночи, а как подует три дня и три ночи, то будет надвое: или перестанет, или будет дуть ещё месяц, а в месяце тридцать дней, вот и называют тридцаточка (И. Грекова. На испытаниях); (2) Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дни, ибо «оказия» из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, отправиться обратно не может. <…>А вы, может быть, не знаете, что такое «оказия»? Это прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которым ходят обозы через Кабарду из Владыкавказа в Екатериноград (М. Лермонтов. Максим Максимыч).
Вопрос в монологической речи носит характер риторического и принадлежит тому же лицу, которое формулирует ответ. Такой вопрос в тексте выполняет, с одной стороны, функцию акцентирования (выделяет метаязыковой комментарий в тексте, привлекает к нему внимание адресата как к самостоятельному фрагменту речевого высказывания), а с другой, – является средством коммуникативной организации высказывания, так как синтаксически вычленяет тему.
Рефлексив может вводиться в текст при помощи диалогической цитации, к которой относятся «случаи использования реплик собеседника (или их фрагментов) в иных (обычно оппозиционных) коммуникативных целях» [Арутюнова 1992: 65]. Диалогическая цитация используется как «повод» выразить собственное отношение к слову, выражению (1) или интерпретировать «пропозициональное содержание предшествующей реплики собеседника» (2) [Кобозева, Лауфер 1994: 64]. Ср.:
(1) – <…> Ну, отчего ты не пристал к лучшим людям? / – Лучшие люди?.. лучшая жизнь?.. вот оно что!.. Значит, ты согласен в том, что я новый человек; я в то же время и лучший человек. <…> Смейся, добрая душа, смейся; но ты опять сказал пустое слово… Лучших людей нет на свете; один худ, а другой лучше, а третий еще лучше; и наоборот, один хорош, другой хуже, а третий еще хуже, – так без конца и без начала. Только самого худого не отыщешь и самого лучшего не отыщешь. Все лучшие и худшие (Н. Помяловский. Молотов); (2) Они кисло отбрехивались <…> Они, собственно говоря, согласились бы вступить в новый клуб, но… / – Что «но»? – кричал Авдотьев. – Если бы автомобиль был сегодня? Да? Если бы вам положить на стол синий шестицилиндровый «паккард» за пятнадцать копеек в год, а бензин и смазочные материалы за счет правительства?! (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев).
При помощи диалогической цитации, «перехватив стрелу, адресат тотчас пускает ее в противника. Реплика говорящего обращается к нему и против него. Цитация – это словесный бумеранг. Она является компонентом вербальной реакции на высказывание. Протест может быть вызван такими параметрами воспроизводимой чужой речи, как истинность, обоснованность, уместность, адекватность, корректность, ясность, стилевые характеристики, выборслов, способ обращения и т. п.» [Там же; выделено нами – М. Ш.]. Таким образом, говорящий, который в диалоге цитирует предшествующую реплику (или ее часть) собеседника, подвергает эту реплику рефлексии, снабжая ее метаязыковым комментарием. Фраза с цитатой часто строится таким образом: цитата представляет собой конструкцию выделенной темы (т), а следующий за ней метаязыковой комментарий является ремой (р):
Раиса. Да, я его люблю… Он хороший… / Волы нов (с улыбкой). Какое вы святое слово употребили: люблю… (т) Разве с этим словом можно так неосторожно обращаться? (р) (А. Потехин. Выгодное предприятие); – Это называется, среда заела? / – А вот и не заела!.. Среда?.. заела?.. (т) Новые пустые слова (р). Я просто продукт своей почвы, цветок, пойми ты это (Н. Помяловский. Молотов).
Частным случаем диалогической цитации можно считать переспрос (повтор вопроса собеседника), предваряющий толкование:
– А вы, девочки, – охота вам вступать в беседу со всяким бродягою. / На лице Острова изобразилось горькое выражение. Может быть, это была только игра, но очень искусная, – Петр смутился. Остров спросил: / – Бродяга? А что значит бродяга? / – Что значит бродяга? – повторил Петр в замешательстве. – Странный вопрос? / – Ну, да, вы изволили употребить это слово, а я интересуюсь, в каком смысле вы его теперь употребляете, применяя ко мне (Ф. Сологуб. Навьи чары).
Переспрос в монологе имитирует ситуацию общения, служит маркером диалога, в котором при описании опускаются реплики собеседника. Ср.:
Сбитенщики ходят, аукаются в елках: «Эй, сладкий сбитень! калачики горячи!..» В самоварах, на долгих дужках, – сбитень. Сбитень? А такой горячий, лучше чая. С медом, с имбирем, – душисто, сладко. Стакан – копейка (И. Шмелёв. Лето Господне).
Диалогическая цитация (в том числе переспрос) актуализирует семантическую структуру рефлексива, воспроизводя фрагмент чужой речи – объект рефлексии. Переспрос и диалогическая цитация для исследователя служат показателем метаязыкового поиска. Такому поиску соответствует лексическое и интонационное оформление переспроса и цитации: наличие тавтологических компонентов, которые формально создают лексическую избыточность, и интонация «замедления», передающаяся на письме различными графическими (многоточие), синтаксическими (парцелляция, выделение цитаты или диалога в отдельную синтагму, фразу) и лексическими средствами. Ср.:
<…> тянутся обозы – к Рождеству. Обоз? Ну, будто, поезд… только не вагоны, а сани, по снежку, широкие, из дальних мест. Гусем, друг за дружкой, тянут. Лошади степные, на продажу. <…> Везут свинину, поросят, гусей, индюшек, – «пылкого морозу». Рябчик идет, сибирский, тетерев-глухарь. (И. Шмелёв. Лето Господне).
Различие между толкованиями в диалоге, включающем переспрос, и в диалоге без переспроса заключается в степени воспроизводимости / творимости метаязыкового комментария. «Замедление» при поиске формулировки показывает, что у говорящего нет готовой дефиниции, он пытается ее составить, производя «молчаливый» анализ объекта, отбирая существенные признаки, облекая толкование в доступную для адресата форму. Быстрая реакция толкователя на вопрос о значении слова напоминает «заученный» ответ, а иногда и является им. Автоматизм воспроизведения, как и положено, снижает уровень осознанности. Ср.:
– Садись на словесность! – бывало, командует взводный офицер <…> Иван Петрович Копьев. <…> / – Егоров, что есть солдат? – сидя на столе, задает вопрос Копьев. / Егоров встает, уставляет белые, без всякого выражения глаза на красный нос Копьева и однотонно отвечает: / – Солдат есть имя общее, именитое, солдат всякий носит от генерала до рядового… / – Вррешь! Дневальным на два наряда… Что есть солдат, Пономарев? / – Солдат есть имя общее, знаменитое, носит имя солдата… / – Вррешь. На прицелку на два часа! Не носит имя, а имя носит… Ворронов, что есть солдат? / – Солдат есть имя общее, знаменитое, имя солдата носит всякий военнослужащий от генерала до последнего рядового. / – Молодец Воронов! (В. Гиляровский. Без возврата).
Для обозначения метаязыковой операции выбора наименования из ряда синонимичных используются различные конструкции, в которых вербализуется процесс «авторедактирования», самоисправления, то есть отказа от первоначально выбранного средства выражения и замена его другим. В целом ряде лингвистических работ самоисправления рассматриваются как яркий показатель метаязыковой активности [Зубкова Л. Г, Зубкова Н. Г. 2009: 271, 275–276, 278; Иванцова 2009: 346–348]; в частности, самоисправления в речи детей рассматриваются как свидетельство формирования осознанного отношения к языку [Фрумкина 2001: 119; Wetherby, Alexander, Prizant 1998: 136].
Саморедактирование, которое совершается непосредственно в тексте, отражает поиски слова, наиболее точно выражающего мысль автора. Ср.:
Заботливо во все вникающая и в то же время ни во что не вмешивающаяся Эмма Эрнестовна, его [Комаровского] экономка, нет – кастелянша его тихого уединения, вела его хозяйство, неслышимая и незримая, и он платил ей рыцарской признательностью, естественной в таком джентльмене <…> (Б. Пастернак. Доктор Живаго).
Автор не устраняет из текста менее точное, по его мнению, слово экономка, а намеренно оставляет его, имитируя характерную для спонтанной речи вербализацию метаязыкового поиска. Однако имитация живого речемыслительного процесса – не единственная функция этой «правки». Лексические единицы экономка и кастелянша служат здесь объектом сопоставления, автор использует их как средство антитезы. При этом актуализированным оказывается дифференцирующий сегмент значения, не принадлежащий понятийному ядру. Мы имеем дело с «приспособлением структуры отдельного значения слова к условиям конкретного коммуникативного акта, к той или иной коммуникативной задаче высказывания» [Стернин 1997: 82]. Исследователи отмечают, что «значение, реализуемое в коммуникативном акте, несводимо к небольшому числу ядерных сем, выполняющих дифференциальные функции в структуре языка. Оно включает обширную периферию, образуемую семантическими компонентами, которые не выполняют дифференциальных функций в системе лексических оппозиций, хотя оказываются чрезвычайно важными для коммуникации и часто актуализируются в речи» [Там же].
Понятийное ядро рассматриваемых слов находит отражение в словарных толкованиях: экономка (ж. р. к эконом) – это «заведующая хозяйством» [СОШ], а кастелянша — «работница бельевой (в лечебном учреждении, доме отдыха, гостинице), ведающая хранением и выдачей белья» [СОШ]. Экономка – это, как правило, высокая ступень в иерархии хозяйственных служащих: экономка руководит работой других слуг, если они есть в доме, вникает во все происходящее в доме, прекрасно осведомлена о делах хозяев, в отличие от скромной кастелянши, обязанности которой не требуют особой активности. Однако это не лингвистическая, а так называемая энциклопедическая информация. Соответствующие этой информации семы располагаются на периферии значения, но, как известно, именно периферийные семы «в значительной степени обеспечивают коммуникативную гибкость слова, обеспечивают ему широкие номинативные возможности в коммуникативных актах, возможности семантического варьирования» [Стернин 1997: 83]. И в данном случае признаком сравнения является семантический компонент 'скромность', находящийся на дальней периферии значения, в сфере фоновых или ассоциативных сем. Справедливость такой интерпретации подтверждается и окказиональной сочетаемостью слова (кастелянша его тихого уединения), в которой актуализируется метафорический характер употребления слова.
Чаще всего сопоставлению подвергаются пары слов (языковые или контекстуальные синонимы), но иногда автор выстраивает более длинный ряд, в котором прослеживается градация: автор эксплицирует работу метаязыкового сознания, «на глазах» у читателя подбирает наиболее подходящее, наиболее точное наименование для описываемого предмета[52]. Ср.:
<…> вдруг ты поднимаешь голову к квадратной прорези в средней полке, к этому единственному небу над тобой – и видишь там три-четыре – нет, не лица! нет, не обезьяньих морды, у обезьян хоть чем-то должна быть похожа на образ! – ты видишь жестокие гадкие хари с выражением жадности и насмешки (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг).
К средствам «авторедактирования» относятся, прежде всего, уточняющие конструкции. В уточняющем компоненте в большей или меньшей степени эксплицированы причины метаязыкового выбора. Так, использование формулы извинения свидетельствует о том, что первый вариант обозначения нежелателен по каким-либо социолингвистическим или этическим причинам; ср.:
У нас тоже выводили, пардон, воспитывали, создавали так называемого нового человека (Г. Николаев. Вещие сны тихого психа).
Другие лексические показатели маркируют выбранное обозначение как более правильное (1), более точное (2), более выразительное (3) и т. п.:
(1) Мы вошли в юрту, или, правильнее, урасу (И. Гончаров. Фрегат «Паллада»); (2) Итак, мои грибные воспоминания начинаются воспоминаниями о маслятах. <…> / Название это произошло от вида гриба или даже, вернее, от ощупи (В. Солоухин. Третья охота); (3) Мне нравится, что к нему [дому Ивана Ивановича] со всех сторон пристроены сени и сенички, так что если взглянуть на него издали, то видны одни только крыши, посаженные одна на другую, что весьма походит на тарелку, наполненную блинами, а еще лучше на губки, нарастающие на дереве (Н. Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем).
Для обозначения операции лексического выбора автор речи часто использует возможности градационных конструкций с союзами не только… но (а) и; не столько… сколько; не то что(бы)… а (но). Градационные конструкции выражают соединительную связь, осложненную иерархическими отношениями между однородными компонентами в простом (1), в сложном (2) предложении и даже на сверхфразовом уровне (3):
(1) Держал же он себя не то что благороднее, а как-то нахальнее (Ф. Достоевский. Братья Карамазовы); (2) Она коснулась животного и словно покинула пространство спальни – взгляд ее не то чтобы сделался бессмысленным, но он сфокусировался где-то вовне, за пределами здешнего мира. (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого); (3) После этого Мокер не то чтобы стал лентяем. Но ему категорически претили будничные административные заботы (С. Довлатов. Ремесло).
Метаязыковая функция градационной конструкции может быть подчеркнута дополнительными показателями: вводным словом (1), многоточием (2), вставкой, обосновывающей выбор слова (3):
(1) А пламя и правда, рвется, мечется, не то что столбом, а, сказать, деревом каким, вот как Окаян-дерево по весне: пляшет и гудит, крутит и клубится, а с места не сойдет (Т. Толстая. Кысь); (2) Такие обычно стоят на обочине трактов, на станциях, здоровые, не то что глупые, но… не интеллектуалки, смотрят на проезжающие машины, поезда и чего-то терпеливо ждут (В. Шукшин. Хмырь); (3) Именно этот взгляд вот уже несколько лет не то чтобы преследовал его – экие еще литературности! – но постоянно возникал в памяти… (Е. Клюев. Андерманир штук; курсив автора).
Для оформления операции «авторедактирования» часто используются конструкции с семантикой противопоставления, в которых первый член пары отвергается, а второй принимается говорящим. Являясь общеязыковой универсалией и охватывая всю языковую систему [см.: Милованова 2009], отношения противопоставления реализуются не только на уровне простого (1) или сложного (2) предложения, но и на сверхфразовом уровне – как смысловые отношения между предложениями в тексте (3):
(1) Эта женщина, очевидно, жила, окруженная не поклонниками – а рабами; она, очевидно, даже забыла то время, когда какое-либо ее повеление или желание не было тотчас исполнено! (И. Тургенев.
Степной король Лир); (2) – Это балаган Обиралова? – обратился к ней Ханов. / – Балаганы с петрушкой, а это киятры!.. Это наши киятры… (В. Гиляровский. Балаган); (3) Сознание этой власти («и возможность ее смягчить» – оговаривает Толстой <…>) составляли для него [Ивана Ильича] главный интерес и привлекательность службы. Что там привлекательность! – упоительность! (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг; курсив авторский).
Эти примеры демонстрируют не спор о денотате, а спор о названии. Например, в тексте И. Тургенева не обсуждается, были ли мужчины, окружавшие героиню, на самом деле свободными гражданами или рабами: оба выделенных слова обозначают один и тот же объект – обсуждается выбор одного из синонимических обозначений, то есть очевидна метаязыковая импликация: 'Точнее будет назвать этих мужчин рабами'. Метаязыковые высказывания, построенные по данному образцу, можно рассматривать как один из стилистических приёмов, основанных на использовании метаязыковых операций.
Следует отметить, что подобные конструкции лишь по формальным признакам можно отнести к противительным: функционально они близки к градационным (поскольку часто оформляют выбор обозначения, в большей степени выражающего актуальный признак: не поклонники, а рабы) и к уточняющим (поскольку указывают на выбор более точного обозначения, отвергая менее точное: не балаган, а театр).
К аналогам метаоператоров отнесем различные способы визуального «квантования» информации, например, использование формата списка, парцелляция, нестандартное абзацное членение. Ср.:
Предыдущее изложение должно было, кажется, показать, что в выбивании миллионов и в заселении ГУЛага была хладнокровно задуманная последовательность и неослабевающее упорство.
Что ПУСТЫХ тюрем у нас не бывало никогда, а бывали либо полные, либо чрезмерно переполненные.
Что пока вы в своё удовольствие занимались безопасными тайнами атомного ядра, изучали влияние Хейдеггера на Сартра и коллекционировали репродукции Пикассо, ехали купейными вагонами на курорт или достраивали подмосковные дачи, – а воронки непрерывно шныряли по улицам, а гебисты стучали и звонили в двери (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг).
К аналогам метаоператоров отнесем и некоторые лексические средства – слова и выражения, семантика которых благоприятствует использованию их в качестве средства метаязыковой оценки. Так, маркеры вопросительности что ли, как там и т. п. могут указывать на приблизительность и/или обобщенность метаязыковой характеристики. Ср.:
«Сегодня нет налицо революционной ситуации…» / – А что такое «ситуация»? – перебил Чубов. <…> / – <…> Ситуация – это положение, обстановка, что ли, – в этом роде. Так я говорю? (М. Шолохов. Тихий Дон).
Существуют слова и выражения, которые вне учета метаязыковой функции могут представляться избыточными. В то же время в целом ряде исследований находим замечания о метаязыковой функции тех или иных слов, оборотов, которые, по мнению специалистов, могут сигнализировать об имплицитной метаязыковой оценке. Так, Е. В. Огольцева обнаруживает свойства сигналов авторской рефлексии у некоторых единиц в сочетаниях с образно-компаративными дериватами – например, у неопределенных местоимений и наречий (что-то, какой-то, как-то), у частиц и наречий количественной семантики прямо, впрямь, буквально, решительно, почти, просто, чисто, так и, совершенно, совсем, чуть (ли) не и т. п. Ср.: в фигуре в самом деле есть что-то лошадиное; рожа <…> с узким лбом и какими-то тараканьими усами; как-то по-петушиному подпрыгнул и т. п. [Огольцева 2007: 426]. Подобные единицы акцентируют внимание на семантике и употреблении сочетающихся с ними слов, они «активизируют фантазию читателя, призывают его к сотворчеству, провоцируют поиск признаков-оснований сравнения и, следовательно, «достройку» всей компаративной структуры на основе предложенного образа» [Там же].
Целый ряд местоимений и наречий обладает способностью сигнализировать о метаязыковых контекстах. Так, наблюдения показывают, что разговорная формула всякие там может указывать на непрямое употребление существительного, с которым согласуется данное сочетание. Ср.:
<…> купили прилавок, холодильник и стали торговать съестным, так, ничего особенного – молочные продукты, масло, сыр, хлеб, пирожные, всякие там пепси и фанты (Г. Маркосян-Каспер. Кариатиды. НКРЯ); Журналисты – народ дотошный, может и найти. <…> Может быть, через таких же, как и он, балбесов пишущих? Через всякие там «Ассошиэйтед-пресс» и тому подобную белиберду (П. Галицкий. Опасная коллекция. НКРЯ).
Во всех приведенных примерах сочетание всякие там указывает на то, что следующее за ней выражение следует толковать в смысле метонимического расширения: всякие там N означает 'всё, что входит в ту же тематическую группу, что и N' (не только пепси и фанта, но и другие газированные напитки; не только «Ассошиэйтед-пресс», но и другие средства массовой информации). Исключение из фразы сочетания всякие там переводит высказывания в плоскость буквального понимания. Ср.: найти… через всякие там «Ассошиэйтед-пресс» ('через какие-либо СМИ')[53] и найти… через «Ассошиэйтед-пресс» ('именно через «Ассошиэйтед-пресс»') и т. п.
Наконец, отнесем к аналогам метаоператоров различные приемы нестандартного графического и орфографического оформления текста. Например, роль метапоказателя играет отступление от орфографической нормы. Так, сигналом метаязыковой рефлексии является менапрописных и строчных букв: ненормативное написание онима (имени собственного) с маленькой или апеллятива (нарицательного слова) с заглавной буквы. Такое написание является метаоператором, сигналом о том, что слово в данном случае получает некую семантическую модификацию. Ср.:
<…> самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам (Н. Гоголь. Старосветские помещики); <…> генерал Е. С. Птухин <…> говорил: «если б я знал – я бы сперва по Отцу Родному отбомбился, а потом бы сел!» (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг).
Содержание подобных семантических модификаций вполне конвенционально для автора и адресата, оно не требует специальной вербализации и носит характер «нерефлектирующей рефлексии»[54], то есть имеет статус языкового значения (ср. употребление выражения с большой буквы).
Метапоказателями являются различные способы экспериментирования с графикой и орфографией, которые активны во многих сферах современной коммуникации (в том числе – в поэзии [Зубова 2008], в интернет-общении [Гусейнов 2002; Сидорова 2007; Сидорова, Стрельникова, Шувалова 2009 и др.]) и свидетельствуют, по мнению специалистов, об эстетическом отношении к языку [Мечковская 2009: 485].
Один из косвенных сигналов рефлексии связан с нестандартным использованием графических выделений. Ср.:
Чтобы делать зло, человек должен прежде осознать его как добро или как осмысленное закономерное действие. Такова, к счастью, природа человека, что он должен искать оПРАВДАние своим действиям (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг).
Подобный прием описывается как графодеривация[55] [Попова 2008], среди разновидностей которой выделяется типографиксация – создание «неолексем» при помощи «суперсегментного средства, не являющегося собственно языковым, напр., выделение курсивом / полужирным / подчеркиванием или другим способом какой-либо части деривата, что приводит к актуализации некоторых смыслов, к перераспределению сем» [Попова 2008: 217]. И хотя в приведенном примере выделение сегмента ПРАВДА не приводит к созданию нового означающего, в определенном смысле здесь можно говорить об окказиональной деривации, так как слово оправдание претерпевает изменения: а) возникает новая, окказиональная, квазиморфемная структура слова, мотивированная эстетической задачей автора; б) устанавливаются (оживляются этимологические) связи со словом правда[56]. Импликативное метаязыковое суждение в данном случае может быть выражено следующим образом: 'В слове оправдание заключено слово правда', адресату понятно: оправдание – это превращение в правду, придание вида правды.
Графодериваты относительно редки в художественной прозе, в большей степени они характерны для речевых сфер и жанров, настроенных на активный языковой эксперимент, насыщенных приемами языковой игры: в поэзии [Зубова 2003; 2010; Суховей 2007; Николина 2003; 2009 а], текстах СМИ [Костомаров 1994; Ильясова 2002; Шишкарева 2009 и др.], в рекламе [Бударагина 2009; Попова 2009], в интернет-коммуникации [Сидорова 2007; Осильбекова 2009; Сидорова, Стрельникова, Шувалова 2009]. В сфере художественной прозы графодеривация маркирует фрагменты синкретичного (художественно-публицистического) характера (как в приведенном выше примере из «Архипелага ГУЛага») или используется как средство создания комического эффекта; ср.:
Было это в сорок шестом году. Ещё до реформы, жили на карточки. По писательским, литерным, выдавали чуть побольше. Я получил уже литеру «А». Литератор. Кроме того, были литер-бетеры и прочие кое-какеры (В. Некрасов. Саперлипопет).
Таким образом, система естественного метаязыка обогащается и за счет семантических потенций тех единиц и конструкций, которые мы назвали аналогами метаоператоров, то есть таких единиц и конструкций, для которых функция метапоказателя не является основной, однако они выполняют ее «по совместительству». Поскольку аналоги не в каждом употреблении выступают как метаоператоры, иногда бывает трудно определить, эксплицирована ли в данном конкретном случае метаязыковая операция или имеют место иные отношения между компонентами. Например, О. Н. Иванищева приводит как примеры толкований следующие фрагменты [Иванищева 2008: 90, 92]:
(1) Восемнадцати лет от роду, меня, первокурсницу, отправили на целину. То есть туда, где степь, ковыль, небо, звёзды, элеватор и зерно, зерно, зерно (Л. Миллер. И чувствую себя невозвращенкой. Мелочи жизни); (2) Пока что весь дом в моём распоряжении; если же летом они все-таки отважатся пустить дачников – какую-нибудь интеллигентную семью с детишками, – мне придётся следить за порядком из просторного мезонина с отдельным входом (М. Бутов. Свобода).
В первом примере фраза, связанная с предыдущей пояснительным союзом, может быть интерпретирована и как вид толкования – экспликация периферийных элементов семантики (Целина – это место, где есть степь… и т. д.), и как фрагмент распространяющего характера (Отправили на целину, а там степь… и т. д.). Однако во втором примере толкование, на наш взгляд, отсутствует вовсе (хотя конструкция уточнения в принципе может использоваться и для оформления дефиниции). Видимо, при квалификации того или иного высказывания как метаязыкового следует учитывать интенции субъекта речи. Так, семантизация слова может быть вызвана тремя видами авторского намерения: а) объяснить значение полностью или частично непонятного адресату слова; б) выразить индивидуальное представление о смысле слова; в) дать слову образное, «риторическое» определение[57]. Во втором из приведенных примеров коммуникативные условия не требуют семантизации слова дачники как непонятного адресату; здесь нет попытки дать субъективную, образную, риторически окрашенную дефиницию. Таким образом, при установлении факта использования синтаксической конструкции в качестве метаоператора следует учитывать конкретные коммуникативные условия, которые требуют или не требуют метаязыкового комментария.
Конструкции, обозначающие выбор способа обозначения (нет Na, а есть Nb; не…, а и т. п.), могут выражать и спор о денотате, и спор о наименовании, которое в большей степени соответствует сущности обозначаемого:
– Любовь, дева, луна, поэзия… – перебил Череванин. – На свете нет любви, а есть аппетит здорового человека; нет девы, а есть бабы; вместо поэзии в жизни мерзость какая-то, скука и тоска неисходная (Н. Помяловский. Молотов).
Первое суждение (нет любви, а есть аппетит здорового человека) можно интерпретировать как выбор обозначения для денотата, более адекватного его свойствам, а можно рассматривать и как спор «о мире»: существует ли в действительности любовь, или ее нет, а существует лишь физическая потребность. Второе суждение (нет девы, а есть бабы) в большей степени похоже на спор о названии, поскольку обозначения дева и баба применимы к одному денотату, но различаются коннотациями. А третье суждение (вместо поэзии в жизни мерзость какая-то) может быть только высказыванием «о мире».
Возможно, в подобных случаях и не следует стремиться к четкой квалификации высказывания как суждения «о мире» или суждения «о языке»: семантическая амбивалентность таких высказываний является в художественной речи особым средством экспрессии.
Итак, метаоператоры и их аналоги – это материально выраженные показатели акта метаязыковой рефлексии, которой подвергается тот или иной объект (используемое в тексте слово или выражение). В то же время возможны рефлексивы, в которых языковая единица подвергается оценке, но факт этой оценки не отмечен какими-либо материально выраженными сигналами. В таких случаях будем говорить о нулевых метаоператорах, которые также отнесем к косвенным сигналам метаязыковой рефлексии.
III. Нулевые метаоператоры. Под нулевыми метаоператорами мы понимаем отсутствие непосредственных (прямых или косвенных) метапоказателей при наличии импликаций – метаязыковых суждений. Ср.:
Между ними много так называемых у нас «глупышей», больших птиц с тонкими, стройными, пегими крыльями, с тупой головой и с крепким носом. В самом деле, у них глуповата физиономия (И. Гончаров. Фрегат «Паллада»).
В этом примере читатель без труда «расшифровывает» импликацию: 'Название птицы глупыш образовано от слова глупый, поскольку птица имеет глупый вид'. В то же время в тексте нет указаний на отношения словообразовательной мотивации между словами глупыш и глупый – эти отношения читатель обнаруживает, опираясь на свой языковой опыт, а автор, в свою очередь, рассчитывает на «понятливость» адресата [Федосюк 1998 а]. Поскольку в данном случае имеет место метаязыковое суждение (имплицитное, но легко восстанавливаемое), но нет материально выраженных показателей метаязыковой операции – установления деривационных отношений, – мы говорим о том, что здесь имеет место нулевой метаоператор[58]. В подобных случаях реализуется специфическое свойство языка – его способность «запечатлевать и передавать неявно выраженные, имплицитные знания, информацию и опыт, передавать и хранить больше, чем на это потрачено «средств»» [Рябцева 2005: 17].
Мы говорим о нулевых метаоператорах в следующих случаях: а) когда в тексте сталкиваются единицы, имеющие сходный план выражения; б) когда автор прибегает к намеренному нарушению языкового стандарта; в) когда в тексте используется прием реконструкции того или иного речевого стандарта (различные виды подражания).
Существует целый ряд типичных импликаций метаязыкового характера, которые читатель «прочитывает», основываясь на соположении в тексте единиц с похожим планом выражения. К этой группе рефлексивов с нулевыми метаоператорами отнесем контексты, в которых имеет место паронимическая аттракция (1), аллитерация (2), актуализация словообразовательных связей (3) – как правило, диахронических:
(1) Был Чурилин родом из Лебедяни, и помещала я его, в своем восприятии, между лебедой и лебедями, в полной степи (М. Цветаева. Наталья Гончарова); (2). поняв, что в них есть какой-то смысл, с интересом его проследил. Изнеможденный, счастливый, с ледяными пятками… он встал, чтобы потушить свет (В. Набоков. Дар)[59]; (3) Анна. Гляжу я на тебя. на отца ты похож моего. на батюшку. такой же ласковый… мягкий… / Лука. Мяли много, оттого и мягок (М. Горький. На дне); В размышлениях доктора Дарвин встречался с Шеллингом, а пролетевшая бабочка с современной живописью, с импрессионистским искусством. Он думал о творении, твари, творчестве и притворстве[60] (Б. Пастернак. Доктор Живаго).
В подобных случаях, по мнению М. Л. Гаспарова, наблюдается неразрывное единство двух процессов поэтического осмысления: «сближение слов по звуку и вслушивание в получившийся новый смысл» [Гаспаров 1997: 266].
В синтаксисе текста паронимическая аттракция интерпретируется как разновидность коннектора – это текстовый оператор, «организующий как план выражения, так и план содержания, рассматриваемых в их параллельности» [Северская, Преображенский 1989: 262]. Думается, в аспекте исследуемой проблемы наличие в дискурсе сближаемых паронимов (а также других видов сближения[61]) можно рассматривать и как метатекстовый оператор особого рода, поскольку в подобных случаях «мы имеем дело … с импликативным суждением: если есть звуковое сходство, то существует и смысловая близость» [Никитина, Васильева 1996: 105], «созвучность слов становится ручательством истинного соотношения вещей и понятий в мире» [Гаспаров 1997: 266].
В рефлексивах с нулевыми метаоператорами основанием для «выводного» знания служит единство трех факторов: а) пространственная близость[62] единиц в тексте, б) сходство их плана выражения и в) соотнесённость с содержанием текста. Однако в подобных случаях именно на реципиента возложена обязанность, во-первых, обнаружить намерение автора выразить метаязыковую оценку, а во-вторых, установить содержание этой оценки. Соположение в тексте формально сходных слов далеко не всегда свидетельствует о намеренном их сближении для выражения той или иной метаязыковой оценки, поэтому успешность восприятия и понимания рефлексива зависит от способности адресата к декодированию и от целого ряда обстоятельств, которые выступают как помехи или катализаторы адекватной интерпретации. Ср., например, сочетание черные чернила, которое не воспринимается носителями языка как тавтологическое – в силу невозможности избежать тавтологии и высокой частотности в «серьезных» жанрах речи. В большинстве контекстов это сочетание не возбуждает метаязыковых ассоциаций. Ср.:
Он пишет хокку исключительно черными чернилами, причем ученическим пером (С. Гандлевский. НРЗБ. НКРЯ) и т. п.
В других же контекстах обращает на себя внимание нарочитость тавтологии:
Над ними небо было черное, чернее чернил, и не было видно звезд (Б. Савинков (В. Ропшин). То, чего не было. НКРЯ); <.. > у нас непорядок со временем и есть ли смысл заниматься каким-то серьезным делом например чертить чертежи черными чернилами[63] когда со временем не очень хорошо <…> (С. Соколов. Школа для дураков. НКРЯ) и т. п.
О. И. Блинова, основываясь на данных обыденной мотивологии, отмечает, что наиболее достоверным показателем осознания словообразовательных связей слов являются высказывания, включающие в свой состав метаоператоры (Сильный ветер, снег метёт — и называют метель), а так называемые «характеризующие тексты», которые содержат «какую-либо характеристику обозначаемых ими предметов – по функции, свойству, признаку, использованию и т. п.» не свидетельствуют об осознании мотивационных отношений (например, В России у нас тоже метели сильные мели, а морозов таких, как здеся, не было и под.) [Блинова 2009: 232–233]. В самом деле, в «характеризующих текстах» не эксплицировано понимание говорящими словообразовательных связей между родственными словами[64]. В то же время наблюдение над художественными текстами показывает, что в них и при отсутствии метаоператоров (то есть при нулевых метаоператорах) возникающие «мотивационные сцепки» [Велединская 1997: 4] могут актуализировать (осознаваемые говорящими) отношения языковых знаков. Ср. подобные «сцепки» в текстах художественных произведений:
О, Марфа, Марфа! Ты печёшься о многом – оттого у тебя всё перепекается или недопечено… (М. Горький. Дачники) и т. п.
Если в рассмотренных примерах содержанием метаязыковой операции становится «сближение» – выявление семантической (структурно-семантической) связи между словами, то в рефлексивах другого рода осуществляется метаязыковая операция «отталкивания» – актуализируется то или иное различие языковых единиц при сходстве их означающих; ср.:
<…> сам я дорого бы дал, чтобы ко мне в голову хоть изредка приходили такие обороты, – такие обороты набирает лишь новехонький «Порш». г-жи Паникаровской (В. Платова. Ужасные невинные).
При частичном совпадении плана выражения словоформ, сопоставляемых в одном контексте, может актуализироваться метаязыковая информация о различии вариантов одной единицы: стилистических, социальных, хронологически отмеченных и т. п. Так, батюшка Петруши Гринева в своей речи (1) использует устаревший орфоэпический вариант слова, а рассказчик (2) употребляет современный ему, нормативный:
(1) Где его пашпорт? подай его сюда; (2) Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою (А. Пушкин. Капитанская дочка).
К метаязыковым контекстам с нулевыми метаоператорами мы относим и случаи намеренного отступления от языкового стандарта, которые обусловлены авторскими интенциями [Николина 2006 а: 423] и могут быть связаны с изображением речи персонажа. Ср.:
«Держи! держи! ташши скорее!» – раздавалось между тем у нас над головой. «Нет, постой ташшить! – кричали другие, – оборвется; давай конец!» (И. Гончаров. Фрегат «Паллада»).
Нарушения языковой нормы могут относиться и к речевому плану автора (рассказчика) или персонажа – носителя литературного языка. И. Н. Горелов и К. Ф. Седов подчеркивают: «Если образованный человек говорит «ну побегли» или «а куды мне вещи девать?», он знает, что «побегли» и «куды» – это отступление от нормы. Но именно осознание такого отступления, нарочитое смешивание литературной нормы и областных элементов делает игру игрой» [Горелов, Седов 2008: 188–189; выделено нами – М. Ш.]. Использование ненормативных единиц в таких случаях является одной из разновидностей языковой игры, которую многочисленные исследователи связывают непосредственно с метаязыковой рефлексией [Гридина 1996: 4; Санников 2002: 23; Сидорова, Стрельникова, Шувалова 2009: 445 и др.], поскольку языковая игра основана на преднамеренном нарушении нормы.
А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский отмечают, что целью языковой игры «является не передача информации, а затруднение понимания, приводящее – среди прочего – к концентрации внимания участников ситуации общения на самом языковом выражении, на границах и возможностях языкового воплощения смысла» [Василий Буй 1995: 299; выделено нами – М. Ш.]. Поэтому контексты, в которых реализованы те или иные приемы языковой игры, безусловно, могут интерпретироваться как рефлексивы, в том числе – рефлексивы с нулевыми метаоператорами, например, образование окказионализмов (1), отказ от традиционного графического (орфографического, пунктуационного) оформления текста (2) и т. п.:
(1) <…> проголодавшиеся девятидесятники даже не замечали, на чем им подавались вечные ценности – русская и зарубежная классика, <…>, православная и кривославная религия, а также дзен-буддизм, и последние достижения модернистской и постмодернистской западной научной мысли <…> (Е. Клюев. Андерманир штук); (2) кем быть? кем быть? мучительно говорил подросток семен. сверкнув лопастью в бледном свете зашедшего солнца валерий николаевич нахмурился давая понять всем остальным что валериан всеволодович допустил непростительную глупость <…> (В. Эрль. Август 1914-го).
Метаязыковые импликации в подобных случаях могут быть сформулированы следующим образом: 'Такого слова (выражения) не существует, оно придумано специально для данного случая, так как наилучшим способом передает нужное значение' или 'Это нарушение правила, но оно позволяет точнее выразить мысль'. Автор здесь, по выражению Б. Ю. Нормана, «как бы подмигивает нам: «Конечно, я знаю, что это неправильно, что так сказать нельзя, но мы-то люди взрослые и независимые, к тому же принадлежащие к одному кругу, а потому можем позволить себе вольность и сумеем по достоинству ее оценить» [Норман 2006: 9].
Наконец, последняя разновидность рефлексивов с нулевыми метаоператорами – это разнообразные подражания (воспроизведение того или иного речевого стандарта). Говоря о стилистической интерпретации «бытовых» жанров в художественной речи, В. В. Виноградов перечислил и основные способы такой интерпретации: «… новелла Бабеля «Соль» стилизует письмо «солдата революции» к «товарищу редактору»; новелла того же автора «Письмо» в авторской рамке перелагает письмо мальчика из экспедиции Курдюкова к «любезной маме Евдокии Федоровне». «Послание Замутия, епископа обезьянского» Евг. Замятина комически имитирует епархиальные реляции архиерея к пастве. «Записная тетрадь старого москвича» у Горбунова пародирует записную книжку бюрократа первой четверти XIX в.» [Виноградов 1980: 241; выделено нами – М. Ш.]. Таким образом, чужая речь (содержание, текст, слог, стиль) может воссоздаваться разными способами: а) переложение (пересказ), б) имитация, в) стилизация, г) пародирование. В основе такого воссоздания лежит рефлексия характерных черт конкретного текста или некоего «шаблона», по которому строится соответствующий тип текста.
При переложении (пересказе) внимание говорящего сосредоточено на содержании чужого текста, при этом импликации метаязыкового плана могут быть связаны с оценкой разных аспектов пересказа (фактическая точность, соответствие стилю оригинала, следование интенциям первичного текста и т. п.). Ср. попытку изложения израильской школьницей – дочерью эмигрантов из России – рассказа Л. Толстого «Сливовая косточка» (в интерпретации девочки – «Сливная костячка»). В этом случае объектом комического изображения служит полное непонимание смысла текста при более или менее приближенном к оригиналу воспроизведении фабулы:
Она долго думает, морщит лоб, ковыряет болячку на руке, выворачивая локоть, наконец говорит: / – В общем, там подняли хай из-за фруктов… Представляешь, считали, кто сколько съел! И папа сказал детям: «Дети мои! Или вы съели эту сливу? Или вы хотите через это хорошо получить? Не говоря уже об совсем умереть?…» (Д. Рубина. «…Их бин нервосо!..»).
Если объектом пересказа являются конкретные речевые произведения, то объектом имитации, стилизации и пародирования служат схемы, нормы, шаблоны, по которым создаются различные виды текстов [см., напр.: Николина 2004 б]. Имитация – это создание текста определенной жанровой принадлежности, включаемого в произведение как субтекст, не принадлежащий речевой партии автора: например, письмо Ваньки Жукова дедушке (А. Чехов. Ванька), вывески, рекламные объявления, газетные заметки советского города конца 1920-х гг. (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев) и т. п. Имитация – это создание вымышленного дискурса, который осуществляется в вымышленном мире художественного произведения, хотя и по законам, копирующим законы реального мира. При имитации имеет место имплицитное метаязыковое суждение типа 'Воспроизведенные здесь черты жанра являются для него типичными'.
Стилизация – это особый тип авторской речи, ориентированной на воспроизведение определенного литературного стиля и несколько отчужденный от собственного стиля автора [Долинин 1972: 419]. Стилизация осуществляется в рамках речевой партии автора и соотносится с реальным дискурсом – коммуникацией между автором и читателем. Поскольку «всякая подлинная стилизация. есть художественное изображение чужого стиля» [Бахтин 1975: 174], то содержанием метаязыковых импликаций при стилизации также является указание на узнаваемые черты изображаемого стиля.
При имитации и стилизации речевые шаблоны никогда не воспроизводятся с фотографической точностью, они скорее подвергаются «моделированию» [Гинзбург 1979], автор «точечно» обозначает наиболее яркие признаки жанра, стиля и т. п.
Пародирование отчасти сходно с имитацией и стилизацией, так как характеризуется отображением наиболее узнаваемых черт пародируемой речи [Дземидок 1974: 68; Бахтин 1975: 175–176; Лихачев 1977: 259 и мн. др.]. Отличается пародия установкой на комическую интерпретацию жанра, стиля, текста [Бахтин 1979 а: 258 и др.], поэтому пародируемые признаки часто подвергаются гротескному преувеличению (которое также служит сигналом метаязыковой рефлексии). Так, в повести А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу» есть своего рода приложение – якобы комментарий участника описанных событий (не самого повествователя) к тексту произведения. В этот комментарий включён словарь, который объясняет с «материалистических» позиций реалии «магического» мира. Некоторые словарные статьи несут в себе пародийный элемент: Вампир – см. Вурдалак. <…> Вурдалак – см. Упырь. И только слову упырь наконец дается объяснение. Для «серьёзного» словаря такие последовательные отсылки были бы недостатком, ошибкой составителя, поскольку отсылка должна даваться именно к той статье, где содержится толкование (Вампир – см. Упырь), однако само наличие словарных статей подобного типа – безусловная лексикографическая реальность. Пародия позволяет слегка утрировать эту реалию.
Таким образом, анализ рефлексивов в художественных текстах позволяет сделать вывод о том, что рефлексия о языке / речи как регулярная операция обыденного метаязыкового сознания и как функция языка располагает целой системой средств выражения, которые с разной степенью вербализации эксплицируют метаязыковые суждения.
Глава II «Наивная» лингвистика как система представлений и как технология
Одно слово, а сколько в нем всякой великой ерунды!
А. Покровский2.1. Взгляд на язык через призму обыденного сознания
Художественное произведение индивидуально и реализует личные представления и вкусы автора, в том числе языковые и метаязыковые. В то же время писатель является частью языкового коллектива, и его сознание – это часть культурного самосознания этноса, поэтому изучение метаязыковых суждений, вербализованных в художественных текстах, позволяет делать выводы о некоторых общих закономерностях метаязыковой рефлексии, свойственной рядовому носителю языка. Кроме того, обыденное сознание в литературном произведении может являться предметом непосредственного изображения – в тех случаях, когда метаязыковые суждения служат средством речевой характеристики обывателя (ср. примеры на с. 109).
Как показывает анализ рефлексивов в художественных текстах, обыденное метаязыковое сознание регулярно обращается к тем же единицам, конструкциям, свойствам языковых единиц, закономерностям речевого общения, которые находятся в фокусе внимания науки о языке. Так, в метаязыковых суждениях обсуждается феномен языка, выдвигаются гипотезы о его происхождении и факторах развития, высказываются мнения, соотносимые с проблематикой социолингвистики, психолингвистики, когнитивной лингвистики, лингвокультуроведения. «Наивные лингвисты» активно комментируют единицы языка, явления орфографии и пунктуации.
Хотя в основных чертах «конфигурация» обыденного метаязыкового сознания совпадает со структурой научного знания о языке, можно отметить и зоны принципиального несовпадения.
Во-первых, внимание к тем же фактам языка/речи, которые рассматривает и научное языкознание, не обеспечивает автоматически научной достоверности метаязыковых суждений «естественного лингвиста». Высказываемые писателями и персонажами оценки могут по-разному соотноситься с научным знанием: они могут быть точными и вполне корректными, но могут представлять собой искреннее заблуждение и даже намеренно сконструированный лингвистический миф. Для художественной речи, как уже отмечалось, важна чаще всего не научная правильность метаязыкового комментария, а его эстетическая мотивированность. Но и в обыденном общении оказывается важной эстетическая сторона речи. Проявления такой «эстетизации» речевого обихода могут выглядеть как мифотворчество или как языковая игра, заключающаяся в «перенаправлении» системно-языковых связей, например, установление новых отношений словообразовательной мотивации:
Остальные <… > могут сбегать в столовку на углу и скушать биточки, которые какой-то остряк так и назвал – уголовными (М. Мишин. Добро пожаловать, хозяин!).
Во-вторых, обращает на себя внимание диалектическое единство системности и асистемности изучаемого объекта: если коллективное метаязыковое сознание демонстрирует признаки системности, то для отдельной языковой личности нелингвиста характерно заполнение этой области сознания не системой взаимосвязанных фактов, а отдельными «маячками», некими ключевыми словами, которые образуют вокруг себя ассоциативные поля, в большей или меньшей (или в минимальной) степени соответствующие знаниям, полученным в период систематического обучения. При этом нечеткость метаязыковых представлений у «стихийного лингвиста» сочетается с высоким аксиологическим статусом как самого языка, так и знания о нем; ср.:
Я через полуоткрытую дверь каюты я слышу, как начштаба отчитывает молодого писаря. / – Слушай меня, Водоплясов! В русском языке есть слова. Их там много. Среди них попадаются глаголы и существительные. А есть прилагательные, понимаешь? А? И есть наречия, числительные, местоимения. Они существуют отдельно. <…> А когда их, эти самые слова, составляют вместе, получаются предложения, где есть сказуемые, подлежащие и прочая светотень. И все это русский язык. Это наш с тобой язык. У нас великий язык, Водоплясов! В нем переставь местами сказуемое и подлежащее – и появится интонация. Вот смотри: / «Наша Маша горько плачет» и «Плачет Маша горько… наша». А? Это же поэзия <…> А есть предложение в одно только слово. Смотри: «Вечереет. Моросит. Потемнело». Одно слово, а сколько в нем всякой великой ерунды! Ты чувствуешь? (А. Покровский. Мироощущение).
Однако интересны не только зоны несовпадения, но и точки соприкосновения «наивного» и научного осмысления языка. Выше отмечалось, что обыденное метаязыковое сознание, хотя и противопоставляется в гносеологическом аспекте научному знанию, но онтологически не изолировано от последнего. «Наивная» лингвистика, безусловно, «подпитывается» фактами науки – и в условиях получения образования, когда метаязыковая рефлексия личности формируется целенаправленно, и под влиянием популярных лингвистических идей, которые распространяются за пределы профессионального дискурса, переживая неизбежные трансформации. Так, в начале – середине XIX в. многие писатели высказывали соображения, навеянные популярными тогда идеями В. Гумбольдта о языке как духе народа, о так называемой «внутренней форме языка», которая предопределяет видение мира тем или иным этносом. Ср.:
Он очень здраво судил и об изучении языков, называя их гранью слова, ума, воображения, под которою та же самая вещь представляется в тысяче различных видах <…> и не в одной литературе, даже в философическом отношении, изучение языков полезно. Для ума наблюдательного вся история народа, всё развитие ума начертано в его языке, и часто простое слово, которое один человек употребляет в составлении речи, как наборщик свинцовую букву, даёт ему новую идею, внушает счастливое сравнение, оправдывает историческую догадку (А. Бестужев-Марлинский. Следствие вечера на Кавказских водах).
Интересны примеры, которые иллюстрируют «параллельное» осмысление лингвистической проблемы научным и обыденным метаязыковым сознанием. Так, внимание и ученых, и писателей привлекают лингвоспецифичные слова [см.: Зализняк, Левонтина, Шмелёв 2005: 10], к которым исследователи относят, среди прочих, слово ничего. Оно, по мнению лингвистов, ассоциируется в западноевропейской культуре именно с русским менталитетом. В европейской литературе существует целый ряд художественных произведений о русских, в названиях которых слово ничего встречается без перевода, в латинской транскрипции – Nichevo [Пфандль 2004: 92]. По мнению лингвиста, слово ничего – это «средство, к которому обращается простой русский в духовном и телесном страдании, в нищете и в беде» [Там же: 93]. Таким образом, слово ничего — как лингвоспецифичное, в интерпретации ученых – связано с идеей самоутешения, поиска моральной опоры в страдании. В. Гиляровский в очерке «Ничего» представляет «литературный портрет» данного слова, и в этом портрете акценты расставлены иначе: слово ничего – это не просто опора для страждущего, это – в понимании автора – свидетельство духовной силы народа:
Да, это великое слово, в нем неколебимость России, в нем могучая сила русского народа, испытавшего и вынесшего больше, чем всякий другой народ. Просмотрите историю, начиная с татарского ига, припомните, что вынесла Россия, что вытерпел народ русский, – и чем больше было испытаний, тем более крепла и развивалась страна. Только могучему организму – все нипочем! <…> Слабый будет плакать, жаловаться и гибнуть там, где сильный покойно скажет: – Ничего!
Часто обыденные суждения о языковых фактах совпадают с фактами научной рефлексии на более ранних этапах развития лингвистики. Так, суждения «естественного лингвиста», во-первых, о соответствии названия денотату, а во-вторых, об адекватности выражения мысли средствами языка коррелируют со способами рефлексии о языке, которые были свойственны языкознанию донаучного периода [см.: Барчунова 1989: 140–143]. Представление о «статичном» существовании языка, отрицание (осознанное или бессознательное) историзма, характерное для обыденного метаязыкового сознания, обнаруживалось исследователями в суждениях античных мыслителей о языке [см.: Тронский 1973: 51]. В целом ряде лингвистических трудов находим сведения о «наивной» интерпретации языковых фактов в различные периоды истории науки [см.: Античные теории 1936; Журавлев 2000; Клубков 2002 и др.]; налицо сходство положений «донаучной науки» и современных обыденных представлений о языке.
В некоторых случаях можно отметить «опережающий» характер метаязыковой рефлексии рядового говорящего по отношению к научно-лингвистической рефлексии: в художественных текстах обращается внимание на факты языка / речи, которые – на момент создания произведения – не стали еще предметом лингвистического исследования. В основном такие примеры фиксируются постфактум – с позиции сегодняшнего знания мы можем свидетельствовать, что нелингвист (в нашем случае – писатель) отметил некий факт, который впоследствии получил научную интерпретацию. Так, суждения авторов о национально-культурной специфике русского языка значительно опередили возникновение лингвокультурологии как научной дисциплины. Многие наблюдения социолингвистического характера также были описаны в художественных текстах гораздо раньше, чем наука заинтересовалась соответствующими социальными вариантами языка. Ср. замечания о существовании так называемого «семейного» языка, который стал изучаться лингвистами сравнительно недавно:
<…> у Левковича была дочь – девушка лет двадцати. Звали ее «Жанна д'Арк». <…> кучер «Игнатий Лойола» (в семье Левковичей всем давали исторические прозвища), а попросту Игнат, дернул за веревочные вожжи, и мы шагом поплелись в Чернобыль (К. Паустовский. Первый рассказ); Освободившись, еще до полной реабилитации, я переписал эти стихи в январе 1956 года в «Зеленую тетрадь» (так мы называем ее у нас в семье) (А. Жигулин. Черные камни).
Способность слова воздействовать на глубинные структуры сознания, изучаемая нейролингвистикой, давно не является секретом для обыденного метаязыкового сознания. В художественных текстах содержатся как общие рассуждения о «внушающих» свойствах речи (Человек внушаем, а значит, зависим от слов и мыслей. В. Маканин. Андеграунд…), так и характеристики отдельных слов с точки зрения соответствующих свойств: тёплые, волнующие, магические, зовущие и т. п.
«Наивная» лингвистика опередила научную и в постановке проблемы о будущем языка. В конце XX – начале XXI вв. оформляется особая область научного лингвистического знания – лингвистическая прогностика (лингвистическая футурология) [см.: Кретов 2006; Эпштейн 2000; 2006; Николаенко 2004; Сиротинина 2009; Шмелёва 2010 и др.]. Высказываются [напр.: Милославский 2009] и реализуются в виде различных проектов [ср.: Солженицын 1990; Проективный философский словарь 2003; Эпштейн 2006] идеи о сознательном регулировании развития русского языка, его обогащении при помощи целенаправленных усилий. Однако в художественных текстах гипотезы о возможных путях развития языка появлялись и ранее, хотя и высказывались в рамках специфического дискурса, описывающего ирреальный мир. Так, в «Туманности Андромеды» И. Ефремова высказывается мысль об отмирании языка в обществе, где нет необходимости скрывать свои мысли или прибегать к «жонглированию» словами:
<…> как многое из еще недавней культуры человечества уже отошло в небытие. Исчезли совсем столь характерные для эры Мирового Воссоединения словесные тонкости – речевые и письменные ухищрения, считавшиеся некогда признаком большой образованности. Прекратилось совсем писание как музыка слов, столь развитое еще в ЭОТ – эру Общего Труда, исчезло искусное жонглирование словами, так называемое остроумие. Еще раньше отпала надобность в маскировке своих мыслей, столь важная для ЭРМ. Все разговоры стали гораздо проще и короче. По-видимому, эра Великого Кольца будет эрой развития третьей сигнальной системы человека, или понимания без слов.
Ср. также юмористический прогноз М. Мишина (Период полураспада. 1986) о редукции тематических групп лексики, обозначающей продукты питания, или картину «китаизации» русского языка в романе В. Сорокина «Голубое сало».
Специфика «естественного» взгляда на язык проявляется не только в выборе объектов рефлексии, но и в стратегиях метаязыковой интерпретации, которые могут быть названы обыденными лингвистическими технологиями. Отметим наиболее характерные особенности этих технологий.
Так, обыденное метаязыковое сознание стремится к упрощению своего объекта и способов его интерпретации, которое проявляется, например, в неразличении устной и письменной речи (1), в нечётком разграничении, а иногда и намеренном отождествлении языкового выражения и его означаемого (2), в неразличении языковой материи и метаязыковых установлений (3):
(1) Значить, – он произнес слово с мягким знаком на конце (С. Юрский. Теорема Ферма); (2) И всякая хозяйка дома, получившая приличное воспитание (неприличное, впрочем, кажется, никому и не дается[65]), справится с этим делом без особого труда (Н. Тэффи. Предпраздничное); (3) – Почему ты слово «товарищ» пишешь с мягким знаком? / – Это глагол второго лица, – ответил без смущения Филька. / – Какой глагол, почему глагол? – вскричала учительница. / – Конечно, глагол второго лица, – с упрямством ответил Филька. – «Товарищ! Ты, товарищ, что делаешь?» Отвечает на вопрос «что делаешь?» (Р. Фраерман. Дикая собака Динго…).
В последнем случае говорящий не различает так называемый «грамматический» вопрос к глагольной форме и вопрос как речевой акт.
Упрощенное представление о языке проявляется как «доверие» к плану выражения языковой единицы. Так, обсуждение общего означающего у разных означаемых, как правило, не требует разграничения омонимии и полисемии – одинаковый план выражения соотносится с презумпцией единства слова, которое имеет разные значения. Ср. у Ф. Кривина:
(1) как много в этом случае зависит от одной приставки: ввести в расход совсем не то, что вывести в расход; (2) Как-то в поликлинике даже медсестра заикнулась о том, что она с утра до вечера вкалывает, но в ее устах это прозвучало неубедительно, потому что вкалывала она в буквальном, первоначальном значении этого слова (Хвост павлина; выделено автором).
В первом примере речь идет о приставке как смыслоразличителе – омонимия существительных во внимание не принимается. Во втором случае говорится о разных значениях слова вкалывать, хотя на самом деле приводятся примеры омонимов. Очевидно, что в подобных случаях «стихийного лингвиста» не интересует степень семантического расхождения означаемых и разграничение полисемии и омонимии, ему достаточно упрощённой трактовки: слово – одно, а значений несколько. Даже использование термина «омонимы» не гарантирует, что говорящей отличает омонимию от многозначности; ср.:
<…> наша юная речь почти не различает оттенки омонимов. Во-первых, «работа» – это труд вообще: «надо работать». Затем «работа» – это оценка труда, не разделяющая процесс производства и конечный результат: так говорят, скажем, крестьяне о поставленной избе или сложенной печи – «ладная работа». На советском волапюке слово «работа» приобрело еще и значение «служба», а в лагерном варианте возникло и множественное число – «выводить на работы». Можно сказать «работа», имея в виду конечный продукт: так говорят, скажем, о картине на выставке или о научной статье (Н. Климонтович. Последняя газета).
В данном случае приводятся примеры как раз не омонимов, а лексико-семантических вариантов многозначного слова работа.
Следствием «доверия» к плану выражения выглядят и случаи установления псевдоэтимологических связей между словами, которые демонстрируют внешнее сходство при значительной семантической дистанции. При этом трансформированное слово оказывается для говорящего формально мотивированным, но не имеет семантической связи с новым производящим:
У Юрия Андреевича были помощники, несколько новоиспеченных санитаров с подходящим опытом. Правою его рукою по лечебной части были венгерский коммунист и военный врач из пленных Керени Лайош, которого в лагере звали товарищем Лающим… (Б. Пастернак. Доктор Живаго).
Трансформированное имя Лающий имеет привычную для партизан форму выражения, однако выбор нового производящего обусловлен лишь случайным фонетическим сходством.
Также проявлением «доверия» к плану выражения выглядят поиски семантических связей между парономазами и паронимическая аттракция. При этом формальная близость языковых выражений заставляет «наивного» лингвиста предполагать и доказывать их смысловую и/или генетическую близость:
Итак, простоволосая и простушка, потому что совсем рядом с этими словами стоит слово «проститутка», и она и есть она (Л. Петрушевская. Дочь Ксении).
Представление о неслучайности, мотивированности плана выражения делают актуальными поиски обыденного метаязыкового сознания в области фоносемантики:
В звуке «ы» слышится что-то тупое и склизкое… Или я ошибаюсь?.. <… > Все слова на еры тривиальны до безобразия: не то «и»; «и-и-и» – голубой небосвод, мысль, кристалл; звук и-и-и вызывает во мне представление о загнутом клюве орлином; а слова на «еры» тривиальны; например: слово рыба; послушайте: р-ы-ы-ы-ба, то есть нечто с холодною кровью… И опять-таки м-ы-ы-ло: нечто склизкое; глыбы – бесформенное: тыл – место дебошей…» (А. Белый. Петербург) и т. д.
Обыденное метаязыковое сознание в высшей степени «практично» – это проявляется в постоянном «контроле» за свойствами языка, которые обеспечивают пользователю удобство (в значении английского usability) при употреблении этого языка. В метаязыковом сознании рядового носителя существует, видимо, некая презумпция комфортности (функционального удобства) языка, согласно которой языком должно быть «комфортно» пользоваться. Такая презумпция основана на ощущаемой языковой личностью антропоцентричности языка: язык существует для того, чтобы обслуживать коммуникативную и познавательную деятельность человека, а потому может и должен оцениваться в соответствии с тем, насколько он «справляется» с этой задачей, насколько удобен он в использовании, насколько он изоморфен интеллекту и деятельности человека. В связи с этим говорящий субъект чутко реагирует на малейшие признаки языкового «дискомфорта».
К замечаемым носителями явлениям дискомфорта можно отнести, прежде всего, общепризнанное функциональное несовершенство языка, которое не даёт гарантии адекватной передачи мысли словом:
<…> до сих пор для меня самое большое мучение, что еще ни разу, ни единого, не выразил я что-либо точно, на том пределе, который ощущал, и где-то глубоко у подножия мысли барахтаются мои слова… (А. Битов. Моя зависть); Боже мой, Елена Владимировна! Как будто человек может сказать, о чем он думает! Мысль настолько шире слов, что когда ее выражаешь, то кажется, что врешь (Ю. Визбор. Завтрак с видом на Эльбрус).
Высокая регулярность подобных рефлексивов, повторяемость аналогичных идей в художественной прозе, поэзии, философском дискурсе позволяет предположить наличие соответствующей универсалии метаязыкового сознания.
Кроме указанного общего несовершенства языка авторы отмечают и более частные случаи «неудобства» и «нелогичности» языка. Как «лингвистический дискомфорт» воспринимается немотивированность слова, поэтому носителю языка свойственно стремление не только найти «затемнённую» внутреннюю форму слова, но и «приспособить» эту внутреннюю форму к актуальной коммуникативной задаче (в художественном тексте – к идейно-эстетическому замыслу произведения). Ср. пример ложной этимологии, которая «адаптирована» к характеристике персонажа:
<…> к имени Святополка прилипло прозвище – Окаянный. В нашей речи это слово явилось недавно, с распространением христианства, происходя от ветхозаветной повести об убийстве Авеля братом Каином. Кратко, точно: окаинился, окаянный <…> Страх и отчаяние суть дороги раскаяния. Раскаяние тоже было новеньким словом, по-русски отчеканенным из Каина: широта русской мысли не могла ограничить себя одним направлением – окаиниться. Требовалось второе, обратное, – раскаиниться, раскаяться (В. Иванов. Русь Великая).
Еще одним «неудобством» выглядят лакуны в языковой системе. Специалисты отмечали, что «обнаружить лексические лакуны в своем родном языке гораздо труднее, чем в языке чужом» [Федосюк 2008: 42], однако напряженное внимание к языку как «рабочему инструменту» позволяет авторам художественных текстов фиксировать наличие лакун, указание на которые – один из постоянных мотивов в русской литературе. Автор (или персонаж) стремится «нейтрализовать» лакуну, создать по существующим в языке моделям слово для адекватного выражения своих мыслей:
<…> на протяжении всей этой книги испытываем мы затруднение: как вообще их называть? <…> Вполне в духе языка было бы слово лагерщики: оно так же отличается от «лагерника», как «тюремщик» от «тюремника» и выражает точный единственный смысл: те, кто лагерями заведуют и управляют[66]. Так, испросив у строгих читателей прощения за новое слово (оно не новое совсем, раз в языке оставлена для него пустая клетка), мы его от времени ко времени будем употреблять (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг).
Для ощущения языкового и коммуникативного «комфорта» говорящему необходимо ощущать соответствие означающего означаемому. Нарушение такого соответствия непременно подвергается комментированию:
Привалов как-то избегал мысли, что Надежда Васильевна могла быть его женой. <…> Жена – слишком грубое слово для выражения того, что он хотел видеть в Надежде Васильевне. Он поклонялся в ней тому, что было самого лучшего в женщине (Д. Мамин-Сибиряк. Приваловские миллионы).
Потребность в языковом «комфорте» отчасти уходит корнями в первобытное сознание с его неконвенциональным отношением к слову как неотъемлемой части самой вещи и, следовательно, инструменту магических действий [Мечковская 2000: 24–26]. Кроме того, стремление к обязательному соответствию имени и денотата, возможно, подкрепляется и практикой школьного обучения, в ходе которого «сближение и отождествление языка с правилами металингвистического типа неизбежно порождает у школьников представление о «правильности» языка» [Голев 1997]. Любое отклонение от этой абсолютной «правильности» служит своеобразным сигналом неблагополучия и становится стимулом для метаязыковой рефлексии.
Все отмеченные особенности обыденных лингвистических технологий (стремление к упрощению объекта, доверие к плану выражения, практическая направленность, презумпция антропоцентричности и комфортности языка) последовательно реализуются в таком интегральном и системообразующем свойстве обыденного метаязыкового сознания, как его мифологичность – анализу этой стороны «наивной» лингвистики посвящен в книге отдельный параграф (см. § 3.3).
Говоря об особенностях обыденной лингвистики, необходимо коснуться и специфики ее метаязыка. Э. В. Колесникова настаивает: «В изучении и описании нуждаются не только суждения наивного носителя о языке, но и сам метаязык, на котором эти суждения высказываются. Несмотря на незнание лингвистических терминов или неумение ими пользоваться, наивный носитель может, тем не менее, охарактеризовать языковое явление абсолютно верно» [Колесникова 2002: 129].
«Термины» обыденной лингвистики можно условно разделить на три группы. Первая группа включает общеупотребительные метаязыковые обозначения, о которых обычно говорят в связи с «нерефлектирующей рефлексией»; это слова, в которых закрепились «наивные» представления о языке (слово, рассказ, значение, говорить, возражать, немногословный и т. п.) и которые пришли в метаязык лингвистики из общенародного языка.
Вторая группа «терминов» обыденной лингвистики – это обозначения, заимствованные из научной лингвистики: синонимы, орфография, подлежащее, инфинитив и т. п.[67] В языке «стихийного лингвиста» эти единицы могут употребляться в полном соответствии с их терминологическим значением (1), но могут использоваться некорректно (2):
(1) Человек с тонкой шеей сказал: – Значит, жизнь победила смерть неизвестным для меня способом. (В черновике приписка: жизнь победила смерть, где именительный падеж, а где винительный) (Д. Хармс. Случаи); (2) – Хвалынцев? – вскинула она на него улыбающиеся глазки, не прибавя к его имени обычного прилагательного «господин». / – Хвалынцев, – подтвердил ей студент с поклоном (В. Крестовский. Панургово стадо).
В художественных текстах встречаются достаточно многочисленные примеры, когда языковедческие термины используются в ином значении, нежели закреплено за ним в лингвистическом дискурсе. Так в сочетании литературный язык прилагательное литературный может представлять собой семантически «пустой» эпитет: сочетание литературный язык используется как устойчивое, неразложимое сочетание, имеющее то же значение, что и слово язык; ср.:
В таких мыслях хромаю до номера цвай унд цванциг, что в переводе с немецкого литературного языка означает двадцать два <… > (В. Рецептер. Узлов, или Обращение к Казанове. НКРЯ).
В приведенном примере вовсе не утверждается, что числительное цвай унд цванциг маркировано в немецком языке как «литературное» – здесь явно избыточный эпитет используется для орнаментации речи, своеобразного балагурства.
Еще более показателен в этом отношении пример, приводимый С. Довлатовым (Зона): услышав, что вохровец употребляет грязное ругательство с неправильным ударением, заключенный его поправил: …такого слова в русском литературном языке, уж извините, нет… – и привел «правильные» варианты. Утверждая, что такого слова в русском литературном языке нет, заключенный вовсе не подразумевает, что другие предлагаемые им обсценные глаголы в литературном языке есть. Очевидно, что слово литературный в обоих случаях лишено не только строго терминологического смысла, но и какого-либо самостоятельного значения вообще. Оно несёт специфическую прагматическую нагрузку: меняет интонационный рисунок фразы (ср. перевод с немецкого и перевод с немецкого литературного языка; в русском языке нет и в русском литературном языке, уж извините, нет) и становится средством выдвижения. Таким образом, использование определения литературный – это способ сделать высказывание игровым (первый случай) или подчеркнуто категоричным, придать ему характер неоспоримого (второй случай), то есть данный эпитет выступает здесь как средство выражения субъективно-модальных значений.
Встречающееся регулярно в текстах выражение человеческий язык имеет более широкий репертуар значений, нежели в лингвистическом дискурсе. Во-первых, как и в специальных текстах, в обыденном метаязыке данное сочетание может обозначать естественный язык вообще (1) или язык человека в противопоставлении «языку» животного (или вымышленных существ) (2):
(1) Наверное, нету слова на человеческом языке, которое значило бы столь совершенно разное и даже непохожее, как эта «любовь» (Ф. Кнорре. Каменный венок. НКРЯ); (2) А вот Мишка – пастух, который с коровами говорит на коровьем, не похожем на человеческий, языке, по-человечески говорит с трудом, – нашел в лесу землянку <… > (Б. Пильняк. Мать сыра-земля).
Кроме того, сочетание человеческий язык обозначает уважительную, без агрессии манеру общения (3), указывает на перевод высказывания на «язык смысла» (4), служит средством усиления, экспрессивного подчеркивания (5) и называет особую разновидность языка – обыденную, повседневную (6):
(3) И был теперь Андрей Колчагин на виду, – все пути ему открыты; не серый солдат, один из тысяч и миллионов, а избранная единица, с которой говорят человеческим языком, которую величают товарищем (М. Осоргин. Сивцев Вражек); (4) – Я тогда был зелен, как огурец. Когда при мне говорили: «Он просил у нее руку и сердце», – я и не предполагал, что в переводе на человеческий язык это только и означает: «Поспим вместе» (А. Мариенгоф. Бритый человек. НКРЯ); (5) Ну что вы глядите, чисто пуганая? Говорю вам человеческим языком, надо итить (Б. Пастернак. Доктор Живаго); (6) На языке науки это называется смещенным действием, а на человеческом языке — жестом смущения. Большинство моих знакомых в случае замешательства, в ситуации любого душевного конфликта делают одно и то же – достают сигареты и щелкают зажигалкой (П. Крусанов. Другой. НКРЯ).
Изучение обыденной лингвистической «терминологии» имеет, помимо теоретического, и очевидное прикладное значение. Можно обратить внимание на лексикографические последствия такого изучения. Большое количество примеров использования терминов в нетерминологическом значении заставляет говорить не просто об употреблении, отступающем по тем или иным причинам от лексической нормы, но о существовании этих нетерминологических значений как явления узуса. В то же время такие значения в общих толковых словарях русского языка, как правило, не фиксируются. Толковый словарь, адресованный широкому кругу читателей, представляет собой «модель наивного языкового сознания», поскольку «толкование в нем … максимально приближено к тому, как склонны понимать то или иное слово обычные носители русского языка» [Фрумкина 2001: 44]. Отсюда следует, что и в толковании слов, которые являются терминами, необходимо учитывать возможное наличие у них нетерминологических значений.
Иллюстрацией к данному положению может служить анализ употребления слова диалект в художественных текстах. В литературе XIX и даже начала XX века практика употребления термина диалект несколько отличалась от современной. Обратимся к следующему фрагменту:
Марфа встретила его ревнивыми упреками на прелестном малороссийском диалекте (А. Осипович (Новодворский). Мечтатели).
«Среднестатистический» читатель, обратившись за справкой к толковым словарям, которые принято называть «массовыми» [см.: БТС; СОШ; ТСП и под.], не обнаружит там иного значения лексемы диалект, кроме терминологического (с соответствующей пометой): «ДИАЛЕКТ <…> Лингв. Местное наречие, говор. Рязанский д. Северные диалекты» [БТС: 257]. У такого неискушенного читателя может сложиться впечатление, что автор квалифицирует украинский (малороссийский) язык как диалект русского, а не как самостоятельный язык. Однако, при всей кажущейся недвусмысленности формулировки малороссийский диалект, ответ на этот вопрос далеко не так прост. Исследователи неоднократно указывали на возможные ошибки в понимании и интерпретации текста, которые возникают в результате «доверия» к единственному контексту [см., напр.: Добродомов 2009; Добродомов, Шаповал 2007], поэтому для выяснения семантики слова диалект следует рассмотреть большее количество примеров.
Довольно часто в литературе XIX – первой трети ХХ вв. термин диалект используется применительно к французскому языку:
Носились, распространяя аромат духов и звуки французского диалекта, веселые пары (Г. Данилевский. Воля. НКРЯ); Она уж очень чувствительна и все говорит на французском диалекте (И. Панаев. Опыт о хлыщах).
Обозначение французского языка как диалекта находим во множестве произведений русской литературы XIX века: «Мертвые души» Н. В. Гоголя, «Однодворец Овсяников», «Месяц в деревне», «Новь» И. С. Тургенева, «Приезд ревизора» М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Село Степанчиково и его обитатели» Ф. М. Достоевского, «Приваловские миллионы» Д. Н. Мамина-Сибиряка и др.
Слово диалект в художественных текстах XIX века используется и по отношению к другим языкам:
Как вправду говорили Вы, братец, что я по-французскому начну. Только сей миг вспомнила, что обещание Вам дала писать на российском диалекте (Б. Садовской. Из бумаг князя Г. НКРЯ); <…> хозяйка-чухонка <…> испугалась, испустила какое-то восклицание на своем непонятном диалекте и послала девочку за доктором (В. Гаршин. Художники. НКРЯ); Ну, был бы просто дурак на русском языке, а то дурак на французском, дурак на немецком, дурак на итальянском, легко вымолвить – дурак на четырех диалектах! (М. Загоскин. Москва и москвичи) и мн. др.
Таким образом, в текстах XIX (и начала XX вв.) этот метаязыковой термин оказывается лишённым семы 'ограниченное употребление' и используется как абсолютный синоним термина язык.
В словаре под редакцией Д. Н. Ушакова приводилось с пометой устар. и шутл. второе, нетерминологическое значение слова диалект: «То же, что язык, речь» [СУ]; в так называемых «Большом академическом» [БАС-17 и БАС-20] и «Малом академическом» [МАС] словарях давалось второе значение 'язык', с дополнением (в БАС): «обычно иностранный». В современных же массовых словарях значение 'язык' для слова диалект не приводится. Вероятно, оно сочтено составителями словарей устаревшим, а потому недостаточно актуальным для современного читателя, однако изучение практики обыденного употребления[68] слова диалект позволяет найти аргументы в пользу сохранения в словарях указания на это значение: не только высокая частотность данного лексико-семантического варианта в текстах XIX – первой трети XX вв., но и сохраняющаяся традиция метафорического употребления слова, при котором актуализируется семантическая «платформа» 'язык', а не только сема ограниченного употребления.
Третья группа «терминов» обыденной лингвистики представляет собой слова и выражения, лишенные метаязыкового значения, но приобретающие такое окказиональное значение в составе рефлексивов. Ср.:
Некоторые родители уходу ЗА ребенком предпочитают уход ОТ ребенка. Лицемерно похожие существительные – уход и уход, но зато – ЗА и ОТ – откровенно различные предлоги. Когда молчат существительные, говорят служебные слова (Ф. Кривин. Хвост павлина; разрядка авторская); Глупые у меня названия были – «Полчаса чудес», «Фокусы, изжившие себя». – все «с отношением», а зачем оно – отношение? Не надо мир обольщать – и воевать с ним не надо, надо вот так: ассорти. (Е. Клюев. Андерманир штук) и т. п.
Особенно многообразны способы обозначения различных видов маркированности слов – устаревших (1), разговорных (2), узуальных (3), обладающих положительными (4) или отрицательными коннотациями (5) и т. п.:
(1) Наречия «грешно» или «благородно» пахнут сыростью графских развалин. Попытки реанимации не удаются (М. Мишин. Период полураспада); (2) [Словари] совершенно не выражают разнообразия будничной лексики (С. Довлатов. Переводные картинки); (3) Слово «милосердие» пестрит и мелькает, но приживается пока лишь в смысле: пусть скажут спасибо, что вообще не убили (М. Мишин. Период полураспада); (4) Как волшебная музыка звучало для маленького мальчика слово «поход» <…> (А. Варламов. Купавна). (5) К счастью обнаружилось, что гражданская война не причинила разрушений всем основным централам или острогам. Не миновать только было отказаться от этих загаженных старых слов (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг).
Термины первой группы именно как единицы «естественного» метаязыка получали освещение в целом ряде лингвистических работ [см., напр.: Язык о языке 2000; Демьянков 2001 и некот. др.]; семантика и функционирование терминов второй и третьей группы в обыденном метаязыке пока не становились предметом специального исследования. Изучение «естественной» терминологии как части метаязыка представляется перспективной задачей теории обыденной лингвистики.
Обратимся теперь к более детальному анализу отдельных «наивных» представлений о языке, воплотившихся в художественной литературе. В этой части работы в качестве иллюстративного материала нередко привлекаются произведения так называемой массовой литературы (в том числе выбранные из Национального корпуса русского языка): в этих текстах достаточно наглядно отразилось современное общественное метаязыковое сознание.
Обыденные метаязыковые представления реализуются в текстах как в форме эксплицированных суждений, так и в виде «подразумеваемой базы высказывания», то есть в виде «пресуппозиций, коннотаций, «фоновых» представлений и т. п.» [Шмелёв 2009: 37], поэтому мы прибегнем а) к интерпретации вербальных метаязыковых комментариев и б) к реконструкции «фоновых» представлений.
2.2. «Стихийная» социолингвистика
Одной из составляющих обыденного метаязыкового сознания является представление о формах и социокультурных вариантах языка, о разнообразии языковых образований (идиомов) и их соотношении. Подобное представление позволяет языковой личности ориентироваться в доступном ей арсенале языковых средств, варьировать используемый языковой инструментарий адекватно конкретным коммуникативным условиям.
В научной социолингвистике сложилось представление о русском общенациональном языке, основным вариантом которого выступает литературный язык, противопоставленный территориальным и социальным диалектам. Среди социальных диалектов выделяют городское просторечие, профессиональные жаргоны, молодёжный жаргон (сленг) и групповые жаргоны (арго) [см., напр.: Крысин 1989: 32–79]. Внутри литературного языка существенным является противопоставление кодифицированного языка (характеризующегося стилевой дифференциацией) и некодифицированной литературной разговорной речи. Эта общая схема в различных исследованиях может варьироваться [напр.: Бондалетов 1987: 66–74; Мечковская 2000: 33 и др.].
Представление рядового носителя о «наборе» вариантов языка и их соотношении, видимо, должно отличаться от научной модели, как, например, отличается принцип расстановки книг в домашней библиотеке от принципа размещения единиц хранения в библиотеке научной. Подобное предположение согласуется с тезисом о том, что для обыденного сознания характерна высокая степень прагматичности, под которой в данном случае понимается детерминированность метаязыковых представлений практическим опытом дискурсивной деятельности.
Для обыденного метаязыкового сознания не характерна понятийно-терминологическая чёткость, к которой стремится научный дискурс. Метаязыковые операторы, используемые рядовыми носителями языка, довольно регулярно не совпадают в своём значении с соответствующими лингвистическими терминами, что следует учитывать при анализе.
В ряде случаев для обозначения тех или иных социальных вариантов языка говорящий использует термин язык с конкретизирующими распространителями:
Мы плыли по течению, и мы «доплывали», как говорят на лагерном языке (В. Шаламов. Колымские рассказы); Я не имел понятия о том, что слово «лабух» означает «музыкант». На особом и тайном лабухском языке, который изобрели музыканты, чтобы на нем разговаривать между собой и понимать друг друга, а их чтобы никто не мог понять (А. Рекемчук. Мальчики).
Рядовыми носителями регулярно используются для обозначения разновидностей языка и термины с более узким значением.
Например, слово сленг в рассматриваемых текстах демонстрирует более широкие возможности семантического варьирования, нежели в научном дискурсе. Так, под сленгом может пониматься: грубоватый язык, отличный от литературного (то же, что просторечие в строгом терминологическом смысле) (1), грубая речь, допускающая обсценизмы (2), манера, стиль речи, отличные от повседневной, разговорной (3), язык небольшой социальной группы, в частности – семейный язык (4):
(1) Строительство трубы, по существу, приостановлено. Банковские деньги, извини за сленг, раздрючены (С. Данилюк. Бизнес-класс. НКРЯ); (2) Смотреть невыносимо. Я и не смотрю: лежу и слушаю сленг играющих Сашек – их мрачные мать-перемать, если мало козырей или карта идет не в масть (В. Маканин. Андеграунд, или герой нашего времени); (3) Как расколоть его защитный панцирь? Юмор не проходит – сразу насторожится. Только на официальном строгом языке, к какому он привык. Любая чушь на казенном сленге дойдет до него прямо, как наркотик в вену… (Р. Солнцев. Полураспад.); (4) Нина точно знала, как и когда накрывать стол. За семь лет семейной жизни у них выработался определенный внутрисупружеский сленг. «Подсуетись» – это значит важный деловой разговор под рюмку водки и еда без особых изысков и излишеств, чтобы голодный не умер с голоду, а сытый не умер от переедания (Е. Козырева. Дамская охота).
При этом одно и то же языковое образование в «естественном» метаязыке может именоваться при помощи «смежных» терминов. Ср. употребление терминов сленг – жаргон – диалект – просторечие для обозначения профессионального жаргона:
– Амба, говоришь, в розыске? / – Ага, по нескольким «висякам» проходит, – подтвердил Кострецов, называя на служебном жаргоне нераскрытые уголовные дела (В. Черкасов. Чёрный ящик. НКРЯ); – Мы предлагаем вам перейти в Управление по борьбе с терроризмом. На сленге оперов, просто БТ (А. Михайлов. Капкан для одинокого волка. НКРЯ); Я в это время был в Особом лагере. И познавал иные науки, в том числе лагерные слова и диалекты (А. Жигулин. Обломки «Чёрных камней»); Модернизированная кассетная СС-21, в просторечии СС-очко, и впрямь кого хочешь могла успокоить (В. Маканин. Однодневная война).
Очевидно отсутствие равенства между научным понятием «просторечие» и содержанием этого слова в обыденном метаязыковом сознании. В отечественной стилистике и социолингвистике термин просторечие закрепился в двух основных значениях: «…с одной стороны, просторечием называют совокупность стилистических средств сниженной экспрессии, с другой – имманентно нейтральные с точки зрения стилистики и не закрепленные территориально особенности речи лиц, не владеющих в необходимой мере нормами литературного языка» [Городское просторечие 1984: 3]. Итак, для лингвиста существуют просторечия – «сниженные, грубоватые элементы в составе самого литературного языка» [Там же: 5] – и так называемое городское просторечие – «ненормированная, социально ограниченная речь горожан, находящаяся за пределами литературного языка» [Там же]. В научной модели языка просторечие как социальный вариант противопоставляется не только литературному языку, но и некодифицированной литературной разговорной речи [Мечковская 2000: 33]. Носителями просторечия выступают «горожане по рождению или лица, долго живущие в городе, но не владеющие совсем или не овладевшие полностью литературными языковыми нормами» [Земская, Китайгородская, Ширяев 1981: 23].
Однако в материале, которым мы располагаем, примеры употребления термина просторечие в значении, которое закрепилось в социолингвистике («ненормированная, социально ограниченная речь горожан, находящаяся за пределами литературного языка»), составляют лишь небольшую часть. Ср.:
Ефим <… > обязан проводить в жизнь свои планы чужими руками и из-за чьей-нибудь спины. То есть использовать для крупных дел нелегалов, <… > а по мелочам – личностей, именуемых в просторечье «стукачами» (В. Скворцов. Каникулы вне закона); <…> Кинотеатр повторного фильма, в просторечии «Повторка» <…> (Н. Климонтович. Далее – везде).
При том, что содержание понятия «просторечие» в научном и обыденном метаязыковом сознании, как правило, различно, сам термин просторечие демонстрирует в современной литературе высокую активность. Под просторечием может пониматься:
а) обиходная речь – то, что лингвисты относят к разговорной речи или к диалектам:
<…> зачислили Шурку в строительные войска, в просторечии – «стройбат» (Н. Климонтович. Далее – везде)[69]; Зимою над крутобережным скатом Обдонской горы, где-нибудь над выпуклой хребтиной спуска, именуемого в просторечье «тиберем», кружат, воют знобкие зимние ветры (М. Шолохов. Тихий Дон);
б) сфера неофициальных наименований, противопоставленных официальным:
Мы в тот день впервые узнали о том, что бульвар Белы Куна, именовавшийся Варшавским, в просторечии был Меринов бульвар — с намеком на кавалерийское училище: оно квартировало в конце бульвара (А. Дмитриев. Закрытая книга);
в) более известные наименования в противопоставлении менее известным:
Под ним как-то один принц сидел – Гаутама, в просторечьи Будда (С. Осипов. Страсти по Фоме);
г) более экономичные выражения, противопоставленные другим способам наименования не по стилистическому признаку, а именно как более краткие:
<… > на место погибших в неравном бою воинов ПВО заступили представители внеземной цивилизации, в просторечии называемые гуманоидами (В. Тучков. Русская книга военных);
д) жаргон:
Ночная ручная стрижка колосков в поле <…> десять лет как за опаснейшее хищение социалистической собственности по знаменитому закону от 7 августа 1932 года (в арестантском просторечии закон семь восьмых) (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг); после бессонной ночи дописывания так и неоконченного памятника я отнес-таки его в издательство, в просторечии в «Совпис» (А. Битов. Азарт, или Неизбежность ненаписанного);
е) «обычная», простая, общепонятная речь – в противопоставлении более сложно организованной речи: научной, философской[70] и т. д.:
У вас, говорят, так сказать, удлинилась… кость копчиковая: говоря в просторечии, – появился хвостик… (А. Белый. Начало века);
ж) речь, используемая в прямом смысле, лишенная иносказательности:
В тридцатые годы, когда многие знаменитые художники покинули, так сказать, поприще (а в просторечии – сели), кто-то должен был прийти им на смену (Э. Радзинский. Наш Декамерон. НКРЯ);
з) речь вообще, языковой узус:
<… > из его большого красного рта <…> полились звуки, называемые в просторечии смехом (Ю. Мамлеев. Чарли. НКРЯ); Явления, называемые в просторечье «мороз по коже» и «волосы встали дыбом», случились с ним <…> (Э. Лимонов. Молодой негодяй).
Наконец, под просторечием может пониматься не просто разновидность языка, но и соответствующий в и д с о з н а н и я, способ осмысления действительности. Ср.:
<… > это, безусловно, вторжение извне в мое сознание, либо в сознание моих партнеров, либо в то и другое одновременно. Вторжение очень мощного экстрасенса, по сути дела, то, что в просторечии именуется магией (Н. Подольский. Книга Легиона).
Слово магия отнюдь не оценивается говорящим как просторечное – в данном случае речь идет не о слове, а о стоящем за этим словом упрощённом, «бытовом» понимании (и – соответственно – номинации) сложного явления. Подобные представления, кстати, свойственны носителям просторечия и характерны для специфической картины мира, отражённой в просторечии[71].
Таким образом, в обыденном метаязыковом сознании слово просторечие соотносится не столько с нелитературным, ненормированным вариантом языка, сколько с общепонятной, преимущественно обиходной речью.
Наиболее последовательно и близко к терминологическому значению употребляются в современной речи метаязыковые термины жаргон, жаргонное слово. Эти единицы высокочастотны в современной беллетристике, поскольку жаргонизация речи регулярно становится стимулом языковой рефлексии носителя языка. «Стихийный лингвист» не только отмечает сам факт существования жаргона, но и осмысливает динамику его развития в современных условиях. Так, отмечается активизация жаргона и роль средств массовой информации в его распространении:
Юридический сленг журналисты научились понимать довольно давно – как только в прессу пришла мода на подробные отчеты о громких преступлениях. <…> Этот сленг уже и обывателям знаком, которые внимательно смотрят телевизор (Е. Козырева. Дамская охота).
В современной беллетристике подвергается комментированию и, как следствие, популяризации лексика профессиональных жаргонов. Среди них компьютерный жаргон (1), сленг журналистов (2), язык коллекционеров (3), внутрикорпоративные жаргоны (4) и другие:
(1) Коллеги по отработанному заданию автоматически, говоря компьютерным сленгом, отправляются в «корзину» (В. Скворцов. Каникулы вне закона); (2) Все телевизионщики знали Зотова как законченного ликоблуда. (Далеко не каждый знаком с телевизионным жаргоном, поэтому следует пояснить: ликоблудом именуется человек, получающий колоссальное наслаждение от вида собственного лица на экране и потому готовый сниматься где угодно и в каком угодно качестве.) (М. Баконина. Школа двойников); (3) Легким щелчком Роман посылает монету по столешнице ко мне. / – Фуфел, он же фальшак, он же новодел. / – Это плохо? – спрашиваю я, замороченная нумизматическим сленгом. / – Куда хуже, – говорит Роман, <…> – Твой рубль – подделка (В. Синицына. Муза и генерал); (4) – Ладно, проведу, хоть и не ко времени вы – правление вот-вот начнется. – <…> и он шагнул в небольшой зал, в просторечии именуемый залом ожидания и даже – в зависимости от причины вызова – пыточной (С. Данилюк. Рублёвая зона. НКРЯ).
Как показывают тексты современной массовой литературы, для обыденного метаязыкового сознания бесспорна необходимость особого языка как атрибута той или иной социальной группы. Даже писатели, создающие ирреальные миры (фантастика, фэнтези) и основывающие в этих мирах «силовые структуры» и профессиональные сообщества, создают специфические жаргоны таких сообществ. Ср., например, жаргон АСБ – Агентства социальной безопасности:
Валюшок должен был к сегодняшнему дню закончить месячный курс тренировок со штатной амуницией. Но конечно, легкий бронекомплект, на жаргоне сотрудников АСБ – «комбидресс», еще не стал его второй кожей (О. Дивов. Выбраковка).
Словообразовательные типы и когнитивные модели, которые лежат в основе создания «авторских» жаргонных слов, являются результатом осмысления закономерностей «жаргонообразования» в современном русском языке. Так, слово комбидресс в значении 'лёгкий бронекомплект' является результатом метафорического переноса, при котором утрачиваются семантические компоненты, связанные с «серьёзностью» объекта; в качестве «второго члена» сравнения привлекается безобидный предмет бытового характера (Ср. жаргонное наименование синхрофазотрона – кастрюля).
Как правило, слова и выражения ограниченного употребления в текстах не только семантизируются, но и снабжаются комментариями энциклопедического / лингвокультуроведческого характера. Актуализация новой для читателя лексики является средством воссоздания особой (профессионально или социально обусловленной) картины мира. За каждой такой единицей стоит особый взгляд на мир, система ценностей, «своеобразное языковое мировоззрение» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 161], отражённое в экспрессивной жаргонной лексике и ощущаемое «стихийным лингвистом». Ср.:
Он привык общаться с ограбленными, обокраденными, обманутыми. Он давно усвоил милицейский сленг, давно пользовался пренебрежительно-уничижительным словечком «терпила» – так в милиции называют потерпевших. С ними следует быть жестким, деловитым, неуступчивым. Сначала надо убедить «терпилу», что не такой уж он и пострадавший, – дабы не подавал заявления. Потом попробовать отказать в возбуждении уголовного дела – мол, либо сам виноват, либо ущерб невелик, либо содеянное не представляет общественной опасности (М. Баконина. Школа двойников).
Носители языка пытаются объективно осмыслить свойства жаргонизмов, понять причины роста их популярности. При безусловно отрицательной оценке жаргонизации современного дискурса «наивный лингвист» обнаруживает, что жаргонная лексика придаёт речи «современный» характер (1), делает поведение более демократичным (2), способствует установлению контакта, сближению (3), служит социальным знаком «своего» (4):
(1) <…> раз я будущий филолог, то и писать должна, как филолог, не засорять язык сленгом или, того хуже, употреблять ненормативную лексику, как это любят делать ради «осовременивания» нынешние авторы (Н. Катерли. Дневник сломанной куклы); (2) Почему интеллигенция так западает на бандитский жаргон? Наверное, хочет быть ближе к народу (В. Левашов. Заговор патриота); (3) Достигнув предварительного соглашения, дядя и вовсе «раздухарился» (племяннику этот его сленг казался устаревшим, а значит – чем-то неловким, он стыдился за дядюшку, который, разговаривая так, будто заискивал перед молодежью) <…> (Н. Климонтович. Фотографирование и прочие Игры); (4) «Навороченный», «крутой»! Забелин поймал себя на въевшемся сленге. Он со стыдом вспомнил, как на последнем фуршете в «Президент-отеле», желая подольститься к собеседнику – нефтяному «генералу», <…> то и дело вслед ему козырял выражениями типа «Лужок выволок Евтуха на стрелку» – подобно тому как высшее общество конца восемнадцатого века переходило на французский, признаком принадлежности к истеблишменту конца двадцатого становилось умение «ботать по фене» (С. Данилюк. Рублёвая зона. НКРЯ).
Носители языка подмечают новое явление – генерализацию жаргона, преодоление им социальных границ:
<… > употребление ненормативной лексики все менее четко определяется социальными, географическими, цеховыми рамками. Все шире растекаются потоки брани, уличного арго, групповой лексики, тюремной фразеологии. Раньше жаргон был уделом четких социальных и профессиональных групп. Теперь он почти национальное достояние. Раньше слово «капуста», например, мог употребить только фарцовщик. Слово «лажа» – только музыкант. Слово «кум», допустим, – только блатной. Теперь эти слова употребляют дворники, генералы, балерины и ассистенты кафедр марксизма-ленинизма (С. Довлатов. Переводные картинки).
Замечание о том, что жаргон преодолевает социальные рамки, – это не просто метафора, а довольно точное наблюдение «стихийного лингвиста» о формировании новой разновидности языка, которую исследователи называют общерусским жаргоном [Хорошева 2002] или общим (русским) арго [напр.: Елистратов 2000]. Это «тот пласт современного русского жаргона, который, не являясь принадлежностью отдельных социальных групп, с достаточно высокой частотностью встречается в языке средств массовой информации и употребляется (или, по крайней мере, понимается) всеми жителями большого города, в частности образованными носителями русского литературного языка» [Ермакова, Земская, Розина 1999: 4]. Специалисты отмечают, что в настоящее время без знания жаргона «уже (увы или, наоборот, к счастью) невозможно читать нашу современную литературу и периодику, слушать радио, смотреть телепередачи, общаться по Интернету или наблюдать за политическими дебатами в Думе» [Мокиенко, Никитина 2000: 3].
Носитель языка осознает и такое явление, как территориальное варьирование языка: в текстах художественной литературы XIX–XX вв. регулярно обращалось внимание на особенности речи жителей разных мест России; ср.:
Он продолжал появляться на наших поэтических вечерах, всегда в своей компании, ироничный, громадный, широкоплечий, иногда отпуская с места юмористические замечания на том новороссийско-черноморском диалекте, которым прославился наш город, хотя этот диалект свойствен и Севастополю, и Балаклаве, и Новороссийску и в особенности Ростову-на-Дону – вечному сопернику Одессы (В. Катаев. Алмазный мой венец).
В то же время «наивный» взгляд на диалектную речь отличается определенным своеобразием. Так, «стихийный лингвист» отмечает свойство диалекта, на которое позже обращали внимание и профессиональные языковеды [Жирмунский 1969: 23; Крысин 1989: 46]: территориальные диалекты противопоставлены другим идиомам не только по локальному признаку, но и по социальному. Наблюдения показывают, что предметом комментирования для носителя языка становится чаще всего не территориальная ограниченность того или иного диалекта, а возможность интерпретации диалектной речи как социального знака. Поэтому часто при ее упоминании в художественных текстах диалектная речь обозначалась как «деревенская» без уточнения ее локализации:
Очутившись в вагоне, Кирпичников сразу почувствовал себя не инженером, а молодым мужичком с глухого хутора и повел беседу с соседями на живом деревенском языке (А. Платонов. Эфирный тракт); – Как хлеба-то ноне удались? – единственно от жгучего стыда спросил Векшин, с досадой поймав себя на льстивом подражании деревенскому говору (Л. Леонов. Вор).
«Деревенская» речь самими носителями издавна воспринималась как менее ценная и даже менее красивая на фоне языка образованных горожан:
<…> они [барчата] разговаривали на особом, не деревенском языке – певучем, легком, приятном. Кузярь очень ловко передразнивал их, и даже голос у него пел звонко и чисто. Он называл их язык «благородным» (Ф. Гладков. Повесть о детстве).
Это противопоставление «деревенской» и «благородной», городской речи в ХХ столетии приобрело новые оттенки. Отрицательное отношение к языку деревни соответствовало идеологическому вектору эпохи: критика диалектов органично вписывалась в контекст негативной оценки всего «деревенского» как отсталого[72]. На общественное мнение о диалектной речи оказала значительное влияние точка зрения М. Горького, который считал, что писатель должен «писать по-русски, а не по-вятски» [Горький 1953: 388]. Тезис (сам по себе небесспорный), касавшийся языка художественной литературы, благодаря авторитету М. Горького и обыденному представлению о тождестве языка художественной литературы и литературного языка, подвергся расширительному толкованию: диалект как форма существования языка в целом был признан общественным мнением явлением бесперспективным и порицаемым. Эта идея, ставшая достоянием коллективного метаязыкового сознания, получила разнообразное отражение в текстах художественной литературы. В авторской речи могла быть выражена поддержка указанного мнения – как правило, через отрицательную оценку диалектной речи вообще или отдельных диалектных слов:
<… > например, рязанское слово «уходился» вместо «утонул» невыразительно, малопонятно и потому не имеет никакого права на жизнь в общенародном языке. Так же как и очень интересное в силу своего архаизма слово «льзя» вместо «можно». По рязанским деревням вы еще и теперь услышите примерно такие укоризненные возгласы: – Эй, малый, да нешто льзя так баловаться! (К. Паустовский. Золотая роза).
При этом другие диалектные слова могут получать у того же автора одобрение. Ср. там же:
Из многих местных слов, которые я услышал, к примеру, во Владимирской и Рязанский областях, часть, конечно, непонятна и малоинтересна. Но попадаются слова превосходные по своей выразительности – например, старинное, до сих пор бытующее в этих областях слово «окоём» – горизонт.
В контексте обсуждаемого в настоящем параграфе вопроса важна принципиальная позиция автора (выражающего коллективное мнение): диалект нуждается в строгой оценке с позиции литературного языка, в квалификации и классификации элементов говора (какие-то признаются самобытными и выразительными, а какие-то – грубыми, неэстетичными, не имеющими права на существование). Ср.:
Существует вершина – чистый и гибкий русский литературный язык. Обогащение его за счет местных слов требует строгого отбора и большого вкуса. Потому что есть немало мест в нашей стране, где в языке и произношении, наряду со словами – подлинными перлами, есть много слов корявых и фонетически неприятных (К. Паустовский. Золотая роза).
Такое мнение основывается на представлении о диалекте не как о высокоорганизованной языковой системе, а как о «пережитке» давно ушедшего прошлого, своего рода «куче языкового старья», из которой можно выбрать несколько забавных вещей и даже полюбоваться ими, но в целом – все устарело и не имеет никакой ценности.
Вероятно, негативная общественная оценка местных говоров как «отсталой» формы языка послужила в ХХ веке одним из факторов вытеснения представления о диалектах на периферию коллективного метаязыкового сознания.
В конце XX – начале XXI вв. в общественном сознании актуализируются оппозиции «норма – свобода», «догматизм – творчество», «официоз – народность» и т. д. В оценке диалектной речи, тяготеющей ко второму полюсу перечисленных оппозиций, появляются новые оттенки: она противопоставлена литературному языку не только по признаку нормативности, но и по наличию болыпих экспрессивных возможностей. Ср.:
<…> всю жизнь изучая цветистые, избыточные русские говоры и диалекты, сама она говорила стертым голосом, стертыми словами, точно раз навсегда испугавшись всех этих народных художеств и противопоставляя им холодную петербургскую норму (Д. Быков. Орфография).
Нередки стали рассуждения авторов о территориальных диалектах как источнике обогащения современного русского литературного языка (Подобные идеи воплощены как в художественных текстах, так и в проектах «языкового расширения» [см.: Солженицын 1990]). Авторы текстов обращают внимание на диалектные лексические единицы, обладающие большей смысловой сложностью, нежели слова литературного языка:
– И сам не увлекайся, – Попугасов опять застрожился. <… > «Застрожился» – это нечто такое сибирское, емкое и отнюдь не адекватное расхожему «посерьезнел». В «областных» словарях есть много изумительных слов, которые нехудо бы ввести в русский литературный язык, с каждым годом теряющий эластичность. «Чё мшишься?» – спрашивает мужик мужика где-нибудь на Ангаре. Это означает: «Ну чего ты суетишься, нервничаешь, волнуешься, предаешься пессимизму, угрюмо смотришь в будущее и неласково на мир, когда мир прекрасен, будущее – светлое, пессимизм не имманентен русскому менталитету, волноваться – себе вредить, нервные клетки не восстанавливаются, и вообще все на свете есть суета и томление духа» (Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов»).
В целом сегодня для рядовых носителей языка территориальные диалекты не выглядят актуальной формой существования русского языка и не привлекают внимания «естественного лингвиста» в связи с оценкой социокультурной ситуации. Однако это не свидетельствует о том, что наш современник, в отличие от россиян предшествующих поколений, «не замечает» территориального варьирования языка. Дело в том, что сами традиционные народные говоры претерпели в последние десятилетия значительные изменения: в силу естественных причин резко уменьшилось количество носителей «чистых» диалектов; под влиянием литературного языка и городского просторечия утратились многие черты языкового своеобразия. И хотя говоры как объект научного исследования не потеряли своей привлекательности для лингвистов, ученые тем не менее отмечают, что в современных условиях актуализируется новая форма территориального варьирования языка – региолект [см.: Герд 2005: 23], сочетающий в себе черты диалекта и просторечия и бытующий не только в сельской, но и в городской местности. Яркие признаки речи, отличавшие носителей диалекта, нивелировались, и рядовые носители языка не оценивают диалект как самостоятельный идиом. Для такой квалификации «наивному лингвисту» необходимо наличие соответствующего «эмпирического материала» – непосредственно наблюдаемой группы людей, которая демонстрирует ярко выраженные особенности речи.
Гораздо чаще, чем диалектные различия, подмечаются «стихийными лингвистами» черты языкового своеобразия отдельных городов. Так, авторы художественных текстов неоднократно высказывали суждения о специфическом языке (преимущественно лексике) разных городов; ср.:
(1) Мы не знаем, как был создан одесский язык, но в нем вы найдете по кусочку любого языка. Это даже не язык, это винегрет из языка (В. Дорошевич. Одесский язык); (2) Если на гору шел один номер трамвая (в Харькове их вопреки здравому смыслу звали «марками»), то к развалинам вокзала, на Красноармейскую, поворачивал другой (Э. Лимонов. У нас была великая эпоха); (3) Он любил полуподвальные рюмочные, в питерском просторечии – низок (Ю. Давыдов. Синие тюльпаны); Я действительно совсем ополоумела: после пытки тюремной камерой позволяю себе капризничать, кобениться и перебирать харчами, как сказали бы мои питерские друзья (В. Платова. После любви).
Таким образом, в массовом сознании существует убеждение в социальной и территориальной неоднородности языка. В то же время состав идиомов и границы между ними в «наивном» представлении не выглядят такими четкими, как в лингвистической теории. Эта нечеткость представлений получает свое отражение и в «размытой» семантике соответствующих метаязыковых терминов. При этом контексты употребления обозначений сленг, просторечие, жаргон, диалект, наречие и т. п. не всегда позволяют с полной определённостью сказать, в каких случаях их использование является осознанно метафорическим (то есть намеренно выводимым за границы осознаваемой лексической нормы), а в каких авторы понимают значение этих слов достаточно широко. Однако совокупность всех обнаруженных примеров употребления терминов позволяет выявить некие инвариантные значения рассматриваемых единиц, характерные для неспециального употребления. Видимо, их можно сформулировать следующим образом: а) для терминов сленг / жаргон / диалект – 'языковые средства, находящиеся за пределами обычной, привычной, «нормальной» речи'; б) для термина просторечие – 'обыденная, повседневная, простая речь – в отличие от более сложных форм речи, использующихся в особых случаях'. Налицо расхождение обыденного и терминологического значения, однако такое расхождение в семантике метаязыковых терминов свидетельствует не столько о «неправильности» наивно-лингвистических воззрений, сколько об их своеобразии.
Понятие «литературный язык» также получает своеобразную «наивную» интерпретацию, отличную от научно-лингвистической.
Специфическим показателем особенностей рефлексии является частотность соответствующих метаязыковых терминов. Поиск в Национальном корпусе русского языка (подкорпус художественных текстов) дает чуть более 40 вхождений на ключевые слова (в различных комбинациях) литературный язык, литературная речь, литературное слово и т. п. В то же время поиск по ключевым словам жаргон, сленг (и родственные им) дает 360 вхождений. В данном случае соотношение количественных данных свидетельствует не столько о равнодушии говорящих к литературному языку, литературной речи, сколько о том, что эта форма речи реже является «раздражителем», стимулом для метаязыковой рефлексии.
Анализ контекстов употребления сочетаний литературный язык[73], литературная речь, литературное слово позволяет установить круг представлений, связанных в коллективном сознании русских с понятием литературного языка / литературной речи. Эти представления можно соотнести с тремя видами суждений (эксплицитных и имплицитных), являющихся ответами на вопросы: 1) Что такое литературный язык? 2) Какими свойствами обладает этот язык? 3) Какая роль отводится ему в дискурсивной деятельности человека?
Итак, что такое литературный язык для коллективного метаязыкового сознания (отразившегося в текстах художественной литературы)? Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что выражение литературный язык в сознании говорящих устойчиво связано с художественной литературой: буквально литературный язык – это то же, что и язык художественной литературы. Ср.:
«Так началась его жизнь.» – написал я и остановился. Проклятье литературного языка, коварство повествовательного процесса тотчас дали о себе знать, как будто меня поймали с поличным (Б. Хазанов. Далекое зрелище лесов).
Очевидно, что в приведенном примере сочетание литературный язык обозначает язык, при помощи которого создается литературное произведение[74]. Регулярность соответствующих контекстов лишь отчасти обусловлена тем, что авторы анализируемых в данной работе метаязыковых комментариев – профессиональные литераторы; видимо, гораздо большее влияние на содержание понятия «литературный язык» оказывает прозрачная внутренняя форма прилагательного литературный (а литература для представителей русской культуры – это в первую очередь художественная литература)[75].
Литературный язык – это, в представлении «наивного лингвиста», язык культуры, цивилизации (1), он отличен от диалект а, противопоставлен ему (2), это эталон, высший уровень развития языка (3):
(1) <… > у моих ног лежал Федоров, молоденький солдат нашей роты, побывавший в Петербурге, хвативший цивилизации и выражавшийся почти литературным языком (В. Гаршин. Аясларское дело. НКРЯ);
(2) В «областных» словарях есть много изумительных слов, которые не худо бы ввести в русский литературный язык, с каждым годом теряющий эластичность. Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов»); (3) Существует вершина – чистый и гибкий русский литературный язык (К. Паустовский. Золотая роза).
Каким же представляется литературный язык «естественному лингвисту»? Говоря о языке, авторы метаязыковых высказываний, как правило, имеют в виду «язык в действии», поэтому выражения литературный язык и литературная речь являются в рассматриваемых контекстах синонимами и обозначают речь. Прежде всего, литературный язык (речь) – это нечто совершенное, безупречное, рафинированное, заслуживающее высшей степени одобрения.
В художественных текстах традиционно часты эпитеты, которые указывают на эти качества:
Каждую неделю Ариадна присылала моему отцу письма на душистой бумаге, очень интересные, написанные прекрасным литературным языком (А. Чехов. Ариадна); Прекрасная <… > статья, написана великолепным литературным языком, и очень полезная для всех нас (Борис Левин. Инородное тело); Вслушиваясь в образцово-литературную речь бывшего одноклассника, Карпов перебирал в уме события, которые могли бы так изменить человека (Е. Прошкин. Эвакуация. НКРЯ) и т. п.
Важнейшие признаки литературного языка (речи), которые осознаются «естественным лингвистом», – это чистота и правильность:
<… > но вопрос был задан на чистейшем литературном языке, и она ответила <… > (Г. Маркосян-Каспер. Кариатиды. НКРЯ); Великовозрастные германки не возбуждались от случайного прикосновения и не будили во мне воображение, потому что были чинны и благородны, как правильная литературная речь (И. Грошек. Легкий завтрак в тени некрополя. НКРЯ).
Отмечаемое обыденным сознанием противопоставление литературного языка (как «высокого») и «обыкновенного» языка основано на коммуникативном опыте говорящего и на осознании необходимости подбирать адекватные теме языковые средства. Литературный язык неуместен при обсуждении «низких» тем (1), и напротив, есть темы, которые требуют использования литературного языка, противопоставленного «обычному» языку повседневного общения (2):
(1) <…> между тем предмет таков, что о нем, может быть, вовсе невозможно рассказывать благопристойным литературным языком (Б. Хазанов. Праматерь); (2) Я испугался того, что меня все присутствующие <… > не поймут и осмеют, когда я буду протестовать и заговорю с ними языком литературным. Потому что о пункте чести, то есть не о чести, а о пункте чести (point d'honneur), у нас до сих пор иначе ведь и разговаривать нельзя, как языком литературным. На обыкновенном языке о «пункте чести» не упоминается (Ф. Достоевский. Записки из подполья).
Во всех рассмотренных примерах обращает на себя внимание характер атрибутивных распространителей словосочетания литературный язык. Известно, что определение чаще всего выполняет «ограничительную функцию, выделяя обозначенный им предмет из ряда однородных» [Кручинина 1990: 349], использование распространителя-определения в таких случаях подразумевает, что существует целый класс однородных предметов, в их числе – и предметы, противопоставленные по признаку, названному определением (ср.: хорошие стихи – следовательно, бывают и плохие стихи; сложное предложение – значит, есть и простое предложение; деревянный дом – соответственно где-то существует кирпичный дом и т. д.). Однако определения к сочетанию литературный язык явно играют иную роль. Ср.: благопристойный литературный язык, чистая литературная речь при явной аномальности выражений ^непристойный литературный язык, *грязная, засоренная литературная речь; можно даже сказать послал их к черту на прекрасном литературном языке (А. Азольский. Глаша), но невозможно послать к черту на *ужасном литературном языке, *плохом литературном языке.
Все определения к сочетанию литературный язык обязательно выражают мелиоративную семантику – они выполняют так называемую описательно-распространительную функцию, при которой «предмет может получать дополнительную, часто оценочную характеристику (дорогая сестра, милые друзья)» [Кручинина 1990: 349]. Исследователи народно-поэтического творчества отмечали, что такие «распространительные» определения могут выступать «как интенсификаторы значения существительного: в этом случае прилагательное в определении экспрессивно повторяет лексическое значение определяемого» [Там же]. Однако подобные «интенсифицирующие» определения, в которых повторяется (и усиливается, акцентируется) семантика определяемого компонента, возможны не только в фольклорном дискурсе. Как показывают рассмотренные выше примеры, семантика определяемого литературный язык может предъявлять особые требования к распространению качественными прилагательными: они должны подчеркивать и усиливать элементы значения определяемого. Следовательно, есть основания утверждать, что понятия «литературный язык», «литературная речь» в сознании «естественного лингвиста» обладают оценочно-характеризующими компонентами, которые эксплицируются в естественной речи при помощи «интенсифицирующих» определений общеоценочной и частно-характеризующей семантики хороший, великолепный, отличный, прекрасный, чистый, образцовый, отличный, гибкий, правильный, благопристойный и т. п.
Если в терминологическом значении прилагательное литературный (как определение к словам язык, речь, слово, выражение) является относительным, то в обыденном метаязыке оно стремится к «качественности»: об этом свидетельствуют не только очевидные мелиоративные коннотации, но и целый ряд формальных показателей: возможность образования краткой формы (1), сочетание с показателями степени выраженности признака (2), образование форм сравнительной степени (3), образование качественных наречий на-о, которые, в свою очередь, функционируют в формах сравнительной степени (4):
(1) <…> я стараюсь, чтобы речь моя была литературна, определения кратки и точны, фраза возможно проста и красива (А. Чехов. Скучная история); (2) Однако, нынче это слово – довольно литературное (Ф. Сологуб. Капли крови (Навьи чары); <… > выражавшийся почти литературным языком (В. Гаршин. Аясларское дело. НКРЯ); (3) Сам Штааль намеревался писать свои мемуары столь же чувствительно и тонко, но гораздо более литературным, отборным и благородным языком (М. Алданов. Девятое термидора); (4) А что тогда Ловеласом-то он меня назвал, так это все не брань или название какое неприличное: он мне объяснил. Это слово в слово с иностранного взято и значит проворный малый, и если покрасивее сказать, политературнее, так значит парень – плохо не клади – вот! а не что-нибудь там такое (Ф. Достоевский. Бедные люди); Эту мысль надо бы выразить литературнее (М. Алданов. Девятое термидора) и т. п..
В суждениях (и вербализованных, и имплицитных) о литературном языке / речи авторы комментариев, как правило, дистанцируются от этой формы (разновидности).
Во-первых, субъект речи никогда не приписывает себе владения литературным языком. Как литературная оценивается чужая речь, но не собственная. Говорящий (пишущий) субъект может пытаться взаимодействовать с этим языком (и тогда язык диктует свои условия; ср.: проклятье литературного языка, коварство повествовательного процесса тотчас дали о себе знать); человек может стремиться писать (но не «уже» уметь писать) более «литературно» (см. выше примеры из текстов А. Чехова, М. Алданова).
Во-вторых, литературный язык ощущается как далекий от повседневной жизни, «книжный» и, хотя и правильный, но чуждый «обычному» языку. Ср.:
Итак, мои грибные воспоминания начинаются воспоминаниями о маслятах. Кажется, правильно, по-книжному, их называют масляниками, но я никогда к этому не привыкну. Маслёнок, маслята, маслятки – зачем им какое-нибудь другое название? (В. Солоухин. Третья охота); Редкое удовольствие собирать челыши. Так у нас называют подосиновики, или более правильно, более по-книжному – осиновики. <…> Случай исключительный, пожалуй, даже единственный из всех грибов. В самом деле, рыжик, будь он хоть с гривенник, будь он хоть с чайное блюдце, все равно – рыжик. <…> И лишь молодой подосиновик называется по-другому – челыш. <…> подосиновик молодой и подосиновик взрослый это действительно как два разных гриба <…> (Там же).
Признавая правильным «книжный» вариант[76], автор предпочитает использовать в собственной речи «менее правильные» масленок, подосиновик. В этом и подобных примерах обнаруживается одна из антиномий обыденного метаязыкового сознания: с одной стороны, признается наличие (а в целом декларируется приоритет) языковой «правильности», а с другой стороны, при порождении речевого высказывания предпочтение отдается не «правильному», а «привычному».
Вообще, видимо, для обыденного сознания характерно противопоставление двух разновидностей «правильного»: «правильное-идеальное» (нечто эталонное, к чему нужно стремиться, но принципиально невозможно достичь) и «правильное-для-жизни» (правила, которыми следует руководствоваться на практике и которые чаще всего не совпадают с представлением об идеале). Применительно к использованию языка данная оппозиция может выглядеть как противопоставление кодифицированной литературной нормы и привычного (пусть и отклоняющегося от нормы) способа употребления языковой единицы, который признается правильным потому, что «все так говорят».
В-третьих, в светлом поле сознания «наивного лингвиста» постоянно находится идея об «утрате», «гибели» литературного языка. Ср. презумпцию 'литературный язык утрачивается', которая регулярно реализуется как подразумеваемая база в высказываниях различных авторов:
<… > он вдруг осознал, что читать можно лишь те издания, которые прежде одним своим видом вызывали у него зевоту, то есть старые газеты и журналы, сохранившие свои прежние, советские названия. Их авторы сохранили понятие о литературном языке, о стиле и не страдали дефицитом словарного запаса (А. Белозеров. Чайка. НКРЯ); Если бы это [непристойность] сказала его первая учительница, Фома удивился бы меньше; он замер, как памятник погибающей чистой литературной речи (С. Осипов. Страсти по Фоме).
Таким образом, литературный язык для обыденного сознания (в отличие от сознания профессионального лингвиста) вовсе не является центром социальной модели языка. Это язык скорее «редкий», чем привычный. Высказываемый отечественными лингвистами тезис о «литературноцентризме», «художественноцен-тризме» (выдвижение литературного языка и художественной речи в центр картины языкового мира) как об одной из базовых презумпций обыденного метаязыкового сознания [Голев 2008 б: 20; Лебедева 2009 а: 313–314] нуждается, на наш взгляд, в существенном уточнении: при безусловно высокой оценке литературного, книжного языка как правильного, красивого, «культурного» он не становится центром обыденной модели языка и даже не становится наиболее авторитетным вариантом.
Для «стихийного лингвиста» литературный язык – это не только и не столько социальный вариант общенародного языка, использующийся определенной группой носителей, сколько оценочная характеристика образцовой речи, которая ассоциируется с рафинированной культурой и, в первую очередь, с художественной литературой, а также может быть дана «в непосредственном наблюдении» в текстах публицистических жанров, в эпистолярных произведениях, в устном разговорном дискурсе[77]. Автор метаязыкового комментария в художественном тексте всегда соблюдает некую дистанцию по отношению к литературному языку.
Литературный применительно к языку (речи) означает в целом 'хороший, лучший'; это положительное качество, которое может проявляться в большей или меньшей степени, а также при необходимости усиливаться (ср.: надо бы выразить литературнее).
Центральную позицию в обыденной модели общенационального языка занимает та разновидность языка / речи, с которой рядовой носитель языка имеет дело ежедневно и которая обслуживает его насущные коммуникативные потребности. Выше отмечалось, что иногда такую разновидность языка называют просторечие, актуализируя внутреннюю форму данного слова – 'простая речь, без усложнений'. Однако чаще для его обозначения используют «нетерминологические термины» обычный, нормальный, человеческий[78] язык. Ср.:
– У собаки инстинкт, то есть на обычном языке – привычка, – поглядывая краем глаза на Дудырева, внушительно принялся объяснять Митягин (В. Тендряков. Суд. НКРЯ); Я не готовился выступать, я буду говорить не по бумажке, нормальным языком (С. Алексиевич. Цинковые мальчики. НКРЯ); – Стибрили? / – Сбондили? /
– Сляпсили? / – Спёрли? / – Лафа, брат! / Все эти слова в переводе с бурсацкого на человеческий язык означали: украли, а лафа — лихо! (Н. Помяловский. Очерки бурсы).
При этом в соответствии с особенностями «обыденной» лингвистики эти термины недифференцированно обозначают и язык, и речь, в которой он реализуется.
«Нормальный» язык – это немаркированная, основная форма речи, которая противопоставлена иным, маркированным формам, используемым в особых случаях: официальному дискурсу (1), специальной речи (2), социально маркированной (3) и территориально ограниченной речи (4):
(1) <… > она «нанесла директору несколько ударов тупым предметом по голове», говоря нормальным языком, обломала об него стул (В. Доценко. Срок для Бешеного. НКРЯ); (2) «Произвольные параметры» в переводе на человеческий язык – это все, что в голову взбредет (Г. Гуревич. Нелинейная фантастика. НКРЯ); (3) Ты, Эдик, человек умный, а поэтому, если тебя мое мировоззрение заинтересовало, то я не буду по-жигански мурчать блатные истины. Расскажу нормальным человеческим языком (А. Ростовский. Русский синдикат.
НКРЯ); (4) <…> говорю я на обычном русском языке, без какого-либо заметного акцента, присущего определенному региону страны или ближнего зарубежья <…> (О. Гладов. Любовь стратегического назначения. НКРЯ).
В различных контекстах употребления актуализируются те или иные компоненты семантики, связанные в обыденном сознании с понятием «обычного» языка. Во-первых, это язык, который понятен большинству носителей[79] (1) и не отклоняется от того, что принято считать нормой (2):
(1) Чартер является наиболее распространенным видом такого договора, оформляющего перевозку в трамповом (бродячем), то есть нерегулярном, нелинейном судоходстве. Говоря более человеческим языком, когда работаешь по тайм-чартеру, не знаешь времени возвращения в родной порт, не знаешь, куда пойдешь из очередного порта (В. Конецкий. Начало конца комедии. НКРЯ); (2) – Много видели, да мало знаете, а что знаете – так держите под замочком, – сказала она на нормальном русском языке, как в школе на уроке литературы (В. Конецкий. Вчерашние заботы).
Во-вторых, «нормальный» язык – это язык, на котором говорят о самых обычных для человека вещах:
Об этих. ямбах мы, кажется, уже давно договорились с вами, больной. Я достаточно опытный человек, я вам обещаю: все это с вас сойдет после первой же недели наших процедур. <…> А недели через две вы будете говорить человеческим языком нормальные вещи (Вен. Ерофеев. Вальпургиева ночь, или Шаги командора. НКРЯ).
Наконец, это речь, которая лишена иносказательности и уловок (1) и восприятие которой не затруднено излишней замысловатостью формы (2):
(1) – А в то же время – определенные круги на Западе его имя используют в неблаговидных целях… / – Ох, не надо про «определенные круги на Западе», – сказала мама. – Не надо про «неблаговидные цели». Это уже не человеческий язык (Г. Владимов. Не обращайте вниманья, маэстро. НКРЯ); (2) <…> на шум вышел из дому сам Чмоков Хозяин. / – Мой четвероногий друг, не будешь ли ты так добр кратко изложить мне причины этого с трудом выносимого нарушения тишины? – сказал Хозяин. Конечно, не всякий догадался бы, что все это значит, но Чмок привык к тому, как выражается Хозяин, и он сразу перевел его слова на простой человеческий язык. Получилось: / – Ты что тут шумишь? / – Я кошку прогоняю, – ответил Чмок и залаял вдвое громче. / – Прогоняешь Кошку? – удивился Хозяин. – А каковы мотивы этих странных действий, мой юный друг? / В переводе на простой человеческий язык это означало: / – А зачем? (Б. Заходер. Сказки для людей. НКРЯ).
Особое, центральное положение «обычного» языка в обыденном метаязыковом представлении подтверждается и тем обстоятельством, что в сознании носителя именно этот язык имеет статус «первичного» кода. В тех случаях, когда адресат воспринимает речь на одном из «вторичных» кодов (маркированные разновидности языка – социальный или территориальный диалект, профессиональная речь и т. п.), ему требуется обязательное перекодирование средствами «обычного» языка[80]. Ср.:
<…> в целях принятой в телефонных разговорах предосторожности он докладывал сложившуюся к исходу дня обстановку на замысловатом армейском арго, Бессонов легко переводил его доклад на обычный язык (Ю. Бондарев. Горячий снег); Их просто-напросто бросил наш конвой, когда они шли к вам. Наше милое адмиралтейство приказало командиру конвоя предоставить транспортам «право самостоятельного плавания». В переводе на нормальный язык это означает: «Спасайся кто может!» (Ю. Герман. Дорогой мой человек).
Итак, общенациональный русский язык представлен в обыденном метаязыковом сознании совокупностью вариантов (см. схему 3 на с. 154).
Основным вариантом выступает обычная, повседневная и общепонятная, «обычная» речь («обычный», «нормальный», «человеческий» язык), которую часто называют просторечием, хотя содержание этого понятия не равно содержанию лингвистического термина просторечие. «Обычный» язык – это немаркированная, основная форма повседневной речевой коммуникации рядовых носителей языка, допускающая индивидуальное варьирование, которое обусловлено личным опытом говорящего. «Обычный» язык – это наиболее понятная, ясная форма речи, и представление об этой форме как «первичном коде» соотносится с идеей внутриязыкового перевода сообщений, созданных во «вторичном» коде, на «нормальный» язык.
Схема 3
Научная и наивная модель социальной дифференциации языка
Научная модель Наивная модель
Основному варианту противопоставлены, с одной стороны, усложнённые формы речи, используемые в особых случаях (официальная, научная, профессиональная, философская, торжественная и др.), а с другой, – более грубая, жаргонизированная речь. Такое противопоставление органично вписывается в наивную картину мира, поскольку «в рамках наивной эпистемологии часто… «заумное» противопоставляется «простому и понятному»» [Кашкин 2008: 30].
Отличается от «обычного» языка (речи) и литературный язык (речь), которая занимает в системе коммуникативных вариантов особое место – это образцовая, правильная, красивая речь, вызывающая одобрение. Само прилагательное литературный в сочетании литературный язык используется как качественное, обозначая признак речи, который может быть ей присущ в большей или меньшей степени. Литературный язык – это безусловная ценность, оазис чистоты, предмет гордости и восхищения, некое совершенство, однако подверженное опасности утраты, забвения.
Осознание того, что родной язык представлен в действительности целым рядом вариантов, разновидностей, побуждает «естественного лингвиста» к рефлексии о своеобразном «билингвизме» носителей языка, которые в разных ситуациях переключаются с одного кода на другой, осуществляют перекодирование информации, чтобы сделать сообщение более понятным для себя (или своего адресата). Некоторые наблюдения над таким «билингвизмом» весьма тонки и метки. Ср.:
По сей день выстрел для меня не громкий звук огнестрельного оружия, а рангоутное дерево, поставленное перпендикулярно к борту; беседка – не уютная садовая постройка, а весьма неудобное, шаткое висячее сиденье; кошка в моем представлении, хотя и имеет от трех до четырех лап, является отнюдь не домашним животным, но маленьким шлюпочным якорем. С другой стороны, если, выходя из дому, я спускаюсь по лестнице, на бульваре отдыхаю на скамейке, а придя домой, разогреваю чай на плите, то, стоит мне попасть на судно (хотя бы и мысленно), эти предметы сразу превращаются в трап, банку и камбуз соответственно. Поразмыслив над этим, я решил было вовсе изгнать все морские термины из своего лексикона, заменив их теми словами, которые с давних пор существуют в обычном нашем живом языке. Результат, однако, получился весьма нежелательный: первая же лекция, прочитанная мною в соответствии с принятым решением, доставила много ненужных огорчений как мне, так и моим слушателям. Начать с того, что лекция эта продолжалась втрое дольше против обычной, ибо оказалось, что в морском языке есть немало терминов, вовсе не имеющих замены. Я же, не желая отступать от принятого решения, каждый раз пытался заменить эти термины их пространными толкованиями (А. Некрасов. Приключения капитана Врунгеля).
В приведенном рассуждении затронут ряд сугубо лингвистических и психолингвистических вопросов. Так, обращается внимание на то, что структура тезауруса языковой личности связана с индивидуальным, в том числе профессиональным, опытом человека: при назывании многозначного слова (или одного из слов-омонимов) первыми актуализируются значения, наиболее значимые для данной личности. Действительно, как отмечают специалисты, «добываемые в соприкосновении с внешним миром знания и впечатления перерабатываются на разных уровнях индивидуального сознания, превращаясь в «глубинные» и «поверхностные» познавательные структуры» [Дридзе 1980: 110], и своеобразие этих структур обусловлено характером опыта личности. Поэтому «механизм восприятия может носить индивидуальный характер, т. е. в большой степени зависеть от индивидуального опыта реципиента» [Леонтьев 1997: 134]. Поэтому для профессионала «обычный» язык, о котором говорилось выше, обладает «смещенным центром тяжести»: для моряка «первичным» кодом, определяющим зону ближайших ассоциаций, является специальная, «морская» речь.
Использование в разных ситуациях параллельных наименований (лестница – трап, скамейка – банка, плита – камбуз) свидетельствует о способности носителя языка к переключению с одного кода на другой.
Интересно и соображение персонажа об отказе от одного из кодов. Нередко для носителя обыденного сознания характерно представление о том, что существование многих кодов (разные языки, стилевая дифференциация, социальные и территориальные разновидности языков) – это отрицательное явление, которое является досадной помехой взаимопониманию и может быть при желании устранено каким-либо способом (например, созданием искусственного международного языка или выбором одного языка общения). Бывший моряк и преподаватель навигации Х. Вругнель решается на лингвистический эксперимент – отказывается от профессиональной лексики, но сталкивается с последствиями, которые неизбежны при устранении из общения одного из языков. Сразу обнаруживается лакунарность «обычного» языка в сравнении с профессиональным. Отсутствие необходимого термина заставило лектора прибегнуть к пространным толкованиям, что не только удлинило лекцию, но и затруднило ее восприятие. Как видим, в художественном тексте в виде рассказа о забавном случае выражено представление «стихийного лингвиста» об оправданности существования функциональных разновидностей языка, о невозможности полной эквивалентности средств выражения в разных языковых вариантах, о коммуникативной целесообразности выбора тех или иных языковых средств.
Тексты современной литературы свидетельствуют также о том, что разнородные языковые элементы в речи одного говорящего перестали выглядеть эклектично. Таким образом, рядовые носители языка заметили и закрепили в метаязыковых суждениях одну из тенденций развития современного русского языка – стремление социальных диалектов к превращению в регистры, то есть такие варианты языка, которые различаются не «по использователю», а «по использованию» [Вахтин, Головко 2004: 45].
2.3. Лингвистический миф
В общем употреблении мифом называют «вымысел, измышление; ложь» [БТС: 546]; Филология и история издавна пользуются термином «миф», обозначающим «древнее народное сказание о богах и обожествлённых героях, о происхождении мироздания и жизни на Земле» [Там же]. Миф как вымысел противопоставляется «истинному» знанию и осмысливается как «достояние «темного», «неразвитого», «непросветленного» сознания» [Гудков 2009: 79]. В современных гуманитарных науках под мифом понимается сложный феномен общественного сознания – «не подвергаемая рефлексии[81] высшая истина, личностно и конкретно переживаемая индивидом, объясняющая ему мир и задающая модели поведения в этом мире, она почти непроницаема для эмпирического опыта и «чистой» логики» [Гудков 2009: 80]. Приведенному определению отвечают и развернутые нарративы, и лаконичные суждения типа У бабы язык длинный, а ум короткий, и невербализуемые представления, которые оказывают влияние на поведенческий выбор членов социума.
Современное научное знание трактует миф как «диалектически необходимую категорию сознания и бытия вообще» [Лосев 1991: 25]. «Вымышленность» рассматривается как возможный признак мифа, но не обязательный и не главный; более того, вымысел в структуре мифа может носить неосознанный характер [Кассирер 1998: 526]. Мифологизированность / иррациональность, с этой позиции, выглядит как конститутивный признак обыденного сознания, противопоставляющий его рациональному, научному сознанию. Мифологическое мышление свойственно не только обществам с неразвитой наукой – «в современных обществах мифологическое сознание интегрировано в сложную структуру когниции, являясь ее существенной частью» [Резанова 2009 а: 129]. Анализируя особенности «первобытного» способа мышления, Н. В. Крушевский замечал, что «те же самые особенности причастны, хотя и не в равной мере, уму современному» и что «их нельзя считать логическими заблуждениями, аномалиями мыслительного процесса, а напротив, совершенно естественными результатами младенческого ума» [Крушевский 1998: 27]. Таким образом, мифологичность – естественное свойство обыденного сознания [см.: Улыбина 2001].
Миф выполняет целый ряд социально важных функций: «1) объясняет человеку окружающий мир и его самого, 2) санкционирует и поддерживает существующий порядок в том его виде, в котором он отражен в мифе, 3) задает парадигму социального и индивидуального поведения (обязательные, желательные, нежелательные, запрещенные действия)» [Гудков 2009: 80; см. также: Савинов 2009: 78].
Элементы мифологического сознания воплощаются как в соответствующих «сюжетах», так и в семантике языковых единиц [Мазиев 2000], являясь частью языковой картины мира. Исследователями неоднократно отмечалась важность обращения к данным языка при реконструкции целостной картины архаического миросозерцания [Журавлев 2005].
Итак, в данной книге под мифом понимается обыденное представление, для которого характерен ряд признаков. Прежде всего, мифологическое представление, как правило, является упрощенным и схематизированным, поскольку основано не на детальном и всестороннем анализе явления, а на опыте восприятия внешней стороны явления (на освоении результатов коллективного опыта) и на абсолютизации отдельных аспектов этого явления. Мифологическое упрощение достигается двумя способами: а) гипертрофируется один аспект явления, один признак объекта и т. п. и при этом не учитываются другие (например, стереотипное представление о женской болтливости, выраженное в пословице Не ждет баба спросу – сама все скажет, игнорирует существование женщин, обладающих сдержанным, скрытным характером); б) формируется «многослойный» образ-миф, отдельные составляющие которого четко не дифференцированы, границы диффузны, понятийная составляющая размыта, но актуализированы коннотации[82] (например, миф о сложности и непостижимости русского языка для иностранцев, как правило, не включает в свой сюжет мотивов, которые четко объясняли бы, в чем состоит особая трудность русского языка в сравнении с иностранными).
Вторая особенность мифологического представления состоит в том, что оно не нуждается в логическом обосновании и не стремится к научной достоверности (как вариант – в ряде случаев принимаются «наукообразные» аргументы[83], для мифа важна не правда, а правдоподобие с точки зрения обыденного сознания). Миф предполагает полное доверие, веру. Как отмечал А. Ф. Лосев, «миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность» [Лосев 1991: 23–24]. Вследствие этого миф в определенном смысле – искажение реальности: практически о любом из мифологических суждений можно сказать, что это неправда. Однако «неправда» мифа не препятствует обыденной деятельности, а напротив, задает ей необходимое направление.
Третья особенность мифологического представления заключается в его эклектичности. Если научное знание континуально, системно и логично[84], то миф принципиально дискретен и эклектичен: его отдельные мотивы не вытекают один из другого, могут противоречить друг другу и при этом сосуществовать в одном индивидуальном сознании. Так, мифологическое представление о превосходстве русского языка над другими языками, его силе, могуществе и богатстве сочетается в обыденном сознании с представлением о «слабости» языка, угрожающей ему «порче», о необходимости его «защиты». Противоречащие друг другу мотивы мифа в обыденном сознании не вступают ни в отношения противопоставления, ни в отношения комплементарности (в отличие от альтернативных научных концепций) – они существуют независимо друг от друга, и их противоречивость не осознается мифоносителем.
Не совпадая в полной мере с реальностью, миф, однако, отличается и от обычной, бытовой выдумки тем, что имеет определенные культурные последствия: влияет на общественное сознание и поведение, отражается в коллективном (фольклорном) и индивидуальном творчестве. Миф приобретает прецедентность: он более или менее широко известен в социуме, поддерживается его членами, цитируется. Важной характеристикой мифа является его сознательная поддержка социумом, «достраивание» и развитие. Направление такого «достраивания» можно с большей или меньшей вероятностью прогнозировать, учитывая социальные ожидания текущего момента: [см.: Савинов 2009: 79].
Обыденное метаязыковое сознание включает в себя целый ряд лингвистических мифов, касающихся различных аспектов существования, функционирования, изучения языка. Можно сказать, что в коллективном метаязыковом сознании язык в целом представлен в виде некой мифологемы[85].
Лингвистический миф, являясь совокупностью обыденных представлений о языке, может быть представлен в виде отдельных суждений (эксплицитных или присутствующих в виде импликаций). Эти суждения далеко не всегда основаны на вымысле, но они всегда представляют собой некое упрощение реального положения дел, абсолютизацию одного из свойств объекта. В этом смысле понятие мифа пересекается с понятием стереотипа[86].
Таким образом, лингвистический миф – это некий «сюжет», который может состоять из отдельных «мотивов»[87]. Такие «мотивы» представляют собой стереотипы обыденного сознания. Мифы элементарной, несложной структуры могут состоять из одного стереотипа / мотива.
Мифы обыденного сознания, связанные с языком / речью, неоднократно обращали на себя внимание исследователей [см.: DufVa, Lahteenmaki 1996; Мечковская 1998; Ляхтеэнмяки 1999; Дуфва, Ляхтеэнмяки, Кашкин 2000; Кашкин 2002; 2007 а; 2007 б; 2008; 2009; Гудков 2009; Милославский 2009 и др.]. Отдельный интерес для ученых представляют мифы «любительской лингвистики» [Зализняк 2000; 2009; Базылев 2004; 2009]. Кроме того, стереотипные представления, составляющие лингвистическую мифологию, описывались языковедами как повторяющиеся ошибки, устойчивые заблуждения [напр.: Еськова 2001].
Специалисты находят основания не только говорить о мифах применительно к обыденному метаязыковому сознанию, но и считать любые обыденные представления о языке в той или иной степени мифами: «Представления о языке, слове, действиях со словами обладают качествами мифа, поскольку а) являются элементом общественного сознания и разделяются практически всеми членами социума; б) являются коллективным бессознательным, точнее, не до конца эксплицитно осознанным; в) выполняют регулятивную функцию; г) являются средством «быстрого реагирования», стерео-типизации действий; д) являются потенциальным нарративом, то есть могут быть выражены вербальными прото-теориями; е) метафоричны по способу репрезентации» [Кашкин 2007 а: 101; 2008: 37–38]. Термин «повседневная (бытовая, обыденная) философия языка», в понимании ряда ученых, означает именно «системы мифологем, организующих жизнь и деятельность индивида в языке и с языком (языками)» [Дуфва, Ляхтеэнмяки, Кашкин 2000: 82; см. также: Кашкин 2002; 2009].
Лингвистический миф, как и иные метаязыковые представления, может изучаться двумя способами: 1) интерпретация эксплицированных метаязыковых суждений и 2) реконструкция на основе данных речи глубинных представлений о языке (в том числе не осознаваемых самим носителем).
Анализ метаязыковых суждений в художественных текстах позволяет увидеть разнообразие лингвистических мифов и предложить их типологию. Прежде всего, мифологические мотивы[88] можно разделить на «лингвофилософские» и «практические»[89]. К «лингвофилософским» мотивам в наибольшей степени применимы термины В. Б. Кашкина «бытовая философия языка» [Кашкин 2002] и «обыденная философия языка» [Кашкин 2009][90].
Эти мотивы призваны объяснять языковую реальность, они охватывают наиболее общие вопросы происхождения, сущности, развития языка, утверждают сакральные свойства языка и отдельных единиц, охватывают вопросы соотношения языка и действительности, языка и сознания, языка и культуры, особенностей различных языков, превосходства родного языка над всеми остальными и т. п. Ср. один из таких мотивов, восходящий к идеям В. Гумбольдта и подвергшийся в «наивном» сознании, с одной стороны, упрощению, а с другой, – поэтизации:
<…> всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенности и других даров бога, своеобразно отличился каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в выраженье его часть собственного своего характера. Сердцеведением и мудрым познаньем жизни отзовется слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает свое, не всякому доступное, умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово (Н. Гоголь. Мертвые души).
К таким «лингвофилософским» мифам относится, например, отраженное во многих текстах представление о том, что в действительности (в той или иной культуре) существуют только те явления, которые обозначены специальным словом. Ср.:
Любая обозначенность сообщает обозначенному статус существования: каждое новое название увеличивает число объектов, втиснутых в данный объем пространства <…> Назови объект – и он возникнет, а не называй – нет объекта! (Е. Клюев. Андерманир штук).
Если в языке обнаруживается лексическая лакуна, то делается вывод о том, что и означаемое в данной культуре отсутствует. Так, различные авторы неоднократно обращали внимание на отсутствие в русском языке эквивалента английского слова privacy. Ср.:
Ни одна американка не позволит себе прочесть чужой дневник. Нарушение privacy. Фурман как-то сказал ей, что слово «privacy» не переводится на русский (И. Муравьева. Документальные съемки).
Нередко в художественных и в публицистических текстах непереводимость этого слова на русский язык интерпретируется как отсутствие в русской культуре такой ценности, как неприкосновенность личной сферы: нарушение границ этой сферы у русских обсуждать не принято, поэтому в лексиконе нет соответствующего слова. Безусловно, это упрощенное представление (а упрощение и есть первый признак мифа), так как категория персональной сферы в русской картине мира все-таки существует, как существует и отрицательное отношение к насильственному вторжению в эту сферу (ср. выражение лезть в душу). Исследования показывают, что русскому коммуникативному сознанию в полной мере свойственна так называемая «негативная вежливость» [Brown, Levinson 1987], которая «выражает дистанцированную позицию, то есть подчеркивает независимость личности, ее потребность в неприкосновенности территории» [Райтмар 2003: 21]. Более того, разнообразные этические и этикетные аспекты «негативной вежливости» отразились в семантике и прагматике целого ряде лексических единиц русского языка (тактичный, деликатный, бесцеремонный, навязчивый и т. п.), то есть получили воплощение в самой глубинной сфере «наивной» лингвистики [см.: Крылова 2004]. Ср. контекст, из которого видно, что, несмотря на отсутствие слова, само чувство «приватности» свойственно носителю русского языка:
Он старается плечом загородить от соседа страницу. Тот больше вытягивает шею, прямо затылком чувствуешь, как он напрягся. Вот нахал! Читающий возмущён: он чувствует, как в нём растёт, раздувается чувство оскорблённой «приватности» («privacy» – английское слово, не имеющее русского эквивалента). А вот взрослый человек в силу необходимости проталкивается сквозь толпу. И снова в нём бушует оскорблённая «privacy». Он почти ненавидит окружающие его плечи, локти, головы (И. Грекова. Знакомые люди).
«Практические» мотивы касаются вопросов использования языка – это мифы-инструкции, которые не только объясняют устройство языка, но и дают рекомендации: как нужно его использовать, какого отношения к языку можно требовать от носителей и т. п. Среди таких мифов-инструкций можно выделить несколько типов: а) ортологические, в) лексикографические, г) лингводидактические, д) металингвистические.
К ортологическим мифам относятся всевозможные «правила» употребления языковых единиц в устной и / или письменной речи. Так, к ортологическим относится «литературноцентрический» миф, который представляет собой «отождествление всего русского языка и литературной нормы» [Лебедева 2008: 309]. Отсюда выражение Нет такого слова, если такого слова нет в литературном языке. Ср.:
– Если я вас подвел, – выдавил он из себя с трудом, – то я извиняюсь!.. / – Нет такого слова, – буркнул Волков, – в природе не существует. / – Какого? – не понял Игорь. / – Извиняюсь. Такого слова нет, по крайней мере, в русском языке. Можно сказать: «извините» или «прошу прощения» (Т. Устинова. Там, где нас нет).
Многие из ортологических мифов связаны с явлением гиперкоррекции («сверхправильности»), которое характерно для носителей просторечия [см.: Крысин 1989: 61]. Одним из источников гиперкоррекции является представление об абсолютной симметрии означающего и означаемого, согласно которому слово должно иметь одно значение, а употребление его в других значениях нарушает «правильность» и логичность языка. Примеры подобных мифов гиперкоррекции приводятся в статье Н. А. Еськовой «Тоже мне профессор: пинжак через Д пишет…» [Еськова 2001] (здесь соответствующие суждения рассматриваются как ошибки). Так, автор среди целого ряда некорректных утверждений носителей языка цитирует и такое:
<…> в последнее время самым расхожим оскорблением слуха стала фраза, употребляемая буквально во всех средствах массовой информации: «в этой связи». Ну как объяснить многочисленным пустобрехам бессмыслицу подобного словосочетания? Что продолжить свою мысль можно только «в связи с чем-то»?! (журналист А. Бурыкин).
Утверждение о ненормативности выражения в этой связи является одним из наиболее живучих ортологических мифов. Ср. аналогичный мотив в тексте современной беллетристики:
– Моя бабушка тоже учительница русского, – сообщила она. – Много лет в школе проработала. Заслуженный учитель России. Она на пенсии давно, и уже. совсем старенькая. Но она меня тоже всегда поправляет. Она иногда не помнит, как меня зовут, но помнит, что говорить «в этой связи» нельзя. Нужно говорить «в связи с этим»! / – «В этой связи» – это когда «кто-то состоит в этой связи уже давно», – с поучительной интонацией сказала Татьяна Ильинична и засмеялась… (Т. Устинова. Отель последней надежды).
Подобные «наивные» рекомендации основаны на глубинном мифологическом представлении о симметрии языкового знака, о ненормативности формального и семантического варьирования языковой единицы[91]. Выражение в этой связи не может использоваться как вариант выражения в связи с этим, так как за ним уже «закреплено» другое значение – когда «кто-то состоит в этой связи уже давно»[92].
Среди ортологических мифов-инструкций есть и такие, которые не являются абсолютным искажением нормативной рекомендации (их можно назвать полумифами). В таких мифологических сюжетах можно условно выделить две смысловые части: собственно рекомендацию и ее мотивировку, то есть объяснение, почему нужно говорить так, а не иначе. При этом рекомендация является вполне корректной, а мотивировка носит мифологический характер[93]. Так, Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелёв, приводят (в качестве примера обыденного представления о языке) распространенное мнение о том, что ««невежливо» вместо извините говорить извиняюсь, потому что это значит 'извиняю себя'» [Булыгина, Шмелёв 1999: 148]. Данное положение авторы статьи иллюстрируют следующими примерами:
Наступившему на мозоль нельзя говорить извиняюсь (т. е. извиняю себя). Надо сказать: извините меня или простите; ведь пострадавшему не будет легче или приятнее, что вы сами себя извиняете в неуклюжестве» (А.Куприн); …в слове «извиняюсь» есть что-то раздражающее: ведь оно может означать только «извиняю себя», то есть, например, «считаю нормальным, что я вас толкну»… (Б. Тимофеев).
Метаязыковой комментарий о выражении извиняюсь (в перформативном употреблении) состоит, таким образом, из двух частей: 1) утверждения о нежелательности употребления формы извиняюсь и 2) объяснения этой нежелательности тем обстоятельством, что извиняюсь означает 'извиняю себя' (то есть постфикс-ся придает этой словоформе собственно-возвратное значение).
Не останавливаясь на истории этой формы [см., напр., об этом: Скворцов 1980] и не повторяя аргументов против «мифологической» интерпретации ее семантики (они очевидны для языковеда), обратим внимание на источник утверждения о том, что извиняюсь значит 'извиняю себя'. Этот источник кроется в уже упоминавшемся обыденном представлении, что у слова (и, видимо, любой языковой единицы) должно быть лишь одно «буквальное» значение. А в системе значений постфикса-ся «буквальным» является именно собственно-возвратное значение – 'направленность действия на субъекта этого действия'. Другие значения (взаимно-возвратное, обще-возвратное, косвенно-возвратное, активно-безобъектное, пассивно-качественное) находятся на периферии метаязыкового сознания рядового говорящего, поэтому форма извиняюсь соотносится в «наивном» представлении не со словами типа отпрашиваться, учиться, кусаться, обниматься, плавиться и т. п., а со словами типа умываться, бриться. В этом проявляется уже упоминавшееся свойство мифологического сознания: оно игнорирует факты, противоречащие «логике мифа».
Лексикографические мифы обыденного сознания связаны со стереотипными представлениями о словарях. Для обыденного сознания словарь обладает абсолютным авторитетом, поскольку «в хорошем, большом словаре собраны «все» слова языка» [Дубичинский 2009: 32]. Словарь «вбирает в себя всю накопленную человечеством мудрость и … дает довольно определенный, часто однозначный ответ, позволяющий видеть в нем истину в последней инстанции» [Голев 2003 б]. Мифологичность этого представления состоит в абсолютизации «правоты» словаря, который не может ошибаться, в ожидании того, что словарь может дать окончательный ответ по любому спорному вопросу.
Среди словарей, как уже отмечалось, безусловная пальма первенства в обыденном сознании принадлежит толковому словарю В. И. Даля. По наблюдениям специалистов, «современный журналист считает «хорошим тоном» ссылаться на словарь Даля, если нужно объяснить значение слова. Этот словарь окружен особым ореолом «самого главного» словаря» [Еськова 2000]. Почтение к этому словарю демонстрируют и примеры из художественных текстов; авторы и персонажи обращаются именно к словарю Даля (1), поскольку существует презумпция массового сознания, что в этом словаре представлено все, что есть в языке (2):
(1) В русском словаре Даля слова «гафт» нет. Есть – «гафтопсель», т. е. «парус над гафелем»… (Г. Горин. Иронические мемуары); <…> недавно открыл словарь Даля (вот они, четыре тома с позолоченными надписями на корешках, четыре тома из моих примерно трех тысяч книг), нашел соответствующую статью и прочел: «ВИСЕЛЬНИК – удавленник, человек повешенный, либо удавившийся. // Сорванец, негодяй, достойный виселицы» (А. Слаповский. Висельник); (2) <…> несколько десятков существительных и прилагательных, ни одно из которых не найдешь даже в словаре Даля (В. Конецкий. Начало конца комедии).
Безоговорочный авторитет словаря В. И. Даля связан не столько с неразличением нормативных и описательных словарей, сколько с убежденностью носителя русской лингвокультуры в том, что словарь о б я з а н быть нормативным.
Лингводидактические мифы касаются обучения языку (родному и иностранному). Наиболее значимым является «офро-графоцентрический» миф, который отождествляет язык с орфографией, а владение языком – с орфографической грамотностью. «Дочерние» мифологемы развивают основные идеи орфографоцентризма – так, например, в обществе существует представление о том, что грамотность эквивалентна интеллектуальной состоятельности, что все авторитетные персоны обязательно обладали (обладают) высоким уровнем грамотности[94] и т. д. Вопрос о влиянии орфографических представлений на языковое сознание носителей русского языка был поставлен Н. Д. Голевым [Голев 1997], который пришел к выводу, что «орфография, которая многим представляется дисциплиной сугубо прикладной, при определенных условиях приобретает мировоззренческий характер» [Голев 1999: 105] и даже сакральный [Там же: 97].
Отдельный мотив орфографоцентрического мифа – невероятная трудность русской орфографии и наличие «врожденной безграмотности», особой невосприимчивости к ней, которую невозможно преодолеть никакими педагогическими усилиями. Ср.:
Васька всматривался, вытягивал шею, шевелил губами. А потом писал: «керьпичь». Когда учительница поправляла: падежи не «костьвенные», а косвенные, Васька подозрительно хмурил брови, ибо твердо был уверен, что названье это происходит от слова «кость»; Клавдия Петровна в конце концов махнула рукой. Написать правильно «чеснок» его нельзя было заставить никакими человеческими усилиями – другие, более мощные силы водили его пером и заставляли снова и снова догадливо вставлять лишнюю букву и предупредительно озвончать окончание: «честног». Из своего орфографического опыта он сделал незыблемый вывод: в русском языке все слова пишутся не так, как произносятся, причем как можно дальше от реального звучания (А. Чудаков. Ложится мгла на старые ступени).
Металингвистический миф – это обыденное представление носителя языка о лингвистической науке и о деятельности ученых. В специальной литературе отмечалось, что универсальным для различных лингвокультур является миф о лингвистической науке, которая призвана «охранять» язык от его «порчи» и мифологическое представление об ученом-языковеде, который а) знает о языке всё и б) безупречно владеет языком [см.: Yaguello 1988]. Кроме того, с точки зрения «наивного» носителя языка, именно лингвисты являются «законодателями» языковой нормы, которая отождествляется с языком в целом. Таким образом, в сознании обывателя корпус представителей лингвистической науки, «нередко в противоречии с его самопредставлением, оказывается одним из институтов власти и принуждения» [Живов 2005].
Содержание металингвистического мифа складывается из двух сюжетных мотивов: а) что должны делать ученые и б) чем они на самом деле занимаются. Представление о том, что должны делать ученые, выявляется в прямых или косвенных упреках, когда носитель языка обнаруживает недоработки ученых (1); в основном эти упреки связаны с неполнотой словарей (2):
(1) Нужно исследовать не праязык и даже не язык вообще, а язык в связи с производством, по преимуществу там, где явления еще живы (В. Шкловский. Третья фабрика); (2) <…> академических словарей недостаточно. Они совершенно не выражают разнообразия будничной лексики. Тем более ненормативной лексики, давно уже затопившей резервуары языка (С. Довлатов. Переводные картинки) и т. п.
В целом языковеды, по представлениям «наивного» сознания, занимаются изучением с л о в, преимущественно их истории и этимологии. Кроме того, для ученых важно получение точных количественных данных (какой бы скучной ни казалась эта задача). Ср. пример, в котором выражено «наивное» представление о содержании лингвистического исследования:
Знаешь, я хотел высчитать, сколько каждый автор употребил имен существительных, прилагательных, глаголов, наречий, затем, сколько у него главных предложений и придаточных, многоточий, знаков восклицаний и т. д. Не хватило терпения, да и сделать это может только какой-нибудь немец. Нашелся такой подлец Карл Иваныч, который высчитал, сколько раз у Цицерона встречается союз ut во всех его сочинениях (Д. Мамин-Сибиряк. Черты из жизни Пепко).
Таким образом, мифологичность является интегральным и системообразующим свойством обыденного метаязыкового сознания. Мифологичность, с одной стороны, проявляется как стратегия обработки метаязыковой информации, а с другой, – реализуется в виде значительного фонда лингвистических мифов, бытующих в социуме и поддерживаемых носителями языка.
Среди лингвистических мифов массового сознания есть целый ряд устойчивых «сюжетов», для которых характерна широкая распространенность, полимотивная структура, способность к «достраиванию». Исследование таких мифов может отвечать на следующие вопросы: а) какова мотивная структура мифа; б) как соотносится содержание мифа с системой представлений и ценностей социума, с другими лингвистическими и социальными мифами; в) какие «контр-мотивы» выдвигает обыденное сознание для развенчания мифа, г) как реализованы в данном мифе характерные черты мифологического мышления и т. д.
К наиболее устойчивым мифам русской лингвокультуры, безусловно, относится миф о русском мате, анализ которого предлагается далее.
В течение последних двух десятилетий появилось немало лингвистических работ, посвященных разным аспектам русской обсценной лексики[95]. Среди них антологии и сборники текстов, словари, монографии и тематические сборники, многочисленные статьи [см., в частности: Русский мат 1994; Успенский 1994; Василий Буй 1995[96]; Жельвис 1997; Левин 1998; Плуцер-Сарно 2001; 2005; Мокиенко 1994; Мокиенко, Никитина 2004; 2007; Злая лая 2005 и мн. др.]. В аспекте рассматриваемой темы представляют интерес статьи Г. Ф. Ковалева, который анализирует высказывания русских писателей о мате [Ковалев 2004], и М. Э. Рут, которая анализирует «легенды» о русском мате [Рут 2005]. Обширная литература вопроса позволяет ставить задачу сравнения научных и «наивных» представлений о предмете, выявления точек их пересечения и взаимовлияния.
Миф коллективного сознания можно представить, как своеобразный сюжет[97], который в нашем случае устанавливается (путем лингвистической реконструкции) на основе вербальных суждений носителей русской лингвокультуры. В этих суждениях представления о предмете могут проявляться как вассертивной части (в виде утверждений или отрицаний), так и в виде пресуппозиций, оказывающих влияние на содержание речи и выбор текстовых стратегий.
Прежде всего попытаемся выявить основные мотивы[98] мифа о русском мате.
Обсценная лексика находится в фокусе внимания носителей русского языка и регулярно становится предметом рефлексии. В литературных произведениях отмечается активность лексики данного разряда в современном дискурсе:
Я все думал, какого черта российские люди так уснащают свои устные (а Шура говорил, что сейчас и письменные) рассказы таким количеством ругательств, что иногда на слуху остается один мат, в котором исчезают и сюжет, и идея повествования. А многие общественные или политические деятели даже с трибун матерятся. Чтобы быть, так сказать, «ближе к народу» (В. Кунин. Кыся).
В русской литературе сложилась традиция обозначать брань (помимо слов мат, матерный, матершина, матерщина) при помощи описательных наименований (1) или эвфемизмов (2):
(1) Большая часть лиц, которые встретятся в нашем очерке, будут носить те клички, которыми нарекли их в товариществе, <…> но этого не можем сделать с Семеновым: бурсаки дали ему прозвище, какого не пропустит никакая цензура, – крайне неприличное (Н. Помяловский. Очерки бурсы); (2) Карту, видите ли, штурманский офицер ему не скоро подал… Ну, адмирал и осатанел, да и ругнул, знаете ли, его по-русски… А Иванов, хоть и штурман-с, маленький человечек, а все-таки имел свою амбицию и не стерпел, да и ответил ему на том же русском диалекте-с… (К. Станюкович. Беспокойный адмирал).
Как видим, во втором примере эвфемистической замене подвергается даже не обсценное слово, а соответствующий метаязыковой термин. Во второй половине ХХ – начале XXI вв. в литературных произведениях метаязыковая лексика, квалифицирующая сквернословие, становится более определенной: читатель имеет возможность понять совершенно недвусмысленное указание на ту или иную обсценную лексему – упоминание уступает местоописанию: автор не использует непосредственно обсценного слова, но описывает «адрес» предельно точно. Ср.:
Она с недоумением оглядела кухню и послала ее со всем грубым скарбом в такое место, какового у нее, как у женщины, быть не могло (В. Астафьев. Последний поклон); <…> ужасное слово из пяти букв, которое до конца своей жизни она ни разу не произнесла вслух. Слово это представлялось ей противно-коричневым, с бездонным провалом посредине и похожим на вывернутую наизнанку клизму (Л. Улицкая. Ветряная оспа).
В конце ХХ в. уже вполне обычны тексты, в которых воспроизводятся сами обсценизмы и в которых, таким образом, описание заменяется изображением, воспроизведением[99]. Меняет характер и авторская рефлексия о бранных словах: если до последнего десятилетия ХХ в. это была, как правило, речевая рефлексия (оценивалось использование обсценизмов в речи), то на рубеже веков учащаются случаи собственно языковой рефлексии (комментируются отдельные обсценизмы как единицы языка); бранные лексемы становятся объектом эстетического осмысления. Ср.:
<…> «материальные слова» выстроились как по ранжиру, и аж дрожат от нетерпения. Первый среди всех этот с завитушкой на головке, трехбуквенный забойщик, рядом его дама – толстопятая арка для проезда туда и обратно, с сырыми стенками, потом это слово-действо, меняющееся каждую секунду. Ну, очень выеживающе-побудительное слово (Г. Щербакова. Как накрылось одно акмэ).
В целом же рефлексивы о бранной лексике становятся в литературе более частотными. Носители языка квалифицируют «выход из подполья» матерной брани как один из признаков общего одичания (1); отмечается активизация обсценизмов в речи носителей литературного языка (2):
(1) <… > в Москве очень грязно, Москва одичала, непесенная стала, корявая, матерная (Н. Садур. Сад); (2) Несмотря на всю свою интеллигентность, Шура пользуется матом достаточно часто и свободно. Хотя у него прекрасный словарный запас и без этого. Но я заметил, что в так называемой интеллектуальной среде мат считается неким шиком!
Дескать, вот какая у меня речевая палитра. Могу так, а могу и эдак! (В. Кунин. Кыся).
В этих условиях продолжает активно функционировать и развиваться миф о русском мате. Главные мотивы этого мифа характеризуются высокой степенью повторяемости, о чём свидетельствует анализ многочисленных текстов[100]. Перечислим эти мотивы.
1. Мат – это особый язык, коммуникативно равноправный с «основным» русским языком:
Русский человек должен говорить на двух языках: на языке русском – языке Пушкина[101] и по-матерному (А. Ремизов. Кукха).
Язык брани может «замещать» обычный язык общения, поскольку обладает достаточными коммуникативными ресурсами и является «общедоступным»:
Кстати, я категорически не согласен, когда говорят, что наш народ ругается матом. Он матом не ругается, он на нем разговаривает. Это язык межнационального общения, в который иногда, если есть возможность, вставляется два-три приличных слова (А. Хайт. 224 избранные страницы).
Как и любой язык, для некоторых носителей мат может являться единственным коммуникативным средством, поэтому и носитель литературного языка должен им владеть:
<… > я с этим гадом в диспетчерском управлении два часа битых исключительно матерно объяснялся. Другого языка не понимает, кроме матерного (В. Катаев. Время, вперёд! НКРЯ).
Как особый язык, мат обладает не только собственным словарным составом, но и паралингвистическими характеристиками:
А вот и Варин голосок… Слов не понять, только можно разобрать, что произношение матерное (Б. Шергин. Варвара Ивановна).
2. Мат является общеупотребительным коммуникативным средством, которым пользуются абсолютно все россияне, даже интеллигенты и интеллектуалы:
Мое первое представление о морских офицерах постепенно изменялось. Оказалось, что эти благородные люди так же ругаются матерно, как и мужики в нашем селе, и даже дерутся (А. Новиков-Прибой. Цусима); <…> спросила Ольга, снабжая свою речь, как многие современные интеллектуалки, забубенным матом (А. Слаповский. День денег).
Мат – это язык «народного единства», не признающий социальных границ:
<… > русский язык – понятие очень широкое. Ведь у разных групп населения всегда был свой жаргон, свой особый язык: у музыкантов, у военных, у молодежи, у блатных. Но все же есть один язык, который близок и любим всеми, от простонародья до интеллигенции. Я имею в виду матерный (А. Хайт. 224 избранные страницы).
У каждого русского человека обсценизмы всегда актуализированы в сознании и автоматически выступают как ближайшие ассоциативные реакции на подходящий стимул. Подобные ассоциации настолько нормативны, что практически всегда можно предвидеть (1) соответствующие реакции и планировать их (2):
(1) <…> просто неловко вспомнить, как по приезде в Иерусалим я отказалась от прекрасной съемной квартиры <…> только по одной причине: дом <…> стоял на улице Писга. Я представила себе, как сообщаю свой адрес московским друзьям и как, посылая письма, они выводят на конверте: Pisga-street… / Нет-нет, сказала я маклеру, эта квартира мне не подходит. / <…> (Между прочим, «писга» означает – «вершина» <…>) (Д. Рубина. «Я не любовник макарон».); (2) Меняю фамилию из трех букв на аналогичную из пяти (Л. Измайлов. Миниатюры).
Намеки на обсценную лексику относятся к разряду «регулярных», или «продуктивных» намеков[102], которые «строятся по регулярным правилам реконструкции содержания и основываются на знаниях о мире, присущих подавляющему большинству членов языкового социума» [Баранов 2006]. Содержание, связанное с об-сценизмами, гарантированно воспринимается адресатом с высокой степенью точности, поскольку «намек формирует не альтернативный уровень содержания текста, а его имплицитную составляющую, непонимание которой может привести к коммуникативной неудаче» [Там же]. При замене бранных слов эвфемизмами, при использовании намека на обсценизм читатель легко справляется с «шифром» послания, «испытывая, может быть, особое эвристическое наслаждение от эффекта узнавания закодированного» [Мокиенко, Никитина 2004: 11].
Образованные люди (согласно мифу) пользуются обсценизмами не от бедности словаря, а преследуя определенные коммуникативные цели. Так, нецензурные выражения воспринимаются как проявление демократичности:
Ты материшься, чтобы подчеркнуть свое равенство со мной. Так всякие народники в прошлом веке делали, чтобы показать свою близость к народу (Э. Володарский. Дневник самоубийцы).
Для интеллигенции свободное использование обсценизмов – атрибут свободы:
Еще в СССР <…> шумела дискуссия о праве на литературную жизнь табуированных слов. С ученым видом поднимаясь над интеллигентской неловкостью, полумаститые писатели и доктора филологии защищали в печати права мата на литературное гражданство, светски впиливая в академические построения ядреный корень. Сыты лицемерием, хватит, свобода так свобода (М. Веллер. Ножик Сережи Довлатова).
3. Употребление мата имеет некоторые гендерные ограничения, которые можно считать своеобразными коммуникативными нормами. Так, вполне органичной (и даже обязательной) выглядит брань в устах мужчины (1). Грубые слова придают мужчине даже некоторый шарм, могут вызывать восхищение как проявление лихости, брутальности (2):
(1) Жили мы, заключённые <…> дружно, и начальство не очень притесняло. Когда выводили нас на работу, конвойные удивлялись: все мужики, а мата нет (И. Грекова. Хозяева жизни); (2) <… > и Долинин выругался таким усложненным многоэтажным матом, что Жанна неожиданно для себя расхохоталась и бросилась в объятия к своему озверевшему любовнику. / – Вот таким я тебя люблю! А ну еще раз заверни по матушке и по батюшке! (Ю. Азаров. Подозреваемый).
Женский мат признаётся противоестественным, поскольку женщинам свойственны иные эмоциональные реакции:
Я подчиненных, будучи редактором газеты, довожу до слез (девушек-корреспонденток) и до нервного мата (юношей-корреспондентов) (Е. Белкина. От любви до ненависти).
Брань в устах женщины вызывает резко отрицательную оценку со стороны как мужчин, так и женщин (1); нецензурные выражения, употребляемые женщиной, – это социальный знак (2): (1)
«Это плохо, что ты матом ругаешься. Девочкам матом ругаться нельзя», – сказал Холмогоров (О. Павлов. Карагандинские девятины… НКРЯ); Она представила себе побледневшие глаза Мур, тихий хрипловатый голос, повышающийся до звонкого стеклянного крика. <…> Самый подлый, самый нестерпимый мат – женский… (Л. Улицкая. Пиковая дама); (2) <…> курила, хлестала водку, ругалась матом – словом, законченная уголовница-рецидивистка (А. Рыбаков. Тяжелый песок).
4. В целом мат воспринимается как естественное средство коммуникации, рождающееся непосредственно из природной потребности человека. Так, брань позволяет снять напряжение, облегчить душу:
Андрей, дождавшись, когда веселая компания скрылась вдали, выскочил на дорогу с облегчающим душу матом и, перехватив дробовик за прохладные стволы, хрястнул им о телеграфный столб <…> (П. Проскурин. В старых ракитах. НКРЯ); Это экспрессия… Очень помогает. Знаешь, как хорошо ругаться матом? Лучше аутотренинга. Выразишься – и легкий! (Г. Щербакова. Год Алёны).
Мат – это уникальное средство выражения эмоций говорящего, отчего он не только органичен, но и необходим (особенно в условиях «нашей» действительности); это самая удобная форма искреннего самовыражения[103]:
Конечно, совсем без мата у нас нельзя. Кто ж кого тогда поймет? Конечно, он нужен. Иначе как реагировать на погоду, на преобразования в стране, вообще на все, что творится? (А. Трушкин. 208 избранных страниц); А вы говорите – зачем мат? а как же иначе? Русский мат есть не что иное, как единственно возможная и адекватная реакция на невыносимую нашу жизнь, а любая другая реакция – сублимация, эвфемизм, ложь (В. Соловьев. Три еврея, или Утешение в слезах).
В силу «природности» и органичности мата – проще и естественнее говорить с использованием бранной лексики; отказ от нее требует дополнительных коммуникативных усилий, делает речь более искусственной, затрудняет процесс речепорождения:
Вот вы замечали, что когда выступают наши руководители, у них всегда такие большие паузы между предложениями. А почему? Потому что они мысленно выбрасывают из речи все матерные слова, которые хотели бы сказать (А. Хайт. 224 избранные страницы).
Брань – естественное поведение живого человека и позволяет «диагностировать жизнь»; так, к персонажам М. Булгакова (1) и В. Астафьева (2) жизнь и способность оценивать окружающее возвращается вместе со способностью материться:
(1) На щеках расцвели алые пятна, и, скорчившись, в чистом белье, в халате, смягчился и ожил помороженный поручик Мышлаевский. Грозные матерные слова запрыгали в комнате, как град по подоконнику. Скосив глаза к носу, ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса, какого-то полковника Щеткина, мороз, Петлюру, и немцев, и метель <…> (М. Булгаков. Белая гвардия); (2) После грохота и неожиданного вихря минуту-другую все было в оцепенении, еще не закричали те, кого зацепило, еще не загорелись машины и не запрыгали с них бойцы, еще не объявились храбрые хохотуны и матерщинники, только слышно было, как поблизости проваливается меж сучьев срубленная вершина сосны <…> И сразу забегало по лесу начальство, спинывая с дымящихся костерков каски и котлы с картошкой, послышалось привычное, как для верующих «Отче наш»: «Мать! Мать! Мать!..» (В. Астафьев. Последний поклон).
5. Мат является универсальным и полифункциональным коммуникативным средством, при помощи которого можно выразить разнообразные смыслы:
– Так твою мать! – естественное, что вырвалось из Сашки, и Ашот отвечал ему тем же, выражающим все на свете, кратким, русским, назовем это – выражением (В. Некрасов. Маленькая печальная повесть).
Мат выражает как «предметные», так и модальные значения. Так, языком брани можно передать диктумный компонент семантики высказывания:
<… > он, крича по-матерному, чтоб давали дорогу, тряско бежал через все депо <…> (В. Чивилихин. Про Клаву Иванову); <…> вдруг расхохотался Водила и стал <…> очень матерно пересказывать мне все, что я знал гораздо лучше него (В. Кунин. Кыся); Мужик оживился на корме, матерно выразился, что должно было означать «Приехали!» (Г. Николаев. Вещие сны тихого психа); <… > и тогда Антипов горячо и матерно объяснял, что поручик единогласно избран ротой в качестве именно солдатского представителя (Б. Васильев. Дом, который построил Дед).
Еще более широкие возможности предоставляет сквернословие для выражения модальных смыслов. Так, обсценизмы используются для экспликации интенций говорящего:
Меженин, помнилось, непрерывным мрачным матом подгонял подносчиков снарядов (Ю. Бондарев. Берег); Особенно ему понравилась история артельной стряпухи – баронессы Серафимы Барк. <…> Однажды при нём она рыбацким матом пуганула здоровенного верзилу – пришёл за водкой – и тут же повернулась к отцу Андрею и объяснила по-французски: «Это ужасно, как приходится обращаться с этим народом, но, увы (helas, helas), иного языка он просто не в состоянии понять. Теперь он понял, что это решительный отказ, повернётся и уйдёт». И действительно верзила ушёл (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей); У меня тогда мелькнула мысль сказать им что-нибудь дружелюбно-матерное – всем четверым, что-нибудь такое международно-притонное, в котором было бы всего понемногу – и моей вроде бы блатной матросской удали («не на того, мол, нарвались, салажата»), и достаточной дозы панибратства («все мы немного подонки и поэтому равны»), и готовности добродушно расстаться тут же («всего, мол, хорошего») (К. Воробьев. Вот пришел великан).
При помощи мата выражается богатейший спектр значений субъективной модальности и различные эмоциональные состояния говорящего:
(1) Работяга <…> матерно поворчал насчет формальностей и отправился выписывать пропуск (М. Веллер. Белый ослик); (2) Тут раздался звук удара во что-то мягкое и одобрительная матерная разноголосица <…> (В. Пелевин. Девятый сон Веры Павловны); (3) Разбудила их Кувалда, матерно горевавшая о загубленных розах (Ю. Буйда. Живём всего два раза); (4) <…> Колька с Маргаритой, даже ссорясь, называли все и всех ласкательно и уменьшительно вперемежку с таким же ласкательным матом <… > (О. Славникова. Стрекоза, увеличенная до размеров собаки); (5) <…> парочка <…> принялась скверно и грязно браниться. Длинный свирепствовал, а маленький лишь что-то хныкал в ответ, но тоже матом (Е. Попов. Водоем); (6) <…> всадник в простой черкеске вдруг бросил стремена и поводья и на том же распаленном лошадином скаку стал выделывать такое, что весь казачий строй ахнул и разразился восторженной матерщиной (Б. Васильев. Были и небыли. НКРЯ); (7) Миша долго не затихал. В его матерщине звучала философская нота (С. Довлатов. Заповедник).
6. Мат далеко не всегда есть выражение грубости. Об этом свидетельствуют многочисленные упоминания о неинвективном употреблении бранных слов:
По дороге мы пели хором, а я изредка матерился, когда в темноте терял протоптанную тропинку и проваливался в сугроб. Но мат этот был скорее попыткой звукового оформления деревенского колорита, чем проявлением недовольства, потому что чувствовал я себя счастливым (Б. Левин. Блуждающие огни).
Обсценизмы могут использоваться и как вполне нейтральные единицы (1), могут свидетельствовать о проявлении теплых, дружеских чувств (2); вообще мат – обычный атрибут русской сердечности (3):
(1) Выпей как следует. И иди на… – лады? Матерное слово не обожгло. Оно было на месте. Оно было по делу (В. Маканин. Андеграунд, или герой нашего времени); (2) Они целуются долго и смачно, сдабривая поцелуй теплым матерным словом <… > (А. Мариенгоф. Роман без вранья); Новая семья сильно русифицировала меня. <… > стал пользоваться матом не только для ругани, но и для дружеского общения (Ю. Нагибин. Тьма в конце туннеля); (3) И мат – не воплями через весь двор, а просто в голос, в сердечном русском разговоре. Потому и милиция нарушений не видит, дружелюбно улыбается подрастающей смене (А. Солженицын. Пасхальный крестный ход).
7. Существуют особые коммуникативные сферы, где мат необходим и обычен. Так, мат устойчиво ассоциируется:
а) с пьянством:
Гуляки из рабочего люда <…> сквернословят вслух, несмотря на целые толпы детей и женщин, мимо которых проходят, – не от нахальства, а так, потому что пьяному и нельзя иметь другого языка, кроме сквернословного. Именно это язык, целый язык, я в этом убедился недавно, язык самый удобный и оригинальный, самый приспособленный к пьяному или даже лишь к хмельному состоянию, так что он совершенно не мог не явиться, и если б его совсем не было – il faudrait l'inventer. <…> Известно, что в хмелю первым делом связан и туго ворочается язык во рту, наплыв же мыслей и ощущений у хмельного, или у всякого не как стелька пьяного человека, почти удесятеряется. А потому естественно требуется, чтобы был отыскан такой язык, который мог бы удовлетворять этим обоим, противоположным друг другу состояниям. Язык этот уже спокон веку отыскан и принят во всей Руси (Ф. Достоевский. Дневник писателя);
б) с некоторыми типичными коммуникативными ситуациям и: диалоги в общественном транспорте (1), веселье, празднование (2) и т. п.:
(1) Где ругань, мат, где знаменитое «Куда лезешь, вагон не резиновый. Не нравится – бери такси»? Где все это, родное, московское? (В. Некрасов. Взгляд и Нечто); (2) – Да, во время войны замучились. Бывало, праздник подойдет – водки нет. И ходят все, ровно потеряли что. Матерного слова, бывало, за все святки не услышишь (П. Романов. Дым); Гулянка шла до полуночи – с громкими выкриками, матерщиной от души и даже попытками традиционно в таких случаях песни петь: про то, как шумел камыш, и про два берега у одной реки (Л. Корнешов. Газета. НКРЯ).
в) с процессами интенсивного труда:
Со временем на Усьве появится угольная шахта, <…> сплавные «гиганты» типа «Мыса», «Бобровки» <…> «украсят» дивные берега таежной красавицы, оскорбят ее пустынные пространства трудовым, «ударным» матом. (В. Астафьев. Веселый солдат);
г) с войной:
Прорычав свои обличения пополам с фронтовым матом, никогда прежде и никогда позже им не используемым, он был увезён с известного заседания непосредственно на канатчикову дачу. (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого);
д) с определенной социальной средой (жители деревни, заключенные, обитатели рабочих районов, бараков):
<…> в деревне почти все они, включая Гуркова, вели себя тише сломанной сенокосилки «Вихрь» и ниже местной речушки Вагайка, и даже генетическим матом ругались вполголоса (А. Логинов. Мираж); Крик, мат (лагерный мат, то есть что-то совершенно особое), летят раскалённые кольца, пышет сухим жаром (Ю. Домбровский. Хранитель древностей); В ней [матери] это иногда проявляется, народность происхождения, – матерится до самых черных слов. <…> Барак есть барак. <…> барак имеет свой дух. В этом духе много чего концентрируется. Живет в этом духе и мат. Он там нормален, как нормальна в воде рыба (Г. Щербакова. Три любви Маши Передреевой);.
е) с некоторыми локусами, где «неприличные надписи» обычны, уместны[104] и даже неизбежны – лифт (см. пример на с. 189), общественный туалет[105] и т. п.; они являются непременным атрибутом «городской субкультуры», служат «топографическими ориентирами» для жителей (такими же, как городские постройки) (1); эти надписи в соответствующих локусах живучи и неистребимы, в чем проявляется своеобразная преемственность поколений носителей русской народной культуры (2):
(1) Никита миновал памятник противотанковой пушке, магазин «Табак» и дошел уже до огромной матерной надписи на стене панельного Дворца бракосочетаний – это значило, что до дома еще пять минут ходьбы <…> (В. Пелевин. Спи); (2) Когда поднялась луна и ее мятный свет озарил миниатюрный бюстик Жуковского, на медной его спине можно было ясно разобрать написанное мелом краткое ругательство. / Впервые подобная надпись появилась на бюстике 15 июня 1897 года в ночь, наступившую непосредственно после открытия памятника. И как представители полиции, а впоследствии милиции ни старались, хулительная надпись аккуратно возобновлялась каждый день (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев);.
ж) с отдельными профессиями и видами занятий (при этом обнаруживается импликация: 'Именно у представителей этих профессий мат особенно выразителен / груб / ужасен и т. п.'; часто используется стандартная модель атрибутивного словосочетания «качественный распространитель + посессивный распространитель + мат»):
<…> на покушения отобрать гармонь отвечал солдатским зычным матом, задавая при этом вопросы, за кого он кровь проливал и ногу отдал? <…> (А. Слаповский. Гибель гитариста); Вукол выругался ужасающим диггерским матом <…> (В. Черкасов. Черный ящик); <… > по дороге он из конца в конец улицы погонял деревенских мужиков, намотав ремень с бляхой на кулак и сотрясая округу жутчайшим старшинским матом (М. Веллер. Баллада о знамени).
Для представителей некоторых профессий речь без сквернословия выглядит как аномальная:
Поразил он нас тем, что не матерился, – редкость для железнодорожника вообще, для начальника станции в частности. «Порченый», – решили мы единогласно, и такое ему прозвище от нас и прилипло (В. Астафьев. Последний поклон).
Регулярно отмечается непременное использование бранных слов р у к о в о д и т е л я м и всех рангов:
Требуют – все для фронта, все для победы. Приедут – матом кроют. По телефону звонят – матом. И Борисов матом, и Ревкин матом. А из обкома позвонят, тоже слова без мата сказать не могут (В. Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина); От мужского режиссёрского ремесла она [Волчек] взяла все необходимые профессиональные навыки: хриплый голос, сигарету в зубах, твёрдый характер, умение вовремя и по делу употреблять те самые запретные слова, без которых, как выяснилось, в России не может руководить никто, даже президент (Г. Горин. Иронические мемуары).
Данный мотив характеризуется высокой частотностью и в отдельных примерах опирается на аргумент «к авторитету»:
<… > такой умный человек, как вице-губернатор Салтыков, заметил, что первым словом опытного русского администратора во всех случаях должно быть слово матерное (В. Конецкий. Вчерашние заботы).
Миф генерализует явление «командирского мата» (как и положено мифу), распространяя его на в с е х, кто занимает руководящие должности, но отнюдь не является абсолютной выдумкой. Представление о связи социального доминирования с вербальной агрессией является достаточно устойчивым [Жельвис 1997: 56]; по данным исследователей, в состав концепта «Руководитель» входит признак 'кричит' [Попова, Стернин 2006: 47]
8. Мат – отнюдь не примитивное средство общения и требует определенного умения в использовании. Идея «умения» может реализовываться через мотив обучения, как, например, в рассказе Г. Горина «Случай на фабрике № 6». Рассказ начинается так:
Все неприятности младшего технолога Ларичева происходили оттого, что он не умел ругаться. Спорить еще кое-как мог, хотя тоже неважно, очень редко повышал голос, но употребить при случае крепкое словцо или, не дай Бог, выражение был просто не в силах. От этого страдал он сам, а главное – работа.
На обувной фабрике, где работали потомки языкастых сапожников, технолог был белой вороной. Орудие требует умелого использования, и, следовательно, обучения – Ларичев находит репетитора и прилежно осваивает правила использования бранных выражений.
Вершина умения – мастерство. Мастерское владение бранной лексикой вызывает уважение и восхищение (в отличие от «простой» ругани):
– Должен вам с сожалением заметить, – сказал он, <…> – что то, что мне привелось услышать, звучит некрасиво. И, пожалуй, грязно. А грязь, в каком бы виде она не была извлечена наружу, физическом или словесном, обычно вызывает отвращение… В частности, мат, которым вы пользуетесь в своей речи, <…> является неотъемлемой частью русского языка, обогащая его образностью и делая более красочным и емким. Но употреблять его следует умело и с изящностью. Ну, скажем, вот так. – Он задумался на мгновенье, многозначительно поднял палец… и произнес монолог, изобилующий выражениями, которыми я так бездумно перемежал свою речь, ни разу не повторившись и связав их в единое целое витиеватым сюжетом (Б. Левин. Блуждающие огни).
Одной из постоянных характеристик такого «умелого» использования мата является виртуозность и даже художественность:
<…> ругался матерными словами с той особенной молодеческой виртуозностью, которая в этих случаях присуща старым фронтовым служакам (А. Куприн. Поединок. НКРЯ); Ника выругалась предпоследними словами легко и высокохудожественно (Л. Улицкая. Медея и ее дети).
Виртуозность связана с умением вводить в один контекст разнообразные дериваты одной обсценной единицы[106]:
Хоть и редко, но случалось все-таки, что Богодул разговаривался со старухами – правда, и тогда курва на курве сидела и курвой погоняла, но все же это был связный, понятный рассказ, который можно было слушать и постороннему человеку. Старухи Богодула любили (В. Распутин. Прощание с Матёрой).
Такое скопление, нагромождение обсценизмов имеет постоянное обозначение – трехэтажный. Ср.: <…> трехэтажный мат разносится сейчас в салоне <…> автомобиля <…> (М. Милованов. Естественный отбор). В произведениях художественной литературы встречаются разнообразные эпитеты, описывающие виртуозную брань:
Весь этот монолог, как ягоды листочками в корзине, был пересыпан отборнейшим, великолепным многоступенчатым матом, открывающим такой простор воображению Кондаковой, что дух захватывало (Д. Рубина. Любка); Тут, в парикмахерской, Надежда в раю, здесь ее терпят, хохочут над ее загогулистым матом (Л. Петрушевская. Надька); <…> грубил генералам и чинам <…> Вплоть до матерщины в мужской компании, столь затейливо чудовищной, что свечи порою гасли (Б. Васильев. Картежник и бретер, игрок и дуэлянт. НКРЯ); Еще раз покрыл диковинным матом всех районных, городских и областных начальников <… > (А. Азольский. Монахи).
Еще один признак виртуозного сквернословия – умение сочетать бранные слова с обозначениями самых неожиданных реалий:
<… > кто-то от самого леса самозабвенно ругался неслыханно сложным матом, поминая стужу, бурю, святого апостола и селезенку (К. Воробьев. Убиты под Москвой).
9. Мат – уникальное явление русской культуры, он свидетельствует о древности нашего языка:
<…> он <…> просыпался только побраниться на станции, выпить рюмку старой водки у жида и снова залечь в плетеную бричку, лишь по временам покрикивая: «пошел!» и пересыпая это увещание перцем весьма выразительных русских междометий, разнообразие которых неоспоримо доказывает древность и богатство нашего языка, хотя их нельзя отыскать в академическом словаре (А. Бестужев-Марлинский. Вечер на Кавказских водах в 1824 г.).
Данный мотив реализуется также в суждениях о превосходстве русской брани над иностранными «аналогами»[107]:
<…> кораблестроитель академик Крылов – необыкновенный знаток русской обсценной лексики (он считал, что подобные выражения у матросов английского торгового флота знамениты краткостью, но у русских моряков превосходят их выразительностью) (А. Чудаков. Ложится мгла на старые ступени).
Мат – это национальное достояние, и он заслуживает почтительного отношения[108]. Например, Алексей Алексеич, герой одноименного рассказа И. Бунина, употребив в обществе грязное слово, на замечание собеседницы отвечает:
Ведь это же прекрасное старинное русское слово, коим наши отцы и деды не токмо в самом высшем свете, но даже и при дворе не гнушались. Ничего-то вы, княгиня, не знаете, даже страшно. Ведь это слово у самого протопопа Аввакума в его житии пишется, а уж на что сурьёзный был мужик этот протопоп..
Впрочем, достаточно часто высказывается идея об иноязычном происхождении обсценной лексики, но и в этом случае звучит призыв относиться к ней с уважением:
<…> мат, которым вы пользуетесь в своей речи, достался нам в наследство от трехсотлетнего пребывания под татарским игом и является неотъемлемой частью русского языка, обогащая его образностью и делая более красочным и емким (Б. Левин. Блуждающие огни).
Наконец, мат – это предмет экспорта, это то, чем россияне обогащают иные культуры:
На эскадре было двенадцать тысяч человек. Благодаря длительному пребыванию здесь они [русские моряки] не могли не оказать своего влияния на туземцев: развратили их женщин, научили население, до детей включительно, ругаться по-русски матерно (А. Новиков-Прибой. Цусима); Тосты произносились все бодрые, добрые, с напутствиями, в основном, определенного направления: «Главное, научи их пить! И мату рассейскому![109] (В. Некрасов. Маленькая печальная повесть).
Однако, несмотря на широкую известность русских бранных слов за пределами России, настоящая, полнокровная жизнь для них возможна только на родной почве, о чем охотно свидетельствуют писатели-эмигранты:
Что касается настоящего русского мата в полнокровной повседневной жизни израильтян, то он тоже имеет место. Да и как же иначе – страну эту строили, главным образом, выходцы из России, люди, поди, не чуждые традиции русского ядреного слова. А условия жизни в Палестине начала века, губительный ее климат и непростые, мягко говоря, взаимоотношения евреев с арабским населением очень и очень располагали к широкому употреблению глубинного матерного пласта русского фольклора. / Правда, с течением времени смысл того или иного выражения сместился, как-то смазался, пожух. / Например, очень распространенное здесь выражение «лех кебенимат» означает всего-навсего что-то вроде – «иди к черту» (Д. Рубина. «Я не любовник макарон».).
10. В целом русские относятся к мату положительно. Этот мотив поддерживается всеми другими мотивами, общий пафос которых – одобрение мата, восхищение, гордость. Ср.:
О! Это мгновение! Первая минута. О, эти исторгшиеся из уст – все те же, любимые и ненавистные, не меняющиеся в веках, неистребимые, невозможные в приличном обществе и все же произносимые, крепкие, крутые, обозначающие все на свете, кроме того, что они обозначают, о, эти слова, без которых не обходится ни одна радостная встреча, они были произнесены. И повторены (В. Некрасов. Маленькая печальная повесть).
Рефлексии о брани в произведениях художественной литературы зачастую окрашены в тона юмора, добродушной иронии. Ср. рассказ К. Станюковича «Смотр», в котором «морским терминам» (так иносказательно называют мат персонажи) отводится центральная, сюжетообразующая роль. В этом рассказе все персонажи разделены авторской точкой зрения на два лагеря – по их отношению к брани. Глупыми, ограниченными выглядят чопорные гости военного судна, которые боятся, как бы матросы и офицеры не оскорбили случайным соленым словцом посетившую корабль даму. Симпатии автора и читателей – на стороне моряков, которые блестяще выполняют свою работу и при этом с трудом удерживаются от привычных словечек. Малейшая заминка в работе, и все предосторожности забыты, гостям предоставляется возможность насладиться цветистыми выражениями в исполнении матросов, боцмана и даже офицеров (что, впрочем, нисколько не обескуражило гостью).
Умелое использование мата оценивается как одно из характерных проявлений талантливости человека:
Другое дело – Шура Плоткин. У него матерные выражения всегда остроумны и составляют ироничную основу почти любой фразы.
Или точно выражают всю степень его неудовольствия и раздражения по поводу того или иного явления. У Шуры мат столь органичен, так прекрасно вплетается в слова, исполненные глубокого и тонкого смысла, что иногда даже не замечаешь, был в этой Шуриной фразе мат или нет! Но Шура – человек талантливый (В. Кунин. Кыся).
А сама брань может доставлять даже эстетическое наслаждение:
<… > матерная, как и всякая ругань, просто как слово, самородно выбившееся, ведь это цельная стопа – стопа – ступ слов, а по звучности – звончей оплеухи, так – прекрасна (А. Ремизов. Кукха. Розановы письма).
Отметим, что для художественной литературы характерно не только воспроизведение стереотипов, но и стремление преодолевать их, критически осмысливать – в этом проявляется, в частности, амбивалентность обыденного метаязыкового сознания, колеблющегося между полюсами стереотипности и индивидуальности. Так, преодоление стереотипов, попытки разрушения мифа о мате обнаруживаются в следующих суждениях и оценках.
А. Русский мат вовсе не так уникален, как об этом говорят: Гордящийся богатством и силой русского мата просто не слышал романского. Католический – цветаст, изощрен – и жизнерадостен (М. Веллер. Ножик Сережи Довлатова).
Б. Употребление обсценизмов само по себе не является залогом эффективной речи – напротив, чрезмерное и «неумелое» использование бранных слов является коммуникативной помехой; из средства невероятной силы мат превращается в показатель коммуникативного бессилия – в тех случаях, когда выступает как единственное доступное говорящему речевое средство (1). Кроме того, смыслоразличительные возможности мата невелики, что может приводить к коммуникативной неудаче (2):
(1) Матерные слова были неотъемлемой частью речи племянника, без них она утрачивала всякий смысл. Позволить ему свободно материться было невозможно, поскольку в семье росли две дочери <…> Но и запретить было нельзя, так как это было бы равносильно приказанию вообще ничего не говорить (В. Тучков. Смерть приходит по Интернету); (2) – А тебе лежать, нах! – приказал он Хруппу. Хрупп на секунду остолбенел, монахи, наоборот, попадали. Фома давно заметил это параболическое действие русского мата: просишь одно, получаешь другое (С. Осипов. Страсти по Фоме).
В. Пресловутое мастерство в использовании бранной лексики отнюдь не выглядит распространенным явлением, и у этого есть свои причины:
Материться, надо заметить, человек умеет редко. Неинтеллигентный – в силу бедности воображения и убогости языка, интеллигентный – в силу неуместности статуса и ситуации (М. Веллер. Ножик Сережи Довлатова).
Данное утверждение не только развенчивает миф о «мастерстве», но и объективно оценивает предпосылки этого мифа: для малоразвитой языковой личности (наиболее активного «пользователя» обсценной лексики) «характерен очень большой (наибольший из возможных?) разрыв между имеющимися в ее распоряжении мыслительными и речевыми средствами. Результатом этого разрыва является неумение. свободно оперировать своим (как правило, ограниченным) вокабуляром, создавать новые речевые единицы. В частности, еще и потому виртуозная брань воспринимается. как недоступное большинству искусство» [Жельвис 1997: 43].
Г. Несмотря на привычную грубость современного речевого обихода, бранная лексика всё еще может восприниматься как оскорбление, а терпимое к ней отношение – как отсутствие самоуважения:
Он втискивается в лифт, и в который раз матерное слово, нацарапанное большими, как Ш и Б на таблице окулиста, буквами выпрыгивает перед ним. И не увернуться, оно написано на уровне лица, плюет жильцам в самые очи, это непотребное слово, вдолбленное на дюймовую глубину. Скоты, думает он, три месяца смотрят и хоть бы кто замазал. Никто себя не уважает, а впрочем, и не за что (И. Полянская. Твой Чижик).
Д. Писатели отмечают, что употребление бранных слов не всегда уместно и далеко не всегда создаёт ощущение той стилистической лихости, к которой стремится говорящий:
<… > у большинства Шуриных приятелей и приятельниц по университету, по редакции, по Союзу журналистов мат звучит и выглядит в их речи достаточно нелепо. Ну, например, как если бы женщина к вечернему платью, пахнущему дорогими французскими духами, напялила бы вонючие солдатские кирзовые сапоги! (В. Кунин. Кыся).
Е. Носители языка считают сквернословие, в первую очередь, проявлением негативных эмоций и дурных свойст в характера (1); употребление обсценизмов может ассоциироваться с интеллектуальной ущербностью (2):
(1) Зависть же порождает лишь озлобленный и бессильный мат (С. Данилюк. Рублёвая зона); (2) Был он темен и непрогляден. Казалось, что с тех пор, как ему удалось самостоятельно выцарапать на заборе свое первое бранное слово, он окончательно уверовал в то, что превзошел все науки, и от дальнейшего расширения горизонтов решительно уклонился (Б. Левин. Блуждающие огни).
Ж. Бранные конструкции отнюдь не всегда вызывают восхищение – как правило, они маловыразительны:
<… > бесконечно ждут, ждут, ждут троллейбус, после чего медленно, со вздохами и тусклым матом втискиваются в его трескающиеся от тесноты двери (В. Маканин. Андеграунд, или герой нашего времени); На любые просьбы всегда отвечала полусмазанным, нечетким матом (Л. Петрушевская. Три лица. НКРЯ).
З. Активизация обсценизмов на самом деле свидетельствует не о «расцвете» данного пласта лексики, а о его упадке. Запрет на употребление нецензурных слов препятствует не свободе слова, а истощению экспрессивных ресурсов языка:
Экспрессия! Потому и существует языковое табу, что требуются сильные, запредельные, невозможные выражения для соответствующих чувств при соответствующих случаях. Нарушение табу – уже акт экспрессии, взлом, отражение сильных чувств, не вмещающихся в обычные рамки. Нечто экстраординарное. Снятие табу имеет следствием исчезновение сильных выражений. Слова те же, а экспрессия ушла. <…> Запрет и его нарушение включены в смысл знака. При детабуи-ровании сохраняется код – информация в коде меняется. Она декодируется уже иначе. Смысл сужается. Незапертый порох сгорает свободно, не может произвести удар выстрела. На пляже все голые – ты сними юбку в филармонии. Условность табу – важнейший элемент условности языка вообще. А язык-то весь – вторая сигнальная, условная, система. С уничтожением фигуры умолчания в языке становится на одну фигуру меньше – а больше всего на несколько слов, которые стремительно сравниваются по сфере применения и выразительностью с прочими. Нет запрета – нет запретных слов – нет кощунства, стресса, оскорбления, эпатажа, экспрессии, кайфа и прочее – а есть очередной этап развития лингвистической энтропии, понижения энергетической напряженности, эмоциональной заряженности, падения разности потенциалов языка (М. Веллер. Ножик Сережи Довлатова).
Противоположные оценки мата отнюдь не отрицают друг друга. Во-первых, многие комментаторы последовательно проводят мысль о том, что материться не следует, но можно, если «к месту» и «с уменьем». А во-вторых, здесь проявляется характерный для русского коммуникативного сознания разрыв между «рефлексивным» и «бытийным» уровнями отношения к языку, при котором «рецептивно брань осуждается, бытийно – допускается и даже объясняется необходимость брани» [Стернин 2002: 317]. Иначе говоря, брань осуждается только «на словах», а на деле ее использование вызывает интерес и даже поощряется. Ср.:
С треском распахивались рамы, и из окон выглядывали веселые жильцы. С улицы во двор, не спеша, входили любопытные. При виде аудитории дворник разжегся еще больше. / – Слесарь-механик! – вскрикивал дворник. – Аристократ собачий! / Парламентарные выражения дворник богато перемежал нецензурными словами, которым отдавал предпочтение. Слабое женское сословие, густо облепившее подоконники, очень негодовало на дворника, но от окон не отходило (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев).
В целом оценки допустимости / недопустимости нецензурных выражений в конкретных ситуациях выстраиваются во вполне определенную шкалу «уместности», на противоположных краях которой находятся некие условные антиподы, один из которых (1) в определенных условиях может материться, а другой (2) ни в коем случае не может: (1) мужчина[110] и (2) женщина, (1) малообразованный персонаж и (2) «культурный», (1) субъект в условиях крайнего дискомфорта и (2) благополучный человек. Ср. высказывание, в котором данное мнение выражено в «концентрированном» виде:
<… > когда работяга, корячась, да ручником, да вместо зубила тяпнет по пальцу – все, что он при этом скажет, будет святой истиной, вырвавшейся из глубины души [1]. Кель ситуасьон! Когда же московская поэтесса, да в фирменном прикиде и макияже, да в салонной беседе, воображая светскую раскованность, женственным тоном да поливает [2] – хочется послать ее мыть с мылом рот <…> (М. Веллер. Ножик Сережи Довлатова).
Выше отмечались такие признаки мифа, как а) упрощенное и схематичное представление об объекте, б) абсолютизация опыта и приоритет опыта перед теоретическим знанием, в) прецедентность. Анализ рефлексивов о мате позволяет конкретизировать эти положения, а также выявить ряд особенностей мифа, которые связаны с его способностью к развитию.
Так, упрощение и схематизация проявляются в абсолютизации отдельных качеств объекта и игнорировании других. Например, миф о мате не разграничивает употребления обсценизмов в основной номинативной функции (для называния соответствующих реалий – при отсутствии в словаре говорящего других лексических единиц с таким же значением) и в инвективной, именно в роли матерщины, под которой понимается «сознательная замена эмоционально и стилистически нейтрального слова более грубым, пренебрежительным, заряженным эмоционально-экспрессивной оценкой» [Русский мат 1994: 287].
Применительно к данному мифу трудно говорить о приоритете опыта над теоретическим знанием, поскольку теоретические исследования данной тематики малодоступны рядовому носителю языка. Кроме того, в своих практических «взаимоотношениях» с бранью носитель языка не имеет оснований обращаться к помощи науки (Ср., например, с другими мифами – медицинскими, метеорологическими, ортологическими и т. п. Во всех этих сферах человек имеет возможность выбора: обратиться ли к помощи науки или довериться мифологическому представлению).
Миф о мате не только поддерживается коллективным сознанием, но и «достраивается». При этом «достраивании» обыденное сознание руководствуется «логикой мифа»: миф диктует свои собственные условия и проявляет такие качества, как «селективность», «центростремительность» и «поиски авторитета».
Под «селективностью» мы понимаем свойство мифа, во-первых, отбирать факты, согласующиеся с «логикой мифа», а во-вторых, игнорировать факты, противоречащие мифу. Для обыденного сознания, формирующего и поддерживающего миф, характерно игнорирование фактов и мнений, противоречащих «логике» мифа. Скажем, очевидно, что для большинства жанров речи / коммуникативных ситуаций употребление обсценизмов нецелесообразно. В то же время ряд жанров допускает использование мата и даже замену полнозначных слов обсценными дисфемизмами – это является достаточным основанием для формирования мифологического мотива 'Любую информацию можно передать при помощи мата'.
Свойство селективности (избирательности) отличает мифологическое сознание от научного: профессиональное изучение какого-либо явления предполагает учет всех релевантных примеров. Противоречивые факты не игнорируются исследователями, а стимулируют уточнение теории, поиски новых принципов описания, формирование целых научных направлений.
При «достраивании» мифа обыденное сознание склонно, во-первых, «вовлекать в орбиту» соответствующего мифа факты и сюжеты, ассоциативно связанные с мифом, а во-вторых, давать им интерпретацию в соответствии с «логикой мифа». Назовем это свойство мифа его «центростремительностью». Благодаря «центростремительности» мифа о мате любое попавшее в фокус внимания социума новое слово, выражение, название, которое может подвергнуться рифмовке, ассоциативному, паронимическому или этимологическому сближению с бранным словом и т. п., обязательно подвергнется этой метаязыковой операции.
Скопившиеся под дальними саженцами пацаны подхватили забавное для них слово – Европа и, хихикая, сразу же приспособили к нему свой к ладу, к созвучности добавок, за что восседавший за кумачом Прошка-председатель тут же отчитал остряков: / – А ну-ка, грамотеи! На срамное вы завсегда мастера (Е. Носов. Усвятские шлемоносцы).
При «достраивании» мифа обыденное сознание прибегает к «поискам авторитета» (например, Пушкин тоже ругался…). Причем таким авторитетом в мифе также выступают фигуры, в значительной степени мифологизированные в обыденном сознании. Например, в качестве примера «сквернословов» от классической литературы называются чаще всего Пушкин и Толстой, но практически никогда – известные писатели и поэты, чье пристрастие к обсценной лексике «документально зафиксировано» во многих доступных литературных текстах: И. Бунин [см.: Бунин 1990: 83], А. Куприн [Одоевцева 1989: 289], И. Бродский [Волков 2006]. Другими словами, для мифа важна не фактическая точность, а «узнаваемость» используемых образов.
Таким образом, миф о мате наглядно, на многих примерах демонстрирует основные признаки, характерные для мифа в целом и лингвистического мифа в частности.
Глава III Рефлексив как компонент художественного текста
…право, иное названье еще драгоценней самой вещи
Н. Гоголь3.1. Проблемы изучения рефлексива как компонента художественного текста
В последние годы ХХ – первом десятилетии XXI вв. изучение метаязыковой рефлексии в художественном тексте[111] развивается в двух направлениях. С одной стороны, лингвисты стремятся в целом осмыслить феномен лингворефлексии в контексте специфики художественной речи (Н. А. Николина, Л. В. Зубова, Н. А. Батюкова и др.). С другой стороны, происходит стремительное расширение и детализация проблематики. Исследователи рассматривают метаязыковую рефлексию на разном литературном материале: в поэзии [Зубова 1997; 2003; 2010; Фатеева 2000; Хазагеров 2000; Догалакова 2002; Кекова 2003; Николина 2004 а; 2009 б; Крылова 2007; Кузьмина 2008; 2009], в драме [Журавлева 2001; Николина 2006 б], в классической [Николина 1997; 2005 б и др.; Кожевникова, Николина 1994; Санджи-Гаряева 1999; Кожевникова 1998 б; 1999; 2002; Калашников 2003; Судаков 2010] и современной художественной прозе [Черняк В. Д. 2007; Шехватова 2007], в том числе в массовой литературе [Черняк М. А. 2007; Садовникова 2007]. Ставится проблема изучения «лингвистической составляющей» произведений детской литературы [Николенкова 2007; Дудко 2010]. Внимание ученых привлекают особенности художественной рефлексии, направленной на разные факты языка и речи: актуальное состояние языка и языковые изменения [Кожевникова 2002; Черняк В. Д. 2006; 2007; Попкова 2006; Шехватова 2007; Щукина 2007], особенности поэтической речи [Шумарина 2008 б], на специфику различных речевых жанров [Николина 2004 б; Балахонская 2007], аспекты речевого поведения [Николина 2005 б; 2006 а; Дементьев 2007], грамматику [Николина 2004 в] и лексику языка [Николина 1986; 1997]. М. В. Ляпон, исследуя метаязыковую рефлексию в текстах М. Цветаевой и В. Набокова, ставит перед собой цель «реконструкции речевого портрета стилесозидающего субъекта» [Ляпон 2006: 344].
Вносят вклад в изучение проблематики «поэтического языковедения» наблюдения, которые содержатся в работах, посвященных лингвостилистическому анализу художественных произведений о языке и речи [см., напр.: Осовская 1986; Николина 1997; Шумарина 2008 а; Грязнова 2010 и др.].
В целом ряде исследований суждения писателей, поэтов о языке интерпретировались как особая форма филологического знания.
Так, особым направлением в филологии стало учение о мета-поэтике [см.: Штайн 2007; Штайн, Петренко 2006; Три века… 2002–2006 и др.], которая определяется как «поэтика по данным мета-поэтического текста, или код автора, имплицированный или эксплицированный в текстах о художественных текстах» [Штайн 2007: 49]. Мастер художественного слова в процессе создания произведений постоянно осуществляет рефлексию над творчеством, и направление этой рефлексии – «работа над материалом, языком, выявление приемов, раскрытие тайн мастерства» [Там же]. Понятие метапоэтики шире, чем понятие метаязыковой рефлексии, поскольку объектом метапоэтических размышлений является не только язык как материал художественного творчества, не только речевая специфика тех или иных жанров, но и сам процесс художественного творчества, соотнесение поэтической техники с традициями той или иной поэтической школы, с философскими концепциями и т. д.
Источником данных по метапоэтике служат сепаративные (эксплицированные) и иннективные (имплицитные) метапоэтические тексты. Эксплицированные тексты – это «работы художника по поэтике, статьи, эссе о поэзии, языке, творчестве» [Там же: 41–42]. К настоящему моменту известен целый ряд работ, посвященных эксплицированным метапоэтическим текстам [напр.: Новиков 1990; Кожевникова 1994; Цивьян 2001; Маркасов 2003; Акимова 2007;
Черняков 2007; Минц 2008 и др.]. Для задач нашего исследования представляют особый интерес фрагменты метапоэтики, представленной непосредственно в художественных текстах (иннективные метапоэтические тексты), которые посвящены анализу поэтических свойств языка, осмыслению речевых признаков тех или иных литературных жанров [см.: Шумарина 2008 б].
Я. И. Гин предлагал выделить особую область знания, которую назвал «поэтическая филология» [Гин 1996: 125–127]. Подходы к изучению «поэтической филологии»[112] намечены Я. И. Гином лишь в общих чертах, однако в его работах высказаны положения, имеющие принципиальное значение для исследования этого специфического объекта. Отдельные тезисы [см.: Гин 1996; 2006] позволяют реконструировать основные черты концепции.
«Поэтическая филология» – это «высказывания писателей о языке, литературе, фольклоре (в статьях, рецензиях, комментариях, манифестах, письмах и т. д. – вплоть до филологических пассажей в самих художественных текстах), – объект гетероморфный и гетерогенный» [Гин 1996: 125]. Как видим, для Я. И. Гина факты «поэтической филологии» локализованы «в статьях, рецензиях, комментариях, манифестах, письмах и т. д. – вплоть до филологических пассажей в самих художественных текстах». Это вплоть до показывает, что художественный текст отнюдь не является основным источником поэтико-филологической информации.
По мысли ученого, субъектом «поэтической филологии» является писатель, поэт, который имеет некую филологическую концепцию и – в идеале – излагает эту концепцию более или менее целостно в каком-либо тексте (текстах): в эссе, статье, манифесте и т. д. А художественный текст выступает вспомогательным источником недостающих данных. Ср.: ««Поэтическая филология» может быть выражена неполно – тогда необходима реконструкция «поэтической филологии», привлечение косвенных свидетельств. Так, хотя С. Я. Маршак как будто полно изложил в статьях о языке и рифме свои взгляды на поэтическую речь, исходные постулаты остались в подтексте; понять их помогают стихи («Словарь») и различные высказывания поэта (из его писем, воспоминаний о нем)» [Там же: 126].
В концепции Я. И. Гина важное место занимает вопрос о соотношении «поэтической филологии» и научной. «Поэтическая филология», по мнению ученого, есть «своеобразное средостение между искусством и наукой» [Там же: 125], в то же время она не должна оцениваться с позиции научности, поскольку обладает свойствами искусства: «Отождествлять «поэтическую филологию» с наукой или, наоборот, считать ее «ненаучной» филологией – все равно что отождествлять поэтическую этимологию с научной или ложной; следует учитывать художественную условность «поэтической филологии»» [Там же]. Роль «поэтической филологии» ученый видит в ее возможном вкладе в науку: «В филологии нередко новые идеи высказывают сами художники слова, а ученым остается лишь «перевести» их слова на язык науки» [Гин 2006: 215]. Однако, по мнению ученого, нужно разработать механизмы «координации» двух форм филологического знания: «Очевидно, предпосылкой плодотворного взаимодействия, «сотрудничества» двух этих сфер культуры является осознание различия языков, на которых они говорят, и осознание необходимости перевода «поэтической филологии» на язык науки» [Гин 1996: 125].
Метаязыковые комментарии в художественных текстах можно рассматривать как один из аспектов «поэтической филологии».
Т. В. Цивьян говорит о «мнимой лингвистике» в связи с творчеством В. Хлебникова1 [Цивьян 2004] и Л. Липавского [Цивьян 2001]. «Мнимая лингвистика» – это суждения поэтов о языке, которые «в принципе в науку о языке (не только в современную) не вписываются, а в некоторых своих пассажах напоминают – horribile dictu – теории полубезумных лингвистов-самоучек, открывающих, что этруски – это русские» [Цивьян 2001: 233]. Тем не менее нельзя воспринимать лингвистику В. Хлебникова и Л. Липавского как проявление невежества – это все-таки особые лингвистические взгляды, «это такая форма описания языка, которая открывает нам неединственность лингвистического описания, выработанного специально для языка» [Там же: 238]. И дело даже не в том, что у поэта могут быть «поразительные по проницательности открытия» [Там же: 233], а в том, что к «мнимой лингвистике» надо подходить с иными мерками, ориентироваться на иные принципы ее интерпре
1 Ср. также с понятием «воображаемая филология» [Григорьев 1982; 1983].
тации. Ср.: «.анализ взглядов Липавского на язык надо начинать не с их приведения в соответствие с привычными языковыми стандартами (= правилами описания), а с выяснения общих взглядов автора на такую уникальную собственность человека, как язык» [Там же: 238]. Для Хлебникова и Липавского эта «неправильная» лингвистика была собственным поиском, «установлением связи означающего / означаемого, звука / смысла» [Цивьян 2004: 592], которые были бы истинными не для языка вообще, а именно для конкретного, собственного поэтического языка. Это не просто лингвистика, а поиски философии языка [Бухштаб 2008], общей семиотики и культурной антропологии [Цивьян 2004: 593].
Л. В. Зубова пишет о «лингвистике поэтов посмодернизма» [Зубова 2003], вкладывая в данное обозначение двойной смысл: это и особенности языка поэтов, и особые способы эстетической интерпретации языковой материи (т. е. специфические приемы метаязыковой рефлексии). Л. В. Зубова в своих работах неоднократно обращает внимание на то, что поэты «исследуют свойства языка», что современную поэзию «можно рассматривать как своеобразную лингвистическую лабораторию» [Зубова 2010: 336].
Таким образом, в целом ряде исследований, затрагивающих вопрос о метаязыковой рефлексии в художественном тексте, формулируются положения, которые позволяют рассматривать в качестве особого объекта лингвистического исследования способы эстетической интерпретации сведений о языке / речи в художественных произведениях.
Как показывает анализ литературы, исследователей в большей мере привлекает «лингводицея» поэтического текста. Так, Н. Е. Сулименко отмечает, что метаязыковая рефлексия над словом, которая активно изучалась на материале поэзии, пока мало исследована на материале прозаических текстов [Сулименко 2009: 58]. В то же время представляется небезынтересным исследование «лингвистической составляющей» в текстах художественной прозы. Поэтический текст, в силу «тесноты стихового ряда» [Тынянов 1924], «уплотненной художественно-информационной структуры стихотворных текстов» [Фатеева 2000: 114], накладывает определенные ограничения на формулирование метаязыковых деклараций. Поэтому целостные, развернутые концепции языка поэты, как правило, излагают в непоэтических произведениях (эссе, манифесты, статьи и т. д.). Прозаический же текст предоставляет возможности более развернутого, подробного изложения лингвистических воззрений автора – в виде отдельных текстов метаязыковой тематики (ср. рассказ К. Станюковича «Смотр»), фрагментов текстов (ср. объемные лирические отступления в «Мертвых душах» Н. Гоголя) или развернутых суждений (ср. в «Метели» А. Пушкина: Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание).
При изучении рефлексивов в текстах русской литературы нужно учесть ряд моментов, обусловленных спецификой художественного текста. Так, в эстетически организованном тексте весьма условной выглядит граница между «автоматической» и «отрефлексированной» речью. Г. О. Винокур указывал на одну из принципиальных особенностей художественного текста: «Язык со своими прямыми значениями в поэтическом употреблении как бы весь опрокинут в тему и идею художественного замысла, и вот почему художнику не все равно, как назвать то, что он видит и показывает другим» [Винокур 1997: 193]. Именно поэтому «поэтическое слово в принципе есть рефлектирующее слово» [Там же: 194; см. также: Славиньский 1975: 264]. Следовательно, использование всех языковых единиц в тексте, их отбор и комбинация, являются результатом сознательной деятельности автора – в тексте нет «случайных» элементов, все используемые средства подверглись авторской рефлексии. Поэтому в принципе о каждом употреблении в тексте языковой единицы или конструкции можно говорить в связи с мотивами ее выбора автором[113] (другими словами, за каждым словом, выражением, конструкцией должна обнаруживаться – пусть имплицитная, но обязательная – метаязыковая оценка).
Тезис о принципиальной «отрефлектированности» слова в литературном произведении по умолчанию принят большинством исследователей художественного текста. Специалисты отмечают, что уже само эстетическое отношение есть рефлексия [Тамарченко, Тюпа, Бройтман 2004]. Как правило, не оспаривается положение о том, что в поэтическом произведении ни один элемент не является случайным, все они обусловлены художественным замыслом, то есть подвергнуты писателем сознательной селекции, а следовательно, являются результатом рефлексии писателя.
Исходя из всего сказанного, подчеркнем: рефлексивы в художественном тексте – это намеренно актуализированные метаязыковые суждения, несущие эстетическую нагрузку. Рефлексив здесь всегда находится в позиции выдвижения, обязательно демонстрирует то или иное образное приращение. В эстетически организованных текстах не может быть «обычных» рефлексивов, которые «просто» указывают на выбор выражения или «просто» объясняют значение непонятного слова. Ср. следующий пример:
<…> и вот тут-то Михайлов вразрез начинает говорить (ворчать), что Алевтина Алевтиной, а семья семьёй (В. Маканин. Отдушина).
Очевидно, что слово ворчать оценивается здесь как более точное (более выразительное) и, следовательно, более уместное в данном случае, поэтому в процессе порождения высказывания автор «исправляет» фразу. Однако художественный текст не является спонтанным и (в отличие, скажем, от устной речи) дает возможность пишущему «спрятать» исправления, представить читателю уже отредактированный текст. Безусловно, экспликация процесса поиска нужного выражения происходит в соответствии с авторским намерением. Таким образом, формальные средства, служащие сигналами экспликации метаязыковых суждений в художественных текстах, одновременно являются и средствами актуализации эстетической функции рефлексивов.
Следует также учесть, что метаязыковая рефлексия в художественном тексте носит характер не только «отражающий» (комментирование реально существующих фактов языка / речи), но и креативный, «творящий» (создание новой языковой реальности, формирование языковой ткани, языкового мира произведения). Следовательно, к метаязыковым контекстам следует относить и те, в которых вводятся факты языка, созданные авторским воображением (например, собственные имена персонажей, вымышленные географические названия, лексика фантастических миров и т. п.).
Можно сформулировать целый ряд проблем, которые следует рассматривать, изучая метаязыковую рефлексию как одно из средств художественной выразительности: а) специфика объекта рефлексии; б) мотивы метаязыкового дискурса; в) художественные приемы, связанные с использованием метаязыковой рефлексии; г) функции рефлексивов в художественном тексте. Каждый из этих вопросов заслуживает отдельного исследования, в данной книге лишь наметим возможные пути их решения и приведем отдельные примеры.
1. Специфика объекта метаязыковой рефлексии в художественном тексте. Лингвистические положения, которые становятся в художественных текстах объектом эстетического преобразования, имеют два источника: 1) «реальная лингвистика» (известные факты языка / речи, подвергающиеся поэтической рефлексии) и 2) авторский вымысел («ирреальная лингвистика»).
«Реальная лингвистика» – это факты реального знания о языке, то есть а) элементы научного языкознания и б) положения обыденной лингвистики. Те трансформации лингвистического материала, которые используются для «создания образа, настроения или для суждения о выразительной стороне языка» [Шварцкопф 1970: 300], основаны на реальных метаязыковых представлениях личности.
«Ирреальная лингвистика»[114] – это конструирование фактов, которых нет в реально существующем языке и которые создаются фантазией автора для решения определенных художественных задач. К таким фактам отнесем следующие.
А. Конструирование авторами языков для решения определенных эстетических задач. Такие языки традиционно создаются для различных фантастических миров, описываемых в художественном тексте. Как правило, авторы создают «фантастическую» лексику, которая либо представляет собой эквиваленты слов русского языка (1), либо является безэквивалентной и обозначает специфические реалии условного мира (2):
(1) Приблизился к людям, поднял крошечную руку в широком рукаве, и сказал тонким, стеклянным, медленным голосом птичье слово: / – Талцетл. / Еще более расширились его глаза, осветились холодным возбуждением. Он повторил птичье слово и повелительно указал на небо (А. Н. Толстой. Аэлита); (2) Кроме автолошадок, здесь были еще так называемые спиралеходы. У этих машин вместо колес сделан винт, или спираль, вроде как у мясорубки. Когда винт вертит, машина двигается вперед (Н. Носов. Незнайка в Солнечном городе).
В реальной действительности существуют системы условных обозначений, понятных ограниченной группе лиц (в групповом или межличностном общении). Отражая подобные факты в художественных текстах, авторы также прибегают к созданию «групповых» языков. Ср.:
<…> у нас с Володей установились, бог знает как, следующие слова с соответствующими понятиями: изюм означало тщеславное желание показать, что у меня есть деньги, шишка (причем надо было соединить пальцы и сделать особенное ударение на оба ш) означало что-то свежее, здоровое, изящное, но не щегольское; существительное, употребленное во множественном числе, означало несправедливое пристрастие к этому предмету и т. д., и т. д. (Л. Толстой. Юность).
Б. В художественных текстах создаются и комментируются отдельные слова и выражения (авторские новообразования), которые не только обладают особыми экспрессивными свойствами, но и нередко заполняют лакуны в лексической системе языка. Ср. комментарий автора к слову, сконструированному для обозначения человека, который помогает старым знакомым не потерять связь между собой, созванивается с ними, ведет переписку[115]:
Он был связитель – такое странное всплыло слово, когда я думал о нем. Не связной (что-то армейское) и не связыватель (как если бы руки), а именно связитель (Е. Шкловский. Связитель).
В. В художественных текстах устанавливаются воображаемые словообразовательные (1) и этимологические (2) связи (поэтическая этимология):
(1) Слово «западло» состоит из слова «Запад» и формообразующего суффикса «ло», который образует существительные вроде «бухло» и «фуфло». Не рано ли призывать склонный к такому словообразованию народ под знамена демократии и прогресса? (В. Пелевин. Ампир В); (2) <…> один сказочно богатый нувориш (оказывается, это слово происходит от новоруса: нувориш – новорус – совсем рядом, а мы и не подозревали) с небывалым размахом громыхнул свадьбу своей дочери в рабочей столовой <…> (В. Распутин. Новая профессия).
Г. В художественных текстах осуществляется интерпретация семантических и грамматических свойств языковых единиц, заведомо не совпадающая с существующим лингвистическим (научным и даже обыденным) знанием. Так, метаязыковые комментарии к словам в художественных текстах могут устанавливать и фиксировать следующие контекстные сдвиги в значении номинативных единиц: замена денотативного значения (1), утрата словом культурных коннотаций (2) и др.:
(1) <… > и для большинства ученых в области человеческой психики еще имеют место белые пятна. Эти пятна и позволяют действовать феноменам, одни из которых различают цвета пальцами, другие запоминают наизусть телефонный справочник, а третьи одеваются во все заграничное, не выезжая за пределы родной области (так называемый телекинез)… (М. Мишин. Заботы Сергея Антоновича); (2) Игра «футбол», о которой Фандорин столько слышал от знакомых британцев, оказалась ужасной дрянью. Не спорт, а какая-то классовая борьба: толпа людей в красных джерси кидается на толпу людей в белых джерси, и было б из-за чего, а то из-за надутого куска свиной кожи (Б. Акунин. Чаепитие в Бристоле).
В тексте могут устанавливаться новые системные связи единицы, которые отсутствуют у нее в реальной языковой системе: синонимические (1), антонимические (2) и т. п.
(1) Тогда же придет на мысль, что ведь, в сущности, это полные синонимы – слово «счастье» и слово «жизнь»… (В. Пьецух. Деревенские дневники); (2) Человек начинает замечать историю <…> когда обнаруживает несовершенство в окружающем мире, когда начинает выпадать из стаи, становиться аутсайдером (так хотелось применить неологизм – аутстайером, выпавшим из стаи. Вот где, оказывается, скрывается антоним: не стайер – спринтер, а стайер – аутстайер) (С. Штерн. Ниже уровня моря).
Д. Автор художественного текста моделирует языковую практику и дискурсивное поведение воображаемых сообществ, например, топонимику и антропонимику вымышленной страны, речевой этикет обитателей ирреальных миров, «искусственные» речевые жанры и т. п. Ср.:
– Городок Кимгим на месте Калининграда – легко. Городок Зархтан на месте Питера – да запросто! С фонетикой им не повезло. <…>
– Привет! – Мужчина крепко пожал мне руку. – Ты Кирилл, знаю. <…> Я – Цайес. / Я еще раз подумал, что жителям Кимгима не везет с фонетикой (С. Лукьяненко. Черновик).
Доля «ирреальной лингвистики» в художественном тексте выше, чем может показаться на первый взгляд. Надо помнить, что даже в произведениях, ориентированных на максимальную достоверность изображения, писатель не «фотографирует» действительность, а строит уникальный художественный мир, поскольку «создание очередного художественного текста есть творение очередного мира» [Норман 2006: 249]. Мир, созданный творческим воображением художника, не может полностью совпадать с реальным миром, и язык этого мира также в значительной мере ирреален. Так, предлагаемое автором толкование слова связывает означающее и означаемое не из реального, а из художественного универсума. Поэтому и вопрос о лингвистической «правильности» положений «поэтического языковедения» не вполне корректен: любое такое положение всегда правильно с точки зрения внутренней логики создаваемого автором мира. Задача исследователя «поэтического языковедения» – увидеть, как метаязыковой комментарий («правильный» или «неправильный») участвует в решении эстетической задачи произведения.
2. Мотивы метаязыкового дискурса. Как известно, под мотивом понимается «традиционный, повторяющийся элемент фольклорного и литературного повествования» [Силантьев 1999: 6], это «простейшая повествовательная единица», характеризующаяся с точки зрения семантики «одночленным схематизмом» [Веселовский 2008: 500, 494]. Наблюдения показывают, что существуют стандартные смысловые схемы[116], которые регулярно реализуются в метаязыковых суждения об однотипных объектах. Приведем примеры некоторых типичных мотивов, которые, как правило, соотносятся с определенными видами объектов метаязыковой рефлексии.
Например, в метаязыковых контекстах, связанных с художественной рефлексией названий (как собственных имен, так и нарицательных), регулярно реализуются мотивы: а) отсутствие названия, безымянность, б) присвоение имени, названия, в) обсуждение соответствия имени (названия) и его носителя,
г) ссылка на этимологию имени, д) сопоставление двух онимов как средство сопоставления означаемых и т. д. Все эти мотивы, будучи созданными по общей смысловой схеме, варьируются в условиях конкретных произведений и реализуют различные художественные задачи. Так, художественно значимым оказывается отсутствие у персонажа имени. Ср.:
Господин из Сан-Франциско – имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил – ехал в Старый Свет на целых два года, с женой и дочерью, единственно ради развлечения (И. Бунин. Господин из Сан-Франциско).
Как отмечают исследователи, образ главного героя рассказа лишен личностного начала, в тексте у него нет не только имени, но и речевой характеристики [см.: Николина 2007: 248]. В данном случае имя осмысливается как проявление индивидуальности, а его отсутствие – как обезличенность. Имя персонажа вообще в мотивной структуре произведения играет специфическую роль; ср. утверждение О. М. Фрейденберг: «Значимость, выраженная в имени персонажа и, следовательно, в его метафорической сущности, развертывается в действие, составляющее мотив: герой делает только то, что семантически сам означает» [Фрейденберг 1997: 223]. Поэтому безымянность лишает героя деятельности и обрекает на смерть. В другом рассказе тот же автор прямо указывает на связь имени с жизнью, а его утраты – со смертью, с прекращением существования:
<…> и настала ночь, когда в лесах под Коломбо остался от рикши только маленький скорченный труп, потерявший свой номер, свое имя, как теряет название река Келани, достигнув океана (И. Бунин. Братья).
Мотив безымянности у различных писателей часто реализуется как прием отказа от номинации предмета, и такой отказ может служить средством гиперболизации: здесь реализуется смысловая схема 'Этот предмет настолько исключителен, необычен, не походит на другие аналогичные предметы, что к нему невозможно подобрать название'. Ср. подобный мотив, использующийся для выражения различных оценок:
(1) <…> в нарядах их вкусу было пропасть: муслины, атласы, кисеи были таких бледных модных цветов, каким даже и названья нельзя было прибрать (до такой степени дошла тонкость вкуса) (Н. Гоголь. Мёртвые души); (2) <…> океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке и назвать трудно (А. Чехов. Гусев); (3) На человеческом языке нет слов, чтобы выразить, до какой степени он мне показался гнусен и ничтожно низок (И. Тургенев. Несчастная).
Мотив присвоения имени реализуется обычно в виде рассказа о том, при каких обстоятельствах предмет или лицо получает наименование; ср.:
Родильнице предоставили на выбор любое из трех [имён], какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нет, – подумала покойница, – имена-то всё какие». Что-бы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание, – проговорила старуха, – какие всё имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий». Еще переворотили страницу – вышли: Павсикахий и Вахтисий. «Ну, уж я вижу, – сказала старуха, – что, видно, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий». Таким образом и произошел Акакий Акакиевич (Н. Гоголь. Шинель).
Нередко мотив именования сочетается с мотивом обсуждения соответствия / несоответствия имени означаемому:
Вообще-то мама назвала ее для красоты и маскировки Наташей, но это была попытка обмануть природу столь же безнадежная, как назвать кошку Полканом. На ней было написано, что ее зовут Хася, вот все ее так и звали (М. Веллер. Миледи Хася).
Регулярный мотив метаязыкового дискурса – обсуждение этимологии имени:
Над московским студентиком Побиском Кузнецовым ядовито посмеивались. Был он, видимо, из ортодоксальной партийной семьи, и странное имя расшифровывалось как «Поколение Октября Борец И Строитель Коммунизма». Поскольку сел Побиск по 58-й, однокамерники переделали это в «Борец Истребитель Коммунизма» (В. Фрид. 58 с половиной…); Покупают в Иркутске в «Шанхае». Так называется вещевой рынок, по-старому барахолка, расположившийся по обочинам рынка продовольственного, крытого. Название дано по китайскому товару, который гонят сотни и тысячи «челноков», снующих беспрестанно туда и обратно (В. Распутин. Нежданно-негаданно).
Сопоставление двух названий служит средством характеристики изображаемого:
Вообще-то мама назвала ее для красоты и маскировки Наташей, но это была попытка обмануть природу столь же безнадежная, как назвать кошку Полканом. На ней было написано, что ее зовут Хася, вот все ее так и звали (М. Веллер. Миледи Хася);
Наблюдения показывают, что каждому типу лингвистических объектов, попадающих в поле зрения автора художественного текста, соответствует свой перечень повторяющихся мотивов. Так, жанровая рефлексия связана с такими регулярными мотивами, как а) перечисление типичных признаков жанра, б) сфера использования жанра, в) уместность / неуместность жанра в конкретных условиях коммуникации, г) история жанра и др. В рефлексивах, посвященных аббревиатурам, наиболее часты следующие мотивы: а) указание на непрозрачность внутренней формы, б) расшифровка аббревиатур, в) создание новых аббревиатур, г) сопоставление аббревиатуры и обычного слова [см.: Шумарин, Шумарина 2009] и т. п.
3. Художественные приемы, связанные с использованием метаязыковой рефлексии. В контексте данного исследования приемами названы такие способы формулирования метаязыковых суждений и включения их в текст, которые создают для соответствующих отрезков речи образные приращения. Можно выделить три группы приемов, связанных с использованием рефлексивов: 1) способы образной характеристики фактов языка и речи, 2) приемы стилистического использования языковых единиц, в которых актуализируются метаязыковые представления, и 3) техники использования формы метаязыковых суждений как средства металогической речи[117].
Один из частых способов образной характеристики фактов языка / речи – это использование метаязыковой лексики как основы разного рода тропов (метафоры, сравнения, олицетворения, эпитеты и др.)[118]. Так, заслуживают внимания индивидуально-авторские метафоры и сравнения, в которых явления языка / речи являются средством образной характеристики; при этом актуализируются свойства соответствующих феноменов, выступающие в роли «третьего члена» сравнения:
Как существуют безличные предложения: «Холодно», «Жарко», так существуют и безличные истины, не подлежащие обсуждению (Вл. Новиков. Роман с языком); Жизнь прослеживалась, как одна длинная фраза, полная придаточных предложений, лишних определений и отступлений в скобках, – приходилось возвращаться к началу, и смысл проступал, несмотря на перепутанный где-нибудь падеж, окончание, меняющее местами объект и субъект действия (А. Кабаков. Сочинитель).
В равной степени заслуживают внимания и способы образного представление самих фактов языка и речи, выступающих в роли объекта поэтической рефлексии. Лингвистические факты изображаются при помощи эпитетов (1), сравнений (2), метафор, в том числе развёрнутых (3):
(1) Петя: между жизнью и смертью – ба-лан-си-ро-вать будем! Чудесное слово такое, задумчивое. «ба-лан-си-ро-вать» (Е. Клюев. Андерманир штук); (2) Говоря негромко, но внятно, старшой особо напирал на «если», будто кружком его обводил, заставляя вслушиваться, взвешивать, соображать (В. Астафьев. Царь-рыба); (3) Но что же пишут твои современники? У писателя Волина ты обнаружил: «…Мне стало предельно ясно…» И на той же странице: «…С беспредельной ясностью Ким ощутил…» Слово перевернуто вверх ногами. Из него высыпалось содержимое. Вернее, содержимого не оказалось. Слова громоздились неосязаемые, как тень от пустой бутылки. (С. Довлатов. Заповедник).
В этой сфере можно выделить целый ряд типичных приемов, например, изображение речи через образы еды, жевания, глотания, вкуса:
– Конечно, мы имели и причины так действовать и… тово… полномочия, – начал последний, как-то заминаясь и пережевывая слово за словом <…> (В. Крестовский. Панургово стадо); Картина скорей нетипичная, но такие признаки нередко бывают у нервных, возбудимых субъектов (слово «эпилепсия», просившееся наружу, я, к счастью, проглотила. Не надо спешить с диагнозами) (И. Грекова. В вагоне); <…> слово «шеф» Светлана ухитрилась произнести чрезвычайно вкусно, и с уважением, и с иронией одновременно <…> (С. Лукьяненко. Ночной дозор); На овальном клейме удлиненными буквами выбито SELMER <…> Он прошептал это слово, и во рту от него стало сладко… (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого).
В подобных примерах тропы носят синкретичный характер: это метонимия, поскольку основанием для переноса является пространственная смежность (речь и еда, в обыденном представлении, локализованы в ротовой полости), но это и метафора, поскольку работа органов речи похожа на работу жевательных и глотательных мышц, а артикуляционные впечатления похожи на вкусовые (синэстетическая метафора).
В целом для изображения слова, речи характерно использование «вещных» метафор, описывающих слово как предмет[119], а процесс речи – как производство материальных предметов. Так, например, в художественных текстах мифологема мата нередко получает образное воплощение. Одна из доминант этого образа – идея интенсивности брани – реализуется, в частности, при помощи метафор, описывающих сквернословие как предметную, материальную субстанцию, которой присваиваются такие физические параметры, как плотность (1), вес (2), органолептические свойства (3), звучание (4), визуальные признаки (5) и т. д:
(1) <…> все покрывала густая – не продыхнешь – матерная ругань и такой же густой, непереносный водочный дух <… > (А. Серафимович. Железный поток); (2) Я сидел, крыл Архипова и Жарикова тяжелым матом. Чуть полегче крыл Митрофанова и Венгеровского, еще легче Курского и Бузова… – весь славный бывший теневой кабинет (Э. Лимонов. Книга воды); (3) <…> тысяч пять матросов, ругающихся самыми солеными матерными ругательствами (А. Серафимович. Железный поток); (4) <…> по звучности – звончей оплеухи, так – прекрасна (А. Ремизов. Кукха); (5) <…> они <…> медленно, со вздохами и тусклым матом втискиваются в его [троллейбуса] трескающиеся от тесноты двери (В. Маканин. Андеграунд, или герой нашего времени).
В метафорическом представлении брань – это физическое тело, с которым можно производить различные метафорические действия: его можно изготавливать, применяя мастерство и старание (1), его можно соединять с другими материальными объектами (2), его можно даже употреблять в пищу (3):
(1) <…> он не выпускал как попало, а любовно выпекал мат, подлаживая, подмасливая его, сдабривая его лаской ли, злостью (В. Распутин. Прощание с Матёрой); (2) У Шуры мат <…> так прекрасно вплетается в слова (В. Кунин. Кыся); Встряхивая головою, он стал нанизывать матерные слова одно на другое <…> (М. Горький. Мои университеты); (3) Спиртом от него так разит, что с души воротит. Небось чистым матом закусывал? (В. Конецкий. Вчерашние заботы).
Брань как материальное тело, как предмет используется в качестве орудия нападения (1) и орудия труда (2):
(1) Он засадил в нее, как сапогом, длинной матерной фразой, взял подушку и одеяло и пошел досыпать в кабинет (Л. Улицкая. Медея и её дети); (2) <… > конвойные команды с болтанием фонарей, густым лаем собак, отрывистыми выкриками, матом и побоями рассаживали арестантов по сорок человек в вагон <… > (А. Солженицын. В круге первом); Паша, как у нас принято, возился с мотором. Что за мотор без мата? Когда Боб имел свой автобус, тот абсолютно всегда весь, от носа до хвоста, от руля впереди до мотора сзади, через ломаные-переломаные сиденья был, как гирляндами, увешан матюками (В. Попов. Грибники ходят с ножами).
Наблюдения показывают, что существует целый ряд общих схем образного представления языка / речи, которые реализуются в произведениях разных авторов, литературных направлений, эпох и т. п. В то же время отдельные авторы нередко демонстрируют приверженность тем или иным приемам, которые выступают как черты своеобразия индивидуального стиля.
Так, одной из наиболее трудных художественных задач является передача специфики различных паралингвистических компонентов устного дискурса: особенностей мимики, жестикуляции, смеха, оттенков интонации. У Н. Гоголя целый ряд рефлексивов, описывающих невербальные средства общения, имеет семантическую структуру сравнений. В качестве первого компонента сравнения (А) выступает невербальное поведение описываемого персонажа, а в качестве второго компонента (Б) – речевое поведение определенного типажа, о котором читатель может судить на основе личного опыта; ср. примеры из «Мертвых душ»:
(1) Не было лица, на котором бы не выразилось удовольствие или по крайней мере отражение всеобщего удовольствия (А). Так бывает на лицах чиновников (Б) во время осмотра приехавшим начальником вверенных управлению их мест [далее следует развернутое описание];
(2) Бейте его! – кричал он [Ноздрев] таким же голосом (А), как во время великого приступа кричит своему взводу: «Ребята, вперед!» – какой-нибудь отчаянный поручик (Б) <…>; (3) – Пусть разбирает, пусть его разбирает! – повторил он, смотря с необыкновенным удовольствием в глаза Чичикову (А), как смотрит учитель ученику, когда объясняет ему заманчивое место из русской грамматики (Б). <…> – Ведь только в мутной воде и ловятся раки. Все только и ждут, чтобы запутать. – Здесь юрист-философ посмотрел Чичикову в глаза (А) опять с тем наслажденьем, с каким учитель объясняет ученику еще заманчивейшее место из русской грамматики (Б) и мн. др.
Среди рассматриваемых приемов можно выделить такие, которые «технически» представляют собой метаязыковые операции. К таким приемам относятся различные интерпретации мотивов толкования слов и выражений, лингвистического комментирования языковых единиц, метаязыкового выбора, межъязыкового и внутриязыкового перевода и т. д. Одни из таких приемов неоднократно становились предметом научного анализа (например, поэтическая этимология), другие еще ждут своего исследования. Рассмотрим несколько характерных примеров.
Языковая специфика тех или иных единиц (осознаваемая или ощущаемая автором текста) стимулирует использование стилистических ходов, в которых эксплицируется эта специфика. Так, близкая рядовому носителя языка идея «внутренней пустоты знака» [Соссюр 1990: 152], позволяющей слову расширять и трансформировать свое значение, а говорящему – наполнять слово различным содержанием, получает в контексте художественного текста своеобразную интерпретацию. Прежде всего, комментаторы обращают внимание на существование «пустых» слов[120], для которых не характерна связь с реальными денотатами. Ср.:
Соблазнить?.. да вот тебе еще пустое слово!.. Соблазнить никто и никого не может… Соблазнить?.. что это такое? Я в этом слове ничего не слышу, – оно совсем пустое!.. Меня никто и никогда не соблазнял; я всегда удовлетворял только своим потребностям… Запретят!.. еще пустое слово: запрет ни к чему не ведет (Н. Помяловский. Молотов).
Комментарии к «пустым» словам выступают как яркое средство оценки изображаемого. Так, тема лексических фантомов регулярно возникает в произведениях, критически изображающих советскую действительность. Ср.:
– Разруха, Филипп Филиппович. / – Нет, – совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, – нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это – мираж, дым, фикция <…> Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? <…> Это вот что: если я, вместо того чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах (М. Булгаков. Собачье сердце).
Таким образом, «пустыми» выглядят для носителя языка слова, денотат которых существует только «в головах». Кроме того, эстетически переосмысливаются слова, семантическая неопределенность которых делает их способными к бесконечному «расширению». Например:
Вот 13 января 1950 года вышел указ о возврате смертной казни <…> Написано: можно казнить подрывников-диверсантов. Что это значит? Здесь только ли о том, кто толовой шашкой подрывает рельсы? Не написано. «Диверсант» мы знаем давно: кто выпустил недоброкачественную продукцию – тот и диверсант. А кто такой подрывник? Например, если разговорами в трамвае подрывал авторитет правительства? Или замуж вышла за иностранца – разве она не подорвала величия нашей родины?.. (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг)[121].
Наконец, экспрессивным потенциалом обладает способность языкового знака (связанная с «пустотой» и «расширением») обозначать явления, не совсем похожие или совсем не похожие на «идеальный» денотат данного знака. Ср.:
Я только что возвратился с охоты, если можно так назвать бесплодное двух-трехчасовое броженье с собакой по соседним рощам. Только и убил двух воробьев, и то хорошо для начала! Стрелял раз шесть по куликам, но все шесть раз дал промах, причиной, вероятно, моя горячность и отсутствие хладнокровия в то время, когда я вижу птицу (С. Надсон. Дневники).
Смысловая модель метаязыкового комментария, которая в большей или меньшей степени эксплицирована в подобных контекстах, включает следующие суждения: 'Словом N называют объект, который обладает признаком Х', 'Данный объект не обладает признаком Х', 'Говорящий сомневается, что можно (или уверен, что нельзя) называть этот объект словом N', 'Говорящий называет этот объект словом N'. Противоречие между фактом употребления названия N и осознанием условности такого употребления и является в подобных случаях источником экспрессии. Признаки «идеального» денотата могут реализовываться в тексте в виде импликаций (так, из приведенного выше примера ясно, что охота должна обладать признаком 'результативность'), а могут носить характер общих для автора и адресата пресуппозиций. Ср.:
Первое мое путешествие, – если простая поездка по родной губернии может быть этим словом названа, – было тотчас по окончании гимназии, в 1886-ом году (К. Бальмонт. Волга).
Однако признаки «идеального» денотата могут представлять собой достаточно развернутое описание, что делает более наглядным контраст между «идеальным» и «реальным» денотатом – в таких случаях «изобразительность» усиливает экспрессию:
Была у меня когда-то книга – «Герои Малахова кургана». С картинками, конечно. Четвертый бастион, какие-то там редуты, люнеты, апроши. Горы мешков с песком, плетеные, как корзины, туры, смешные на зеленых деревянных платформах пушки с длинными фитилями, круглые, блестящие мячики бомб с тоненькими струйками дыма. / Почти девяносто лет прошло. Танки и самолеты за это время придумали. А вот сидим сейчас в каких-то ямочках и обороной это называем (В. Некрасов. В окопах Сталинграда).
Еще один прием речевой экспрессии, связанный с представлением о вариативности семантического «наполнения» слова, основан на следующей смысловой модели: 'Говорящий ранее слышал слово N и имел общее (приблизительное, неточное) представление о его значении, но при обстоятельствах Х он узнал точное значение (смысл) этого слова'. Ср.:
Даже во время бомбёжек, – а под Харьковом, во время неудачного нашего майского наступления, мы впервые узнали, что значит это слово, – он умел в своем штабе поддерживать какую-то ровную, даже немного юмористическую атмосферу (В. Некрасов. В окопах Сталинграда).
В подобных высказываниях отражен типичный сценарий познавательной деятельности языковой личности: услышал (прочитал) незнакомое слово – выяснил его значение. Ср.:
Другую барыню быстро пронесли мимо меня в паланкине. Так вот он, паланкин! Это маленькая повозочка или колясочка, вроде детских, обитая какой-нибудь материей, обыкновенно ситцем или клеенкой. К крышке ее приделана посредине толстая жердь, которую проводники кладут себе на плечи (И. Гончаров. Фрегат «Паллада»).
Однако этот типичный «сценарий» используется для оформления своеобразного метонимического переноса: в высказываниях типа И тогда я понял, что значит слово N речь идет не о том, что человек раньше не понимал значения слова, а теперь понял, а о том, что раньше он не сталкивался с самим явлением и, хотя и знал значение слова, не предполагал, какие эмоции (поведение, последствия) способно вызвать непосредственное переживание данного явления; ср.:
Лева тоже был озадачен до изумления, что потасканное слово, уже двести лет кряду до одури рифмующееся с «кровью», и «бровью», и вовсе не новым «вновь», в подоплеке предполагает реальную эмоцию – и эта реальность может иметь к нему, Криворотову, самое прямое отношение и вдруг заявит о себе столь убедительно и очевидно, что никак не получится не заметить – так преобразится все внутри него и снаружи от чувства, выпавшего на его долю нежданно-негаданно, как снег на голову (С. Гандлевский. НРЗБ).
С одной стороны, в таких случаях можно говорить о характерном для обыденного сознания смешении суждения «о языке» и суждения «о мире» (Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелёв). С другой стороны, известно, что «языковой знак приобретает для человека значение лишь тогда, когда человек устанавливает взаимную причинную связь между языковым знаком <…> и некоторым объектом-элементом среды» [Колмогорова 2007: 21]. Таким образом, соотнесение языкового знака и экстралингвистической реалии (то есть собственно усвоение языкового значения и – вместе с ним – языковой картины мира) происходит в полной мере лишь при участии опыта. Следовательно, в высказываниях типа И тогда я понял, что значит слово N (смерть, голод, любовь, беда и т. п.) достаточно достоверно отражен процесс освоения языковой картины мира через интериоризацию, субъективное переживание содержания слова. Акцентируя внимание на деталях «внутренней жизни» языковой личности, подобные рефлексивы выступают в эстетически организованном тексте как средство художественной выразительности.
Из приведенных примеров видно, что мотив «гибкости» плана содержания слова может реализовываться в виде целого ряда стилистических приемов, выполняющих изобразительные и экспрессивные функции.
Особый прием, в котором предметом эстетического изображения является непосредственно метаязыковое «переключение», – референциальная игра [Шмелёв 1996: 173], которая представляет собой маскировку суждений «о языке» под суждения «о мире» и наоборот [Булыгина, Шмелёв 1999: 150–151]. Подобный прием, как показывают наблюдения, достаточно характерен для художественных текстов. Так, повышенный интерес к Чичикову со стороны дам автор объясняет влиянием слова миллионщик:
До сих пор все дамы как-то мало говорили о Чичикове, отдавая, впрочем, ему полную справедливость в приятности светского обращения; но с тех пор как пронеслись слухи об его миллионстве, отыскались и другие качества. Впрочем, дамы были вовсе не интересанки; виною всему слово «миллионщик», – не сам миллионщик, а именно одно слово; ибо в одном звуке этого слова, мимо всякого денежного мешка, заключается что-то такое, которое действует и на людей подлецов, и на людей ни се ни то, и на людей хороших, – словом, на всех действует (Н. Гоголь. Мертвые души).
Очевидно, что не «звук слова» оказывает воздействие на людей, а именно его содержание. В данном случае маскировка суждения «о мире» под суждения «о языке» служит средством авторской иронии. В других случаях средством комического является подмена суждения «о языке» суждением «о мире»:
И всякая хозяйка дома, получившая приличное воспитание (неприличное, впрочем, кажется, никому и не дается), справится с этим делом без особого труда (Н. Тэффи. Предпраздничное); Почему можно праздновать труса, праздновать лентяя и нельзя праздновать дурака? / Повезло трусу и лентяю, их можно праздновать. Хотя какой это праздник? Всю жизнь дрожать или лежнем лежать – уж лучше дурака валять, раз уж его невозможно праздновать (Ф. Кривин. Хвост павлина).
Используемые в художественных текстах «метаязыковые» приемы связаны с соответствующими мотивами и представлениями о языке и речи [см., напр.: Шумарина 2009 в; 2010 а]. Существующие в метаязыковом сознании носителя языка представления о том или ином факте языка / речи реализуются в тексте в виде мотивов, а каждый мотив, в свою очередь, располагает собственным репертуаром приемов, служащих для осуществления различных эстетических функций (см. схему 4 на с. 217).
Так, например, в сознании носителя языка существует представление об аббревиатуре как о слове с непрозрачной внутренней формой, которое нуждается в расшифровке. Это представление реализуется в художественных текстах в виде регулярного мотива «расшифровка аббревиатуры». Этот мотив воплощается в виде ряда художественных приемов: «прямая» расшифровка реально существующих аббревиатур (1), неконвенциональная расшифровка аббревиатур (2), множественная расшифровка (3), расшифровка псевдоаббревиатур (4):
(1) – А что такое ПШ? – О-о, это серьёзное дело, – ответил Каландарашвили, возвращаясь. – С этими литерами вы не шутите – это подозрение в шпионаже (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей); (2) Я открою вам криптограмму, разгаданную избранными: СССР – SSSR – Sancta, Sancta, Sancta Russia – трижды святая Россия (С. Кржижановский. Возвращение Мюнхгаузена); (3) Что может быть красивее сочетания слов «приемник воздушного давления». И сколь загадочно и двусмысленно звучит слово из трех букв «ПВД». То ли это парашютно-воздушная дивизия, то ли прямоточно-вытяжной двигатель, то ли паводок, то ли повод… (В. Тучков. Русская книга военных); (4) «ЧУШь – Чрезвычайное Указание Шефа – ЧУШь», – шутят, как один, наши смелые кандидаты. (А. Битов. Бездельник).
Схема 4
Реализация метаязыковых представлений в художественном тексте
Каждый прием, как уже говорилось, выполняет определенные художественные функции. Так, прием расшифровки псевдоаббревиатур может выполнять игровую функцию (1), мифотворческую (2), характерологическую (3), пародийную (4) и другие:
(1) – «Девичий стан, шелками схваченный»! – чуть не визжал от восторга Бражников. – Шелка – члены так называемой Школьной Единой Литературно-Критической Ассоциации, страшные бандиты из совета учащихся, нападающие на женщин по ночам. Женщины, схваченные шелками, никогда не возвращались… (Д. Быков. Орфография); (2) – <…>А ты не знаешь случайно, откуда это слово взялось – «лэвэ»? Мои чечены говорят, что его и на Аравийском полуострове понимают. Даже в английском что-то похожее есть… / – Случайно знаю, – ответил Морковин. – Это от латинских букв «L» и «V». Аббревиатура liberal values[122] (В. Пелевин. Generation «П»); (3) Ну что за странная фамилия? Да и фамилия ли?.. Похоже на аббревиатуру: «ГОСТ… ГАБТ… ГАФТ…» Ломаю голову над приемлемой расшифровкой… ГЛАВНЫЙ АКТЕР ФАНТАСМАГОРИЧЕСКОГО ТЕАТРА… ГНЕВНЫЙ АВТОР ФИЛОСОФСКИХ ТИРАД… (Г. Горин. Иронические мемуары); (4) – <…>Вредительства, скажу тебе, Иван Тимофеевич, у нас полно. Вот, к примеру, ты куришь папироски, вот эти «Дели», а в них тоже вредительство. <…> Вот можешь ты мне расшифровать слово «Дели»? / – Чего его расшифровывать? «Дели» значит Дели. Город есть такой в Индии. / – Эх, вздохнул Леша, – а еще грамотный. Да, если хочешь знать, по буквам «Дели» – значит Долой Единый Ленинский Интернационал (В. Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина).
4. Функции рефлексивов в художественном тексте. Рефлексивы в художественном тексте выполняют конструктивные и художественные функции. Конструктивные функции рефлексивов проявляются в их соотношении с эстетической доминантой и эстетическими оппозициями, в их связи с сильными позициями текста. Художественные (изобразительно-выразительные) функции рефлексивов заключаются в их использовании для изображения, характеристики объекта (характерологическая функция) или для выражения авторской модальности, отношения к изображаемому (эмоционально-экспрессивная функция). Посвятим этому вопросу следующий параграф.
3.2. Рефлексивы – ключи к анализу художественного текста
Функции рефлексивов выявляются в процессе лингвистического / филологического анализа художественного текста. Уже отмечалось, что метаязыковые комментарии в тексте практически всегда находятся в позиции выдвижения, выражают важные для произведения идеи и выполняют разнообразные художественные функции. Поэтому метаязыковые комментарии можно рассматривать в качестве «подсказок» для читателя – своеобразных «ключей» для интерпретации текста. Проиллюстрируем данное положение несколькими примерами.
Так, образная система романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» строится на целом ряде противопоставлений ключевых образов, при этом каждый из основных персонажей выписан ярко, наделен не только типологическими, но и индивидуальными чертами. Указанные оппозиции создаются при помощи различных приемов, в том числе – при помощи метаязыковых комментариев, которые высказывают персонажи и автор. Так, заслуживает внимания эпизод, в котором братья Кирсановы и Аркадий обсуждают содержание понятия «нигилист»:
– Нигилист, – проговорил Николай Петрович. – Это от латинского nihil, ничего, сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который… который ничего не признает? / – Скажи: который ничего не уважает, – подхватил Павел Петрович и снова принялся за масло. / – Который ко всему относится с критической точки зрения, – заметил Аркадий.
Каждое из предложенных толкований слова нигилист представляет собой реплику персонажа, а вместе они образуют диалогическое единство, и в этом диалоге четко обозначены различия в характерах действующих лиц. Деликатный Николай Петрович, который стремится избегать конфликтных ситуаций, высказывает робкое предположение на основе этимологии слова: человек, который ничего не признаёт. Павел Петрович, более всего ценящий традиции и приличия и видящий в нигилизме угрозу для них, высказывается желчно и категорично: который ничего не уважает. Аркадий, стремящийся к объективности, предлагает эмоционально-нейтральный вариант: человек, который ко всему относится с критической точки зрения.
Несовпадение взглядов, характеров, жизненных принципов Базарова и П. П. Кирсанова проявляется в выборе ими некоторых слов, на что автор обращает особое внимание:
– Говорят, германцы в последнее время сильно успели по этой части. /
– Да, немцы в этом наши учители, – небрежно отвечал Базаров. / Слово германцы, вместо немцы, Павел Петрович употребил ради иронии, которой, однако, никто не заметил.
Павел Петрович не просто говорит, а выбирает слова, придавая этому выбору определенный знаковый смысл (который, впрочем, не всегда ясен его собеседникам, и читатель узнает об этом только из авторского комментария). В этом отношении показательно следующее замечание:
– Я эфтим хочу доказать, милостивый государь (Павел Петрович, когда сердился, с намерением говорил: «эфтим» и «эфто», хотя очень хорошо знал, что подобных слов грамматика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского времени. Тогдашние тузы, в редких случаях, когда говорили на родном языке, употребляли одни – эфто, другие – эхто: мы, мол, коренные русаки, и в то же время мы вельможи, которым позволяется пренебрегать школьными правилами), я эфтим хочу доказать, что без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе, – а в аристократе эти чувства развиты, – нет никакого прочного основания общественному… bien public, общественному зданию.
Автор здесь употребляет выражения остаток преданий, тогдашние тузы, подчеркивая, что эта причуда, как и весь Павел Кирсанов, – пережиток старины, который даже не вполне понятен его собеседникам.
В романе «Отцы и дети» метаязыковые комментарии акцентируют внимание читателя на особенностях характера и мировоззрения персонажей. Здесь можно говорить о характерологической функции метаязыковых комментариев. В других случаях такие комментарии могут использоваться и для выражения авторского отношения к изображаемому. Ср. описание детских впечатлений от слова, которое повлияло на восприятие стихотворения:
«Подруга дней моих суровых – Голубка дряхлая моя!» Дряхлая голубка – значит, очень пушистая, пышная, почти меховая голубка, почти муфта – голубка, вроде маминой котиковой муфты, которая была бы голубою, и так Пушкин называл свою няню, потому что ее любил (М. Цветаева. Мой Пушкин).
В романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» метаязыковые комментарии являются важным средством характеристики героев. Например, в речи Максим Максимыча регулярно используются горские словечки:
(1) «Эй, Азамат, не сносить тебе головы, – говорил я ему, – яман будет твоя башка!» [яман – «плохо»]; (2). я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком и др.
Максим Максимыч пытается переводить эти слова на русский язык и старается объяснить непереводимые понятия:
(1) «Я здесь, подле тебя, моя джанечка (то есть, по-нашему, душенька)», – отвечал он, взяв ее за руку; (2) <…> потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по-нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной. забыл, как по-ихнему. ну, да вроде нашей балалайки.
Во всем этом видится проявление не только наблюдательности, но и толерантности штабс-капитана, которая позволила ему снискать уважение у местного населения и о которой рассуждает автор:
Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие. ясного здравого смысла.
Это важная деталь в раскрытии образа Максим Максимыча. Иной характер героя рисуют толкования слов, к которым прибегает Печорин:
(1). честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти; (2) А что такое счастие? Насыщенная гордость и т. п.
В этих афористических по форме высказываниях виден человек холодный, гордый, избегающий человеческих привязанностей.
Дополнительным актуализатором для метаязыкового комментария является включение его в цепочку повторов. В романе читатель дважды встречается с пояснениями к слову друг. В предисловии к «Журналу Печорина» автор-рассказчик пишет:
…я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом: коварная нескромность истинного друга понятна каждому; но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге; следовательно, не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастия любимого предмета, чтоб разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений.
Выделенные слова – это части «распыленного» в тексте комментария: В семантике слова друг выделяются и актуализируются компоненты 'коварство', 'ненависть', 'недоброжелательность' и т. п. Безусловно, здесь следует вести речь не об основном лексическом значении слова, а о неких периферийных и ассоциативных элементах семантики (коннотациях), которые существуют в языковом сознании человека. Итак, друг – это тот, кто коварен и нескромен, маскирует дружбой ненависть, желает несчастья тому, с кем дружен. Затем отрицательные коннотации слова друг актуализируются и в речи Печорина:
Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе не способен: из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается; рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае – труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги.
В отношении Печорина к дружбе проявляется отчасти и личность автора, доминантой творчества которого стал мотив трагического одиночества. Сам Печорин поясняет свою боязнь близких отношений – любви, интимной дружбы – следующим образом: Я стал не способен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому себе. Искренние чувства кажутся герою небезопасными, они простительны лишь пылкой юности, о чем свидетельствует следующее толкование:
Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти <…> Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря.
А для зрелого, охладевшего рассудка счастье – это насыщенная гордость. Здесь снова встречаемся с актуализацией периферийных компонентов значения, которые характерны для индивидуального языкового сознания и выступают как средство выражения авторской позиции.
Интересны в этом отношении и авторские примечания, которые не включаются в основной текст, а даются внизу страницы (в виде сноски) с указанием «Примечание М. Ю. Лермонтова». В романе в такой сноске объясняется слово кунак, используемое Максим Максимычем: Кунак значит – приятель (Прим. М.Ю. Лермонтова). Лермонтов переводит слово кунак как «приятель», но, как правило, в словарях это слово объясняется как «друг, приятель» [см., напр.: БТС: 480]. Почему Лермонтов «пропустил» синоним друг и остановился на приятеле? Не потому ли, что в его собственном представлении слово друг имеет отрицательные коннотации?
Как известно, роман «Герой нашего времени» имеет сложную субъектную организацию, в нем звучат голоса трех повествователей: 1) главного героя – Печорина, 2) повествующего о нем рассказчика (который также выступает в роли участника событий, изображается как действующее лицо романа) и, наконец, 3) самого автора, реально существующего писателя М. Ю. Лермонтова. Весьма показательно, что индивидуальная оценка и субъективное понимание важного для данного текста слова друг и самого понятия «дружба» проявляются с позиции каждого из субъектов – то явно и развернуто (в речи персонажа и рассказчика), то неявно, в виде выбора средства выражения (в речи реального автора). В данном случае анализ метаязыковых оценок позволяет глубже понять не только замысел произведения, но и особенности мировоззрения автора.
Метаязыковая рефлексия в произведениях художественной литературы может подвергаться анализу в различных аспектах. Можно выделить три основных направления такого изучения в контексте филологического анализа текста.
Первое направление – «от рефлексива» – предполагает исследование метаязыковых контекстов определенного тематического или структурного типа в одном или нескольких произведениях: например, изучение металексических комментариев [Николина 1986; 1997; Андрусенко 2008; Шумарина 2009 б и т. п.], или авторских примечаний, метатекстовых «вкраплений» [Фатина 1997; Кузьмина 2008; 2009], или графических рефлексивов [Артемова 2002; Ахметова 2006; Нечаева 2005 и др.] и т. п. Цель такого анализа – разработка структурно-семантической типологии и выявление функциональной специфики рефлексивов данного типа. Образец такого анализа на примере метатекста представлен, в частности, в нашей статье «Метатекст в прозе В. П. Некрасова» [Шумарина 2011].
Второе направление – «от текста» – предполагает исследование метаязыковых комментариев в аспекте целостного или выборочного анализа конкретного произведения [Зубова 2001; Шумарина 2008 а; 2009 а и др.]. Такой анализ выявляет роль рефлексивов в создании образной системы произведения, в реализации авторского замысла.
Третье направление – «от темы» – предполагает описание роли метаязыковых комментариев в создании определенного художественного образа или в реализации какого-либо мотива в одном или нескольких произведениях [Пихурова 2005; Попкова 2006; Черняк 2006; Шумарина 2008 б; Судаков 2010 и др.]. Как правило, такой анализ предполагает выявление содержательной типологии метаязыковых оценок и их функциональной специфики.
Далее покажем, как может осуществляться описание функций рефлексивов отдельной тематической разновидности в аспекте лингвистического анализа текста – рассмотрим речевую рефлексию в «Скучной истории» А. П. Чехова.
Особая роль метаречевых наблюдений в повести обусловлена её художественными задачами. Структура повествования организована точкой зрения рассказчика – известного учёного-медика. Профессору Николаю Степановичу шестьдесят два года, он неизлечимо болен и ощущает стремительное старение, которое одновременно тяжело переживает как человек и пытается беспристрастно оценивать как учёный. Большой жизненный опыт, привычка к напряжённой умственной работе, способность видеть в явлении наиболее существенное, выработанная систематическими научными занятиями, – всё это делает наблюдения Николая Степановича интересными и достоверными, даваемые им характеристики метки и остроумны. Свойства людей, с которыми взаимодействует профессор, раскрываются прежде всего в общении, поэтому рефлексия о речевом поведении выступает в повести как важное изобразительное и экспрессивное средство.
Объектами метаречевых комментариев рассказчика являются а) типичное коммуникативное поведение (собственно речевая рефлексия), б) отдельные речевые жанры (жанровая рефлексия), в) правила эффективного общения (риторическая рефлексия).
Рефлексия о типичном речевом поведении – постоянный мотив повествования. Рассказчик то делает краткие, но в высшей степени выразительные замечания об особенностях речи (Волгу, природу, города, которые она посещала, товарищей, свои успехи и неудачи она не описывала, а воспевала), то прибегает к развёрнутым описаниям. Ср., например, детализацию вербальных и невербальных составляющих «вежливого» поведения:
Это товарищ пришёл поговорить о деле. <…> – Я на минуту, на минуту! Сидите, collega! Только два слова! / Первым делом мы стараемся показать друг другу, что мы оба необыкновенно вежливы и очень рады видеть друг друга. Я усаживаю его в кресло, а он усаживает меня; при этом мы осторожно поглаживаем друг друга по талиям, касаемся пуговиц, и похоже на то, как будто мы ощупываем друг друга и боимся обжечься. Оба смеёмся, хотя и не говорим ничего смешного. Усевшись, наклоняемся друг к другу головами и начинаем говорить вполголоса. Как бы сердечно мы ни были расположены друг к другу, мы не можем, чтобы не золотить нашей речи всякой китайщиной вроде: «вы изволили справедливо заметить», или «как я уже имел честь вам сказать», не можем, чтобы не хохотать, если кто из нас сострит, хотя бы неудачно.
Здесь автор воспользовался так называемым приёмом «остранения»: позиция наблюдателя позволяет рассказчику посмотреть на собственные действия со стороны; отвлекаясь от «непрямого» коммуникативного смысла жестов и фраз, профессор обнаруживает в них немало комического. Данный эпизод не только фиксирует стандарты речевого поведения (в частности – средства коммуникативной категории вежливости), но и служит раскрытию образа главного героя – способного иронизировать над собой, обладающего острым критическим умом.
Другой объект рефлексии – речевое поведение коммуникантов в типовой ситуации. Так, беседы с отстающими студентами похожи одна на другую и в значительной мере предсказуемы:
Аргумент, который все лентяи приводят в свою пользу, всегда один и тот же: они прекрасно выдержали по всем предметам и срезались только на моём, и это тем более удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знают его прекрасно; срезались же они благодаря какому-то непонятному недоразумению.
Рассказчик не только фиксирует типичные особенности речевой деятельности, но и пытается интерпретировать их с точки зрения психологических особенностей говорящего. Ср. своеобразные «геронтолингвистические»[123] интроспекции доктора:
Пишу же я дурно. Тот кусочек моего мозга, который заведует писательской способностью, отказался служить. Память моя ослабела, в мыслях недостаточно последовательности, и, когда я излагаю их на бумаге, мне всякий раз кажется, что я утерял чутьё к их органической связи, конструкция однообразна, фраза скудна и робка. Часто пишу я не то, что хочу; когда пишу конец, не помню начала. Часто я забываю обыкновенные слова, и всегда мне приходится тратить много энергии, чтобы избегать в письме лишних фраз и ненужных вводных предложений – то и другое ясно свидетельствует об упадке умственной деятельности. И замечательно, чем проще письмо, тем мучительнее моё напряжение. За научной статьёй я чувствую себя гораздо свободнее и умнее, чем за поздравительным письмом или докладной запиской. Ещё одно: писать по-немецки или английски для меня легче, чем по-русски.
Интересны в аспекте психолингвистики и размышления рассказчика о г е н д е р н ы х аспектах речевой деятельности. Так, проявление «женского» и «мужского» в письмах своей воспитанницы Николай Степанович связывает не только с тематикой, но и с речевым оформлением текстов. Несоблюдение орфографических и пунктуационных норм профессор оценивает как проявление непосредственности, доверчивости и «женскости». Но вот в жизни Кати появляется возлюбленный:
Следующие затем письма были по-прежнему великолепны, но уж показались в них знаки препинания, исчезли грамматические ошибки и сильно запахло от них мужчиною.
Таким образом, рефлексия рассказчика направлена на фиксацию и осмысление речевого поведения – как типичного для конкретной личности, так и свойственного той или иной социальной группе или проявляющегося в условиях стандартной коммуникативной ситуации.
Как говорилось выше, рассказчик демонстрирует примеры жанр о в о й рефлексии. Для чеховских текстов вообще жанровая рефлексия является достаточно регулярной и, возможно, составляет некоторое своеобразие чеховского стиля. Уже в произведениях 1883–1884 гг. начинающий писатель обращался к разнообразным жанровым формам, экспериментируя с различными способами их использования. Литературные, фольклорные и речевые жанры в ранних чеховских рассказах служили предметом и м и т а-ц и и («Двадцать шесть. Выписки из дневника», «Наивный леший. Сказка», «Библиография» и др.), пар о ди р о в ан ия («Репка. Перевод с детского», «Роман адвоката. Протокол», «Отвергнутая любовь. Перевод с испанского», «Современные молитвы» и т. п.), а также использовались для создания своеобразного стилистического эффекта, который возникал из-за н е с о о тв е тс тв ия содержания текста нормам указанного в подзаголовке жанра («Бенефис соловья. Рецензия», «Съезд естествоиспытателей в Филадельфии. Статья научного содержания»).
В «Скучной истории» жанровая рефлексия вплетена в повествование и служит инструментом характеристики персонажей. Так, рассказчик описывает специфический жанр, который можно было бы назвать «корпоративным фольклором». Во многих учреждениях и организациях, имеющих длительную историю, бытуют своего рода предания, которые повествуют о заметных персонах и знаменательных событиях этой истории. Хранителем таких легенд в университете является швейцар, который, в представлении профессора, не просто слуга – он часть академической традиции:
Он хранитель университетских преданий. От своих предшественников-швейцаров он получил в наследство много легенд из университетской жизни, прибавил к этому богатству много своего добра, добытого за время службы, и если хотите, то он расскажет вам много длинных и коротких историй. Он может рассказать о необыкновенных мудрецах, знавших всё, о замечательных тружениках, не спавших по неделям, о многочисленных мучениках и жертвах науки; добро торжествует у него над злом, слабый всегда побеждает сильного, мудрый глупого, скромный гордого, молодой старого. Нет надобности принимать все эти легенды и небылицы за чистую монету, но процедите их, и у вас на фильтре останется то, что нужно: наши хорошие традиции и имена истинных героев, признанных всеми.
Автор вкладывает в уста главного героя рассуждения о существенных жанровых признаках «корпоративных легенд»: а) носителями данного фольклора выступают «старожилы» учреждения; б) содержание легенд всегда поучительно и нравственно, в них «торжествует добро»; в) часто содержание преданий не соответствует реальным фактам, но г) в целом подобный фольклор всегда нацелен на создание положительного образа «корпорации». Профессор, хотя и иронизирует по поводу пристрастия швейцара к «легендам и небылицам», всё же признаёт, что в них сохраняются лучшие традиции и славные имена.
Рассказчик дважды упоминает такой жанр научной речи, как диссертация. На просьбу молодого докторанта дать ему тему исследования профессор отвечает:
– Очень рад быть полезным, коллега, <…> но давайте сначала споёмся относительно того, что такое диссертация. Под этим словом принято разуметь сочинение, составляющее продукт самостоятельного творчества.
Не так ли? Сочинение же, написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе.
В этой отповеди Николай Степанович выходит за пределы собственно филологического определения и касается «экстралингвистических» признаков жанра диссертации, которые, тем не менее, являются частью общего представления о данном жанре в сознании носителей языка: диссертация – это плод самостоятельной научной работы.
Особый случай жанровой рефлексии – использование «имени жанра» в составе тропа, например, в составе сравнения. Жанр диссертации актуален для рассказчика, данное понятие находится у него в зоне ближайших ассоциативных реакций, поэтому не случайно профессор в своих записках еще раз упоминает диссертацию:
Пётр Игнатьевич, даже когда хочет рассмешить меня, рассказывает длинно, обстоятельно, точно защищает диссертацию, с подробным перечислением литературных источников, которыми он пользовался, стараясь не ошибиться ни в числах, ни в номерах журналов, ни в именах, причём говорит не просто Пти, а непременно Жан Жак Пти.
Упоминание жанра служит средством изображения другой реалии – речевой манеры прозектора, однако рассказчик, вербализуя «третий член сравнения», описывает и важные жанровые признаки диссертации (вернее, её защиты): а) обстоятельность изложения, б) установка на конкретность и точность приводимых фактов, в) наличие ссылок на авторитетное мнение, г) следование нормам академического этикета (не просто Пти, а непременно Жан Жак Пти).
Жанровая рефлексия рассказчика служит средством характеристики не только его собеседников, но и самого главного героя – преданного науке и академическим традициям, умного, наблюдательного, ироничного.
Рассказчик прибегает к риторической рефлексии. Так, осуждая речевую манеру коллеги, Николай Степанович замечает:
Мне обидно, что обвинения огульны и строятся на таких давно избитых общих местах, таких жупелах, как измельчание, отсутствие идеалов или ссылка на прекрасное прошлое. Всякое обвинение, даже если оно высказывается в дамском обществе, должно быть сформулировано с возможною определённостью, иначе оно не обвинение, а пустое злословие, недостойное порядочных людей.
Здесь герой демонстрирует собственный «риторический идеал», сформированный не без влияния академической традиции. По его мнению, обвинение отличается от злословия конкретностью и аргументированностью. Недопустимыми аргументами признаются такие «общие места», как ссылки на измельчание и идеализация прошлого. Также обращает на себя внимание оговорка даже если оно высказывается в дамском обществе – фактически это замечание о факторе адресата: особенности адресата, безусловно, влияют на отбор коммуникативных средств и организацию речи. Частица даже весьма показательна: видимо, по ощущению профессора, дама как адресат не требует обязательной определённости, точности и аргументированности речевого построения.
Метаречевые комментарии в художественном тексте могут выполнять разнообразные текстообразующие и стилистические функции, выступают как инструмент создания художественного образа. Выше отмечалась изобразительная роль подобных «зарисовок» в «Скучной истории». Обратим внимание и на текстообразующую роль речевой рефлексии в повести.
Наблюдения доктора за коммуникативным поведением жены, дочери, её жениха, прозектора Петра Игнатьевича и др. сопровождаются негативной оценкой этого поведения, рассказчик противопоставляет себя этим лицам. Настойчивое повторение подобных эпизодов и соответствующих оценок формирует определённую смысловую доминанту – профессор словно сознательно отстраняется от всей сложности и многообразия жизни, отказываясь вначале от того, что кажется неприятным, а затем и от всего, что требует эмоционального участия, живого действенного сострадания (ср., например, эпизод последней встречи с Катей, когда на все призывы девушки к откровенному разговору доктор снова и снова повторяет своё приглашение пойти завтракать). Постепенно читатель понимает, что позиция наблюдателя, которую занимает герой по «обязанности» рассказчика, в какой-то мере символична: в своих поступках Николай Степанович всё время колеблется между ролями наблюдателя и участника и всё чаще и чаще предпочитает оценивать, нежели действовать.
Старость, осознаваемая близость смерти служат поводом для постоянной рефлексии; уже не реальность, а напряжённая интроспекция становится подлинной жизнью героя. На протяжении повести меняется и характер «зарисовок» старого профессора, в них всё меньше оригинальности и остроумия; рассказчик признаётся, что стал склонен к злословию, которое раньше осуждал. Таким образом, метаречевые комментарии в повести «Скучная история», передавая динамику состояния главного героя, служат средством постепенного раскрытия характера.
Итак, рефлексивы являются важным конструктивным компонентом художественного текста. Находясь в позиции выдвижения, они всегда несут определенную эстетическую нагрузку.
3.3. «Литературный портрет» слова
Лексический уровень, по мнению специалистов, «является наиболее «метаязыковым» для стихийного языкового сознания» [Голев 2009 а: 19]. Этим обстоятельством объясняется и преобладание металексических комментариев в общем массиве метаязыковых контекстов, и большая изученность обыденных рефлексий именно о единицах лексико-фразеологической системы языка. Материал, которым мы располагаем[124] свидетельствует о том, что в фокус внимания «стихийного лингвиста» попадают разнообразные слова и выражения: русские и иноязычные, общеупотребительные и ограниченные в употреблении, узуальные и окказиональные и т. п.
В художественных текстах регулярно приводятся толкования слов (1) и выражений (2), которые не только служат средством выравнивания фоновых знаний автора и читателя, но и служат изобразительным средством:
(1) Другой цыган с каганцом в руках, обыкновенною малороссийскою светильнею, состоящею из разбитого черепка, налитого бараньим жиром, отправился, освещая дорогу (Н. Гоголь. Сорочинская ярмарка); (2) «Что это такое авральная работа?» – спросил я другого офицера. «Это когда свистят всех наверх», – отвечал он и занялся – авральною работою. <…> Авральная работа значит – общая работа, когда одной вахты мало, нужны все руки, оттого всех и «свистят наверх!» (И. Гончаров. Фрегат «Паллада»).
Разнообразие характеристик слов и фразеологизмов коррелирует с различными аспектами описания номинативных единиц в лингвистической науке: в текстах отмечается их многозначность (1) и омонимия (2), указываются синонимы (3) и антонимы (4) слова, осуществляется межъязыковой (5) и внутриязыковой (6) перевод:
(1) Если тебе гражданин говорит, что он «недавно из зоны откинулся», то всякому понятно, что он не на лодке катался в хлорированном пруду «зоны отдыха» Черемушкинского (бывш. Брежневского) района (Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов»); (2) Командир дивизии и командир артиллерийского дивизиона сокращенно звучит одинаково: «комдив», хотя дивизией командует полковник, а то и генерал, а дивизионом – в лучшем случае майор (Г. Бакланов. Пядь земли); (3) Древние <…> думали, что частое употребление галлебора, то есть чемерицы, или в просторечии чихотки, может помочь, то есть облегчить, или, лучше сказать, исцелить, повреждение церебральной системы… (А. Бестужев-Марлинский. Фрегат «Надежда»); (4) У слова «подвиг» есть слово-антипод. Это слово – «преступление». Совершить преступление – это значит сделать нечто совершенно обратное подвигу – пренебречь в личных интересах интересами других людей, интересами родины, общества, человечества (А. Крон. Капитан дальнего плавания); (5) Если кто-нибудь из вас ел прямо на базаре <…> приготовленные из рубленого коровьего желудка свежие и пахучие флячки, или по-русски рубцы, тот поймет, как трудно было удержаться <…>(В. Беляев. Старая крепость); (6) Есть и русское слово – «слука». Во всяком случае, у нас, в смоленских краях, так называли вальдшнепов крестьяне (Ю. Коваль. На барсучьих правах).
«Стихийный лингвист» обращает внимание на структурное значение слова – его включенность в ту или иную лексическую парадигму и соотношение его семантики с семантикой других членов парадигмы. Ср.:
<…> защищено все на свете от забвения. Языком защищено: местом, где слово «правый» не может существовать, если нет слова «левый», где каждой Малой улице откликается Большая, каждой Верхней – Нижняя, каждой Северной – Южная… (Е. Клюев. Андерманир штук).
Металексические суждения нередко направлены на анализ разнообразных оттенков значения. Так, носителем языка осознаётся семантическое свойство языковых единиц, получившее в лингвистике название градуальности: тот или иной признак может быть представлен в значении языковых выражений в большей или меньшей степени и оцениваться с точки зрения степени соответствия этого признака условной норме, эталону [Сепир 1985]. Как известно, градуальность в языке имеет статус функционально-семантической категории и, обладая целой системой средств, получает выражение на всех ярусах языковой системы [см.: Колесникова 2010]. Говорящий, осуществляя отбор речевых средств, ощущает наличие в семантике языковых единиц «градосемы» (термин С. М. Колесниковой), которая может актуализироваться в различного рода тропах и фигурах [см., напр.: Тихомиров 2006] и служит основанием для оценки языковой единицы (1) и фактором выбора более точного обозначения (2):
(1) Однако – ничего сверх, всё в меру, всё аккуратно. Скучен и пресен, думала Елена, глядя на него с раздражением. О подобных людях мать Елены говорила: положительный. Или – ещё хуже слово – степенный (А. Слаповский. Гибель гитариста); (2) Не будем, однако, упрекать этих людей, было бы слишком примитивно считать их фанатиками, одержимыми наукой. Слово «одержимость» к ним не подходит. Они служили науке преданно и влюбленно, но и для них многое оставалось превыше науки, например, правила чести и порядочности… (Д. Гранин. Зубр).
В первом примере градуируются значения слов положительный и степенный, во втором – преданный, влюбленный и одержимый, фанатичный.
Метаязыковой комментарий может эксплицировать периферийные элементы семантики слова. Ср.:
Еще думал о том, что охота, промысел, хоть и называется словом «работа», на самом деле совсем что-то другое, что-то гораздо более сильное, сверхработа, запой какой-то. Ну какая это работа – везти-корячиться груз по порогам или биться на снегоходе со снегом? Работа – это что-то размеренное, с обеденным перерывом (М. Тарковский. С людьми и без людей).
В художественных текстах содержатся указания на факты истории слова, выражения: сведения о происхождении (1), о динамике активности слова в языке (2) и т. п.:
(1) Читатель уже несколько раз прочел в трибунальских приговорах <…> «концлагерь» и счёл, быть может, что мы оговорились? что мы неосмотрительно используем более позднюю терминологию? Нет. / В августе 1918 года <…> Владимир Ильич в телеграмме к Евгении Бош и пензенскому губисполкому <…> написал: «сомнительных <…> запереть в концентрационный лагерь вне города». <…> А 5 сентября 1918 года, дней через десять после этой телеграммы был издан Декрет СНК о Красном Терроре <…> в нём в частности говорилось: «обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путём изолирования их в концентрационных лагерях». / Так вот где был найден и тотчас подхвачен и утвержден этот термин – концентрационные лагеря – один из главных терминов XX века, которому предстояло широкое международное будущее! И вот когда – в августе и сентябре 1918-го года. Само-то слово уже употреблялось в 1-ю мировую войну, но по отношению к военнопленным, к нежелательным иностранцам. Здесь оно впервые применено к гражданам собственной страны (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг); (2) Говорили, что до войны было много шпионов, но после войны их не стало. Хотя о них продолжали упоминать, но куда меньше, в основном как «о нарушителях государственной границы». Их в этом случае всегда спаривали с «диверсантами». «Шпионы и диверсанты». А уж видеть их и вовсе никто не видел. Вновь слово «шпион» вынырнуло только в 1953 году, когда сам Лаврентий Берия оказался английским шпионом (Э. Лимонов. У нас была Великая Эпоха).
Рефлексивы в художественных текстах содержат сведения о стилевой (1), стилистической (2) и социолингвистической маркированности (3) номинативных единиц, об их сочетаемости (4):
(1) Я понял его: бедный старик, в первый раз отроду, может быть, бросил дела службы для собственной надобности, говоря языком бумажным, – и как же он был награжден (М. Лермонтов. Максим Максимыч); (2) Я вспомнил, как он говорит «таковой» вместо «такой» – из любви к высокому стилю, усмехнулся и заснул (М. Булгаков. Крещение поворотом); (3) – Ну это ты мне не заливай. Дрельщик! – сказал он, искренне не поверив в вагон-ресторан. Это показалось ему настолько фантастичным, что он даже назвал меня этим жаргонным словом «дрельщик», что обозначало фантазер, выдумщик, врунишка (В. Катаев. Алмазный мой венец); Лучи на камнях угасали, в ущельях залегали густые сумерки, насыщенные туманами, которые в Сибири называют красивым словом «мороки» (В. Короленко. «Государевы ямщики»); (4) Мне не нравилось, как все они говорят; воспитанный на красивом языке бабушки и деда, я вначале не понимал такие соединения несоединимых слов, как «ужасно смешно», «до смерти хочу есть», «страшно весело»; мне казалось, что смешное не может быть ужасным, весёлое – не страшно и все люди едят вплоть до дня смерти (М. Горький. В людях).
В отличие от толковых словарей, где характеристика употребления дается обобщенно (при помощи помет типа спец. разг. и т. п.), в художественных текстах функциональная и социальная атрибуция единиц более конкретна. Ср.:
Двое суток русский военный клипер «Жемчуг» штормовал, как говорят моряки. Двое суток он выдерживал жестокий ураган в Индийском океане <…> (К. Станюкович. Матросик); То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти других <…> Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай (А. Чехов. О любви); <…> мирабилит сушат, или, как говорят химики, обезвоживают (К. Паустовский. Кара-Бугаз); Выдумка теперь значит многое, она стиль жизни, апофеоза, как говорят философы, витрина успеха, водружение знамени над рейхстагом (В. Распутин. Новая профессия) и т. п.
В художественных текстах отмечаются и особые виды маркированности номинативных единиц, которые связаны с некоторыми специфическими особенностями употребления. Укажем на четыре вида подобной отмеченности.
1. Прежде всего, можно говорить об эксплицируемой «естественным лингвистом» связи слова, выражения с определенными типами дискурса: с коммуникацией в определенных сферах деятельности (1) или с конкретными жанрами (2):
(1) <…> директор картины напомнил, что скоро на съемочную площадку, а режиссеру и автору надо еще решить несколько творческих (в кино, которое не искусство, ужасно любят это слово) задач (Ю. Нагибин. Тьма в конце туннеля); <…> я был для неё, если воспользоваться термином из физиологии, просто раздражителем, вызывавшим рефлексы и реакции, которые остались бы неизменными, будь на моём месте <…> любой другой (В. Пелевин. Ника);
(2) Разве я не вечный путешественник, как и всякий, у кого нет семьи и постоянного угла, «домашнего очага», как говорили в старых романах? (И. Гончаров. Фрегат «Паллада»); Мама говорила когда-то, что в трудных ситуациях у человека открываются «недюжинные силы». Она так и говорила: «недюжинные», словно в былине!.. (Т. Устинова. Жизнь, по слухам, одна!).
2. Носитель языка указывает на отмеченность номинативных единиц, которую можно назвать персонологической, поскольку она соотносится с определенными типами языковых личностей[125]:
Вот скоро явится к нам «всамделишный», как дети говорят, писатель (М. Горький. Дачники); Шурочка обижался и квелился, как говорят няни. Его накормили и с трудом уложили спать (Б. Пастернак. Доктор Живаго); <…> после младенческого каннибальского языка, всех этих «мням-мням», «тпруа», «бо-бо» и тому подобного <… > (Ю. Нагибин. Тьма в конце туннеля); За это время мы вымыли разбильон тарелок. «Разбильон» – это значит «много – много – много» на сюсюкающем учительском диалекте (В. Набоков. Лолита).
Нередко персонологические характеристики слов и выражений повторяются разными комментаторами в различных текстах, что свидетельствует о достоверности метаязыковых наблюдений. Ср.:
В разговоре он употреблял слова, свойственные маленьким актерам: «волнительно», «на полном серьезе», «на интиме». (К. Паустовский. Дым отечества); Выступать она не умела, сильно путалась, говорила какие-то шаблонные, свойственные «людям искусства» слова: «где-то по большому счёту» и «волнительно» вместо «волнующе» <…> (В. Аксёнов. Пора, мой друг, пора); Да, любовь – это сладко, это волнительно, как почему-то говорят старые актеры; клево и атас – говорят молодые придурки <…> (Г. Щербакова. Актриса и милиционер).
3. Целый ряд номинативных единиц ассоциируется у носителей русской лингвокультуры с конкретными языковыми личностями, употреблявшими соответствующие выражения. Ср.:
– <…> пошлём прямо по месту жительства в районный нарсуд. /
– В нарсуд? – Ей показалось, что Гуляев оговорился. В этих стенах, в этом кабинете, а особенно у этого человека слово «нарсуд» слышалось почти хохмачески, как цитата из рассказов Михаила Зощенко, где оно попадается наряду с другими такими же смешными словами: «милиционер», «самогонщица», «отделение», «карманник», «карманные часы срезал», «мои дорогие граждане» (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей); <…> сроки их, выражаясь по Горькому, были Сроки с большой буквы (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг); <…> самая модная болезнь – это депрессия. А я говорю («не для стенограммы» – как, бывало, говаривал незабвенный наш Никита Сергеевич) – с жиру бесятся (В. Некрасов. Взгляд и Нечто).
4. Наконец, некоторые слова и выражения ассоциируются с конкретными текстами, в которых они употреблялись. Ср.:
Она вытянулась и покосилась влево, на полированную поверхность нижнего отсека горки, отображавшую, хоть и смутно, ее распростертую на полу фигуру… Слово «распростертая» почему-то всегда тянуло за собой один и тот же стихотворный ряд: да, ты кажешься мне распростертой, и пожалуй, увидеть я рад, как лиса, притворившись мертвой, ловит воронов…[126] (Г. Маркосян-Каспер. Кариатиды); Был он тихий, робкий, в круглых очечках и на милиционера-то, чудак, совсем не походил <…> Это словосочетание очень любил В. М. Шукшин, и «круглые очечки» непременно попали сюда из «Калины красной», где деревенский дед говорит рецидивисту, выдающему себя за отсидевшего за чужую растрату бухгалтера, что бухгалтеров он знает, бухгалтеры тихие, «в круглых очечках», а «об твой лоб – поросят бить» (Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов»).
Перечисленные виды отмеченности обладают разной степенью языковой «системности», неодинаково «освоены» лингвистической теорией и практикой. Так, дискурсивная «привязанность» языковых выражений носит относительно объективный характер, поддается лингвистическому изучению и находит отражение в работах по речеведению и лингводидактике (в частности – в методике преподавания языка как иностранного). Связь языковых единиц с определенными типами языковых личностей имеет характер не закона, а тенденции. Эта связь изучалась в социолингвистике, онтолингвистике (слова «детской речи»), и – отчасти – лингво-персонологии. Осознание «персонологической» маркированности рядовым носителем языка свидетельствует не только о реальности данного феномена, но и о его коммуникативной значимости.
«Личностная» и «прецедентная» маркированность слова (выражения) наименее системны, связь конкретной единицы с определенной языковой личностью или текстом чаще всего обусловлена индивидуальными ассоциациями говорящего. В то же время подобные ассоциации могут носить достаточно регулярный характер – в тех случаях, когда обусловлены либо высокой частотностью тех или иных единиц в индивидуальном дискурсе (например, в поэтическом идиостиле), либо ярким своеобразием используемых единиц (например, авторских окказионализмов).
В художественном тексте слово может получать оценки и характеристики, обусловленные эстетической задачей автора. Так, слово любовь (лидер по количеству комментариев) определяется в различных текстах как сильное, горячее (И. Тургенев. Накануне); нехорошее (М. Пришвин. Колобок); неточное (А. Арбузов. Годы странствий); высокое (Г. Николаев. Вещие сны тихого психа); шершавое, заезженное, пустое (И. Муравьева. Мещанин во дворянстве) и др. Несмотря на индивидуальный характер подобных оценок, они интересны не только в аспекте стилистики художественной речи, но и с точки зрения лексикологии, психолингвистики, так как в них актуализируются потенциальные семантические компоненты, связанные с личным и коллективным опытом говорящих[127].
Многообразны в текстах художественной литературы метаязыковые комментарии к плану выражения номинативных единиц. Такие комментарии могут касаться фонетического и / или графического облика (1), особенностей артикуляции (2), грамматического оформления слова (3), формального сходства единиц (4), нормы произношения (5) и соотношения нормы и узуса (6), нормы правописания (7), возможных трансформаций слова (8) и др.:
(1) На Иране жили народы, название которых оканчивалось на «яне»: Бактряне и Мидяне, кроме Персов, которые оканчивались на «сы» (Н. Тэффи. Древняя история); (2) Слово «вагон» резнуло, как нож, так напряженно вышло оно из горла (М. Шагинян. Агитвагон); <…> ей надо пройти через этот мертвый брошенный двор, принадлежавший когда-то егерю, потом через лес, который сторожит этот егерь. Она держится за это красивое слово, ласкает языком, сглатывает горьковатую сладость (Г. Щербакова. Ангел Мертвого озера); (3) <…> питание мое состояло в основном из рожек или рожков, не знаю, как в родительном падеже называются эти макароны, короткие и крученые, похожие на рубленных толстых высушенных червей (В. Войнович. Замысел); (4) В слове «биндюжник» было что-то дюжее, поэтому он представлялся мне большим и сильным человеком (Ф. Кривин. Биндюжник); (5) По говору – не москвичка, так как отчетливо говорит «конечно» и «скучно», а не «конешно» и «скушно», как полагается говорить москвичам; скорее всего – петербурженка <…> (М. Осоргин. Свидетель истории); (6) Один иностранный шпион попался на том, что произносил слово «облегчить» с ударением на последнем слоге (Н. Богословский. Заметки на полях шляпы); (7) Мнят себя Бог знает кем <…> Раньше это слово велено было писать с маленькой буквы, я и писал. А сейчас уже не могу (Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов»); (8) Один из них <…> доставил в одну из редакций свой дневник, и в нем были такие своеобразные перлы: будуар, например, он называл «блудуар». А в слове «невеста» он «не» всегда писал отдельно. Когда ему указали на эти грамматические ошибки, он сказал: / – Так вернее будет (В. Гиляровский. Москва и москвичи).
Один из видов металексических комментариев в художественных текстах – указание на ассоциативные связи слов. Эти ассоциации могут быть типичными, соотносимыми с ассоциативной нормой (1), или индивидуальными (2):
(1) Коля насторожился по иной причине – ему не понравилось про психический сдвиг. Слово «психический» тянуло само за собой неприятное слово «больной» (В. Маканин. Сюр в Пролетарском районе); У меня с детства слово «дуга» ассоциируется с широкой трехцветной радугой. Какие-то полузабытые стишки из детской книжки: «Ах ты, радуга-дуга!» (Д. Рубина. Этот чудной Алтухов);
(2) И слово любила «бемоль», такое лиловое и прохладное и немножко граненое, как Валериины флаконы (М. Цветаева. Мать и музыка); Термин «пятилетка» напоминает мне чем-то конский завод (В. Набоков. Встреча).
Лексические и фразеологические единицы нередко получают в художественных текстах лингвокультуроведческий комментарий: языковая единица интерпретируется с точки зрения ее национально-культурного своеобразия (1), или сообщается энциклопедическая информация о факте, явлении культуры, истории (2), который выступает в роли означаемого:
(1) <…> французы взяли у нас слово «степь», да это потому, что их «prairie» и «desert» вовсе не дают верного понятия о том безлесном, но не песчаном, а поросшем травою огромном пространстве земли, которое мы называем степью (М. Загоскин. Москва и москвичи); (2) Певец закончил песню. Сидящие передо мной девушки захлопали, заверещали, забились в падучей. Одна из них побежала вниз с букетом цветов. Я догадалась, что это – сырихи. Слово «сыриха» зародилось в 1950-е годы, во времена славы Лемешева. Поклонницы стояли под его окнами на морозе и время от времени заходили греться в магазин «Сыр» на улице Горького. Сыриха – это что-то глупое и неуважаемое обществом. Зато молодое и радостно восторженное (В. Токарева. Звезда в тумане).
Исследователи неоднократно указывали на существование слов-фантомов [см.: Норман 1994 б; Зеленин 2008 и др.], которые не имеют референта в реальном мире (в этом смысле они противопоставлены лексическим лакунам, для которых, напротив, характерно отсутствие означающего для означаемого). К фантомам, как правило, относят названия сказочных и мифологических предметов, существ (ковер-самолет, домовой), имена литературных персонажей, термины-ошибки (теплород и подобные), наконец, выражения-идеологемы (диктатура пролетариата и т. п.). В художественных текстах мы встречаемся с металексическими комментариями, в которых выражена специфическая оценка слов / выражений: им присваивается статус лексических фантомов. Соответствующая оценка может быть выражена метаязыком обыденной лингвистики при помощи формулировок пустое слово, слово ничего не значит и т. п.:
Не могу отказать авторам в талантливости, а издателям даже в некотором либерализме, но ведь слово «либерализм» – слово не столь опасное, сколько пустое. Мне даже понятнее Пугачевы, мечтающие о власти, чем господа, скорбящие о народе (Б. Окуджава. Путешествие дилетантов…); Чем они связаны? Любовью? Он поморщился. Слово было шершавым, заезженным, неловким и ни о чём не говорило (И. Муравьева. Мещанин во дворянстве).
В круг фантомов попадают не только слова тех классов, о которых пишут профессиональные лингвисты (мифологемы, идеологемы и т. п.), но и другие типы номинативных единиц. Так, художник Череванин, персонаж повести Н. Помяловского «Молотов», подвергает критическому анализу и объявляет «пустыми» слова и выражения любовь, дева, поэзия, старина, лучшие люди, среда заела, виноватый, соблазнить, запретить. Рассуждения Череванина не лишены логики и интересны тем, что он критикует стереотипы сознания, воплотившиеся в семантике тех или иных слов[128].
Объектами метаязыковой рефлексии автора и персонажей в художественной речи часто становятся онимы – собственные имена людей и животных, географические названия и т. п. Ономастическая рефлексия касается функций имени, его роли в жизни человека. Так, в пьесе Л.Андреева «Монумент» героиня побуждает гостей к обсуждению данного вопроса:
Ее Превосходительство. Мерси. Вот видите, какая у меня голова! Я, право, не знаю, зачем у меня самой есть имя? Это так ненужно, когда вся душа: не так ли, достоуважаемый Павел Егорович? / Г о-лова. Карпович, Карпов сын. (Потея.) Не могу знать, Ваше Превосходительство. Стало быть, нужно, коли дают. / Гавриил Гавриилович (хохочет). А для вывески-то? «Павел Карпович Маслобойников и сыновья, мука и бакалея».
Метаязыковые комментарии к онимам касаются их происхождения (1), ассоциативных связей (2), фоносемантики (3), описывают культурные коннотации (4), дают ониму общую оценку (5):
(1) Столовая гора названа так потому, что похожа на стол, но она похожа и на сундук, и на фортепиано, и на стену – на что хотите, всего меньше на гору (И. Гончаров. Фрегат «Паллада»); (2) Где эти Кимры – никто толком не знал, но само слово «Кимры» не внушало доверия. Что-то среднее между кикиморой и мымрой (В. Токарева. Своя правда); (3) Помните, я вчера про лесника рассказывала? Его звали Вакх. Не правда ли, бесподобно? Черное лесное страшилище, до бровей заросшее бородой, и – Вакх! <…> И там все такие. С такими именами. Односложными. Чтобы было звучно и выпукло. Вакх. Или Лупп. Или, предположим, Фавст (Б. Пастернак. Доктор Живаго); (4) «Шарик» – она назвала его… Какой он, к черту, «Шарик»? Шарик – это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пес. Впрочем, спасибо на добром слове (М. Булгаков. Собачье сердце); (5) <…> очень нравятся слова: Смоленск, Витебск, Полоцк… <…> Я не шучу. Разве вы не знаете, как хороши некоторые слова? (И. Бунин. Жизнь Арсеньева).
Наблюдения над металексическими комментариями в художественных текстах позволяют сделать ряд выводов о специфике интерпретации слов и выражений «стихийным лингвистом».
1. Так, рефлексивы, посвященные словам и выражениям, могут не содержать вербального комментария: единицы, подвергающиеся метаязыковой оценке выделяются при помощи графических средств и / или акцентирующих метаоператоров, однако сама оценка не формулируется. Ср.:
Я очень хорошо понял, что если стану приставать к нему то нарушу кейф его (Я. Полонский. Квартира в татарском квартале); <…> сам верховный обвинитель охотно разъясняет нам: «почти по всем трибуналам Республики прокатились (словечко-то) подобные процессы…» (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг).
Такая «авербальность» характерна только для металексических контекстов – другие явления языка / речи снабжаются более определенным комментарием. В подобных случаях отправитель сообщения уверен (и не без оснований), что адресат правильно поймет метаязыковую импликацию. Исследователи неоднократно отмечали многозначность рефлексивов без вербального комментария [см., напр.: Трикоз 2010 а]. Однако подобная многозначность фактически представляет собой асемантичность: очевидно, что выделение лишь фиксирует внимание на акте метаязыковой рефлексии, но не подсказывает направления «расшифровки» импликации. Нуждаются в дополнительном изучении факторы, которые обеспечивают адекватное восприятие читателем метаязыковых импликаций.
2. Предметом лексического комментирования в художественных текстах становятся не только единицы, которые традиционно рассматривают как явления лексико-фразеологического уровня (слова, составные наименования, фразеологизмы), но и некоторые сочетания слов нефразеологического типа, которые говорящий воспринимает как целостные единицы. Ср.:
У одного из восторжествовавших даже был вплоть сколот носос, по выражению бойцов, то есть весь размозжен нос, так что не оставалось его на лице и на полпальца (Н. Гоголь. Мёртвые души); <… > с командиром его у меня сложились, как пишут в воспоминаниях генералы, хорошие отношения (А. Азольский. Диверсант) и т. п.
Выделенные в примерах сочетания не являются фразеологизмами, и если одни из них характеризуются хотя бы высокой степенью частотности[129] (например, сложились хорошие отношения), то другие, напротив, отличаются необычностью, комментируются как чуждые словарю повествователя, а может быть, и неизвестные ему (например, сколот носос). Однако комментаторы выделяют эти формулировки из речевого потока как целостные единицы – как выделяют слова и фразеологизмы. Не будучи в строгом смысле единицами языка, эти выражения представляют собой единицы, которыми оперирует языковое сознание.
Б. М. Гаспаров пишет о существовании в памяти носителя языка особых образований, которые он называет коммуникативными фрагментами. Это «отрезки речи различной длины, которые хранятся в памяти говорящего в качестве стационарных частиц его языкового опыта и которыми он оперирует при создании и интерпретации высказываний» [Гаспаров 1996: 119]. Автор приводит примеры коммуникативных фрагментов и дает следующие разъяснения: «Например, такие выражения, как сам построил дом, строительство жилых домов, в недавно построенном доме, чтобы построить дом, нужно/требуется…, представляют собой различные коммуникативные фрагменты. Они существуют в моей памяти целиком, в качестве готовых к употреблению кусков языкового материала. Я не образую эти сочетания по правилам синтаксического построения именной или глагольной фразы, не думаю о том, какие «падежные формы» имеет лексема дом и какая из этих форм мне понадобится в составе того или другого выражения; я не делаю всего этого… языковая память выносит те или иные из этих выражений на поверхность моего сознания» [Там же: 119]. Коммуникативные фрагменты могут быть различны по структуре и протяженности: от «осколка» слова до предложений и их сочетаний [Там же: 120]. Возможно, восприятие таких единиц как целостных и самостоятельных отчасти объясняет встречающуюся в нелингвистических текстах «неточность», когда термин слово употребляется для обозначения «не-слова». Ср.:
В таком безотрадном положении Иван Васильевич утешался, однако ж, отрадною надеждою отправиться за границу, воображая, что в чужих краях он легко приобретет познания, которые не сумел приобрести в отечестве. Вообще слово за границу имеет между нашей молодежью какое-то странное значение. Оно точно как бы является ключом всех житейских благ (В. Соллогуб. Тарантас); – Значитца, так, – начал с любимой присказки Степанов <…> / – Значитца, так, – отыграл Петренко Степанову его же слово-паразит <…> (А. и С. Литвиновы. Отпуск на тот свет) и др.
Квалификация неоднословного сочетания как о д н о г о слова в приведенных примерах не может быть связана со слитным произношением, поскольку авторы, фиксируя речь на письме, отдают себе отчет в раздельнооформленности сочетания. Однако можно предположить, что обыденным сознанием такие выражения фиксируются как целостные единицы (Возможно, дополнительным фактором такого восприятия является семантический «отрыв», лексикализация словоформы с предлогом за границу – она воспринимается как самостоятельная семантическая единица – ср. современное разговорное заграница).
Идея Б. М. Гаспарова о том, что «вся наша языковая деятельность… пронизана блоками-цитатами из предшествующего языкового опыта» [Там же: 120], подтверждается приведенными примерами метаязыковых комментариев, а также получает дальнейшее развитие: участники коммуникации не только используют и опознают при восприятии готовые «блоки-цитаты», но и интуитивно воспринимают как таковые ранее неизвестные им единицы. Данное обстоятельство служит подтверждением реальности существования коммуникативных фрагментов как единицы практического языкового сознания.
3. Обращает на себя внимание оценка «естественным лингвистом» явлений омонимии и многозначности. То, что специалисты отмечают как силу языка – асимметрию отношений между означаемым и означающим, способность языковой единицы к варьированию, обогащению смысла, – обыденное метаязыковое сознание склонно оценивать отрицательно. Идеальной выглядит определенность значения языковой единицы, не допускающая разночтений, а многозначность часто оценивается как нарушение логики и коммуникативное неудобство. Ср.:
Теперь стоит май… Но почему май «стоит»? Тысячи и тысячи раз подставляется это слово, и вдруг однажды в свежую минуту обнаруживается, что оно совсем некстати. Ни май, ни январь стоять не могут, время не бывает неподвижным. Если уж на то пошло – январь лежит, взбугриваясь снегами и отдыхиваясь вьюгами-метелями, но и лежит не в оцепенении, а медленно и валко перекатываясь в февраль. А март уж поднимается в рост и на затёкших хмельных ногах расхаживает не спеша, заплетаясь и делая кругаля… (В. Распутин. Новая профессия)[130].
«Осуждение» многозначности связано с характерным для обыденного сознания отождествлением языка и речи: именно для речи, понимаемой как «речевые произведения, фиксируемые памятью или письмом» [Арутюнова 1990: 414], оказывается важной недвусмысленность, однозначность выражаемого содержания. Для языковеда очевидно, что «точечность» семантики языкового выражения в условиях конкретного дискурса не противоречит полисемантичности и даже диффузности семантики данного выражения как единицы языка. Однако «наивное» метаязыковое сознание, отождествляя речь и язык (то есть понимая под языком именно речь), предъявляет и к языковым единицам требование однозначности, считая полисемантичность «ошибкой языка».
Учитывая изложенное, обратим внимание еще на одно обстоятельство. Н. К. Рябцева отмечает, что «носитель языка не осознает, что. слово многозначно, потому что все его значения имеют нечто общее, некоторое глубинное определяющее ядро, неизменное во всех употреблениях слова, объединяющее все значения в единое целое» [Рябцева 2005: 502]. В тех случаях, когда наличие инвариантного значения у полисеманта очевидно, многозначность слова не попадает в фокус внимания носителя языка, а рефлексия по поводу множественности означаемых у одного означающего возникает, как правило, при ощутимой семантической дистанции между значениями, то есть в тех случаях, когда сопоставляются не лексико-семантические варианты слова, а о м о н и м ы. Ср.:
<…> почему на нашем родном языке тряпки и рухлядь называют «добром», а супружество, наоборот, – «браком», тогда как одновременно на том же языке утверждается, что «Бог есть добро», «браком» называется то негодное, что пролетарий выкидывает в мусорную корзину <…> (Ф. Чернин. Вячик Слонимиров…).
В процитированном фрагменте обсуждается наличие разных значений у слов брак и добро. Но если интерпретация единицы брак как омокомплекса традиционна, то слово добро в толковых словарях представлено как многозначное [см.: СД; СУ; МАС; СОШ; БТС и др.]. Однако приведенное рассуждение может служить свидетельством того, что у слова добро осуществляется (или уже произошел) распад полисемии: носитель языка не обнаруживает того инвариантного значения, которое примирило бы «стихийного лингвиста» с наличием у означающего более чем одного означаемого. Думается, что в подобных случаях показатели обыденного метаязыкового сознания могут учитываться лингвистами при решении вопроса о разграничении омонимии и полисемии.
Рефлексия о словах и выражениях, представленная в художественных текстах, играет важную социальную роль. Литература являлась и является для русского читателя своеобразным окном в мир и особым информационным каналом, по которому проникали в язык многие слова – как иноязычные, так и исконно русские (в том числе созданные авторами художественных текстов). Замечания о свойствах языковых единиц, содержащиеся в художественных текстах, могут служить для языковеда не только ярким иллюстративным материалом, но и довольно часто – источником лингвистических сведений.
Логическим завершением исследования той или иной лингвистической проблемы является попытка словарной репрезентации изученного материала. Сегодня лингвисты ставят вопрос о явлении «наивной лексикографии» [Вепрева 2004; Иванищева 2000]. Толкования слов и выражений, предлагаемые рядовыми носителями языка, представляют собой материал, который может быть обработан специалистом и представлен в виде словаря.
Собранный исследователем корпус метаязыковых комментариев может стать основой для словаря «народных» толкований, и даже для целого ряда словарей, ориентированных а) на различные источники материала (фольклорные тексты[131], тексты художественной литературы, СМИ) и/или б) на разные лингвистические объекты и свойства этих объектов. Например, можно ставить вопрос о создании словаря «народной» ономастики, в котором были бы представлены комментарии к именам собственным: антропонимам, топонимам, зоонимам и др. Несомненный интерес может представлять и словарь «народной этимологии», включающий примеры установления словообразовательных и этимологических связей (как истинных, так и ложных), этимологические мифы и т. п. На основе «народных» толкований можно составить словарь нелитературной лексики, поскольку значительный пласт рефлексивов составляют комментарии к словам ограниченного употребления. Среди метаязыковых комментариев часты рефлексивы, которые описывают ассоциативные связи слов и выражений и могут составить своеобразный ассоциативный словарь.
Словари, построенные на таком не совсем обычном материале, могли бы стать инструментом как для исследования обыденного метаязыкового сознания[132], так и для дальнейшего изучения русской лексики и фразеологии. Кроме того, словарь, составленный на материале литературных произведений, отразит художественное метаязыковое сознание, продемонстрирует креативный потенциал метаязыковой рефлексии.
Собранная нами картотека металексических комментариев позволила разработать проект словаря, который будет включать разнообразные характеристики и оценки слов и выражений, сформулированные мастерами художественного слова. Словарь адресован, прежде всего, специалистам-филологам, которых интересуют вопросы изучения обыденного метаязыкового сознания, «наивных» лингвистических технологий, а также вопросы лексикологии, лексикографии, стилистики художественной речи. Кроме того, словарь может быть интересен широкому кругу читателей – любителей русской словесности.
Поскольку для единиц, попадающих в фокус внимания «естественного лингвиста», нет специального терминологического обозначения, мы используем для словаря условное название, которое, на наш взгляд, отражает специфику метаязыковой рефлексии именно в художественном тексте – «Литературный портрет слова».
Как известно, жанр литературного портрета отличается от нехудожественного словесного портрета (например, в официально-деловой речи) целеустановкой. Литературный портрет стремится не столько к точности описания, сколько к художественному изображению наиболее ярких, индивидуальных черт объекта. При этом выбор как изображаемого предмета, так и актуализируемых признаков обусловлен эстетической задачей автора. Таким образом, литературный портрет никогда не является фотографически точным изображением прототипа, но «штрихи» этого портрета всегда эстетически мотивированы.
Литературный портрет слова (или любой другой языковой единицы) также не является исчерпывающим лингвистическим описанием; его нельзя отождествлять со словарной статьей «обычного» словаря, включающей всестороннюю характеристику семантики слова. Как правило, автор художественного произведения обращает внимание на отдельные свойства языковой единицы, но именно на те свойства, которые соотносятся с текущей художественной задачей автора и актуальны для образной системы данного произведения. Таким образом, под литературным портретом слова (выражения) понимается метаязыковой комментарий к слову (выражению), являющийся элементом художественного произведения. Говоря о том, что метаязыковой комментарий является элементом художественного произведения, мы имеем в виду не только формальную включенность такого комментария в текст, но и его роль как экспрессивного средства, компонента «общей образности» (А. М. Пешковский) художественного произведения. Содержанием лексикографического описания этих единиц должен явиться весь спектр толкований и оценок, сопровождающих их употребление в художественных текстах (указание на семантические, стилистические, грамматические, социолингвистические, лингвокультурные и др. свойства слова).
Охарактеризуем основные особенности словаря «Литературный портрет слова».
Словникс ловаря составляют слова и выражения, подвергшиеся метаязыковой рефлексии в художественных текстах XIX – начала XXI вв. Объем словника заведомо меньше, чем у «обычного» толкового словаря, так как метаязыковому комментированию в речи (в том числе – в художественной) подвергаются не все слова и выражения, а лишь те, которые связаны с различного рода «очагами речевого напряжения», которые требуют «особой языковой бдительности говорящего» [Вепрева 2005: 102].
Вход в словарь основан на алфавитном расположении вокабул. Словарная статья состоит из следующих зон (частей): 1) заголовочное слово с соответствующими пометами, 2) описание-иллюстрация, 3) адресная зона, 4) комментарий составителя (см. схему 5).
Схема 5
Структура словарной статьи в словаре «Литературный портрет слова»
Специфика словаря «Литературный портрет слова» особенно наглядно проявляется в центральной зоне словарной статьи – зоне описания-иллюстрации. Под описанием в данном случае понимаются различные виды метаязыковых комментариев (рефлексивы) к слову или выражению, которые и являются основным содержанием словарных статей. В «обычном» толковом словаре данная позиция занята словарной дефиницией (толкованием), в словаре «Литературный портрет слова» металексические комментарии могут содержать толкование, сведения о происхождении и употреблении единицы, обсуждение плана выражения и иные сведения – все эти виды информации мы и называем описанием.
В традиционных толковых (а также в авторских) словарях центральное место в словарной статье занимает метаязыковое описание (толкование, сведения о грамматических и словообразовательных свойствах), к которому примыкает иллюстрация (пример употребления заголовочной единицы). Таким образом, основной текст словарной статьи принадлежит лексикографу, а «чужой» текст (иллюстрация) играет вспомогательную роль. В нашем словаре зона толкования занята тем, что в лексикографической практике принято использовать в качестве иллюстрации, – фрагментом из художественного текста, который совмещает таким образом функции и метаязыкового описания, и иллюстрации. Особая позиция рефлексива в словарной статье подчеркивается и графическими средствами: описание-иллюстрация выполняется более крупным, чем остальной текст, шрифтом Arial. Решение сделать центром словарной статьи именно художественный текст, а не текст составителя противоречит сложившейся лексикографической практике, однако оно обусловлено самим назначением словаря, который призван продемонстрировать особенности «художественных» металексических комментариев: их специфика определяется, во-первых, особенностями обыденной метаязыковой рефлексии, во-вторых, индивидуальностью толкователя, а в-третьих, эстетической задачей создателя художественного текста. Таким образом, авторы метаязыковых описаний – русские писатели XIX, XX и начала XXI в. – являются не просто «иллюстраторами», но и фактическими авторами словаря «Литературный портрет слова».
После зоны толкования располагается адресная зона: в скобках указывается автор и название произведения.
В рефлексивах, как и в статьях традиционного толкового словаря, вербализованы различные виды информации о словах и выражениях: толкование, указание на семантические, стилистические, грамматические, социолингвистические, лингвокультурные и другие свойства. Однако эта информация, выраженная средствами естественного метаязыка, нуждается в дополнительном осмыслении и систематизации в соответствии с задачами лексикографирования.
Во-первых, читатель-нелингвист не владеет навыком интерпретации метаязыковой информации, которая не сформулирована в явном виде и в соответствии с уровнем его понимания. Следовательно, заключенная в рефлексивах информация должна быть переформулирована составителем таким образом, чтобы читатель понял, что именно говорится о слове, выражении в приведенном толковании. Во-вторых, массовый читатель не получил систематической лингвистической подготовкой и не владеет терминологией, выходящей за рамки «наивной» лингвистики. Следовательно, при огромном разнообразии писательских метаязыковых оценок, соотносимых с различными аспектами и проблемами современной науки, составитель словаря должен максимально адаптировать лингвистическую информацию к уровню подготовки «среднестатистического» читателя, знающего терминологию (в лучшем случае) на уровне школьной программы по русскому языку.
Учитывая перечисленные соображения, мы вводим в словарную статью собственный (вспомогательный) комментарий, цель которого – в компактной и доступной для читателя-неспециалиста форме обобщить лингвистическую информацию, содержащуюся в рефлексиве. При этом важно заметить: в данном комментарии не оценивается авторское описание единицы; цель составителя – помочь читателю разобраться, что именно сказал о слове (выражении) автор толкования.
Для удобства восприятия комментариям составителя придана стандартизованная форма. Все виды содержащейся в рефлексивах информации о слове (выражении) сгруппированы по семи модулям и снабжены соответствующими пометами.
Помета Знач. указывает на то, что автором объясняется лексическое значение (Буржу́йка[133]), указывается иноязычный эквивалент слова (Cherry brandy), обращается внимание на многозначность слова (Зона), на отношение его к той или иной лексической парадигме – тематической группе (Ари́ец), синонимическому ряду (Байба́к), наличие антонимов (Преступле́ние I) и др.
Помета Происх. обозначает, что в рефлексиве содержатся сведения о происхождении слова, его современных и исторических словообразовательных связях (напр.: Броневи́к, Каза́к I и др.).
Помета Употр. говорит о том, что в авторском тексте обсуждается стилистическая (Леге́нда) и социолингвистическая (Кайма́к) маркированность, особенности сочетаемости (Клевета́), хронологические рамки активности лексической единицы (Канто́н), высказывается суждение об уместности / неуместности использования данной единицы в речи (Това́рищ IX) и т. п.
Помета Оц. обращает внимание на различные виды оценок слова: обобщённые (плохое, хорошее, дурацкое слово), эстетические (красивое, тёплое, уродливое слово), эмоционально-психологические (радостное, пугающее, магическое слово) и другие (см.: Антагони́зм, Безобра́зие и др.).
Помета Асс. соответствует описанию ассоциативных связей слова (напр.: Др́яхлый).
Помета Форм. свидетельствует о том, что в рефлексиве актуализирован план выражения языковой единицы: особенности грамматического оформления, фонетический и/или графический облик, норма произношения, артикуляционное впечатление или формальное сходство с другими единицами языка; норма правописания и возможные искажения и трансформации внешнего облика слова; языковая игра и шутки, основанные на использовании плана выражения слова и т. д. (напр.: Ва́лишень, Асфа́льт и др.).
Наконец, помета Культ. указывает на то, что авторское толкование содержит культуроведческий комментарий и / или сопровождается оценкой единицы в аспекте национально-культурного своеобразия языка. При этом под культуроведческим комментарием понимаются разнообразные пояснения, характеризующие денотат слова как факт, явление духовной или материальной культуры (см.: Вене́ра, Авди́тор и т. п.).
Для читателя-лингвиста такая система помет выглядит упрощенной, так как под одним обозначением может скрываться достаточно разнородная информация. Так, к особенностям употребления (помета Употр.) отнесены стилевые (В рабо́чем поря́дке) и социолингвистические (Ваго́нки) характеристики единиц, жанровая (Ваго́н-за́к), «персонологическая» (Во́т в на́ше вре́мя) и «личностная» (Изю́м) маркированность, особенности сочетаемости единицы (Бриллиа́нт), хронологические границы ее функционирования (Кавежеди́нка) и др. Конкретное содержание метаязыковой оценки слова передается не с помощью пометы, а непосредственно в комментарии составителя, который следует за пометой. Однако пометы и комментарии составителя могут оказаться полезными и для читателя-специалиста, например, при первичном поиске необходимой информации.
Считаем важным подчеркнуть: составитель словаря в своих комментариях не характеризует непосредственно заголовочную единицу, а лишь разъясняет содержание оценки, сформулированной писателем в художественном тексте. Поэтому комментарий составителя не исправляет и не уточняет суждения авторов, даже в случае некорректности этих суждений (ср.: Нувори́ш).
Словарь «Литературный портрет слова» – это словарь нового типа. Он соотносится с особым видом «пользовательского запроса» [Дубичинский 2009: 29], который не попадал ранее в поле зрения лексикографа. С одной стороны, он призван оказать помощь языковеду в изучении «наивных» лингвистических технологий, а с другой стороны, – это в определенном смысле словарь вербализованных в текстах эстетических свойств слова.
Совокупность единиц, составивших словник нашего словаря, может быть охарактеризована как особый лексикографический тип[134]. С одной стороны, употребление данного термина здесь условно, поскольку единицы словника не демонстрируют общих свойств, характерных для каждой помещенной сюда единицы (что объединяет слова одного лексикографического типа). С другой стороны, известно, что всякий (неспециальный) словарь описывает некий фрагмент наивной картины мира. В эту картину мира входит и обыденное представление о языке, языковых единицах. В норме человек пользуется словами, отбирая их посредством подсознательных операций и лишь в особых случаях фиксирует на них метаязыковое сознание. Причины такой фиксации часто связаны со свойствами самих слов (семантическими, прагматическими, структурными, коммуникативными, эстетическими). Таким образом, признаком, объединяющим рассматриваемые слова в один лексикографический тип, является наличие свойств, стимулирующих рефлексию носителя языка. Дополнительным аргументом в пользу объединения описываемых единиц в отдельный лексикографический тип является регулярность рефлексии носителей языка по поводу одних и тех же слов (см., напр.: Дру́г, Дружба 1, Культу́ра, Любо́вь, Това́рищ и др.).
«Литературный портрет слова» – разноаспектный словарь, поскольку в нем отражены различные свойства лексических единиц: семантика, происхождение, употребление, ассоциативные связи, оценки, особенности плана выражения, национально-культурная специфика и др. Однако он отличается от многоаспектных (толковых) словарей тем, что перечисленные виды характеристик представлены в нем не регулярно, а лишь в случаях, когда соответствующие признаки привлекают внимание создателя художественного текста.
Филологи обратили внимание на то, что в конце XX – начале XXI вв. возросла популярность словарей, жанр которых В. Руднев определил как «авторские словари[135]»: «Надо сказать что «авторский словарь», то есть такой словарь, который дает не объективную безличную информацию, но принципиально неполный, субъективный и концептуальный, – ныне один из самых читаемых жанров: «Словарь Булгакова», «Словарь цитат», «Энциклопедия литературных героев», «Словарь культуры XX века» – всех не перечесть» [Руднев 1999: 232]. Перечисленные словари и подобные им привлекают внимание читателей именно своей субъективностью; привычная для массового пользователя «рекомендательная» функция словаря здесь уступает место функции презентационной. Задача авторских словарей состоит не в том, чтобы дать исчерпывающее описание языковой нормы, а в том, чтобы продемонстрировать возможность нового взгляда на слово.
В. К. Харченко предлагает для подобных словарей особое жанровое определение – «демонстрационный словарь» [см.: Харченко 2006 б] и обосновывает это определение следующим образом: «Почему же не привлечь внимания твоих соотечественников к тому, что тебе приглянулось? Демонстрационный словарь может быть формой привлечения такого внимания» [Харченко 2006 а]. Описываемый в настоящей работе словарь «Литературный портрет слова» также можно было бы назвать демонстрационным, поскольку он, во-первых, включает далеко не исчерпывающий перечень металексических комментариев в художественных текстах, а во-вторых, его задача – продемонстрировать новые возможности лексикографической фиксации речевого материала. В то же время принцип отбора материала для лексикографического описания (рефлексивов) сближает наш словарь с конкордансом, так как в него входят все без исключения обнаруженные исследователем релевантные контексты. В этом отличие, например, от толкового словаря, задача которого – описать инвариантные свойства характеризуемой единицы, выявить наиболее общие элементы семантики слова и дать типичную иллюстрацию. В нашем случае интересно установить не только общие элементы языкового сознания «наивного» носителя, но индивидуальные смыслы, которые приобретает словарная единица в частном тезаурусе языковой личности, а также все используемые способы комментирования.
Таким образом, словарь «Литературный портрет слова» – это разноаспектный словарь информационного (демонстрационного) типа, описывающий слова и выражения, которые подверглись метаязыковой рефлексии в произведениях русской художественной литературы.
Заключение
Вопросы, рассматриваемые в этой книге, находятся на пересечении целого ряда остро актуальных направлений современной лингвистики. Так, помимо теоретического, очевидно прикладное значение проблемы обыденного метаязыкового сознания. «Стихийная лингвистика» становится все более активной и влиятельной силой в обществе[136]; современная действительность дает примеры не вполне удачного решения сложных и тонких вопросов языковой политики с позиции «бытовой философии языка», без учета накопленных наукой знаний и традиций.
Основные тенденции развития науки и формируемый различными общественными институтами «социальный заказ» требуют от лингвистики «объяснить изучаемый ею объект – язык, – но не только «в самом себе и для себя», а для более глубокого понимания и объяснения человека и того мира, в котором он обитает» [Кубрякова 1995: 224–225]. Исследование обыденных представлений о языке, их источников, факторов развития и устойчивости может помочь ученым и субъектам языковой политики прогнозировать последствия принимаемых решений, предусматривать возможные трудности в их реализации. Сегодня для обеспечения грамотного языкового строительства необходимо изучать механизмы и разрабатывать технологии воздействия на коллективное метаязыковое сознание. Б. С. Шварцкопф, который впервые осуществил специальное исследование отношения говорящих к языку, писал: «Практическое осуществление задач культуры речи требует изучения языкового опыта тех, к кому обращена языковая политика, чтобы знать, на какие черты языкового чутья говорящих можно опираться при пропаганде культуры речи, а с какими чертами следует бороться» [Шварцкопф 1970: 283].
Сегодня в рамках лингвистики было бы целесообразно искать ответы на следующие вопросы: а) каковы возможные источники данных о содержании обыденного метаязыкового сознания; б) какие методы исследования адекватны специфике «наивного» лингвистического знания; в) как выглядит модель языка (как фрагмент языковой картины мира) в сознании неспециалиста (инвариант этой модели и параметры варьирования); г) о каких особенностях метаязыковой деятельности рядового носителя языка свидетельствуют метаязыковые заблуждения (неточные, нечеткие, откровенно ошибочные представления о языке / речи) и др. Перечисленные вопросы носят теоретический характер, однако очевидно и их прикладное значение. Ответы на эти вопросы позволят приблизиться к решению практических задач, которые не только не решены, но, может быть, еще не сформулированы современной наукой с достаточной четкостью.
Актуальность затрагиваемых в монографии вопросов связана также с интересом современной науки к литературе как форме общественного сознания. В частности, современная лингвистика рассматривает художественную литературу как форму репрезентации картины мира (частью которой являются представления о языке / речи).
Литература традиционно выполняет в российском обществе не только собственно эстетическую функцию, но и ценностно-ориентирующую (активно влияет на формирование общественных ценностей, настроений и предпочтений), а также образовательную (служит для читателя источником сведений по истории, социологии, этнографии и т. д.). Безусловно, метаязыковая информация, содержащаяся в художественных произведениях, оказывает влияние на развитие общественного сознания в силу особого отношения к писателю как мыслителю, который знает ответы на многие вопросы, в том числе может квалифицированно рассуждать о языке [Колесникова 2002: 123].
Главная предпосылка высокого авторитета языковой личности писателя – открытое проявление ценностного отношения к языку: в текстах отечественной художественной литературы и художественной публицистики «мы найдем сотни признаний в том, что любовь, внимание и интерес к языку своего народа были одним из мощных стимулов, побудивших их к творчеству» [Караулов 2007: 261].
Метаязыковые комментарии в художественных текстах могут служить ценным источником собственно лингвистической информации. Специалисты справедливо указывали на очевидную важность филологических суждений писателей: «Никто, вероятно, и не станет утверждать, что книги типа «Русские писатели о языке» и «Русские писатели о литературе» при всех трудностях в отборе материала и крайней неполноте конкретных изданий дают исследователям меньше, чем лучшие из филологических монографий» [Григорьев 1975: 10]. Учитывая интерес общества к метаязыковым воззрениям писателей, исследователи неоднократно предпринимали издание различных хрестоматий и сборников поэтических и прозаических текстов для широкого круга читателей; дальнейшее изучение проблемы даст новый интересный материал для подобных изданий. Помимо общелингвистических и лингвофилософских взглядов писателей, языковеду могут быть интересны и содержащиеся в художественных текстах сведения о происхождении, развитии, семантике, прагматике и функционировании языковых единиц.
Наконец, изучение метаязыковых высказываний имеет просветительское значение. Одна из наиболее устойчивых традиций отечественной лингвометодики – обучение языку на образцовом текстовом материале, в частности, на примере высказываний о языке и речи из художественных текстов. Подобные примеры выполняют, прежде всего, дидактическую функцию – являются материалом для различных упражнений и наблюдений, объектом лингвистического и лингвостилистического анализа на занятиях [Шумарина 2007; 2008 а и др.]. Кроме того, метаязыковые высказывания русских писателей используются в аргументативной функции, поскольку могут подтверждать положения лингвистической науки или вступать с учеными в заочную дискуссию; интерес к данному аспекту влечет за собой создание различных хрестоматий [Русские писатели 1953; 1954; 2000; 2004; 2006; Лекант, Гольцова, Копосов 2004], подборок цитат и афоризмов, сборников поэтических и прозаических текстов о языке и речи [напр.: Михайловская 1986; Поэтыо русском языке 1989; 2007; Прямая речь 2007], которые вызывают неизменный интерес у читающей публики.
Представляются очевидными и перспективы изучения проблемы «Язык в зеркале художественного текста». Например, кажутся небезынтересными сопоставительные исследования метаязыковых контекстов в произведениях разных жанров, разных авторов, разных периодов создания.
Всякий языковед, занимающийся вопросами преподавания или языкового строительства, должен иметь представление о закономерностях обыденной метаязыковой деятельности (как врач имеет представление об анатомии и физиологии человека, как архитектор осведомлён о свойствах строительных материалов, как лоцман знает особенности рельефа дна). В связи с подобным положением дел представляется целесообразным ставить вопрос о включении соответствующего круга вопросов в содержание высшего профессионального филологического образования. Думается, назрела необходимость создания учебного пособия по теории обыденного метаязыкового сознания. Работа над пособием не только сделает проблему доступной широким массам филологов, но и позволит осмыслить её на ином уровне.
Для стимулирования исследовательской активности в соответствующей области полезной была бы публикация различного рода выборок (в том числе рефлексивов из художественных текстов), репрезентирующих обыденное метаязыковое сознание[137]. Это могут быть словари «наивных» толкований, тематические подборки высказываний рядовых носителей языка (например, «Грамматика в обыденном метаязыковом сознании», «Современная культурно-языковая ситуация в зеркале «народной» лингвистики», «Национально-культурное своеобразие языка в отражении обыденного метаязыкового сознания» и т. п.).
В дальнейшем развитии, углублении, конкретизации нуждается учение о функционировании рефлексивов в художественных текстах. Метаязыковая рефлексия в литературном произведении может интерпретироваться как особого рода «лингвистика», субъектом которой является автор текста. Выступая в каждом конкретном произведении как «авторская лингвистика», она в то же время демонстрирует некоторые общие черты и закономерности. Это «поэтическое языковедение» 1) характеризуется специфическим составом объектов (который пересекается, но не совпадает с перечнем объектов научной и «наивной» лингвистики), 2) выдвигает собственные принципы интерпретации этих лингвистических объектов, 3) располагает целым арсеналом особых лингвистических технологий и 4) оперирует особым метаязыком.
В книге не затрагивается диахронический аспект проблемы. Хотя привлекаемый к рассмотрению материал имеет широкие хронологические рамки, он не исследуется в динамике. Следование принципу историзма предполагает анализ материала с учетом его исторической изменчивости, выявление социальных факторов, влияющих на направленность, содержание, интенсивность метаязыковой деятельности [см., напр.: Судаков 2006; Трикоз 2010 б]. Реализация намеченных в данной работе принципов анализа метаязыковой рефлексии в историческом аспекте, несомненно, относится к наиболее интересным перспективам исследования.
Рост исследовательского интереса, с одной стороны, к вопросам обыденного метаязыкового сознания, а с другой стороны, – к «лингводицее» художественного текста ставит на повестку дня издание аннотированного библиографического указателя по проблеме.
Внимания исследователей требует вопрос упорядочения терминологии, связанной с изучением различных видов рефлексии о языке (обыденной, научной, эстетической, «любительской»); думается, необходимым шагом на пути к решению этой задачи является создание тематического словаря терминов[138].
Наверное, сегодня есть основания утверждать, что в сознании научного сообщества вопрос о «непрофессиональной» метаязыковой рефлексии все более смещается из зоны дальней периферии в «светлое поле» актуального знания.
Литература
Абрамов Ф. Такой словарь нужен // Русская речь. 1972. № 5. С. 51–53.
Акимова Т. И. «Письма о русской поэзии» Н. Гумилева в контексте споров о языке 1920—30-х гг. // Русская литература в формировании современной языковой личности. СПб., 2007. Т. 1. С. 397–401.
Акишева А. Т. Языковое самосознание как измерение социальных моделей речевого поведения в гендерном аспекте // Русская литература в формировании современной языковой личности: СПб., 2007. Т. 2. С. 5—14.
Алимова Г. В. Проблема креативности языковой личности // Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика. Кемерово; Барнаул, 2008. С. 169–174.
Андрусенко Е. А. Стратегии семантизации диалектизмов в художественном тексте (на материале произведений сибирских писателей) // Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика. Кемерово;
Барнаул, 2008. С. 350–355.
Андрющенко Т. Я. Метатекст и его роль в интерпретации текста // Проблемы организации речевого общения. М., 1981. С. 127–150.
Античные теории языка и стиля. М.; Л., 1936. 344 с.
Апресян Ю. Д. Избранные труды: в 2 т. М., 1995. Т. 2. 767 с.
Арнольд И. В. Графические стилистические средства // Иностранные языки в школе. 1979. № 3. С. 13–20.
Арсеньева Муза. Язык мой – друг мой. Филологи, – к барьеру!.. СПб., 2007. 192 с.
Артемова О. Г. Использование графических и паралингвистических средств в создании семантики художественного образа персонажа // Язык, коммуникация, социальная среда. Воронеж, 2002. Вып.2. С. 164–177.
Арутюнова Н. Д. Диалогическая модальность и явление цитации // Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. М., 1992. С. 52–79.
Арутюнова Н. Д. Речь // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: 1990. С. 414–416.
Арутюнова Н. Д. Наивные размышления о наивной картине языка //
Язык о языке. М., 2000 а. С. 7—22.
Арутюнова Н. Д. Показатели чужой речи де, дескать, мол: К проблеме интерпретации речеповеденческих актов // Язык о языке. М., 2000 б. С. 437–449.
Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы. М., 2005. 384 с.
Ахапкин Д. Н. «Филологическая метафора» в поэзии И.Бродского: автореф. дис. канд. филол. наук. СПб., 2002. 22 с.
Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966. 607 с.
Ахметова Г. Д. Курсив в повести В. С. Маканина «Где сходилось небо с холмами» // Русская речь. 2006. № 5. С. 41–44.
Базылев В. Н. От парадигм-маргиналий к парадигмам-доминантам в современной лингвистике (лингвосинергетика, палеонтология языка, кондициональная лигвистика) // Лингвистика на рубеже эпох: доминанты и маргиналии. М., 2004. С. 45–77.
Базылев В. Н. Политика и лингвистика: «великий и могучий…» // Политическая лингвистика. Екатеринбург, 2009. Вып. 3 (29). С. 9—39.
Балахонская Л. В. Языковая рефлексия на рекламные тексты в современной художественной и публицистической литературе // Русская литература в формировании современной языковой личности. СПб., 2007. Т.1. С. 115–122.
Баранов А. Н. Намек как способ косвенной передачи смысла [Электронный ресурс] // Диалог—2006: докл. междунар. конфер. URL: -21.ru/dialog2006/materials/pdf/Baranov.pdf (дата обращения: 12.11.2009).
Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Предисловие // Василий Буй. Русская заветная идиоматика (веселый словарь крылатых выражений). М., 1995. С. VI–VII.
Баранов А. Н., Кобозева И. М. Вводные слова в семантической структуре предложения // Системный анализ значимых единиц русского языка. Синтаксические структуры. Красноярск, 1984. С. 83–93.
Бартминьский Е. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике. М., 2005. 528 с.
Барчунова Т. В. Уровни языковой реальности и способы рефлексии над языком // Рефлексия в науке и обучении. Новосибирск, 1989. С. 135–143.
Батюкова Н. А. Говоря современным языком (рефлексивы в современных текстах массовой информации) // Вестник Московского университета. Сер.9. Филология. 2007. № 5. С. 156–161.
Батюкова Н. А. Метаязыковые средства современной публицистической и художественной речи: автореф. дис. канд. филол. наук. М., 2009. 24 с.
Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 504 с.
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979 а. 320 с.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979 б. 424 с.
Белякова И. Ю., Оловянникова И. П., Ревзина О. Г. Словарь поэтического языка Марины Цветаевой: в 4 т. М., 1996–2004.
Бердичевский А. Метаязык как часть естественного языка // Московская студенческая конференция по теоретической и прикладной лингвистике в рамках Международной молодежной научной Олимпиады «Ломоносов—2006». М., 2006. С. 5–7.
Бессознательное: Природа, функции, методы исследования: в 4 т. Тбилиси, 1978–1985.
Блинова О. И. Носители диалекта – о своем диалекте: (Об одном из источников лексикологического исследования) // Сибирские русские говоры. Томск, 1984. С. 3—15.
Блинова О. И. Обыденное метаязыковое сознание как источник лингвистической информации (на материале диалектной мотивологии) // Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика. Кемерово; Барнаул, 2008. С. 13–19.
Блинова О. И. Обыденная мотивология и её аспекты // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Кемерово; Барнаул, 2009. Ч. 1. С. 228–238.
Блинова О. И., Ростова А. Н. Явление мотивации слов по данным языкового сознания носителей диалекта // Лексика и фразеология говоров территорий позднего заселения. Кемерово, 1985. С. 25–33.
Блумфилд Л. Язык. Л., 1986. 607 с.
Богин Г. И. Рефлексия и интерпретация: принцип потенциальной понятности всякого текста // Вопросы стилистики. Саратов, 1998. Вып. 27. С. 62–68.
Бодалев А. А., Куницына В. Н., Панферова В. Н. О социальных эталонах и стереотипах и их роли в оценке личности // Человек и общество: (Ученые записки НИИКСИ). Л., 1971 Вып. 9. С. 151–160.
Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию: в 2 т. М., 1963. Т. I. 384 с.; Т. II. 392 с.
Бодуэн де Куртенэ И. А. Введение в языковедение. Изд. 6-е. М., 2004. 320 с.
Божович Е. Д. О функциях чувства языка в решении школьниками семантико-синтаксических задач // Вопр. психологии. 1988. № 4. С. 70–78.
Бокарева Ю. М. Лексикографические материалы Н. В. Гоголя // Слово. Словарь. Словесность: Текст словаря и контекст лексикографии. СПб., 2010. С. 384–388.
Болдырева Е. М. Memini ergo sum: автобиографический метатекст И. А. Бунина в контексте русского и западноевропейского модернизма.
Ярославль, 2007. 497 с.
Бондалетов В. Д. Социальная лингвистика. М., 1987. 160 с.
Борисов С. Б. Роль рефлексии в творческой деятельности (на примере анализа феномена личной переписки) // Рефлексивные процессы и творчество. Новосибирск, 1990. Часть 1. С. 235–236.
Бочаров А. Б. М. М. Бахтин: от филологии к философии, от металингвистики (метариторики) к философии языка [Электронный ресурс] // Русская и европейская философия: пути схождения. СПБ., 1999. URL: (дата обращения: 11.09.2010).
Бударагина Е. И. Тенденция к размыванию норм современного русского языка в дискурсе СМИ (на материале рекламы) // Активные процессы в различных типах дискурсов: политический, медийный, рекламный дискурсы и Интернет-коммуникация. М.; Ярославль, 2009. С. 31–33.
Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Folk linguistics // Русский язык в его функционировании. М., 1998. С. 13–15.
Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Человек о языке (метаязыковая рефлексия в нелингвистических текстах) // Логический анализ языка: Образ человека в культуре и языке. М., 1999. С. 146–161.
Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. «Стихийная лингвистика» (Folk linguistics) // Русский язык сегодня. М., 2000. Вып. 1. С. 9—18.
Бунин И. А. Окаянные дни. М., 1990. 414 с.
Бухштаб 2008: Бухштаб Б. Философия «заумного языка» Хлебникова // Новое литературное обозрение. 2008. № 1 (89). С. 44–92..
Вавилова Л. В. Письменные источники реконструкции наивной языковой картины мира // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. «Лингвистика». 2005. № 7. С. 170–177.
Валитова А. М. Вербальное представление речевых шагов автора в научном тексте: автореф. дис. канд. филол. наук. Уфа, 2001. 19 с.
Валуенко Б. В. Выразительные средства набора в книге. М., 1976. 128 с.
Варбот Ж. Ж. Народная этимология в истории языка и в научной этимологии // Славянское языкознание: XIII Междунар. съезд славистов. М., 2003. С. 49–62.
Василий Буй. Русская заветная идиоматика (веселый словарь крылатых вьфажений). М., 1995. 336 с.
Васильев А. Д. Слово в российском телеэфире: Очерки новейшего словоупотребления. М., 2003. 224 с.
Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языка.
СПб., 2004. 336 с.
Вашунина И. В. Коммуникативно-функциональные особенности некодифицированных графических средств: автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1995. 20 с.
Введенская Л. А., Колесников Н. П. Приемы осмысления внутренней формы слова (виды ненаучной этимологии) [Электронный ресурс] // Respectus philologicus. 2003. № 3 (8). URL: /3-8/vved.htm (дата обращения: 22.08.2010).
Вежбицка А. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1978. Вып. 8. С. 402–424.
Вежбицка А. Язык. Культура. Познание. М., 1996. 416 с.
Вежбицка А. Речевые жанры // Жанры речи. Саратов, 1997. С. 99—111.
Велединская С. Б. Проблемы интерпретации лексической мотивации в художественном тексте: автореф. дис. канд. фил. наук. Томск, 1997. 20 с
Вепрева И. Т. Рефлексивы и их функционально-системная организация // Русский язык в контексте культуры. Екатеринбург, 1999. С. 194–203.
Вепрева И. Т. О некоторых особенностях наивной лексикографии // Русский язык сегодня. М., 2004. Вып. 3. С. 55–64.
Вепрева И. Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. М., 2005. 384 с.
Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Изд. 3-е. Л., 2008. 648 с.
Виноградов В. В. Русский язык: грамматическое учение о слове. М., 1947. 784 с.
Виноградов В. В. Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания // Вопросы языкознания. 1964. № 3. С. 3—18.
Виноградов В. В. О работе Н. В. Гоголя над лексикографией и лексикологией русского языка // Исследования по современному русскому языку: сб. ст., посвящ. памяти проф. Е. М. Галкиной-Федорук. М., 1970. С. 30–53.
Виноградов В. В. Избранные труды. О языке художественной прозы. М., 1980. 362 с.
Винокур Г. О. Проблема культуры речи // Русский язык в советской школе. 1929. № 5. С. 82–92.
Винокур Г.О. Об изучении языка литературных произведений // Русская словесность: антология. М., 1997. С. 178–201.
Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 2006. 640 с.
Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. 2-е изд. Л., 1930. 188 с.
Вопросы лингвоперсонологии. Барнаул, 2007. 222 с.
Воркачев С. Г. Счастье как лингвокультурный концепт. М., 2004. 236 с.
Воробьева Е. М. Функциональные характеристики метакоммуникативных речевых действий: автореф. дис. канд. филол. наук. Волгоград, 2006. 19 с.
Всеволодова М. В. Функционально-семантические поля и функционально-семантические категории (К вопросу о структуре содержательного пространства языка) // Лшгвютичш студи. Донецьк, 2007. Вип. 15. С. 34–43.
Гак В. Г. Речевые рефлексы с речевыми словами // Логический анализ языка. Язык речевых действий. М., 1994. С. 6—10.
Галь Н. Слово живое и мертвое. М., 2007. 590 с.
Ганцовская Н. С., Верба И. П., Малышева И. Ю. Опыт лексикографического описания костромских говоров на материале произведений писателей XIX в. // Русский язык XIX века: от века XVIII к веку XXI. СПб., 2006. С. 62–71.
Гарганеева К. В. Слово как объект метаязыковой рефлексии детей дошкольного возраста // Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика. Кемерово; Барнаул, 2008. С. 181–188.
Гарганеева К. В. Функции метаязыковой рефлексии в речи ребёнка младшего возраста (метаязыковой портрет Светы Гарганеевой) // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Кемерово; Барнаул, 2009. Ч. 1. С.357–370.
Гаспаров Б. М. Язык, память, образ: Лингвистика языкового существования. М., 1996. 352 с.
Гаспаров М. Л. Марина Цветаева: от поэтики быта к поэтике слова // Русская словесность. М., 1997. С. 258–266.
Гвоздев А. Н. Значение изучения детского языка для языкознания. Как дети дошкольного возраста наблюдают явления языка. СПб., 1999. 64 с.
Геккина Е. Н. Изменение языковых норм в наблюдениях и оценках говорящих (по материалам Службы русского языка ИЛИ РАН) // Русский язык сегодня. М., 2006. Вып.4. С.120–128.
Герд А. С. Введение в этнолингвистику: курс лекций и хрестоматия. 2-е изд., испр. СПб., 2005. 456 с.
Гилёва А. А. Специфика метатекста в мемуарной прозе ХХ века // Слово. Словарь. Словесность: Текст словаря и контекст лексикографии. СПб., 2010. С. 402–408.
Гин Я. И. О «поэтической филологии» // Гин Я. И. Проблемы поэтики грамматических категорий избр. работы. СПб., 1996. С. 125–127.
Гин Я. И. О понятии лингвопоэтического факта и лингвопоэтического комментария // Гин Я. И. О поэтике грамматических категорий. Петрозаводск, 2006. С. 215–224.
Гинзбург Л. Я. О литературном герое. Л., 1979. 222 с.
Глушко А. Лингводицея Иосифа Бродского // Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба: итоги трех конференций. СПб., 1998. С. 143–144.
Голев Н. Д. Антиномии русской орфографии. Барнаул, 1997. 148 с.
Голев Н. Д. Когнитивный аспект русской орфографии: Орфографоцентризм как принцип обыденного метаязыкового сознания // Отражение русской языковой картины мира в лексике и грамматике. Новосибирск, 1999. С. 97—107.
Голев Н. Д. Юрислингвистический словарь инвективной лексики русского языка (к постановке проблемы) // Актуальные проблемы русистики. Томск, 2003 а. Вып.2. Ч. 1. С. 92–98.
Голев Н. Д. Юрислингвистика и регулирование языковых конфликтов (к проблеме толерантного отношения к языку) // Право i лшгшстика. Симферополь; Ялта, 2003 б. Ч. 2. С.120–127.
Голев Н. Д. Русский народный лингвистический фольклор (игровые метатексты) // Язык и культура: II Международная научная конференция. М., 2003 в. С.41–42.
Голев Н. Д. Обыгрывание табуизмов в русском лингвистическом фольклоре. Игровое рифмование // «Злая лая матерная…»: сб. ст. М., 2005. С. 324–327.
Голев Н. Д. От редколлегии: лингвистика метаязыкового сознания (проблемы и перспективы) // Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика. Кемерово; Барнаул, 2008 а. С. 6—11.
Голев Н. Д. Орфографоцентризм как презумпция русского обыденного метаязыкового сознания // Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика. Кемерово; Барнаул, 2008 б. С. 19–30.
Голев Н. Д. Обыденное метаязыковое сознание как онтологический и гносеологический феномен (к поискам «лингвогносеологем») // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Кемерово; Барнаул, 2009 а. Ч. 1. С. 7—40.
Голев Н. Д. Русское обыденное метаязыковое сознание и языковое строительство // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Кемерово; Барнаул, 2009 б. Ч. 1. С. 371–386.
Голев Н. Д. Современное российское обыденное метаязыковое сознание между наукой и школьным курсом русского языка («Правильность» как базовый постулат наивной лингвистики) // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Томск, 2009 в. Ч. 2. С. 378–409.
Голуб И. Б. Стилистика современного русского языка. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1986. 336 с.
Голубев О. А. Языковая картина мира [Электронный ресурс] (страница размещена 27.02.2010). URL: (дата обращения: 01.08.2010).
Гольдин В. Е. Имена речевых событий, поступков и жанры русской речи // Жанры речи. Саратов, 1997. С.23–34.
Горелов И. Н., Седов К. Ф. Основы психолингвистики. Изд. 4-е, перераб. и доп. М., 2008. 320 с.
Городское просторечие. Проблемы изучения. М., 1984. 190 с.
Горький А. М. Письма начинающим литераторам // Собр. соч.: в 30 т. М.: Гослитиздат, 1953. Т. 25. С. 116–145.
Григорьев В. П. К спорам о слове в художественной речи // Слово в русской советской поэзии. М, 1975. С. 5—75.
Григорьев В. П. Воображаемая филология Велимира Хлебникова // Стилистика художественной речи. Калинин, 1982. С. 19–38.
Григорьев В. П. Грамматика идиостиля: В. Хлебников. М., 1983. 225 с.
Гридина Т. А. Проблемы изучения народной этимологии. Свердловск, 1989. 70 с.
Гридина Т. А. Языковая игра: стереотип и творчество. Екатеринбург, 1996. 215 с.
Гридина Т. А. Мотивационная рефлексия как вид метаязыковой деятельности ребенка [Электронный ресурс] // Институт лингвистических исследований РАН: [сайт]. СПб., 2002. URL: / grammatikon/child/grid.html?language=en (дата обращения: 30.03.2010).
Грузенберг С. О. Гений и творчество: Основы теории и психологии творчества. Изд. 2-е. М., 2010. 264 с.
Грязнова А. Т. Зачарованный русским словом (Лингвопоэтический анализ стихотворения К. Д. Бальмонта «Русский язык») // Русский язык
в школе. 2010. № 6. С. 68–73.
Гудков Д. Б. Лингвистический миф в национальной мифологии // Вестник ЦМО МГУ. 2009. № 1. С. 79–85.
Гусейнов Гасан. Заметки к антропологии русского Интернета: особенности языка и литературы сетевых людей // Новое литературное обозрение. 2002. № 43. С. 298–321.
Даль Владимир. О русском словаре: [читано в Обществе Любителей Российской Словесности, в частном его заседании 25 февраля и в публичном 6 марта 1860 года] // Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 1994. Приложение. С. I–X.
Дебренн М. Современные работы французских языковедов о наивной лингвистике // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Кемерово; Барнаул, 2009 а. Ч. 1. С. 163–181.
Дебренн М. Новые зарубежные работы по наивной лингвистике // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические
аспекты. Томск, 2009 б. Ч. 2. С. 47–68.
Девятова Н. М. О модальных частицах как способе выражения модуса // Текст. Структура и семантика. М., 2009. Т. 2. С. 193–199.
Дедова О. В. Антиорфография в Рунете // Русский язык: исторические судьбы и современность: III Международный конгресс исследователей
русского языка. М, 2007. С. 342–343.
Дементьев В. В. Русский коммуникативный идеал в русской литературе // Русская литература в формировании современной языковой личности. СПб., 2007. Т. 1. С. 275–279.
Демьянков В. З. Прототипический подход // Краткий словарь когнитивных терминов. М, 1996. С. 140–145.
Демьянков В. З. Семантические роли и образы языка // Язык о языке. М, 2000. С. 193–270.
Демьянков В. 3. Лексема язык в художественных произведениях А.С.Пушкина // A. S. Puskin und die kulturelle Identitat Ruftlands. Hg. Gerhard Ressel. Frankfurt am Main etc.: Peter Lang, 2001. S. 109–131.
Дземидок Б. О комическом. М., 1974. 224 с.
Дзякович Е. В. Стилистический аспект современной пунктуации: экспрессивные пунктуационные приемы: автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1995. 20 с.
Добродомов И. Г. Историко-этимологические каламбуры и филологическая достоверность лексико-фразеологического материала // Вопросы
языкознания. 2009. № 4. С. 92—109.
Добродомов И. Г., Шаповал В. В. Стрёма! (из историко-лексиколо-гических маргиналий к одному лексикографическому проекту) // Единым письмен употреблением памяти подкрепляется вечность: сб. науч. тр. памяти З. М. Петровой (к 85-летию со дня рождения). СПб., 2007. С. 183–210.
Догалакова В. И. «Был бы я маг-семиотик…»: Лев Лосев как зеркало русской поэтической лингводицеи [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 06.06.2010).
Долинин К. А. Стилизация // Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. М, 1972. Т. 7. С. 419.
Донских О. А. Рефлексия над языком в историческом контексте // Проблемы рефлексии. Новосибирск, 1987. С. 176–228.
Доценко Т. И. Осознание и объяснение синтаксических дериватов в речевой деятельности: автореф. дис. канд. фил. наук. Л., 1984. 16 с.
Дридзе Т. М. Язык и социальная психология. М., 1980. 224 с.
Дубичинский В. В. Лексикография русского языка. М., 2009. 432 с.
Дудко Е. С. Хронологически отмеченная лексика в текстах детской литературы ХХ века: проблемы динамики лексикона: автореф. дис…. канд. фил. наук. СПб., 2010. 20 с.
Дуфва Х., Ляхтеэнмяки М., Кашкин В. Б. Метаязыковой компонент языкового сознания // Языковое сознание: содержание и функционирование. XIII Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. М., 2000. С. 81–82.
Дьякова В. И., Хитрова В. И. О языковом сознании современных диалектоносителей // Сравнительно-исторические исследования русского языка. Воронеж, 1980. С. 78–85.
Елистратов В. С. Словарь русского арго. М., 2000. 694 с.
Ермакова О. П., Земская Е. А., Розина Р. И. Слова, с которыми мы все встречались: Толковый словарь русского общего жаргона. М., 1999. 320 с.
Еськова Н. А. О словаре Даля // Наука и жизнь. 2000. № 2. С. 64; Русский язык за рубежом. 2001. № 2. С. 53.
Еськова Н. А. «Тоже мне профессор: пинжак через Д пишет.» // Русская словесность. 2001. № 2. С.59–61.
Жельвис В. И. Поле брани. Сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира. М., 1997. 330 с.
Живов В. М. Язык и революция: размышления над старой книгой А. М. Селищева // Отечественные записки. М., 2005. № 2 (23). С. 175–200.
Живов В. М., Успенский Б. А. Центр и периферия в языке в свете языковых универсалий // Вопросы языкознания. 1973. № 5. С. 24–35.
Жильцова В. В. Композиционно-поэтическая функция тире в поэзии М.Цветаевой // Язык как творчество. М, 1996. С. 353–363.
Жирмунский В. М. Марксизм и социальная лингвистика // Вопросы социальной лингвистики. Л, 1969. С. 5—25.
Жогина К. Б. Метатекст в тексте // Вестник Ставропольского гос. пед. ун-та. Ставрополь, 1999. Вып. 22. С. 106–111.
Журавлев А. Ф. Наивная этимология и «Кабинетная мифология» (Из наблюдений над мифологизмом А. Н. Афанасьева) // Язык как средство трансляции культуры. М., 2000. С. 68–84.
Журавлев А. Ф. Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». М., 2005. 1004 с.
Журавлева А. И. Речь как средство и как предмет изображения в театре Островского // Русский язык: исторические судьбы и современность: материалы Международного конгресса исследователей русского языка. М., 2001. С. 446–447.
Зак А. З. Рефлексия как условие творческого мышления // Рефлексивные процессы и творчество. Новосибирск, 1990. Ч. 2. С. 180–181.
Залевская А. А. Введение в психолингвистику. М., 1999. 382 с.
Зализняк А. А. Лингвистика по А. Т. Фоменко // Вопросы языкознания.
2000. № 6. С. 33–68.
Зализняк А. А. Из заметок о любительской лингвистике. М., 2009. 240 с.
Зализняк Анна А. Семантика кавычек [Электронный ресурс] // Труды Международного семинара «Диалог—2007» по компьютерной лингвистике и ее приложениям. М., 2007. URL: / zaliznyak_anna-07.htm (дата обращения: 01.06.2010).
Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелёв А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005. 544 с.
Зеленин А. В. Из жизни языковых фантомов: новые русские // Русский
язык в школе. 2008. № 5. С. 74–81.
Земская Е. А. Словообразование как деятельность. М.:, 2005. 224 с.
Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н. Русская разговорная речь: Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981. 275 с.
Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания // Вопросы психологии. 1991. № 2. С. 15–36.
«Злая лая матерная…»: сб. статей. М., 2005. 643 с.
Золотова Н. О. Метаязыковые структуры: средство описания и условие функционирования языка индивида // Лингвистические и культурологические аспекты обучения иностранным языкам в вузе. Уфа, 2003.
Вып. 3. С. 58–66.
Зубкова Л. Г. Язык как форма. Теория и история языкознания. М., 2003. 237 с.
Зубкова Л. Г. Языковое и лингвистическое мышление (к характеристике вклада русской традиции в теорию языка) // Антропотекст – I. Томск, 2006. С. 154–174.
Зубкова Л. Г. От обыденного метаязыкового сознания к науке о языке в свете развивающегося самосознания // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Кемерово; Барнаул, 2009. Ч. 1. С.88—120.
Зубкова Л. Г., Зубкова Н. Г. Метаязыковой портрет Георгия Георгиевича Зубкова // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Кемерово; Барнаул, 2009. Ч. 1. С.267–298.
Зубова Л. В. Поэтическая филология Льва Лосева // Литературное обозрение. 1997. № 5. С. 96—103.
Зубова Л. В. Современная русская поэзия в контексте истории языка. М., 2000. 431 с.
Зубова Л. В. Стихотворение Бродского «Одиссей Телемаку» // Старое
литературное обозрение. 2001. № 2 (278). С. 64–74.
Зубова Л. В. Лингвистика поэтов постмодернизма // Современные языковые процессы. СПб., 2003. С. 164–185.
Зубова Л. В. Поэтические вольности и орфография // Арион. 2008. № 3. С. 44–51.
Зубова Л. В. Языки современной поэзии. М., 2010. 384 с.
Иванищева О. Н. Наивные толкования как актуализация фоновых знаний носителей языка // Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика. Кемерово; Барнаул, 2008. С. 90–95.
Иванцова Е. В. Метаязыковое сознание диалектной языковой личности // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Кемерово; Барнаул, 2009. Ч. 1. С.321–356.
Иванчикова Е. А. Об одном приеме аффективной пунктуации Достоевского // Современная русская пунктуация. М., 1979. С. 173–193.
Изотов В. П. Параметры описания системы способов русского словообразования. Орел, 1998. 149 с.
Ильясова С. В. Словообразовательная игра как феномен языка современных СМИ. Ростов-н/Д., 2002. 360 с.
Иомдин Б. Л. Идея одноименности в русском языке [Электронный ресурс] // Диалог—2008: докл. междунар. конфер. URL: 21.ru/dialog2008/materials/pdf/26.pdf (дата обращения: 25.03.2011).
Калашников С. Б. Языковая утопия А. Платонова и лингводицея И. Бродского // Платоновский вестник. 2003. № 2 / 3. С. 76–92.
Карабулатова И. С. Ономатворчество в современной топонимии // Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика. Кемерово;
Барнаул, 2008. С. 286–292.
Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М., 2007. 264 с.
Караулов Ю. Н., Гинзбург Е. Л. Язык и мысль Достоевского в словарном отображении: предисловие // Словарь языка Достоевского. Лексический строй идиолекта. М., 2001. С. IX–LXiII.
Касаткин Л. Л. Русские диалекты и языковая политика // Русская речь. 1993. № 2. С. 82–90.
Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998. 779 с.
Катышев П. А., Оленёв С. В. Метаязыковая рефлексия непрофессионального историка Ю. Н. Фадеенкова // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Кемерово; Барнаул, 2009. Ч. 1. С.299–312.
Кашкин В. Б. Аспекты метаязыковой деятельности // Лексика и лексикография. М., 1999. Вып. 10. С. 64–68.
Кашкин В. Б. Бытовая философия языка и языковые контрасты // Теоретическая и прикладная лингвистика. Воронеж, 2002. Вып.3. Аспекты метакоммуникативной деятельности. С.4—34.
Кашкин В. Б. Вещественное представление слова в бытовой философии языка // Язык, коммуникация и социальная среда. Воронеж, 2007 а. Вып. 5. С. 117–136.
Кашкин В. Б. Реификация абстрактных сущностей в бытовой лингвистике // Vita in lingua: К юбилею профессора С.Г. Воркачева: сб. статей.
Краснодар, 2007 б. С. 97—115.
Кашкин В. Б. Научные теории и бытовые представления о языке: история и перспективы // Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика. Кемерово; Барнаул, 2008. С. 30–44.
Кашкин В. Б. Обыденная философия, наивная лингвистика и наивная лингвистическая технология // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Кемерово; Барнаул, 2009. Ч. 1. С. 41–60.
Кашкорова Г. П. Понятие «филология» в представлении носителей языка // Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика. Кемерово; Барнаул, 2008. С. 95—102.
Кекова С. В. Образ слова в поэзии А.Тарковского // Труды Пед. ин-та Саратовского гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского. Саратов, 2003. Вып. 2. Филология. Лингвистика. С.174–181.
Ким И. Е. «Лингвистическое бессознательное» в русской фонетике и графике // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Томск, 2009. Ч. 2. С. 121–130.
Ким Л. Г. Роль метаязыкового сознания в интерпретации текста // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Кемерово; Барнаул, 2009. Ч. 1. С. 239–257.
Кирпикова Л. В. Использование фактов языковой компетентности носителей говора в лексикологическом исследовании // Лексические и грамматические проблемы сибирской диалектологии. Барнаул, 1972. С. 164–174.
Клубков П. А. Этимологии Тредиаковского как факт истории лингвистики // Humanitaro zinatnu vestnesis. Daugavpils, 2002. № 2. С. 58–68.
Кобозева И. М., Лауфер Н. И. Интерпретирующие речевые акты // Логический анализ языка. Язык речевых действий. М., 1994. С. 63–71.
Ковалев Г. Ф. Русские писатели о русском мате // Язык, коммуникация и социальная среда. Воронеж, 2004. С. 38–51.
Ковтунова И. И. Поэтика пунктуации (функции тире) // Язык как творчество. М., 1996. С. 331–339.
Кожевникова Н. А. О словообразовательных гнездах в художественных текстах // Проблемы экспрессивной стилистики. Ростов-н/Д., 1987. С. 100–106.
Кожевникова Н. А. Бальмонт о русском языке // Константин Бальмонт и мировая культура. Шуя, 1994. С. 74–81.
Кожевникова Н. А. Язык революционной эпохи в изображении писателей русского зарубежья // Русистика сегодня. 1998 а. № 1–2. С. 72–87.
Кожевникова Н. А. Язык советского общества в изображении М. А. Булгакова // Лики языка: к 45-летию научной деятельности Е. А. Земской. М., 1998 б. С. 162–173.
Кожевникова Н. А. Изображение газетной и публичной речи в советской литературе // Stylistyka VIII. Opole, 1999. S. 205–221.
Кожевникова Н. А. Превращения слова в прозе А. Платонова. Приметы эпохи в языке платоновской прозы // Русский язык: еженед. прил. к газ. «Первое сентября». 2002. № 48. С. 13–14.
Кожевникова Н. А. Отражение делового стиля в русской литературе ХХ века // Язык и мы. Мы и язык: сб. ст. памяти Б. С. Шварцкопфа.
М., 2006. С. 480–493.
Кожевникова Н. А., Николина Н. А. Метаязыковые комментарии в произведениях В. М. Шукшина // В. М. Шукшин. Жизнь и творчество.
Барнаул, 1994. С. 88–90.
Колесникова Э. В. Наивная лингвистика и наивная риторика: к проблеме исследования и описания // Филологические науки в МГИМО. М., 2002. № 11. С. 120–130.
Колесникова С. М. Функционально-семантическая категория градуальности в современном русском языке. М., 2010. 280 с.
Колесов В. В. «Как слово наше отзовется.» (Русский язык в современной России) // Современные языковые процессы. СПб., 2003. С. 32–46.
Колмогорова А. В. Языковое значение как био-социо-культурный феномен // Русский язык: исторические судьбы и современность: III Международный конгресс исследователей русского языка. М., 2007. С. 21–22.
Кольцова Л. М. Художественное видение мира через призму авторской пунктуации // Русская литература в формировании современной языковой личности. СПб., 2007. Т. 2. С. 103–112.
Кон И. С. Психология предрассудка (о социально-психологических корнях этнических предубеждений) // Новый мир. 1966. № 9. С. 187–205.
Кондратьева О. Н. Концепт «слово» как квинтэссенция «наивной лингвистики» (на материале текстов Древней Руси) // Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика. Кемерово; Барнаул, 2008. С. 102—
111.
Кормилицына М. А. Рефлексивы в речевой коммуникации // Проблемы речевой коммуникации. Саратов, 2000 а. С. 20–24.
Кормилицына М. А. Усиление личностного начала в русской речи последних лет // Активные языковые процессы конца XX века. М., 2000 б.
С. 89–91.
Кормилицына М. А. Метатекстовые конструкции и узуальные стилистические нормы современных газет // Русский язык сегодня. М, 2006. Вып. 4.
С.275–283.
Коростова С. В. Несобственно-прямая речь в современном русском языке: автореф. дис…. канд. филол. наук. Краснодар, 1999. 21 с.
Косериу Э. Синхрония, диахрония и история // Новое в лингвистике. М., 1963. Вып. 3. С. 143–343.
Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи: Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. М., 1994. 248 с.
Костомаров В. Г., Шварцкопф Б. С. Об изучении отношения говорящих к языку // Вопросы культуры речи. М., 1966. Вып. 7. С. 23–36.
Кретов А. А. Основы лексико-семантической прогностики. Воронеж,
2006. 390 с.
Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. М., 2008. 232 с.
Кручинина И. Н. Определение // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 348–349.
Крушевский Н. В. Заговоры как вид русской народной поэзии // Избранные статьи и работы по языкознанию. М., 1998. С. 25–47.
Крылова Т. В. Понятия деликатности и такта в русском языке и наивно-языковые представления о негативной вежливости [Электронный ресурс] // Диалог—2004: докл. междунар. конфер. URL: 21.ru/Archive/2004/Krylova.pdf (дата обращения: 20.01.2009).
Крылова Н. Ф. Концепт «слово» в художественном мире Ф. И. Тютчева // Русский язык: исторические судьбы и современность: III Международный конгресс исследователей русского языка М., 2007. С. 661–662.
Крысин Л. П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. М., 1989. 186 с.
Крысин Л. П. Эвфемизмы в современной русской речи // Русистика. Берлин, 1994. № 1 / 2. С. 28–49.
Крысин Л. П. Вариативность как функциональное свойство литературной нормы // Лингвистика и поэтика: преодоление границ. М.; Тверь, 2008. С. 318–327.
Крючкова О. Ю. Метаязыковая функция в диалектной речи // Языковые средства в системе, тексте и дискурсе. Самара, 2002. Ч. I. С. 186–191.
Крючкова О. Ю. Оценки речи как проявление культурно-языковой идентичности носителей диалекта // Проблемы идентичности в современном мире. Саратов, 2007. С. 124–131.
Крючкова О. Ю. Рефлективность диалектной речи // Язык – Сознание – Культура – Социум. Саратов, 2008. С. 214–223.
Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца ХХ века. М., 1995. С. 144–238.
Кузнецова Т. Ю. Толкование значения слов говорящими как объект обыденной металингвистики // Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика. Кемерово; Барнаул, 2008. С. 111–116.
Кузьмина Н. А. Стихи с комментариями как новый тип лирического текста // Лингвистика и поэтика: преодоление границ. М.; Тверь, 2008. С. 156–171.
Кузьмина Н. А. Автокомментирование как форма проявления метаязыкового сознания (на материале русской поэзии новейшего времени) // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические
аспекты. Томск, 2009. Ч. 2. С. 279–304.
Куликова И. С., Салмина Д. В. Введение в металингвистику (системный, лексикографический и коммуникативно-прагматический аспекты лингвистической терминологии). СПб., 2002. 352 с.
Кураш С. Б. Язык как объект метафорического моделирования в русском поэтическом дискурсе ХХ века // Русский язык: исторические судьбы и современность: III Международный конгресс исследователей русского языка. М., 2007. С. 664–665.
Лабов У. О механизме языковых изменений // Новое в лингвистике. М., 1975. Вып. 7. С. 199–228.
Лебедева Н. Б. О метаязыковом сознании юристов и предмете юрислингвистики (к постановке проблемы) // Юрислингвистика-2: Русский язык в его естественном и юридическом бытии. Барнаул, 2000. С. 56–71.
Лебедева Н. Б. Метаязыковое сознание участников интернет-коммуникации (общеязыковые аспекты) // Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика. Кемерово; Барнаул, 2008. С. 301–314.
Лебедева Н. Б. Особенности метаязыкового сознания профессиональных юристов (опыт группового портрета) // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Кемерово; Барнаул, 2009 а. Ч. 1. С.313–320.
Лебедева Н. Б. Структура языкового сознания и место в ней метаязыкового компонента // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Кемерово; Барнаул, 2009 б. Ч. 1. С.61–66.
Левин Ю. И. Об обсценньгх выражениях русского языка // Левин Ю. И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М., 1998. С. 809–819.
Левина Р. Е. Неосознаваемые процессы формирования «чувства языка» // Бессознательное: Природа. Функционирование. Методы исследования. Тбилиси, 1978. Т. 3. С.249–254.
Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1985. 536 с.
Левонтина И. Б. Понятие слова в современном русском языке // Язык
о языке. М., 2000 а. С. 290–302.
Левонтина И. Б. Речь vs язык в современном русском языке // Язык о языке. М., 2000 б. С. 271–289.
Леденев А. В. Графико-фонетические маркеры привилегированных значений в прозе В. Набокова // Русский язык: исторические судьбы и современность: матер. Междунар. конгресса исследователей русского
языка. М., 2001. С. 451.
Лекант П. А., Гольцова Н. Г., Копосов Л. Ф. Мысли о русском слове: хрестоматия. 4-е изд. М., 2004. 224 с.
Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. М., 1997. 287 с.
Лённгрен Т. Толкования значений слов в неподготовленной речи (на материале островных русских говоров старообрядцев) [Электронный ресурс] (1994) // Balkan Rusistics: статьи. URL: / slovo/Archives/1994-43/6.pdf (дата обращения: 11.07.2010).
Лигута Т. В. Отражение фонетических особенностей речи персонажей в рассказе М. Горького «По Руси» // Вопросы стилистики. Саратов, 1975. Вып. 9. С. 81–82.
Лихачев Д. С. Бунт «кромешного мира» // Семиотика и художественное творчество. М., 1977. С. 253–264.
Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. 525 с.
Лосева С. В. Частицы в системе метатекстовых операторов: автореф. дис. канд. филол. наук. Владивосток, 2004. 23 с.
Лотман Ю. М. Текст в тексте // Труды по знаковым системам. Тарту, 1981. Вып. 14. Текст в тексте. С. 3—17.
Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь: кн. для учителя. М., 1988. 352 с.
Лошаков А. Г. Концептуализация сферы творчества в литературно-критических текстах // Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира. Архангельск, 2002. С.165–166.
Лукин Е. Языку – видней // Если. 2007. № 4. С. 293–296.
Лукьянова Н. А. Языковая интуиция носителей говоров как источник информации о семантике экспрессивных слов // Синтаксическая и лексическая семантика: на материале языков разных систем. Новосибирск,
1986. С. 193–206.
Лыжова Л. К. О языковом сознании носителей диалекта и формировании стилистических оценок в диалектной лексике // Русская диалектная и народно-поэтическая речь. Воронеж, 1976. С. 87–96.
Лютикова В. Д. Языковая личность и идиолект. Тюмень, 1999. 188 с.
Ляпон М. В. Смысловая структура сложного предложения и текст. К типологии внутритекстовых отношений. М., 1986. 200 с.
Ляпон М. В. Оценочная ситуация и словесное моделирование // Язык и личность. М., 1989. С. 24–34.
Ляпон М. В. «Грамматика самооценки» // Русский язык: Проблемы грамматической семантики и оценочные факторы в языке. М., 1992.
С. 75–89.
Ляпон М. В. Картина мира: языковое видение интроверта // Русский язык в его функционировании. М., 1998. С. 66–68.
Ляпон М. В. Отношение к стереотипу и речевой портрет автора // Словарь и культура русской речи. М., 2001. С. 259–269.
Ляпон М. В. Антинорма и идионорма: интуитивная лингвистика стилесоздающего субъекта // Русский язык сегодня. М., 2006. Вып.4. С. 342–351.
Ляхтеэнмяки М. Перевод и интерпретация: о некоторых предположениях и мифологемах // Теоретическая и прикладная лингвистика. Воронеж, 1999. Вып. 1. С. 32–45.
Мазиев Ю. М. К вопросу о понятии мифа в применении к языковой семантике // Теоретическая и прикладная лингвистика. Воронеж, 2000. Вып. 2. С. 51–59.
Максимов Л. Ю. Литературный язык и язык художественной литературы // Анализ художественного текста. М., 1975. Вып. 1. С. 11–20.
Максимов Л. Ю. Народная этимология и ее стилистические функции // Русский язык в школе. 1982. № 3. С. 56–65.
Максимов В. И. Графические игры // Русская речь 2004. № 5. С. 66–68.
Маркасов М. Ю. Поэтическая рефлексия В. Маяковского в контексте русского авангарда: автореф. дис. канд. филол. наук. Барнаул, 2003. 22 с.
Маслова В. А. Когнитивная лингвистика. Минск, 2004. 256 с.
Матезиус В. О необходимости стабильности литературного языка // Пражский лингвистический кружок. М., 1967 а. С. 378–393.
Матезиус В. Язык и стиль // Пражский лингвистический кружок. М., 1967 б. С. 444–523.
Мечковская Н. Б. Ранние восточнославянские грамматики. Минск, 1984. 160 с.
Мечковская H. Б. Язык и религия. М., 1998.349 с.
Мечковская Н. Б. Естественный язык и метаязыковая рефлексия в век Интернета // Русский язык в научном освещении. 2006. № 2. С. 165–185.
Мечковская Н. Б. История языка и история коммуникации: от клинописи до Интернета. М., 2009. 584 с.
Мечковская Н. Б., Супрун А. Е. Знания о языке в средневековой культуре южных и западных славян // История лингвистических учений: Позднее средневековье. СПб., 1991. С. 125–181.
Милованова Г. Н. Концептуализация понятий «язык» и «родной язык» в языковой картине мира (на материале русской, немецкой и японской лингвокультур): дис. канд. филол. наук. Нальчик, 2005. 181 с.
Милованова М. С. Структурно-семантическая категория противительности // Текст. Структура и семантика. М., 2009. Т. 2. С. 142–149.
Милославский И. Г. Великий, могучий русский язык // Наука и жизнь.
2009. № 6. С. 26–31.
Милославский И. Г. Сознательный выбор языковых единиц в процессе продуктивной речевой деятельности на русском языке // Русский язык в школе. 2010. № 2. С. 24–30.
Минц Б. А. Концепция слова в эстетике Осипа Мандельштама и лингвистические идеи его времени // Предложение и слово. Саратов, 2008.
С. 220–225.
Миронов В. В. Образы науки в современной культуре и философии. М., 1997. 254 с.
Михайловская Н. Г. Путь к русскому слову. М., 1986. 176 с. Мокиенко В. М. Русская бранная лексика: цензурное и нецензурное //
Русистика. Берлин, 1994. № 1 / 2. С. 50–73.
Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русского жаргона.
СПб, 2000. 720 с.
Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Словарь русской брани (матизмы, об-сценизмы, эвфемизмы). СПб., 2004. 446 с.
Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Русское сквернословие: Краткий, но выразительный словарь. М., 2007. 384 с.
Морковкин В. В., Морковкина А. В. Русские агнонимы (Слова, которые мы не знаем). М., 1997. 414 с.
Моррис Ч. У. Основания теории знаков // Семиотика. М., 1983. С. 37–89.
Нерознак В. П. Лингвистическая персонология: к определению статуса дисциплины // Язык. Поэтика. Перевод. М, 1996. Вып. 426. С. 112–116.
Нечаева Е. И. Графические средства создания образа адресата в художественном тексте // Лингвистика и поэтика. М., 2005. С. 159–163.
Нещименко Г. П. Речевой узус компьютерного диалогического общения через призму оппозиции «регулируемое – нерегулируемое речевое поведение» (на фоне сопоставления русского и чешского языков) // Bohemistika. 2008. № 1–4. С. 265–294.
Никитина С. Е. Языковое сознание и самосознание личности в народной культуре // Язык и личность. М., 1989. С. 34–40.
Никитина С. Е. Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993. 189 с.
Никитина С. Е. Лингвистика фольклорного социума // Язык о языке.
М., 2000. С.558–596.
Никитина С. Е., Васильева Н. В. Экспериментальный системный толковый словарь стилистических терминов. Принципы составления и избранные словарные статьи. М., 1996. 172 с.
Николаева Т. М. Метатекст и его функции в тексте (на материале Мариинского Евангелия) // Исследования по структуре текста. М., 1987. С. 133–147.
Николаенко В. В. Каким будет русский язык 2051 года? [Электронный ресурс] (посл. обновл.: 13.10.2004) // Владислав Владимирович Николаенко: [сайт]. URL: (дата обращения:
08.08.2009).
Николенкова Л. В. Лингвистическая составляющая современной детской литературы о «вкусном» языке // Русская литература в формировании современной языковой личности. СПб., 2007. Т. 1. С. 83–88.
Николина Н. А. Семантизация слов и ее функции в художественном тексте // Язык и композиция художественного текста. М., 1986. С. 64–75.
Николина Н. А. Типы и функции метаязыковых комментариев в художественном тексте // Семантика языковых единиц: докл. V Междунар. конфер. М., 1996. Т. 1. С. 178–181.
Николина Н. А. Слово как предмет изображения и оценки в прозе И. А. Гончарова // Русский язык в школе. 1997. № 3. С.59–66.
Николина Н. А. Новые тенденции в современном русском словотворчестве // Русский язык сегодня. М., 2003. Вып. 2. С. 376–387.
Николина Н. А. Грамматические термины в русской поэзии // Русский язык в научном освещении. 2004 а. № 1 (7). С. 63–69.
Николина Н. А. Жанр словаря в литературе // Русский язык сегодня. М., 2004 б. Вып. 3. С.204–212.
Николина Н. А. Категория времени в художественной речи: монография. М., 2004 в. 276 с.
Николина Н. А. Комплексные словообразовательные единицы и художественный текст // Проблемы описания словообразовательных гнезд. М., 2005 а. С.100–114.
Николина Н. А. Национально-культурные традиции русского речевого поведения в зеркале автобиографической прозы // Философские и лингво-культурологические проблемы толерантности. М., 2005 б. С.433–450.
Николина Н. А. Динамика норм в языке современной драмы // Русский
язык сегодня. М., 2006 а. Вып. 4. С. 422–432.
Николина Н. А. Языковая и речевая рефлексия в пьесах А. Н. Островского // Русский язык в школе. 2006 б. № 3. С.62–68.
Николина Н. А. Филологический анализ текста. М., 2007. 272 с.
Николина Н. А. Активные процессы в языке современной русской художественной литературы: монография. М., 2009 а. 336 с.
Николина Н. А. Метаязыковая рефлексия в современной поэтической речи // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Томск, 2009 б. Ч. 2. С. 336–353.
Николина Н. А., Шумарина М. Р. Лексикографическая репрезентация обыденного метаязыкового сознания // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Томск, 2009. Ч. 2. С. 131–138.
Николина Н. А., Шумарина М. Р. «Фактор адресата» в деятельности лексикографа // Семантика и прагматика слова и текста. Поморский текст.
Архангельск, 2010. С. 384–388.
Новиков Л. А. Лексикология // Современный русский язык / под ред. В. А. Белошапковой. 2-е изд., испр. и доп. М., 1989. С. 165–236.
Новиков Л. А. Андрей Белый как теоретик поэтического языка // Русская речь. 1990. № 5. С. 35–42.
Новиков В. И. Роман с языком в поэзии и науке (В. В. Хлебников, М. В. Панов, В. П. Григорьев) // Художественный текст как динамическая система. М., 2006. С. 11–18.
Норман Б. Ю. Грамматика говорящего. СПб., 1994 а. 228 с.
Норман Б. Ю. Лексические фантомы с точки зрения лингвистики и культурологи // Язык и культура: III Междунар. конфер.: докл. Киев, 1994 б. С. 53–60.
Норман Б. Ю. Игра на грани языка. М., 2006. 344 с.
Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика: межвузовский сборник научных статей / отв. ред. А. Н. Ростова. Кемерово; Барнаул, 2008. 480 с.
Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты: колл. моногр. / отв. ред. Н. Д. Голев. Кемерово; Барнаул,
2009. Ч. I. 532 с.
Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты: колл. моногр. / отв. ред. Н. Д. Голев. Томск, 2009. Ч. II. 457 с.
Огольцева Е. В. Образный потенциал словообразовательной системы современного русского языка: отсубстантивное словообразование: дис…. д-ра фил. наук. М., 2007. 491 с.
Одекова Ф. Р. Глаголы как метатекстовые операторы // Русский язык: исторические судьбы и современность: III Междунар. конгресс исследователей русского языка. М., 2007. С. 321–322.
Одекова Ф. Р. О графических метатекстовых операторах русского языка // Альманах современной науки и образования. Тамбов, 2008 а. № 2 (9). Ч. 2. С. 125–136.
Одекова Ф. Р. О метатекстовых функциях предлогов // Альманах современной науки и образования. Тамбов, 2008 б. № 8 (15). Ч. 2. С. 134–135.
Одекова Ф. Р. Лингвистические своды опыта словарей Н. В. Гоголя в системе метапоэтических данных его творчества // Метапоэтика. Ставрополь, 2009 а. С. 140–147.
Одекова Ф. Р. Существительные в системе эксплицитных метатекстовых операторов русского языка (на материале художественных текстов Н. В. Гоголя) // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2009 б. № 2. С. 192–193.
Одоевцева И. В. На берегах Сены. М., 1989. 332 с.
Омелин Михаил. Фолк-лингвистика как предрассудок [Электронный ресурс] (30.09.2008) // Omelin.ru: сервер Михаила Омелина. URL: forum.omelin.ru/viewtopic.php?p=554& (дата обращения: 14.09.2010).
Онишко С. Г. Вставные элементы в функции средства метаязыкового комментирования номинаций: автореф. дис…. канд. филол. наук. Воронеж, 1997.
Орехова Н. Н. О средствах графической выразительности (на материале художественной прозы и публицистики) // Выразительность художественного и публицистического текста. Ростов н/Д., 1993. Ч. IV. С. 28–30.
Орлова Н. В. Русский язык и его изучение в школе (картина языкового мира школьника) // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Кемерово; Барнаул, 2009 а. Ч. 1. С.387–399.
Орлова Н. В. Метаязыковое сознание выпускника школы (по данным сочинений ЕГЭ) // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Томск, 2009 б. Ч. 2. С. 410–427.
Осильбекова Д. А. Новообразования в различных жанрах интернет-коммуникации // Активные процессы в различных типах дискурсов: политический, медийный, рекламный дискурсы и Интернет-коммуникация. М.; Ярославль, 2009. С. 326–329.
Осовская В. Е. Системная организация произведения Р. Рождественского «Упражнение по фонетке» // Язык и композиция художественного текста. М., 1986. С. 75–85.
Откупщиков Ю. В. К истокам слова. СПб., 2005. 352 с.
Падучева Е. В. Семантические исследования: Семантика вида и времени в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996. 464 с.
Панов М. В. О восприятии звуков // Развитие фонетики современного русского языка. М., 1966. С. 160–165.
Перфильева Н. П. Метатекст в аспекте текстовых категорий. Новосибирск, 2006. 284 с.
Петренко Д. И., Штайн К. Э. А. И. Солженицын – элитарная, деятельностная языковая личность // Александр Солженицын – имя России.
Кисловодск, 2009. С. 48–58.
Петрова Н. Е. «Грамматическая память» слова в речи носителей русского языка // Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика. Кемерово; Барнаул, 2008. С. 131–138.
Пешковский А. М. Объективная и нормативная точка зрения на язык // Избранные труды. М., 1959. С. 50–62.
Пиванова Э. В. Гармония художественного текста в метапоэтике В. Набокова. Ставрополь, 2008. 216 с.
Пильщиков И., Шапир М. Об одной орфографической ошибке Пушкина (текстология – этимология – поэтика) // Художественный текст как динамическая система. М., 2006. С. 509–512.
Пихурова А. А. Судьба советизмов в русском языке конца ХХ – начала XXI века (на материале словарей и текстов): дис. канд. филол. наук. Саратов, 2005. 214 с.
Пихурова А А. Судьба советизмов в русском языке конца ХХ – начала XXI века (на материале словарей и текстов): автореф. дис. канд. филол. наук. Саратов, 2006. 18 с.
Плуцер-Сарно А. Ю. Большой словарь мата. СПб., 2001. Т. 1. 390 с.; СПб., 2005. Т. 2. 536 с.
Поливанов Е. Д. Где лежат причины языковой эволюции // Поливанов Е. Д. Статьи по общему языкознанию. М., 1968. С. 75–89.
Полиниченко Д. Ю. Естественный язык как лингвокультурный семиотический концепт (на материале русского и английского языков): авто-реф. дис. канд. филол. наук. Волгоград, 2004. 20 с.
Полиниченко Д. Ю. Язык // Антология концептов. М., 2007 а. С.243–253.
Полиниченко Д. Ю. О феномене фольк-лингвистики // Информационно-коммуникативная культура: вопросы образования. Ростов-н/Д., 2007 б. С. 102–105.
Полиниченко Д. Ю. Фольк-лингвистика как объект научного изучения // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Кемерово; Барнаул, 2009. Ч. 1. С.67–87.
Полухина В. П. Бродский глазами современников: сборник интервью. СПб, 1997. 336 с.
Попкова Н. Н. Отражение живых языковых процессов в творчестве Игоря Иртеньева // Известия Уральского гос. ун-та. 2006. № 47. С. 260–266.
Попов В. «Я свои гротески из пальца не высасывал»: беседа с Татьяной Бек // Вопросы литературы. 2001. № 6. С. 198–217.
Попова Т. В. Креолизованные дериваты в русском языке рубежа XX–XXI вв. // Активные процессы в современной грамматике. М.; Ярославль, 2008. С. 215–219.
Попова Т. В. Креолизация коммуникативных единиц рекламного дискурса // Активные процессы в различных типах дискурсов: политический, медийный, рекламный дискурсы и Интернет-коммуникация. М.; Ярославль, 2009. С. 372–377.
Попова З. Д., Стернин И. А. Семантико-когнитивный анализ языка. Воронеж, 2006. 226 с.
Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976. 614 с.
Потебня А. А. Слово и миф. М., 1989. 622 с.
Потебня А. А. Мысль и язык. Киев, 1993. 190 с.
Поэты о русском языке / сост. Р. К. Кавецкая. Воронеж, 1989. 111 с.
Поэты о русском языке / сост. Р. К. Кавецкая. Воронеж, 2007. 243 с.
Приёмышева М. Н. Из истории русской лексикографии: словари, составленные русскими писателями // Русский язык в школе. 2009. № 1. С. 88–93.
Проективный философский словарь: новые термины и понятия / предисл. М. Н. Эпштейна, послесл. Г. Л. Тульчинского. СПб., 2003. 512 с.
Прямая речь. Мысли великих о русском языке. М., 2007. 432 с.
Пурицкая Е. В. Вербализация народных представлений о языке носителями диалекта (на материале псковских говоров): дис…. канд. филол.
наук. СПб., 2009. 244 с.
Пфандль Х. Слово «ничего» глазами Федора Вернирота. Штрихи к портрету слова // Проблемы русской лексикографии. М, 2004. С. 91–94.
Пчелинцева М. А. Метаязыковая рефлексия над языком революции у писателей 1-й волны // Прогрессивные технологии в обучении и производстве. Волгоград, 2006. Т. 4. С. 67–73.
Радзиховская В. К. Психолингвистика в пословицах и поговорках // Русистика на современном этапе. М., 1999. С. 113–118.
Райтмар Р. Прагматика извинения: сравнит. исследования на матер. русского языка и русской культуры. М., 2003. 272 с.
Рао Супжато. Оценка с помощью кавычек // Русская речь. 1996. № 3.
С. 50–52.
Резанова З. И. Внутренняя форма слова как объект метаязыковой рефлексии в условиях чат-коммуникации // Язык и культура: научный периодический журнал. Тамбов, 2008. № 1. С. 78–85.
Резанова З. И. Миф и наука: метаязыковые рефлексии о соотношении имени и именуемого в истории философии и языкознания // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Кемерово; Барнаул, 2009 а. Ч. 1. С.121–162.
Резанова З. И. Позиции актуализированности метаязыкового сознания в ситуации виртуального общения (на материале Интернет-текстов) // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Томск, 2009 б. Ч. 2. С. 354–377.
Резанова З. И., Мишанкина Н. А. От новых лингвистических объектов – к интегрированной интерпретации естественного языка // Филология и философия в современном культурном пространстве: проблемы взаимодействия. Томск, 2006. С. 53–66.
Рождественский Ю. В. О правилах ведения речи по данным пословиц и поговорок // Паремиологический сборник: пословица, загадка (структура, смысл, текст). М., 1978. С. 211–229.
Рождественский Ю. В. Фольклорные правила речевого этикета // Рождественский Ю. В. Введение в общую филологию. М., 1979. С. 20–25.
Розина Р. И. Так называемый: семантика вводных метаязыковых оборотов // Диалог—2009: докл. Междунар. конфер. М., 2009. Вып. 8 (15).
С. 426–432.
Ромашко С. А. Культура, структура коммуникации и языковое сознание // Язык и культура: сборник научно-аналит. обзоров. М., 1987. С. 37–58.
Ростова А. Н. Показания языкового сознания носителей диалекта как источник лексикологического исследования: дис. канд. филол. наук.
Томск, 1983. 349 с.
Ростова А. Н. Метатекст как форма экспликации метаязыкового сознания (на материале русских говоров Сибири). Томск, 2000. 194 с.
Ростова А. Н. Обыденное метаязыковое сознание: статус и аспекты изучения // Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика.
Кемерово; Барнаул, 2008. С. 50–58.
Ростова А. Н. Обыденная семантизация слов // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Кемерово; Барнаул, 2009. Ч. 1. С. 182–201.
Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования. М., 1958. 147 с.
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. 4-е изд. СПб, 2000. 712 с.
Руднев В. Энциклопедия гармонизированных концептов: рецензия на книгу Ю. С. Степанова «Константы. Словарь русской культуры» // Логос: философско-литературный журнал. 1999. № 1. С. 232–237.
Русская грамматика: в 2-х т. / под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1980.
Русские писатели о языке: хрестоматия / под общ. ред. А. М. Докусова. Л., 1953. 460 с.
Русские писатели о языке (XVIII–XX в.): хрестоматия / под общ. ред. Б. В. Томашевского и Ю. Д. Левина. Л., 1954. 834 с.
Русские писатели XVIII–XIX веков о языке: хрестоматия: в 2 т. / сост. Василевская И. А. и др.; под общ. ред. Н. А. Николиной. М., 2000;
Изд. 2-е. М., 2006.
Русские писатели о языке: хрестоматия / авт. – сост. Е. М. Виноградова и др.; под ред. Н. А. Николиной. М., 2004. 270 с. Русский мат: антология. М., 1994. 303 с.
Русский язык и советское общество: проспект. Алма-Ата, 1962. 120 с.
Русский язык и советское общество: социолого-лингвистическое исследование: в 4-х кн. М., 1968. Кн. 1. Лексика современного русского литературного языка. 188 с.
Рут М. Э. Мат в легендах нашего времени // Изв. Уральского ун-та. 2005. № 34. С. 149–156.
Рябцева Н. К. Ментальные перформативы в научном дискурсе // Вопросы языкознания. 1992. № 4. С. 12–28.
Рябцева Н. К. Коммуникативный модус и метаречь // Логический анализ языка: Язык речевых действий. М., 1994. С. 82–92.
Рябцева Н. К. Язык и естественный интеллект. М., 2005. 640 с.
Савинов М. В. Выборочный обзор научно-исследовательских работ начала XXI века по теме «Гносеологические аспекты интерпретации мифа» (Социально-политический миф) // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2009. № 2. С. 78–81.
Садовникова Т. В. Роман С. Минаева «Духless» как отражение социокультурной ситуации начала XXI века // Русская литература в формировании современной языковой личности. СПб., 2007. Т. 1. С. 212–216.
Сайкова Н. В. Метатекстовая деятельность носителей русского языка // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Кемерово; Барнаул, 2009. Ч. 1. С. 258–266.
Санджи-Гаряева З. С. Языковая рефлексия у Ю. Трифонова // Вопросы стилистики. Саратов, 1999. Вып. 28. С. 275–281.
Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 2002. 533 с.
Сахарный Л. В. Осознание значения слова носителями языка и типы отражения этого сознания в речи // Актуальные проблемы психологии речи и психологии обучения языку. М., 1970. С. 92–97.
Сахарный Л. В. Осознание и объяснение производных слов детьми-дошкольниками // Живое слово в русской речи Прикамья. Пермь, 1992. С. 4—24.
Светашова Ю. А. Конструкция с репрезентируемой речью: структура, семантика, функционирование: автореф. дис. канд. филол. наук. М., 2009. 24 с.
Северская О. И. Паронимическая аттракция в поэтическом языке М. Цветаевой // Проблемы структурной лингвистики 1984. М., 1988.
С. 212–223.
Северская О. И., Преображенский С. Ю. Паронимическая аттракция в системе средств синтаксической организации текста // Проблемы структурной лингвистики 1985–1987. М., 1989. С. 261–271.
Седов К. Ф. (сост.). Психолингвистика в анекдотах. М., 2007. 112 с.
Седов К. Ф. Речежанровая идентичность как феномен обыденного метаречевого сознания // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Томск, 2009. Ч. 2. С. 105–120.
Селезнев Ю. В. Обыденные представления древнерусского человека об окружающем мире // Вестник Воронежского гос. техн. ун-та. Сер. «Гуманитарные науки». 2005. Вып. 9.4. С. 84–87.
Семенов И. Н., Степанов С. Ю. Рефлексия в организации творческого мышления и саморазвития личности // Вопросы психологии. 1983. № 2.
С. 35–42.
Семёнова Н. В. Слово в «Изборнике 1076 года» // Русский язык: исторические судьбы и современность: III Международный конгресс исследователей русского языка. М., 2007. С. 87–88.
Сепир Э. Градуирование. Семантическое исследование // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. XVI. С. 43–79.
Сидорова М. Ю. Интернет-лингвистика: русский язык. Межличностное общение. М., 2006. 190 с.
Сидорова М. Ю. Рефлексия «наивного» говорящего над языком и коммуникацией [Электронный ресурс]: (по материалам открытых Интернет-дневников) // Марина Юрьевна Сидорова: персональный сайт. М., [2007]. URL: /~sidorova/articles/Reflection.html (дата обращения: 20.05.2010).
Сидорова М. Ю., Стрельникова Н. А., Шувалова О. Н. Обыденное метаязыковое сознание в Интернете // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Кемерово; Барнаул, 2009. Ч. 1. С.400–458.
Силантьев И. В. Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике: очерк историографии. Новосибирск, 1999. 104 с.
Сиротинина О. Б. Вероятное и возможное в судьбе русского языка (размышления на основе фактов его изменений в начале XXI века) // Проблемы речевой коммуникации. Саратов, 2009. Вып. 9.
Скат Т. Н. Метакоммуникация как средство организации диалога: (на материале оппозитивного диалога): автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1991. 17 с.
Скворцов Л. И. Правильно ли мы говорим по-русски? М., 1980. 223 с. Славиньский Я. К теории поэтического языка // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 256–276.
Слышкин Г. Г. Аксиология языковой личности и сфера наивной лингвистики // Социальная власть языка. Воронеж, 2001. С. 87–90.
Смирнова Н. В. Актуализация единиц вербальной реальности в рассказах В. Набокова // Предложение и слово. Саратов, 2008. С. 259–262.
Соколовский Д. Библия падонков, или Учебнег Албанского языка. Сергиев Посад, 2008. 416 с.
Солженицын А. И. Русский словарь языкового расширения. М., 1990. 272 с.
Сорокин Б. Ф. Философия и психология творчества. Орел, 2000. 104 с.
Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. 696 с.
Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. М., 1990. 280 с.
Сперанская А. Н. Правила речевого поведения в русских паремиях: дисс. канд. филол. наук. Красноярск, 1999. 198 с.
Стахеева А. В., Власкина Н. А. Функциональные и этнокультурные аспекты изучения русского языка. Ростов-н/Д., 2009. 376 с.
Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры: опыт исследования. М., 1997. 824 с.
Степанов А. В. Н. В. Гоголь: лексикографические интересы писателя // Русский язык в школе. 2004. № 2. С. 48–51.
Стернин И. А. Коммуникативная концепция семантики слова // Русское слово в языке, тексте и культурной среде. Екатеринбург, 1997. С. 82
– 87.
Стернин И. А. Русское коммуникативное сознание // Человек в зеркале языка. Вопросы теории и практики. М., 2002. С. 296–320.
Стернин И. А. Стилистическая характеристика слова в обыденном языковом сознании // Русский язык сегодня. М., 2006. Вып. 4. С. 518–529.
Субботин М. М. Новая информационная технология: создание и обработка гипертекста // Научно-техническая информация. Сер. 2. 1988. № 5. С. 2–6.
Судаков Г. В. Гиляровский как знаток русской речи (рефлексия писателя на речевые феномены своего времени) // Русский язык XIX века: от
века XVIII к веку XXI. СПб., 2006. С. 228–235.
Судаков Г. В. Н. В. Гоголь об искусстве речевого общения // Русский
язык в школе. 2010. № 1. С. 53–57.
Суховей Д. Поэтика Анны Альчук [Электронный ресурс] // Дети Ра. 2007. № 9—10 (35–36). URL: -pr.html (дата обращения: 28.08.2010).
Тавдгиридзе Л. А. Концепт «русский язык» в русском языковом сознании: автореф. дис. канд. филол. наук. Воронеж, 2005. 22 с.
Тамарченко Н. Д., Тюпа В. И., Бройтман С. Н. Теория литературы: в 2 т. М., 2004. Т. 1. 509 с.
Тарасов Е. Ф. Актуальные проблемы анализа языкового сознания // Языковое сознание и образ мира. М., 2000. С. 24–32.
Тименчик Р. Д. Текст в тексте у акмеистов // Уч. зап. Тартуского ун-та.
Тарту, 1981. Вып. XIV. С. 65–75.
Тихомиров С. А. Гипербола в градуальном аспекте: дис. канд. филол. наук. М., 2006. 241 с.
Три века русской метапоэтики: легитимация дискурса: антология: в 4 т. Ставрополь, 2002–2006.
Трикоз Э. Л. Индивидуальная рефлексия на речевую моду как культурно-речевой феномен и тенденции развития языка во второй половине XIX века // Русский язык XIX века: от века XVIII к веку XXI.
СПб., 2006. С. 249–253.
Трикоз Э. Л. Метаязыковые высказывания как стимул освоения лексических новаций в русском языке второй половины XIX века // Acta linguistica petropolitana: Русский язык XIX века: динамика языковых процессов: матер. III Всерос. науч. конфер. СПб., 2008. С. 285–289.
Трикоз Э. Л. Речевая толерантность в рефлексии носителей языка во второй половине XIX века // История русского языка и культурная память народа. СПб., 2009 а. С. 112–118.
Трикоз Э. Л. Рефлексия как форма нормализации языковых процессов // Русский язык в школе. 2009 б. № 8. С. 51–54.
Трикоз Э. Л. Обыденная метаязыковая рефлексия носителя русского языка второй половины XIX века: автореф. дис. канд. филол. наук. Вологда, 2010 а. 22 с.
Трикоз Э. Л. Обыденная метаязыковая рефлексия носителя русского языка второй половины XIX века: дис. канд. филол. наук. Вологда, 2010 б. 213 с.
Тронский И. М. Вопросы языкового развития в античном обществе. Л., 1973. 204 с.
Трунов Д. Вербальная и невербальная метакоммуникация // Коммуникация: концептуальные и прикладные аспекты. Ростов н/Д., 2004. С. 80–81.
Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. Л., 1924. 140 с.
Улыбина Е. В. Психология обыденного сознания. М., 2001. 263 с.
Успенский Б. А. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии // Успенский Б. А. Избранные труды. М., 1994. Т. 2. С. 53—128.
Успенский Л. Участие писателей необходимо // Русская речь. 1972. № 5. С. 54–57.
Успенский Л. В. Загадки топонимики. М., 2008 а. 336 с.
Успенский Л. В. Слово о словах. М., 2008 б. 544 с.
Успенский Л. В. По закону буквы. М., 2010. 334 с.
Ухмылина Е. В. О языковой сознательности носителей говора (на материале их высказываний о языке) // Уч. зап. Горьковского ун-та. Сер. Лингвистическая. Горький, 1967. Вып.76. С. 159–178.
Фатеева Н. А. Открытая структура: некоторые наблюдения над развитием поэтического языка в конце ХХ века // Русистика сегодня. 2000. № 1–4. С. 114–135.
Фатина Н. С. Роль метатекстовых толкований в художественном тексте // Тенденции развития в лексике и синтаксисе германских языков. Самара, 1997. С. 103–108.
Федорова Л. Л. Грамматика диалога: текст и метатекст [Электронный ресурс] // Диалог—2006: матер. междунар. конф. М., 2006. URL: -21.ru/dialog2006/materials/html/FedorovaL.htm (дата обращения: 04.06.2009).
Федосюк М. Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров // Вопросы языкознания. 1997. № 5. С. 102–120.
Федосюк М. Ю. В каком направлении развивались стили русской речи ХХ века // Филология и журналистика в контексте культуры (Лиманчик—98): материалы Всерос. науч. конф. Ростов-н/Д., 1998 а. Вып. 4. С. 34–51.
Федосюк М. Ю. Художественная проза как источник сведений о системе жанров русской речи // Русский язык в его функционировании. М., 1998 б. С. 107–109.
Федосюк М. Ю. Чего мы не замечаем в родном языке // Русский язык
в школе. 2008. № 5. С. 38–44.
Фельдман Д. М. Терминология власти: советские политические термины в историко-культурном контексте. М., 2006. 484 с.
Филлипс Л., Йоргенсен М. В. Дискурс-анализ: Теория и метод. Харьков, 2004. 336 с.
Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. 448 с. Фрикке Я. А. Метатекстовые особенности повести М. Ю. Лермонтова «Бэла» // Русский язык и межкультурная коммуникация: научный журнал.
Пятигорск, 2007. № 1. С. 102–103.
Фрумкина Р. М. Психолингвистика. М., 2001. 320 с. Хазагеров Г. О поэтике Михаила Щербакова // Искусство. 2000. 8 августа. № 15 / 45.
Харченко Н. П. Квазиплеонастические обороты в языке науки // Системный анализ значимых единиц русского языка. Синтаксические структуры. Красноярск, 1984. С. 93–98.
Харченко В. К. Русский язык: бедность или богатство // Знамя. 2006 а. № 6. С. 185–189.
Харченко В. К. Словарь богатств русского языка. М., 2006 б. 843 с.
Харченко В. К. Семейные отношения в зеркале языка (Прикладная филология) // Русский язык в школе. 2009. № 4. С. 97—101.
Хлебда В. Шесть соображений по вопросу о языковом самосознании // Русистика: Лингвистич. парадигма конца ХХ века. СПб., 1998. С. 62–67.
Хорошева Н. В. Русский общий жаргон [Электронный ресурс] // Изменяющийся языковой мир. Пермь, 2002. URL: / khorosheva-02.htm (дата обращения: 12.08.2010).
Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. М., 2000. 240 с.
Цивьян Т. В. О метапоэтическом в «Поэме без героя» // Лотмановский сборник. М., 1995. Т. 1. С. 611–619.
Цивьян Т. В. Происхождение и устройство языка по Леониду Липавскому (Л. Липавский «Теория слова») // Цивьян Т. В. Семиотические путешествия. СПб., 2001. С. 232–243.
Цивьян Т. В. Предварительные заметки о хлебниковской лингвистике // Теоретические проблемы языкознания. СПб., 2004. С. 587–595.
Чернейко Л. О. Оценка в знаке и знак в оценке // Филологические науки. 1990. № 2. С.72–82.
Чернейко Л. О. Лингво-философский анализ абстрактного имени. М., 1997. 319 с.
Чернейко Л. О. Металингвистика: хаос и порядок // Русский язык: исторические судьбы и современность: Международный конгресс исследователей русского языка. М., 2001. С. 19–20.
Чернышев В. И. Заметки о знаках препинания у А. С. Пушкина // Избранные труды: в 2 т. М., 1970. Т.2. С. 74–79.
Черняк В. Д. Рефлексия о языковой норме в новейшей отечественной прозе // Русский язык сегодня. М., 2006. Вып. 4. С.589–598.
Черняк В. Д. Языковая рефлексия в современной прозе // Русская литература в формировании современной языковой личности. СПб., 2007. Т. 2. С. 83–87.
Черняк М. А. Отечественная массовая литература как альтернативный учебник // Русская литература в формировании современной языковой личности. СПб., 2007. Т. 1. С. 224–231.
Черняков А. Н. Метаязыковая рефлексия в текстах русского авангардизма: автореф. дисс. канд. филол. наук. Калининград, 2007. 24 с.
Черняков А. Н. Между наукой и поэзией: дискурсивные стратегии «поэтической филологии» // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Томск, 2009 а. Ч. 2. С. 325–335.
Черняков А. Н. Наивная лингвистика и «поэтическая филология» // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Томск, 2009 б. Ч. 2. С. 10–16.
Чудаков А. П. Мотив // Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. М., 1967. Т. 4. Ст. 995.
Чуковский К. И. Живой как жизнь. М., 2009. 304 с.
Шаймиев В. А. Об иллокутивных функциях метатекста, или Перечитывая А. Вежбицку…: (на материале лингвистических текстов) // Русистика: Лингвистическая парадигма конца ХХ века. СПб., 1998. С. 68–76.
Шаманова М. В. Общение как коммуникативная категория в русском языковом сознании. Воронеж, 2008. 227 с.
Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. М., 1985. 160с.
Шарифуллин Б. Я. Языковая политика в городе: право языка vs. языковые права человека (право на имя) // Юрислингвистика—2: Русский язык в его естественном и юридическом бытии. Барнаул, 2000. С. 172–181.
Шаховский В. И., Сорокин Ю. А., Томашева И. В. Текст и его когнитивно-эмотивные метаморфозы: (Межкультурное понимание и лингво-экология). Волгоград, 1998. 149 с.
Шварцкопф Б. С. Внимание: кавычки! // Рус. речь. 1967. № 4. С. 60–64.
Шварцкопф Б. С. Проблема индивидуальных и общественно-групповых оценок речи // Актуальные проблемы культуры речи. М., 1970. С. 277–304.
Шварцкопф Б. С. Оценки говорящими фактов речи: автореф. дис…. канд. фил. наук. М., 1971. 21 с.
Шварцкопф Б. С. Оценки речи как объект лексикографирования // Словарные категории. М., 1988. С. 182–186.
Шварцкопф Б. С. Изучение оценок речи как метод исследования в области культуры речи // Культура русской речи и эффективность общения. М., 1996. С. 415–424.
Шварцкопф Б. С. «Я поставил кавычки потому, что.» // Облик слова. М., 1997. С. 374–381.
Швец А. В. Наивное литературоведение и метаязыковая деятельность говорящего // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Томск, 2009. Ч. 2. С. 17–25.
Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. М., 2004. 326 с.
Шестакова Л. Л. Авторская лексикография на рубеже веков // Вопросы языкознания. 2007. № 6. С. 116–129.
Шехватова А. Н. Отражение изменения языка в романе Василия Аксенова «Редкие земли» // Русская литература в формировании современной языковой личности. СПб., 2007. Т. 1. С. 237–243.
Шишкарева О. А. Новообразования как проявление языковой игры: структурно-функциональный аспект (на материале нижегородской прессы начала XXI в.): автореф. дис. канд. фил. наук. Н. Новгород, 2009. 26 с.
Шмелёв А. Д. Именование и автонимность имени // Словарь. Грамматика. Текст. М., 1996. С. 171–179.
Шмелёв А. Д. Скобки у Солженицына // Язык и мы. Мы и язык: сб. статей памяти Б. С. Шварцкопфа. М., 2006. С. 516–529.
Шмелёв А. Д. Осознанное и неосознанное в наивной лингвистике // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Томск, 2009. Ч. 2. С. 36–46.
Шмелёва Т. В. Модель речевого жанра // Жанры речи. Саратов:, 1997. С. 88–98.
Шмелёва Т. В. Языковая рефлексия // Теоретические и прикладные аспекты речевого общения. Красноярск, 1999. Вып. 1 (8). С. 108–110.
Шмелёва Е. Я. Опыт лингвистической футурологии: каким будет русский язык XXI в.? [Электронный ресурс] // Маргиналии 2010: границы культуры и текста: тез. докл Международной конференции (Каргополь, 25–26 сент. 2010 г.). Каргополь, 2010. URL: -persona/site/conf/marginalii-2010/thesis.htm (дата обращения: 06.09.2010).
Шмелёва Е. Я., Шмелёв А. Д. «Неисконная» русская речь в восприятии русских // Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке. М., 1999. С. 162–169.
Шмелёва Е. Я., Шмелёв А. Д. Клишированные формулы в современном русском анекдоте [Электронный ресурс] // Труды Междунар. семинара «Диалог—2000». Протвино, 2000. Т. 1. URL: / folklore/shmelev2.htm (дата обращения: 12.06.2010).
Штайн К. Э. Метапоэтика – «размытая» парадигма // Филологические науки. 2007. № 6. С. 41–50.
Штайн К. Э., Петренко Д. И. Русская метапоэтика: учебный словарь. Ставрополь, 2006. 603 с.
Шубина Н. Л. Метаграфемика как дополнительный семиотический код в сфере письменной коммуникации // Человек пишущий и читающий:
проблемы и наблюдения. СПб, 2004. С. 272–283.
Шубина Н. Л. Пунктуация современного русского языка. М., 2006. 256 с. Шумарин С. И., Шумарина М. Р. Аббревиатуры как объект «естественной лингвистики» // Вестник Сургутского гос. пед. ун-та. Сургут, 2009. № 2 (5). С. 88–94.
Шумарина М. Р. «Наш дар бессмертный – речь»: русские поэты о языке и речи // Русский язык в школе. 2007. № 5. С. 17–20.
Шумарина М. Р. Урок по стихотворению И.С.Тургенева «Русский язык» // Русский язык в школе. 2008 а. № 10. С. 18–24.
Шумарина М. Р. Поэтическая речь как объект рефлексии писателя // Аспекты исследования языковых единиц и категорий в русистике XXI века. Мичуринск, 2008 б. Т. 2. С. 68–71.
Шумарина М. Р. Рефлексивы в «Мёртвых душах» Н. В. Гоголя // Преподаватель XXI век. 2009 а. № 1. С. 323–327.
Шумарина М. Р. Русское слово – «персонаж» гоголевского текста // «Нужно любить Россию…»: матер. межрегион. науч. конфер., посвящ. 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя. Оренбург, 2009 б. С. 171–176.
Шумарина М. Р. Грамматика в обыденном метаязыковом сознании // Русский язык в школе. 2009 в. № 10. С.69–73.
Шумарина М. Р. Лингвистический миф в отражении фольклора и литературы // Известия Уральского гос. ун-та. 2010 а. № 4 (82). С. 83–98.
Шумарина М. Р. Метаязыковая рефлексия в фольклорном тексте // Филологические науки. 2010 б. № 5–6. С. 56–65.
Шумарина М. Р. Рец. на кн. «Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты» (Ч.1. – 532 с.) // Вопросы языкознания. 2010 в. № 5. С. 140–143.
Шумарина М. Р. Метатекст в прозе В. Некрасова // Русский язык в школе. 2011. № 5.
Щерба Л. В. Восточнолужицкое наречие. СПб., 1915. Т. I. 296 с.
Щерба Л. В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях / В. А. Звегинцев. М., 1960. Ч. II. С. 301–312.
Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. 428 с.
Щукина Д. А. Современная речь в зеркале художественного текста // Русская литература в формировании современной языковой личности. СПб., 2007. Т. 1. С. 367–373.
Эпштейн М. Н. О будущем языка // Знамя. 2000. № 9. С. 212–213. Эпштейн М. Русский язык в свете творческой филологии разыскания // Знамя. 2006. № 1. С. 192–207.
Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов. Киев; М., 1997. 382 с. Юнг К. Г. Очерки по психологии бессознательного. М., 2006. 350 с. Язык о языке: сб. статей. М., 2000. 624 с.
Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 193–230.
Якобсон Р. О. К языковедческой проблематике сознания и бессознательности // Бессознательное. Тбилиси, 1978. Т. 3. С. 156–167.
Якобсон Р. О. Речевая коммуникация // Избранные работы. М., 1985.
С. 306–330.
Яковенко А. А. Интонационный курсив в письменном художественном тексте: дис. канд. филол. наук. СПб., 2007. 235 с.
Якубинский Л. П. О диалогической речи // Русская речь. Пг., 1923.
Вып. I. С. 96—194.
Albert E. M. «Rhetopic», «logic» and «poetics» in Burgundi: Culture patterns of speech behaviour // Amer. Antropologist. Menasha, 1964. Vol. 66. № 6. P. 35–54.
Bauman R. Quaker folk-linguistics and folklore // Folklore: Performance and communication. The Hague; Paris, 1975. P. 255–263.
Beacco J. – С. Les savoirs linguistiques ordinaires en didactique des langues // Langue francaise. 2001. № 131. Р. 89—105.
Brekle H. E. «Volklinguistik»: ein Gegenstand der Sprachwissenschaft bsw. ihrer Historiographie? // Politische Sprachwissenschaft. Zur Analyse von Sprache als kulturelle Praxis. Opladen, 1985. S. 145–156.
Brekle H. E. Einige neuere Uberlegungen zum Thema Volklinguistik // Sprachwissenschaft und Volkskunde. Perspektiven einer kulturanalitischen Sprachbetrachtung. Opladen, 1986. S. 70–76.
Brekle H. E. La linguistique populaire // Histoire des idees linguistiques. Bruxelles, 1989. T. 1. P. 39–44.
Brown P., Levinson S. Politeness: Some universals in language usage. Cambridge, 1987. 345 р.
Bugarski R. The interdisciplinary relevance of folk linguistics // Progress in linguistics historiography: Rapes from the Intern. conf. on the history of lang. science (28–31 Aug. 1978). Amsterdam, 1980. P. 381–393.
Dufva H., Lahteenmaki М. What People Know about Language: A Dialogical View // Zeitschrift fur Fremdsprachenforschung. 1996. № 7 (2). P. 121–136.
Explorations in the ethnography of speaking / ed. by R. Bauman and J. Sherzer. Cambridge, 1974. 501 р.
Hoenigswald H. M. A proposal for the study of folk linguistics // Sociolinguistics: Proc. of the UCLA socioling. conf., 1966. The Hague; Paris, 1966. P. 16–21.
«Linguistique populaire?» / coord. par Guy Achard-Bayle et al. Metz, 2008. № 139–140. 256 p.
Nelson T. H. A File Structure for the Complex, the Changing and the Indeterminate // Association for Computing Machinery: 20th National Conference: Proceedings. Clevelend; Ohio, 1965. Р. 84—100.
Niedzielski H., Preston D. Folk Linguistics. Berlin; New York, 2000. 375 p.
Paveau M. – A. Linguistique populaire: et enseigntment de la langue: des categories communes // Le Francais aujourd'hui. Paris, 2005. P. 95—107.
Paveau M. – A. Les normes ptrceptives de la linguistique populaire // Langage et societe. 2007. № 121. Р. 93—109.
Preston D. R. What is folk linguistics? Why should you care? // Lingua Posnaniensis. 2005. Vol. 7. P. 143–162.
Shannon C. The Mathematical Theory of Communication // The Bell System Technical Journal. 1948. Vol. XXVII. № 3. P. 379–423 & 623–656.
Shannon C., Weaver W. The Mathematical Theory of Communication. Urbana: University of Illinois Press, 1969. 215 р.
Wetherby A. M., Alexander D. G., Prizant B. M. The Ontogeny and Role of Repair Strategies // Communication and Language Intervention Series. Baltimore, 1998. Vol.7. Transitions in Prelinguistic Communication.
Yaguello M. Catalogue des idees recues sur la langue. Paris; Seuil, 1988. 160 p.
Словари
БАС-17: Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. М.; Л., 1948–1965.
БАС-20: Словарь современного русского литературного языка: в 20 т. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1991—…
БТС: Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб., 2000. 1536 с.
МАС: Словарь русского языка: в 4-х т. / под ред. А. П. Евгеньевой.
Изд. 3-е. М., 1985.
МЭСБЕ: Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 4 т. Издательское общество «Ф. А. Брокгауз – И. А. Ефрон», 1907–1909.
СД: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ. М., 1994.
СОШ: Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. Изд. 4-е, доп. М., 1999. 944 с.
СУ: Толковый словарь русского языка: В 4-х т. / под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935–1940.
ТСП: Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов (82 000 слов и фразеологических выражений) / отв. ред. Н. Ю. Шведова. М., 2007. 1175 с.
Приложения
Статьи для словаря «Литературный портрет слова»[139]
► Авди́тор, сущ., м. р., одуш. Зная, что всякое царство, раздельшееся на ся, не устоит, оно отдало одних товарищей под власть другим, желая внести в среду их междуусобие. Такими властями были: <…> авдитора – выслушивающие по утрам уроки и отмечающие баллы в нотатах (особой тетради для баллов) <…> ничто так не оподляет дух учебного заведения, как власть товарища над товарищем; цензора, авдитора, старшие и секундаторы получили полную возможность делать что угодно. Цензор был чем-то вроде царька в своем царстве, авдитора составляли придворный штат, а второкурсные – аристократию (Н. Помяловский. Очерки бурсы). Знач. Второкурсный (см.) ученик бурсы, в обязанности которого входит проверять у других бурсаков уроки и оценивать их. Употр. В языке бурсы. Культ. Существование авдиторов и других «властей» из учащихся – характерная черта бурсацкой образовательной системы и один из факторов «оподления» царящих в бурсе нравов.
Аво́ська, сущ., ж.р. I….мадам Миронова… появляется на сцене с двумя большими странными саквояжами, или, говоря по-русски, «авоськами». Авоська – это специфическая безразмерная ажурная русская сумочка, названная так в честь знаменитого спектакля Театра Ленком «Юнона и Авось», гастроли которого с успехом прошли в Париже (Г. Горин. Иронические мемуары). Знач. Большая ажурная сумка. Происх. Образовано от названия спектакля «Юнона и Авось» (комическая этимологизация). Культ. Специфически русское явление. II. Очнулся он в Ягодном, чуть ли не в пятистах километрах от Магадана, на автобусной остановке, без бумажника и часов, но зато с авоськой в руках <…> Таково название сетчатой сумки, происходившее от «авось». Налицо редчайший случай трансформации наречия в существительное, какого не знают прочие языки (В. Пьецух. Крыжовник). Знач. Сетчатая сумка. Происх. Образовано от наречия авось. Культ. Как специфически русское оценивается образование существительного от наречия, которое не встречается в других языках.
► Ада́птер, сущ., одуш., м. р. «Адаптер» – означает: пустяковый человек, вообче сволочь, и больше ничего (М. Шолохов. Поднятая целина). Знач. Человек, заслуживающий отрицательной оценки. Употр. В индивидуальном восприятии персонажа.
Айва́н,узб., сущ., м. р. I. Восточная сторона [мечети] занята рядом келий; северная высоким навесом айван, убежищем молельщиков от летнего зноя (А. Бестужев-Марлинский. Мулла-Нур). Знач. Высокий навес в мечети. Употр. В речи мусульман [Дербенд, первая половина XIX в.]. II. По двору протекал арык, над ним строили такой квадратный деревянный помост – айван, или супу… бросали на него множество курпачей <…> На айване спали, принимали гостей, чаи распивали… От арыка шла прохлада в жаркий день, и звук бегущей воды успокаивал, расслаблял… (Д. Рубина. На солнечной стороне улицы). Знач. Деревянный помост над арыком, служащий для отдыха. Синоним – супа. Употр. Используется в Узбекистане.
Айда́, тат., междом. Айда – татарское слово, иногда значит: пойдем, иногда – иди, иногда – погоняй, смотря по тому, при каких обстоятельствах говорится. Это слово очень распространено по Поволжью, начиная от устья Суры, особенно в Казани; употребляется также в восточных губерниях, в Сибири (П. Мельников-Печерский. В лесах). Знач. Побуждение к движению. Употр. В середине XIX века распространено в Поволжье, на востоке России, в Сибири. Происх. Заимствовано из татарского языка.
А́нгел, сущ., одуш., м. р. I. Ангелы – так в старину у религиозных европейцев назывались мнимые духи неба, вестники воли богов. Слово «ангел» и означает «вестник» на древнегреческом языке. Забытое много веков назад слово… (И. Ефремов. Туманность Андромеды). Знач. Духи, посланники богов. Происх. Образовано от древнегреческого слова со значением 'вестник'. Употр. Перестало употребляться в ирреальном мире далёкого будущего, описанного в романе. II. С тех пор как поэты пишут и женщины их читают…, их столько раз называли ангелами, что они в самом деле, в простоте душевной, поверили этому комплименту, забывая, что те же поэты за деньги величали Нерона полубогом… (М. Лермонтов. Герой нашего времени). Употр. Используется как традиционное обозначение женщины в поэтической речи. ► III. До прихода учителя ученики успели сыграть в краски. Выбрали из среды себя ангела и черта, выбрали хозяина: другим участникам в игре были розданы названия той или другой краски, которые не сообщались ни ангелу, ни черту. Вот приходит ангел, и стучит он в двери. / – Кто тут? – спрашивает хозяин. / – Ангел. / – За чем? / – За краской. / – За какой? / – За зелёной. / – Кто зеленая краска, иди к ангелу. / В свою очередь приходит к хозяину черт, выбирает себе краску и уводит ее. Так продолжается до тех пор, пока не разберутся все краски. Тогда сила ангела становится одесную от хозяина, а сила дьявола ошуюю. Каждая из партий образует из себя цепь, хватая друг друга сзади за животы. Ангел и черт сцепляются руками, – и вот взревели и ангелы и черти – и началась таскотня. Долго шла борьба, но черт-таки одолел (Н. Помяловский. Очерки бурсы). Знач. Обозначает одного из водящих в игре в «краски». Употр. В речи учащихся бурсы. ◊ Ангел пролетел (Тихий ангел пролетел). I. Мы стояли под его улыбкой. Была тихая, светлая минута. Как говорится в таких случаях: «ангел пролетел»… (В. Токарева. Один из нас). II. Пролетел тихий ангел, как говорили до пролетарской революции, или родился мент, как говорят сейчас. Все переваривали бредовую новость (О. Некрасова. Платит последний). Знач. О мгновении, когда все собеседники одновременно замолчали. В современном просторечии в тех же случаях говорят: мент родился. Употр. Выражение малоупотребительно, для большинства говорящих кажется устаревшим (до пролетарской революции).
Аннушка, сущ., ж. р., нариц. Обо многом мог бы ещё поведать – и, надеюсь, поведает в этом сочинении – перекрёсток Мясницкой и Бульварного кольца, по которому, рассыпая из-под колёс искры, катились провинциальные вагончики трамвая буквы А, в просторечии «Аннушки» (В. Катаев. Алмазный мой венец). Знач. Трамвай, ходивший по маршруту А. Употр. В Москве; неофициальное название. Происх. От названия буквы «А».
► Антагонизм, сущ., м. р. 11 мая. Весь день тосковал и выбирал из старых газет мудреные слова для сочинительства. <…> Антагонизм – ад кромешный (слово это перевел содержатель табачной лавочки, человек ученый, так как служил вахтером в кадетском корпусе) (Н. Лейкин. Из записной книжки отставного приказчика Касьяна Яманова). Знач. По мнению «ученого» толкователя, в прошлом вахтера кадетского корпуса, это слово обозначает ад кромешный. Оц. Мудреное слово (то есть одновременно трудное и умное), подходящее для литературных текстов. Употр. В газетном тексте.
Ариец, сущ., м.р. Древние народы разделяются по цвету кожи на черных, белых и желтых. Белые в свою очередь разделяются на: 1) Арийцев, произошедших от Ноева сына Иафета и названных так, чтоб не сразу можно было догадаться – от кого они произошли. 2) Семитов <…> и 3) Хамитов <…> (Н. Тэффи. Древняя история). Знач. Народы, ведущие своё происхождение от Иафета, сына Ноя. Названия «белых народов» образуют тематическую группу: арийцы, семиты, хамиты. Происх. Название ариец никак не связано с именем родоначальника Иафета (в отличие от семитов и хамитов) и – в комической интерпретации автора – было специально придумано, чтобы «затемнить» происхождение народов. ^ Арийский тип. Зигфрид – герой древнегерманского эпоса, статный, белокурый красавец с голубыми глазами. Когда говорят «арийский» тип, имеют в виду мужчин, похожих на Зигфрида (Д. Донцова. Муха в самолёте). Знач. Тип внешности: статный голубоглазый блондин.
Аристон, греч. <…> красота – это правильная линия в единстве и борьбе противоположностей, та самая середина между двумя сторонами всякого явления, всякой вещи, которую видели еще древние греки и назвали аристон – наилучшим, считая синонимом этого слова меру, точнее – чувство меры (И. Ефремов. Лезвие бритвы). Знач. Наилучшее. Синоним: чувство меры. Употр. У древних греков.
Архиерейские сливочки. Подгулявшие гости галдели, а Тарас Ермилыч ходил между ними с бутылкой рому и сам подливал в стаканы «архирейских сливочек», как говорил протопоп Мелетий (Д. Мамин-Сибиряк. Верный раб). Знач. Ром. Употр. В речи священнослужителей.
Асфальт, сущ., м.р., ед. ч. А все улицы, говорит, были ОСФАЛЬТОМ покрыты. Это будто бы такая мазь была, твердая, черная, ступишь – не провалишься (Т. Толстая. Кысь). Знач. Твёрдая мазь чёрного цвета, которой покрывают улицы, чтобы можно было ходить, не проваливаясь. Форм. Персонаж, не видевший слова в орфографическом написании, передаёт его в «преувеличенно правильном» виде, опираясь на свои представления о соотношении произношения и правописания.
Баба, сущ., ж.р. I. <…> он рассказал ему, как один школьник, учившийся у какого-то дьяка грамоте, приехал к отцу и стал таким латыньщиком, что позабыл даже наш язык православный. Все слова сворачивает на ус. Лопата у него – лопатус, баба – бабус (Н. Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки). Знач. Нерадивый ученик «изобретает» к слову баба латинский эквивалент бабус, так же, как к слову лопата – латинский эквивалент лопатус. Употр. Окказиональное – в единичном речевом акте. II. Многие даже из мужчин были совращены и пристали к их [женщин] партии, несмотря на то что подвергнулись сильным нареканиям от своих же товарищей, обругавших их бабами и юбками – именами, как известно, очень обидными для мужского пола (Н. Гоголь. Мёртвые души). Ш. Мужика не бей. Съездить его в рожу еще не большое искусство. Это сумеет сделать и становой, и заседатель, и даже староста; мужик к этому уже привык и только что почешет слегка у себя в затылке. Но умей пронять его хорошенько словом; ты же на меткие слова мастер. Ругни его при всем народе, но так, чтобы тут же обсмеял его весь народ; это будет для него в несколько раз полезней всяких подзатыльников и зуботычин. Держи у себя в запасе все синонимы молодца для того, кого нужно подстрекнуть, и все синонимы бабы для того, кого нужно попрекнуть, чтобы слышала вся деревня, что лентяй и пьяница есть баба и дрянь (Н. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями). IV. <…> если мужчина заплачет, так его бабой назовут; а эта кличка для мужчины хуже всего, что только может изобресть ум человеческий (А. Островский. Бесприданница). Употр. Слово баба (и его синонимы) используется как бранное по отношению к мужчинам, как и слово юбка. Оц. Оба слова чрезвычайно оскорбительные. V. – Я автоматчика спрашиваю: «У себя?» Автоматчик мне отвечает: «А где ему быть, – спит с бабой». Автоматчик произнёс более крепкое слово, нежели «баба», но Вершков не счёл возможным привести его в разговоре с командиром корпуса (В. Гроссман. Жизнь и судьба). Употр. Используется как эвфемизм для замены более грубого обозначения женщины. VI. <…> редакторы и мне в свое время много крови попортили. Когда-то мой двухтомник редактировала женщина, которая во всех моих деревенских рассказах слова «мужики» и «бабы» заменила словами «крестьяне» и «крестьянки» (Ю. Коваль. На барсучьих правах). Знач. Синонимы: крестьянин – мужик и крестьянка – баба. Употр. Редактор считает слова мужик и баба неуместными в литературном произведении, заменяет их более «приличными синонимами». VII. – Любовь, дева, луна, поэзия… – перебил Череванин. – На свете нет любви, а есть аппетит здорового человека; нет девы, а есть бабы; вместо поэзии в жизни мерзость какая-то, скука и тоска неисходная (Н. Помяловский. Молотов). Знач. По мнению говорящего, слово баба является более адекватным денотату, чем синонимическое дева, «искажающее» реальное положение дел. ^ Учёная баба. – <…> Вообще учёная баба – страх для мужчин… <…> этими неизвестно кем составленными, грубыми, никакого смысла не выражающими словами «учёная баба» нельзя же было захлопывать тот светлый яркий луч науки, который оставался их роковому женскому поколению на всякие личные неудачи (А. Солженицын. В круге первом). Оц. Грубые, бессмысленные слова.
Байбак, сущ., м. р. I. Кто был то, что называют тюрюк, то есть человек, которого нужно было подымать пинком на что-нибудь; кто был просто байбак, лежавший, как говорится, весь век на боку, которого даже напрасно было подымать: не встанет ни в каком случае. <…> Как вихорь взметнулся дотоле, казалось, дремавший город! Вылезли из нор все тюрюки и байбаки, которые позалеживались в халатах по нескольку лет дома, сваливая вину то на сапожника, сшившего узкие сапоги, то на портного, то на пьяницу кучера (Н. Гоголь. Мёртвые души). Знач. Лежебока, лентяй. Выражает большую степень лени по сравнению со словом тюрюк. II. Из этого журнала читатель может видеть, что Андрей Иванович Тентетников принадлежал к семейству тех людей, которые на Руси не переводятся, которым прежде имена были: увальни, лежебоки, байбаки и которых теперь, право, не знаю, как назвать (Н. Гоголь. Мёртвые души). Знач. Слово входит в синонимический ряд: увальни, лежебоки, байбаки. Употр. Автор отмечает, что эти названия «прежние», то есть утратившие активность в языке.
Бакалавр, сущ., м. р. Обучение, по его замыслу, должно было быть быстрым – неполных три года, но страшно эффективным: выпускникам обещалась угрожавшая стабильности отечественного образования степень бакалавра – при том, что слово это Москва начала 90-х еще не научилась произносить быстро (Е. Клюев. Андерманир штук). Употр. В Москве 90-х годов слово бакалавр слово было новым и чуждым.
Балетка, сущ., ж. р. Тогда, в шестьдесят первом <…> в моду вошли чешские пузатые портфели и чемоданы из толстой красноватой кожи, а черный лакированный как раз и остался провинциальным щеголям, вроде флотского, наверняка добирающегося до столиц из Севастополя, фасоня по дороге белым кителем и лакированной балеткой (так тогда назывались маленькие чемоданы) (А. Кабаков. Последний герой). Знач. Маленький чемодан; в данном случае – чёрный, лакированный. Употр. Судя по тексту, в 1961 г. такие чемоданы были уже не модны, возможно, и само слово утрачивало активность.
Балласт, сущ., м.р., ед. ч. Балласт – на суше лишний, ненужный груз. А на море когда как: если много балласта – нехорошо. А совсем без балласта – еще хуже: можно перевернуться. Вот и приходится возить камни, чугунные чушки, песок и прочие бесполезные тяжести, которые кладут на самое дно, чтобы придать судну устойчивость (А. Некрасов. Приключения капитана Врунгеля). Знач. Груз, который кладут на дно судна для придания ему устойчивости. Слово имеет и переносное значение – «сухопутное»: 'нечто лишнее, ненужное'.
Барда, сущ., ж. р., ед. ч. Я в Петербурге читала Жуковского сочинения и помнила, что он говорит о бардах. Барда, <…> которую так хвалят, должна быть жена какого-нибудь барда, или поэта… и только что ушел винокур, я побежала к тетеньке и просила меня познакомить с бардою. «А що тоби с него робыть! – отвечала тетенька. – Я чула, що миються бардой, щоб шкура была билие.» Ах, Маша! как же мне стыдно было, когда я узнала, что такое барда! Здесь барда не то что у вас в Петербурге: здесь так называют гущу, которая остается на дне, когда делают вино (А. Погорельский. Монастырка). Знач. Гуща, которая остается после приготовления вина. Употр. Термин, связанный с производством вина. Форм. Девушку вводит в заблуждение формальное сходство слов бард (поэт) и барда, которое заставляет ее предположить, что барда – это жена барда.
Без права переписки. И только может быть через полгода-год сам арестованный аукнется или выбросят: «Без права переписки». А это уже значит – навсегда. «Без права переписки» – это почти наверняка: расстрелян (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг). Знач. Условное выражение, которым, как правило, обозначали смертный приговор. Употр. Использовалось в судопроизводстве в годы репрессий.
Безобразие, сущ., с. р. <…> И прочее безобразие. До чего же удивительно русское слово – безобразие. Без образа. Образа нет (А. Битов. Виньетка). Происх. В тексте актуализируется внутренняя форма слова, его связь с сочетанием без образа. Оц Слово оценивается как удивительное.
Беседа, сущ., ж. р. I. Уже третий или четвертый час шла их беседа. Нет, это не то слово. И вообще оно почему-то до сих пор не придумано. У Даля сказано: «Беседа – взаимный разговор, общительная речь между людьми, словесное их сообщение, размен чувств и мыслей на словах». Ну что это за определение – да простит меня великий Даль? В нем нет главного – души. О каком размене чувств и мыслей может идти речь, когда перед тобой рычащий поток, Терек, Кура, камни, водовороты, вспышки, протуберанцы, дробь пулемета и трель соловья. Так вот, четвертый час они разменивали свои чувства и мысли <… > (В. Некрасов. Маленькая печальная повесть). Знач. Рассказчик приводит толкование, данное в словаре В. И. Даля, чтобы показать, почему слово беседа не отражает адекватно описываемого явления. Видимо, в значении слова беседа присутствует компонент 'спокойная', 'неспешная'. Слово с таким значением не подходит для обозначения того бурного объяснения, которое нужно описать в данном случае. Рассказчик считает, что в русском языке здесь лакуна – слово почему-то до сих пор не придумано. II. БЕСЕДА – пища черта (Н. Богословский. Заметки на полях шляпы). Форм. Слово становится предметом языковой игры, в нем актуализируются квази-основы бес и еда.
Бивуак, сущ., м. р. И занимают бивуаки / Доныне мирные поля, / И, как от бешеной собаки, / От вас избавится земля! / Что такое «бивуаки», я не знал, но я представил себе, что это такие рослые, отборные солдаты, в какой-то особой, строгой форме. Они отовсюду выходят на поля (В. Шефнер. Имя для птицы…). Знач. Ребенку, который не знаком со словом, представляется, что бивуаки – это отборные солдаты.
► Бокс, сущ., м.р. – > Боксированный, прич. I. <…> его куда-то быстро увели. Потом я догадался куда. В «приемном отделении» были так называемые боксы – такие малые камеры, в которых нельзя было ни лежать, ни сидеть, а только стоять. Постоял и я в таком боксе со своим мешком. Потом меня вызвали. Комнатка маленькая, но потолки высокие (А. Жигулин. Черные камни). II. Тюрьма начинается с бокса, то есть ящика или шкафа. Человека, только что схваченного с воли, еще в лёте его внутреннего движения, готового выяснять, спорить, бороться, – на первом же тюремном шаге захлопывают в коробку, иногда с лампочкой и где он может сидеть, иногда темную и такую, что он может только стоять, еще и придавленный дверью. И держат его здесь несколько часов, полусуток, сутки. Часы полной неизвестности! – может, он замурован здесь на всю жизнь? Он никогда ничего подобного в жизни не встречал, он не может догадаться! Идут эти первые часы, когда всё в нём еще горит от неостановленного душевного вихря. Одни падают духом – и вот тут-то делать им первый допрос! Другие озлобляются – тем лучше, они сейчас оскорбят следователя, допустят неосторожность – и легче намотать им дело (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг). III. Могут воронки иметь в задке бокс – узкий стальной шкаф на одного. И могут целиком быть боксированы: по правому и левому борту одиночные шкафики, они запираются как камеры, а коридор для вертухая (А.Солженицын. Архипелаг ГУЛаг). Знач. Маленькое помещение, похожее на шкаф и предназначенное для временного содержания одного заключённого. Употр. В дискурсе об органах репрессий. Культ. Такие боксы использовались в годы репрессий не только как средство изоляции заключённого, но и как дополнительный инструмент физических издевательств и психологического давления.
Бриллиант, сущ., м.р. Существительное… включает в себя часто и эпитет. К слову «бриллиант», например, не надо придавать слово «сверкающий». Оно уже заключено в самом существительном. (В. Катаев. Алмазный мой венец). Знач. Значение слова включает в себя семантический компонент 'сверкать'. Употр. Использование со словом бриллиант определения сверкающий является избыточным.
► Броневик, сущ., одуш., м. р. Юнги были на многих судах черноморских линий, большинство приходило без всякой подготовки с биржи труда, по так называемой броне подростков, их так и называли – «броневиками»
(А. Крон. Капитан дальнего плавания). Знач. Юнги-подростки, направленные с биржи труда для службы на судах. Происх. От слова броня. Употр. На судах черноморских линий во время Великой Отечественной войны.
Буржуйка, сущ., ж. р. В такие минуты смятения бесценную помощь сочинителю оказывала чугунная обогревательная печурка, буржуйка – в просторечии тех лет… (Л. Леонов. Вор). Знач. Маленькая чугунная печка, использовавшаяся для обогрева. Употр. Использовалось в просторечии (то есть было неофициальным) в период Гражданской войны и послевоенной разрухи.
В рабочем порядке. <…> производственные совещания созывали лишь тогда, когда нельзя было решить вопрос в так называемом рабочем порядке, то есть быстро, без рассусоливания (О. Новикова. Женский роман). Знач. Быстро, не собирая совещания, не тратя лишнего времени. Употр. В деловом дискурсе.
Вагон-зак, сущ., м.р. Есть <…> стальные закрытые корабли – вагон-заки. <…> «Вагон-заки» ходят по расписанию. <…> Вагон-зак – какое мерзкое сокращение! Как, впрочем, все сокращения, сделанные палачами. Хотят сказать, что это – вагон для заключённых. Но нигде, кроме тюремных бумаг, слово это не удержалось. Усвоили арестанты называть такой вагон столыпинским или просто Столыпиным (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг). Знач. Вагон для перевозки заключённых. Синонимы: столыпинский вагон, столыпин. Происх. От слов вагон и заключённый. Употр. Только в тюремных бумагах. Оц. Мерзкое сокращение.
Вагонки, сущ., мн. ч. В бараке были не сплошные нары, а так называемые вагонки. Это деревянная, но сделанная без единого гвоздя четырехместная кровать. На одном каркасе четыре спальных места – два внизу, два наверху (А. Жигулин. Черные камни). Знач. Двухъярусная четырёхместная деревянная кровать. Употр. В местах заключения.
Валишень, сущ., м. р. – А вот немецкое слово «вальдшнеп» прижилось у нас. Правда, мне приходилось слышать изменение этого слова – «валишень». Очень приятно, на мой взгляд, звучит, нежно (Ю. Коваль. На барсучьих правах). Знач. То же, что вальдшнеп. Употр. Русский «адаптированный» вариант заимствованного слова, употребляемый в народе. Форм. Отмечается нежное, приятное звучание слова.
Венера, сущ., ж.р., нариц. Есть у нас и другие предки, думал я, вот, например, трипольцы <…> которые четыре, что ли, тысячи лет назад занимались земледелием и скотоводством, а в свободное время вырезали из камня маленьких голых баб с очень толстым задом, – этих баб, «Венер», как их сейчас называют, осталось очень много – видно, они были в красном углу каждого дома (В. Пелевин. Ника). Знач. Древние небольшие скульптуры из камня, изображающие женские фигуры. Культ. Такие скульптуры являются памятниками культуры трипольцев, они сохранились в большом количестве.
Вертухай, сущ., м. р., одуш. В мое время это слово уже распространилось. Говорили, что это пошло от надзирателей-украинцев: «стой, та нэ вэртухайсь!» Но уместно вспомнить и английское «тюремщик» = Шгпкеу – «верти ключ». Может быть и у нас вертухай – тот кто вертит ключ?
(А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг). Знач. Надзиратель в тюрьме. Происх. Выдвигаются две версии происхождения: 1) от характерного для надзирателей-украинцев выражения нэ вэртухайсь или 2) по аналогии с английским словом йшжеу (тюремщик), что дословно обозначает 'верти ключ' (Вряд ли речь идёт о кальке с английского – вероятно, предполагается общая когнитивно-словообразовательная модель).
Воробей, сущ., м. р. I. Однажды он катал-катал случайно подвернувшееся слово, которое никак не исчезало, – бывает же такое, что занозой залезет и не вытолкнешь, – и вдруг рассмеялся от неожиданности. Слово было «воробей», проще некуда, и оно, размокшее где-то там, в голове, как под языком, легко разошлось на свои две части: «вор – бей». Ивана поразило не то, что оно разошлось и обнаружило свой смысл, а то, что настолько было на виду и на слуху, настолько говорило само за себя, что он обязан был распознать его еще в младенчестве. Но почему-то не распознал, произносил механически, безголово, как попугай (В. Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана). II. ВОРОБЕЙ – самосуд над грабителем (Н. Богословский. Заметки на полях шляпы). Происх. По мысли комментаторов, слово образовано из двух частей вор и бей.
Вот в наше время. <…> Валька скроил жуткую мину, замахал руками и стал уверять меня, что все испортит, потому как совершенно не умеет разговаривать со стариками, у него не хватает терпения выслушивать их бесконечное брюзжание, морализаторство и длительные экскурсы в историю, сопровождаемые словами «вот в наше время»; он начинает раздражаться, сердиться, грубить и пытается побыстрее свернуть разговор (А. Маринина. Пружина для мышеловки). Употр. Выражение, по наблюдениям персонажа, характерно для речи стариков.
► Гаванна, сущ., ж.р. Мыши страшно расплодились у нас в Подвале. Черные рисинки их помета повсюду: на полках, на столе, особенно много их в маленьком предбанничке около Гаванны (слово, обозначающее в народе совмещенный санузел), где стоит помойное ведро <… > (В. Сидур. Памятник современному состоянию). Знач. Совмещенный санузел. Употр. Народное выражение.
Гривна, сущ., ж. р. [Цитата из «Русской правды»: ] «Если придет на двор (то есть в суд) человек в крови или в синяках, то свидетелей ему не искать, а обидчик пусть платит продажи – три гривны». / Отметим, что гривна не равнялась нашему гривеннику и этот мордобой не оценивался в тридцать копеек, не то все ходили бы с распухшей мордой. Гривна – это был кусок серебра около одной трети фунта (М. Зощенко. Голубая книга). Знач. Кусок серебра весом около одной трети фунта. Обращается внимание на различие в значениях слов гривенник (10 копеек) и гривна. Употр. В древнерусском государстве.
Д, буква русского алфавита. Дела. Хорошее слово. Прочное, как мамин намечтанный дом. Дела, дом. «Д» – вообще основательная буква (Г. Щербакова. Ангел Мертвого озера). Оц. Основательная буква.
► Детский, прил. I. Несколько комнат, которые пришлось проходить Иванову, были заставлены столами, и правильные группы играющих сидели за ними между четырех свеч. В первой комнате была игра, так называемая детская, по маленькой, в следующей – серьезнее; но шуму и возгласов было в обеих одинаково достаточно (М. Авдеев. Тамарин). II. Сходные были с 37-м потоки, да не сходные были сроки: теперь стандартом стал уже не патриархальный червонец, а новая сталинская четвертная. Теперь уже десятка ходила в сроках детских (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг). Знач. В обоих примерах обращается внимание на использование слова детский в значении 'демонстрирующий какое-либо свойство в слабой степени'. В словарях это значение не зафиксировано, хотя употребляется, видимо, достаточно давно (роман «Тамарин» написан в 1851 г.).
До завтрашнего утра. Покраснел его высокий, значительно увеличенный лысиною лоб, его бесконечный, «до завтрашнего утра», как говорили институтки, нос и шея, в которую с остервенением упирались тугие белые воротнички крахмальной сорочки (Л. Чарская. Княжна Джаваха). Знач. Очень длинный (здесь: о носе). Употр. В речи институток – воспитанниц учебного заведения для девушек.
► Довам, аббр. – Ну, довам, – сказал я на прощанье. / – Это как же понимать? / – Доволен вами, это вместо «спасибо». Спасибо – это ведь спаси бог и, значит, – религиозное (Н. Огнев. Дневник Кости Рябцева). Знач. Выражает благодарность, одобрение поступка, заменяет слово спасибо. Происх. От словосочетания доволен вами. Употр. Придумано пионером как более соответствующее мироощущению советского человека (вместо спасибо, имеющего «религиозное» происхождение).
Друг, сущ., м. р. I. См. также Дружба1 I. II. Непонятною силою тяготели мы друг к другу; я предчувствовал в нем брата, близкого родственника душе, – и он во мне тоже. Но мы боялись показать начинавшуюся дружбу; мы оба хотели говорить «ты» и не смели даже в записках употреблять слово «друг», придавая ему смысл обширный и святой… (А. Герцен. Записки одного молодого человека). Знач. Слово друг обладает особыми коннотациями, которые делают его высоким. Употр. Обладая высоким смыслом, это слово не должно употребляться часто и с легкостью. III. Он так торжественно дал слово работать над собой, быть другом в простом смысле слова (И. Гончаров. Обрыв). Знач. У слова друг есть два значения: «простое» и какое-то иное. IV. Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом: коварная нескромность истинного друга понятна каждому; но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге; следовательно, не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастия любимого предмета, чтоб разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений (М. Лермонтов. Герой нашего времени). Знач. Рассказчик обнаруживает индивидуальное понимание слова друг. В этом понимании: близость к другу не вызывается привязанностью или сочувствием, а прикрывает неприязнь. В этом смысле друг – потенциальный предатель, который только ждет случая, чтобы воспользоваться своей осведомленностью и ударить больнее. V. – <…> Ни на кого нельзя полагаться, кроме самого себя. Никого нельзя считать своим другом. Смотря что, впрочем, понимать под словом «друг». Если это милый человек, с которым ты не делишься секретами, не работаешь вместе и не даешь взаймы деньги – тогда он тебе друг. / – Тогда он мне – никто! / – Тоже верно, – согласился дядя. – Этот «никто» и есть твой самый лучший друг. Он-то уж тебе точно не напакостит: почвы нет, делить нечего. <…> (Т. Гармаш-Роффе. Тайна моего отражения). Знач. Говорящий предлагает понимать значение слова так: друг – это тот, кто тебе не навредит. Отсюда парадокс: друг – это тот, с кем у тебя мало общего и с кем нечего делить. Такая трактовка близка к интерпретации в тексте М. Лермонтова. VI. <…> Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе не способен: из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается <…> (М. Лермонтов. Герой нашего времени). Знач. В трактовке Печорина обнаруживается периферийный элемент значения слова друг – 'неравноправные отношения, в которых один человек подавляется другим'. VII. – Может быть, у Марфы Никитичны был друг? /– Что вы имеете в виду? / – Будь она помоложе, я бы употребил другое слово. Не друг, а… (Л. Юзефович. Дом свиданий). Знач. Возлюбленный. Употр. Слово используется как эвфемизм, поскольку говорящий считает необходимым смягчить обозначение, когда речь идет о возлюбленном немолодой женщины. VIII. Она старается, чтобы Михайлов был ее другом, и тут не нужно делать это слово чуть хуже, чем оно есть: иногда – например, в тряском автобусе, когда в тряский автобус вдруг ворвется закат, а на заднем сиденье зачуханная старушонка с кошелками и с закрытыми и почерневшими глазами предстанет в розовых лучах, как ангелок или как воплощение покойной старости, – иногда Алевтина думает, что она его любит (В. Маканин. Отдушина). Знач. В тексте актуализируется «плохое» значение слова друг — 'мужчина, с которым женщина состоит в связи, не испытывая к нему глубокой привязанности'.
Дружба1, сущ., ж. р. I. Дружба вьет гнездо не в нервах, не в крови, а в голове, в сознании. <…> о дружбе еще не решили ничего определительного и, кажется, долго не решат, так что до некоторой степени каждому позволительно составить самому себе идею и определение этого чувства. Чаще всего называют дружбу бескорыстным чувством; но настоящее понятие о ней до того затерялось в людском обществе, что такое определение сделалось общим местом, под которым собственно не знают, что надо разуметь. <… > Я только исключил бы слово «обязанности» из чувства дружбы, да и слово «дружба» – тоже. Первое звучит как-то официально, а второе пошло. Разберите на досуге, отчего смешно не в шутку назвать известные отношения мужчины к женщине любовью, а мужчины к мужчине дружбой. Порядочные люди прибегают в этих случаях к перифразам. Обветшали эти названия, скажете вы. А чувства не обветшали: отчего же обветшали слова? И что за дружба такая, что за друг? Точно чин. Плохо, когда друг проводит в путь, встретит или выручит из беды по обязанности, а не по влечению. Не лучше ли, когда порядочные люди называют друг друга просто Семеном Семеновичем или Васильем Васильевичем, не одолжив друг друга ни разу, разве ненарочно, случайно, не ожидая ничего один от другого, живут десятки лет, не неся тяжести уз, которые несет одолженный перед одолжившим, и, наслаждаясь друг другом, если можно, бессознательно, если нельзя, то как можно менее заметно, как наслаждаются прекрасным небом, чудесным климатом в такой стране, где дает это природа без всякой платы, где этого нельзя ни дать нарочно, ни отнять? (И. Гончаров. Фрегат «Паллада»). Знач. Указываются следующие признаки, определяющие содержание понятия «дружба»: а) она рождается под действием не инстинкта (в отличие от любви), а разума; б) дружба свободна от ожидания выгоды со стороны друга; в) дружба несовместима с действием «по обязанности»; г) дружба основана на взаимном удовольствии от общения. Употр. Само слово дружба порядочные люди предпочитают не употреблять, заменяя перифразами. Оц. Слово звучит пошло. II. Дружба! Сколько людей на свете произносят это слово, подразумевая под ним приятную беседу за бутылкой вина и снисхождение к слабостям друг друга. А какое это отношение имеет к дружбе? Нет, мы дрались по всякому поводу, мы совсем не щадили самолюбия друг друга, – да, если мы были не согласны, мы наносили друг другу раны! А дружба наша от этого только крепла, она мужала, она точно наливалась тяжестью металла… Я так часто бывал несправедлив к тебе, но, если я сознавал, что ошибся, я не уходил от ответа перед тобой. Правда, единственное, что я мог в таких случаях сказать, это то, что я был неправ. А ты говорил: «Не мучайся, – это бесполезно… Если ты все понял, забудь, то ли бывает, – это борьба…» (А. Фадеев. Молодая гвардия). Знач. Говорящий спорит с обыденным пониманием дружбы как приятного общения и снисхождения к слабостям друг друга, утверждая новое значение этого слова – «советское». В чём состоит понятие дружбы, явно не сформулировано, однако названы отдельные семантические признаки: а) дружащие не обязаны щадить самолюбие друг друга, если этого требует «борьба»; б) друг должен уметь признавать свои ошибки; в) друзья должны прощать ошибки (но не слабости) друг друга, если эти ошибки допущены в ходе «борьбы». Ш. Рита знала ее именно с детства, их дружба, или приятельство, трудно сказать, какое слово точнее, имела характер наследственной, перешла к ним от мам, действительно неразлучных подружек с институтских лет (Г. Маркосян-Каспер. Кариатиды). Знач. Слова дружба и приятельство – синонимы; они отличаются некими оттенками значения, поэтому в отдельных ситуациях то одно из них, то другое оказывается более точным.
Дружба2, сущ., ж. р. Спешная забота бабушки Федосьи состояла в наборе дружбы. «Дружбы» – это небольшие в четыре-шесть человек артели жнецов, берущих на себя отдельные участки жнивья. / Хорошая дружба – это ровный подбор работников, не заедающих чужую спину. <…> В дружбу бралась и молодежь на полсилы и даже на четверть силы. Иногда работник послабее брал себе такого помощника и включал его в себя, то есть они вдвоем считались одной силой (К. Петров-Водкин. Хлыновск). Знач. Артель жнецов из четырех – шести человек, обрабатывающая отдельный участок жнивья. Культ. В тексте упоминается традиция работы в артели, для которой особенно важен был правильный подбор работников.
Дря́хлый, прил. «Подруга дней моих суровых – Голубка дряхлая моя!» Дряхлая голубка – значит, очень пушистая, пышная, почти меховая голубка, почти муфта – голубка, вроде маминой котиковой муфты, которая была бы голубою, и так Пушкин называл свою няню, потому что ее любил (М. Цветаева. Мой Пушкин). Знач. В сознании ребёнка незнакомое слово дряхлый сближается с понятиями «пушистый», «пышный». Употр. Это слово употреблял Пушкин – он так называл няню, потому что любил её. Асс. Слово ассоциируется в сознании ребенка с мехом, муфтой. Форм. Основанием для возникновения образа, возможно, служит звуковой состав слова (ср. с пухлый, рыхлый и т. п.).
► Дювлам, аббр. Потом фонарь. Серый забор. На нём афиша. Огромные яркие буквы. Слово. Батюшки! Что ж за слово-то? Дювлам. Что ж значит-то? Значит-то что ж? / Двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского. /.Присел на тумбочку и как зачарованный уставился на слово. Ах, слово хорошо. А я, жалкий провинциал, хихикал в горах на завподиска! (М. Булгаков. Записки на манжетах). Знач. и Происх. Образовано сложением сокращенных основ: двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского. Оц. Слово поручает ироническую оценку – оно превосходит своими качествами (читателю предоставлено догадаться – какими) даже слово завподиск (зав. подотделом искусства), над которым рассказчик насмехался ранее.
Еньк, суффикс. I. «Денек, – думал я, – погодка, бабенка…» «Еньк, аньк…» Сколько преходящей радости в этих уменьшительных суффиксах! Потом слово подрастает до суровости, до тупого безличия, остановки понятия (А. Битов. Колесо). Знач. Суффиксы-еньк-, -аньк- (как и другие уменьшительные суффиксы) выражают радость. II. Самое противное – это уменьшительный суффикс в определении «новенький». / «Еньк» – звучит просто похабно. Попробуй повторить его раза три. Что получилось? / Применительно к вещам он ведет себя довольно прилично – чувствуется гордость владельца. Некоторый шик с элементами понятной радости. / Новенький видеомагнитофон. Новенький автомобиль. Новенький сотовый телефон. / Слышно как суффикс честно выполняет свою работу. / Но ему для этого требуется существительное. Собственно сам предмет. Тогда его еще можно вынести. / В школе совсем другая история. Слово «новенький» идет само по себе. Без существительного. Ежу понятно, что тут имеется в виду. / Никому не нужный человек, который не знает как себя вести, с кем разговаривать, куда садиться, который самому себе противен (А. Геласимов. Фокс Малдер похож на свинью). Знач. В прилагательных суффикс-еньк-выражает положительную оценку (гордность, радость), а в существительных, как можно понять из контекста, этот суффикс имеет уничижительное значение.
► Заболеть, глаг. «…Вчера был Борис Николаевич, рассказывал: Доллер заболел. Ситников тоже. Относительно Доллера еще можно было ожидать, но Ситников всех удивил. Борис Николаевич беспокоится о твоем здоровье…» <… > «Заболел»… Так давно уже называют арест… Тоже секретность! Что ж, болей не болей… (И. Грекова. На испытаниях). Знач. Подвергнуться аресту. Употр. Иносказание используется в обиходной речи для своеобразной конспирации. Судя по реакции адресата письма, слово широко известно.
Загнетка, сущ., ж. р. Проходя взад и вперед от двери к печке, я заглянул на так называемую загнетку (площадку перед устьем) (А. Фет. Федот и праздник Михаила Архангела). Знач. Площадка перед устьем печки.
Закинуть чепчик за бугор. <…> вы же помните, что началось, когда Берия взял власть и разогнал большевиков. В общем, Дэйв тогда решился и «проголосовал ногами», ну, в общем, как тогда говорили, «закинул чепчик за бугор» <… > (В. Аксёнов. Негатив положительного героя). Знач. Уехать. Синоним: проголосовать ногами. Употр. По свидетельству рассказчика, так говорили, когда Берия взял власть.
Запад, сущ., м. р., ед. ч. – Вы забыли, что продолжается конкурс. Авторы хороших материалов будут премированы. Лучший из лучших удостоится поездки на Запад, в ГДР… / – Разве ГДР – это Запад? / – А что же это, по-вашему? / – Вот Япония – это Запад! / – Что?! – испуганно вскричал Туронок. / – В идейном смысле, – добавил я (С. Довлатов. Компромисс). Знач. В тексте речь идет о двух значениях слова запад – в «географическом» понимании ('то, что находится в западной стороне') и в «идейном» ('развитые капиталистические страны' – Запад). В «географическом» смысле ГДР находится на западе, а Япония на востоке, но с точки зрения политико-экономической ГДР невозможно считать западной страной, а Японию можно. Культ. Здесь отразилось традиционное для российского менталитета отождествление Запада с высоким уровнем цивилизации, к которому в советское время примешивались «идеологические оттенки».
Зона, сущ., ж.р. – …Но заметь – здесь посвободнее, зона отдыха, так сказать <…> Слово «зона», как и «мина», является интернациональным (The zone – англ.; die zone – нем.), однако в разных странах имеет смысл несколько не совпадающий с советским, который весь сводится исключительно к тому, что СССР был «большой зоной», а все его граждане – заключенными. Если тебе гражданин говорит, что он «недавно из зоны откинулся», то всякому понятно, что он не на лодке катался в хлорированном пруду «зоны отдыха» Черемушкинского (бывш. Брежневского) района (Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов»). Знач. Отмечается многозначность слова, которое может обозначать некое место (например, зона отдыха) или места лишения свободы (недавно из зоны откинулся). Употр. Слово является интернациональным, однако второе значение характерно лишь для СССР. Культ. Второе значение трактуется как «советское», на его основе формируется специфическая для советской лингвокультуры метафора: СССР – одна большая зона.
Изюм, сущ., м. р. <…> у нас с Володей установились, бог знает как, следующие слова с соответствующими понятиями: изюм означало тщеславное желание показать, что у меня есть деньги, шишка (причем надо было соединить пальцы и сделать особенное ударение на оба ш) означало что-то свежее, здоровое, изящное, но не щегольское; существительное, употребленное во множественном числе, означало несправедливое пристрастие к этому предмету и т. д., и т. д. (Л. Толстой. Юность). Знач. Желание похвастаться наличием денег. Употр. В особом языке, которым пользовались двое друзей.
Ийо, междом. Очнувшись, я, бывало, бегу к стаду, грозно крича магическое слово, чтобы остановить потраву. / – Ийо! Ийо! – кричу я, что на козьем языке означает: прочь! (Ф. Искандер. Козы и Шекспир). Знач. Прочь. Употр. На козьем языке, то есть в речи пастухов, обращённой к козам.
Кавежединец, сущ., м.р. и Кавежединка, сущ., ж.р. I. Садятся <…> ка-вэ-жэ-динцы. (Все поголовно советские служащие КВЖД оказываются сплошь, включая жен, детей и бабушек, японскими шпионами <…>) (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг). II. – Я кавежединка. / – Кто? / Я явно не знала ни такой профессии, ни такой национальности. Пройдет еще несколько месяцев, и я столкнусь в Бутырской тюрьме с десятками людей, называющих себя этим страшным словом. Короче – это были русские люди, по большей части квалифицированные рабочие, служившие на Китайско-восточной железной дороге и приехавшие на Советскую Родину после того, как дорога была нами продана. Многие из них прожили там по многу лет и возвращались на родину с чувством глубокого волнения, любви и желания хорошо поработать. Почти все они были арестованы как шпионы, всем предъявлялись чудовищные обвинения в том, что они якобы «завербованы» японской или маньчжурской разведкой (Е. Гинзбург. Крутой маршрут). Знач. Русские, жившие в Китае и служившие на Китайско-восточной железной дороге. Происх. От аббревиатуры КВЖД – Китайско-восточная железная дорога. Употр. В период массового возвращения из Китая. Оц. Страшное слово. Культ. Слово связано с трагической страницей истории СССР – периодом массовых репрессий, когда почти все кавежединцы были арестованы как шпионы.
Казак, сущ., м. р. I. Здесь, на границах, по берегам рек Волги, Дона, Днепра, Терека обитали казаки. В тюркских языках слово это означало «вольный искатель приключений, бродяга». Казаками были обретшие свободу, бежавшие от хозяев вчерашние холопы и крестьяне, а также люди, нарушившие закон. Они добровольно несли сторожевую службу на границах Московии. Их атаманы наезжали в Москву – сообщали царям о передвижениях в степях татарских войск (Э. Радзинский. Лжедмитрий). Знач. Члены войска, добровольно несшего службу по охране российских границ. Происх. Заимствовано из тюркских языков, где обозначало бродягу. Культ. Казачье войско формировалось из беглых крепостных и скрывающихся от правосудия преступников. II. И все-таки нашлась одна партия, которая сразу же, уже одним названием своим завоевала Ленькино сердце. Эта скромная партия, шедшая в предвыборных списках под номером 19, именовалась «партией казаков». <…> Может быть, Ленька вспомнил, что отец его был хорунжим сибирского казачьего полка; может быть, сыграло тут роль очарование «казачьего сундука», может быть, самое слово «казак», знакомое по «Тарасу Бульбе», по мальчишеской игре в «казаки-разбойники», покорило и вдохновило его… (А. Пантелеев. Ленька Пантелеев). Асс и Оц. Слово казак ассоциируется у носителя русского языка с повестью Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» и с названием игры «Казаки-разбойники» и обладает положительными коннотациями.
Каймак, сущ., м. р., ед. ч. Дома варила хозяйка Проклятова по временам, когда лов разрешался, черную рыбу, а не то баранов резали, ели каймак <…> Каймак – упаренное до густоты молоко со сливками и густыми пенками (В. Даль. Уральский казак). Знач. Топлёное густое молоко со сливками и пенками. Употр. В речи уральских казаков.
Кантон, сущ., м. р. Еще в середине февраля в уезде (или в кантоне, так назывались почему-то в то время в Татарской республике уезды) вспыхнуло кулацкое восстание (А. Пантелеев. Ленька Пантелеев). Знач. Уезд. Употр. В Татарской республике в годы Гражданской войны.
Клеветать, глаг. – Клевета, сущ., ж.р., ед. ч. I. <…> в нынешнем русском языке обычные понятия приобрели прямо противоположное значение. <. > Слово «клевета» воспринимается только иронически – «Слушал вчера по «Голосу». Клевещут, что мы опять хлеб в Канаде покупаем (В. Некрасов. Маленькая печальная повесть). II. И я клевещу. Нежно и правдиво клевещу… Это еще что? А то, что любимая моя «Правда» (не могу все-таки без нее, каждый день покупаю) как-то, а точнее в номере от 13 января 1977 года, в заметке «Продажные провокаторы» обвинила чешских диссидентов в том, что они «грубо и лживо клевещут на нынешний чехословацкий режим». Лживая клевета! Какая прелесть! Значит, есть и правдивая? Грубая? Значит, есть и нежная, воркующая? Вот я со спокойным сердцем иной раз и занимаюсь этим – нежно и правдиво клевещу (В. Некрасов. Взгляд и Нечто). Знач. Клевета – ироническое обозначение сообщений зарубежных средств массовой информации. Употр. В этом значении слова клеветать и клевета использовалось в неофициальном общении. Автор обращает внимание на постоянные эпитеты лживая и грубая, с которыми слово клевета часто сочетается в официальном советском дискурсе – эти эпитеты расцениваются как избыточные.
Культ. В текстах отражено явление, характерное для языка советского периода: содержание многих слов подвергается трансформации, в основе которой лежит практика употребления этих слов для искажения действительности. Так, регулярная оценка сообщений западных СМИ как клеветы привела сначала к ироническому употреблению слов клеветать и клевета, а затем к закреплению данного значения ('правда, которую скрывает официальная власть и которую жители страны могут узнать только из зарубежных источников') в разговорной речи и даже в фольклоре. Известен, например, такой анекдот советского периода: Парторг колхоза говорит председателю: «К нам завтра иностранную делегацию привезут. Они хотят посмотреть на достижения советского сельского хозяйства. Что делать будем? Куда их вести? У нас кругом безобразие: поля сорняком заросли, на ферме пол прогнил, колхозники все пьяные! Потом про нас такое напишут!» – «А, – говорит председатель, – некогда мне, уборочная на носу. Веди в коровник – хай себе клевещут!».
Культура, сущ., ж. р. I. – Подумай. Представь себе, что ты стоишь у окна и смотришь наружу. Дома, огороды, скелеты, столбы – ну, короче, как интеллигенты говорят, культара. / – Культура, – поправил Андрей. /
– Да. А большая часть этой культары состоит из покойников вперемешку с бутылками и постельным бельем. В несколько слоев, и трава сверху. Это тоже называется «земля». То, в чем гниют кости, и мир, в котором мы, так сказать, живем, называются одним и тем же словом. Мы все жители Земли. Существа из загробного мира, понимаешь? (В. Пелевин. Желтая стрела). Знач. Цивилизация. Употр. Слово используют интеллигенты. Форм. Просторечное искажение слова – культара. II. Можно пользоваться словами: культура, эпохи. Но их понимают так по-разному. Ввиду сбивчивости их смысла не будем прибегать к ним (Б. Пастернак. Доктор Живаго). Знач. В одном из значений синонимично слову эпоха. Отмечается многозначность обоих слов. III. Она вздохнула и вспомнила об Анатоле Франсе. Вот где культура, порядок, уравновешенность! Тут ей представилось, что трудное слово культура можно по-новому определить. Старческой рукой зажгла она вновь свечку и, надев очки, записала в книжечку афоризмов и наблюдений: «Культура есть стремление к гармонии. Культура – это порядок» (Б. Зайцев. Голубая звезда). Знач. Слово, допускающее различные толкования. Одна из возможных дефиниций: это порядок, стремление к гармонии. Оц. Трудное слово. IV. – Господа купечество! – заговорил Маякин, усмехаясь. – Есть в речах образованных и учёных людей одно иностранное слово, «культура» называемое. Так вот насчет этого слова я и побеседую по простоте души… <… > В газетах про нас, купечество, то и дело пишут, что мы-де с этой культурой не знакомы, мы-де ее не желаем и не понимаем. И называют нас дикими людьми… Что же это такое – культура? Обидно мне, старику, слушать этакие речи, и занялся я однажды рассмотрением слова – что оно в себе заключает? <…> Оказалось, по розыску моему, что слово это значит обожание, любовь, высокую любовь к делу и порядку жизни. «Так! – подумал я, – так! Значит – культурный человек тот будет, который любит дело и порядок… который вообще – жизнь любит устраивать, жить любит, цену себе и жизни знает… Хорошо!» <… > Но коли так, – а именно так надо толковать это слово, – коли так, то люди, называющие нас некультурными и дикими, изрыгают на нас хулу! Ибо они только слово это любят, но не смысл его, а мы любим самый корень слова, любим сущую его начинку, мы – дело любим! Мы-то и имеем в себе настоящий культ к жизни, то есть обожание жизни, а не они! Они суждение возлюбили, – мы же действие… (М. Горький. Фома Гордеев). Знач. Комментатор понимает культуру как любовь к делу и к порядку. Очевидно, что его воображаемые оппоненты имеют в виду другое значение данного слова. Употр. В речи людей образованных. Происх. Иностранное слово. V. Если бы мне дали задачу определить в двух словах, что такое культура, не та культура, которая высшее образование и аспирантура, ибо и образованный человек может оказаться хамом, а та культура, которой бывает наделен и неграмотный человек, я бы определил ее как способность к уважению. Способность уважения к другому, способность уважения к тому, чего не знаешь, способность уважения к хлебу, земле, природе, истории и культуре – следовательно, способность к самоуважению, к достоинству. И поскольку я не был бы удовлетворен этой формулировкой, мне бы показалось, что она неполна, я бы еще добавил: способность не нажираться. Обжирается и пресыщается всегда нищий, всегда раб, независимо от внешнего своего достояния. Обжирается пируя, обжирается любя, обжирается дружа… Выбрасывает хлеб, прогоняет женщину, отталкивает друга… Грязь. Пачкотня. Короткое дыхание, одышка… Такому положено ничего не иметь – голодать, только голодный он еще сохраняет человеческий облик и способен к сочувствию и пониманию. Он раб. Сытый, он рыгает и презирает все то, чем обожрался, и мстит тому, чего жаждал, алкал. Алкал и налакался. Такая мнимая свобода от мирского, когда уже сыт, такая якобы духовность… Поводит мутным взором, что бы еще оттолкнуть, испачкать и сломать. Он исчерпал свое голодное стремление к свободе, нажравшись. И теперь его свобода – следующая ступень за сытостью – хамство. Потому что опять он не имел, не владел, дорвавшись, и теперь, чтобы убедить себя в своей свободе, он должен плевать на все то, к чему так позорно оказался не готов, – к обладанию. / С изобилием справляется только культура. Некультурный человек не может быть богатым. Богатство требует культуры. Некультурный всегда разорится, а потом будет разорять (А. Битов. Уроки Армении). Знач. Автор указывает на то, что под культурой можно понимать различные вещи: во-первых, образованность, а во-вторых, способность к уважению и самоуважению, чувство собственного достоинства и чувство меры в удовольствиях. VI. – Да, Петя, культура великое слово. За него, мне Иван Трофимович говорил, люди на костер шли (К. Вагинов. Труды и дни Свистонова). Оц. Великое слово.
Легенда, сущ., ж.р. <…> дотянувшись концом костыля до слова «легенда» и тыча в каждую букву концом указки, Бутаков прочел: – «Легенда». Нуте-с! Здесь это слово означает не то, что ты подумал. В мире во много раз больше вещей, чем во всех языках слов. «Легенда» на плане говорит: «если ты увидишь на плане непонятный знак, обратись ко мне, прочти легенду»… (С. Григорьев. Легенда). Знач. Пояснения к условным обозначениям на плане или карте. Употр. Термин.
Лимон, сущ., м.р. <…> цены в Москве давно уже никого не пугают, и сказочные, астрономические цифры миллионов (этого слова уже давно нет в Москве, оно окончательно вытеснено словом «лимон») пропускают за день блестящие, неустанно щелкающие кассы (М. Булгаков. Торговый ренессанс). Знач. Миллион. Употр. В Москве в 1922 г.
Лодырь, сущ., м. р. [Сапёры] ставят мины и руководят вторыми рубежами. Работают на них так называемые «лодыри» – портные, парикмахеры, трофейщики и не получившие еще своего вооружения огнемётчики (В. Некрасов. В окопах Сталинграда). Знач. Военнослужащие, не участвующие непосредственно в боевых действиях. Употр. В военном жаргоне периода Великой Отечественной войны.
Любовь, сущ., ж. р. I. – А ты, Иванушка? Есть у тебя Марья Моревна? / Глупый царевич не понимает. / – Ну, любовь. Любишь ты? / Все не понимает. Я вспоминаю, что на языке простого народа любовь – нехорошее слово: оно выражает грубо-чувственную сторону, а самая тайна остается тайной без слов. От этой тайны пылают щеки деревенской красавицы, такими тихими и интимными становятся грубые, неуклюжие парни. Но словом не выражается. Где-нибудь в песне еще прозвучит, но так, в обычной жизни слово «любовь» нехорошо и обидно (М. Пришвин. Колобок). Знач. У простого народа это слово означает не собственно чувство любви, а грубую, физическую сторону любовных отношений. Употр. Жители села избегают этого слова в повседневной речи, хотя оно и встречается в песнях. Оц. Нехорошее, обидное слово. II. То, что называли любовью, Володечка, то есть комплекс притягательных чувств и ощущений, возникающих у одного человека по отношению к другому, часто проявлялось в болезненной форме (А. Слаповский. Победительница). Знач. Комплекс чувств и ощущений, составляющих влечение одного человека к другому. III. Любовь осуществляется на клеточном уровне – вот суть моего открытия. В ней все законы сосредоточены – и закон сохранения энергии, и закон сохранения материи. И химия, и физика, и математика. Молекулы тяготеют друг друга в силу химического сродства, которое определяется любовью. Даже страстью, если хотите. Металл в присутствии кислорода страстно желает быть окисленным. И заметьте главное, эта химическая любовь доходит до самоотречения! Отдаваясь друг другу, каждый перестает быть самим собой, металл делается окислом, а кислород и вовсе перестает быть газом. То есть самую свою природную сущность отдает из любви. А стихии? Как стремится вода к земле, заполняя каждую луночку, растворяясь в каждой земной трещинке, как облизывает берег морской волна! Любовь, в своем совершенном действии, и обозначает отказ от себя самого, от своей самости, во имя того, что есть предмет любви. (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого). Знач. Сильное влечение, вплоть до самоотречения. IV. Фаол продолжал: «Вот я говорил о любви, я говорил о тех состояниях наших, которые называются одним словом «любовь». Ошибка ли это языка, или все эти состояния едины? Любовь матери к ребенку, любовь сына к матери и любовь мужчины к женщине – быть может, все это одна любовь?» (Д. Хармс. Власть). V. – Наверное, нету слова на человеческом языке, которое значило бы столь совершенно разное и даже непохожее, как эта «любовь», – говорила я (Ф. Кнорре. Каменный венок). Знач. В текстах отмечается, что любовью называют весьма различные состояния.
Майдан1, сущ., м. р. На Майдане было довольно пусто; кучки азиатов сидели на бурках, в тени домов, или стояли на тротуарах, под холстинными навесами <…> Майдан – татарская базарная площадь (Я. Полонский. Квартира в татарском квартале). Знач. Базарная площадь. Употр. У «татар», как называл Я. Полонский тюркоязычных жителей Тифлиса (преимущественно азербайджанцев).
Майдан2, сущ., м.р. <…> вода пенилась и журчала под носом барки и била в берег пенившейся волной… Чусовая была неузнаваема… <…> широким током катилась могучая волна, которая на крутых поворотах превращалась в бешеного зверя. Около вогнутой части берега образовались майданы, то есть ряды сильных волн, которые с шумом разбивались около бортов барки и с диким ревом лезли на берег, жадно обсасывая береговые камни (Д. Мамин-Сибиряк. На реке Чусовой). Знач. Ряды сильных волн. Употр. В тексте отмечено использование слова в связи с деятельностью сплавщиков на реке Чусовой.
► Мангалка, сущ., ж.р. <…> А стряпали во время войны на чем? На мангалке! Я, знаете, за свою жизнь бывал во многих местах, поездил по командировкам, но нигде больше такой народный агрегат не встречал. Сейчас опишу. Берется старое ведро и из него делается печка. Дырявятся по бокам два отверстия – одно для дров, другое – золу выгребать. Поверху – решетка из толстой проволоки. Чтоб железо не прогорело, изнутри ведро выложено обломками кирпича и обмазано глиной. На мангалках половина Ташкента всю войну варила и кипятила (Д. Рубина. На солнечной стороне улицы). Знач. Самодельная печка, изготовленная из старого ведра. Употр. В Ташкенте в период Великой Отечественной войны.
Местопребывание, сущ., с. р. Место, где вещь – всегда, и есть местопребывание – какое чудесное, кстати, слово, сразу дающее и бытность и длительность, положение в пространстве и протяжение во времени, какое пространное, какое протяжное слово. Так Россия, например, местопребывание тоски <…> (М. Цветаева. Наталья Гончарова). Знач. Место, где вещь находится постоянно. Отмечается семантическая сложность слова, совмещение в значении компонентов 'бытность' и 'длительность', 'пространственное положение' и 'длительность во времени'. Оц. Пространное, протяжное слово.
Морально-политический, прил. То знатные иностранцы, то слишком известные лица и тайные узники, то свои разжалованные гебисты – никак не могли быть открыто показываемы в лагерях: их перекатка тачки не оправдывала бы разглашения и морально-политического ущерба. <…> Есть такое словечко!.. Небесно-болотный цвет (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг). Знач. Сравнивая выражения морально-политический и небесно-голубой, автор обращает внимание на несовместимость значений прилагательных моральный и политический (подобно тому как несовместимы цвета небесный и болотный).
Мудрость, сущ., ж.р. I. – Мудрость <…> это совокупность истин, добытых умом, наблюдением и опытом и приложенных к жизни. – определил
Райский, – это гармония идей с жизнью! (И. Гончаров. Обрыв). II. Ваша задача – иметь раскаленный мозг, вырабатывать идеи и тут же согласовывать их с принудительной силой реальности. В просторечии это называется мудростью (О. Куваев. Территория). Знач. Оба толкователя сходятся в том, что мудрость – это сочетание двух качеств: ума и понимания реальной жизни.
Мышиный жеребчик. Он непринужденно и ловко разменялся с некоторыми из дам приятными словами, подходил к той и другой дробным мелким шагом, или, как говорят, семенил ножками, как обыкновенно делают маленькие старички щеголи на высоких каблуках, называемые мышиными жеребчиками, забегающие весьма проворно около дам (Н. Гоголь. Мёртвые души). Знач. Старичок-щёголь. Культ. Данная категория мужчин – обычная черта светской жизни. Такие старички, проявляют, несмотря на возраст, активный интерес к дамам. Подмечено, что они обычно отличаются невысоким ростом и сухощавым сложением.
Начальник, сущ., м. р. «Начальник», по-моему, вообще-то слово доброе, означающее человека, который стоит в начале всякого хорошего дела (В. Чивилихин. Про Клаву Иванову). Знач. Человек, который стоит «в начале» дела. Происх. От слова начало. Оц. Доброе слово.
Нувориш, сущ., м. р. <…> недавно один сказочно богатый нувориш (оказывается, это слово происходит от новоруса: нувориш – новорус – совсем рядом, а мы и не подозревали) с небывалым размахом громыхнул свадьбу своей дочери в рабочей столовой <…> (В. Распутин. Новая профессия). Происх. По мнению автора, слово происходит от новорус (т. е. новый русский).
Однако, союз и частица. – А чо, парень, однако жениться тебе пора, – наклонился к Ивану Иванычу Матвеев. <…> К использованию «чо» в художественной прозе и жизни мне надоело придираться, поэтому возьмусь теперь за «однако», тоже являющееся составной частью «сибирского колорита». / …Однако, как честный человек тут же должен признать, слово это многоемкое и вполне имеет право на существование, поскольку не несет в себе агрессии, а скорее является буфером между цивилизацией и суровой окружающей реальностью (Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов»). Знач. Слово обладает емким значением, выражает не агрессию, а некое примирение между разными аспектами жизни. Употр. В речи сибиряков. Хотя слово диалектное (как и чо), автор признает его право на существование.
► Око'пы, сущ., мн. ч. <…> началась подлинная война, его мобилизовали на строительство оборонительных сооружений – на окопы, как говорили тогда, и он исчез (А. Кузнецов. Бабий яр). Знач. Общественные работы по строительству оборонительных сооружений. Употр. В период Великой Отечественной войны.
Оратор, сущ., ж.р. <…> у ворон был перманентный митинг. Орали, ораторы. Был убеждён, что «оратор» – от слова «орать»… (И. Грекова. Фазан). Знач. и Происх. Происходит, по мнению персонажа, от слова орать и имеет значение 'тот, кто орёт'.
Оратория, сущ., ж. р. «Ну, развели опять ораторию», – добродушно ворчала заведующая, рыхлая и томная бурятка с печальными глазами и больными ногами, по имени Олимпиада Иннокентьевна, всегда, зимой и летом, кутавшаяся в пуховую серую шаль. Тамара Ивановна, толком не зная, что такое оратория, воображая только, что это должно быть что-то громкое и напыщенное, что поется в театре, полюбила это слово; пройдет три года, она сама поднимется до заведующей и, точно так же входя в ползунковую группу, с которой начинала и в которой никогда не стихал надсадный ор, будет с удовольствием повторять: «Развели опять свою ораторию» (В. Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана). Знач. В представлении героини, что-то громкое и напыщенное для пения в театре. Происх. Персонаж связывает слово оратория со словами ор, орать.
Порхать, глаг., несов. – Порхлица, сущ., ж. р. Потом пошли осматривать водяную мельницу, где недоставало порхлицы, в которую утверждается верхний камень, быстро вращающийся на веретене, – «порхающий», по чудному выражению русского мужика (Н. Гоголь. Мёртвые души). Знач. Порхать – здесь: быстро вращаться. Порхлица – упор, подставка для «порхающего» камня. Употр. «Мужицкое» выражение.
Преступление, сущ., с. р. I. У слова «подвиг» есть слово-антипод. Это слово – «преступление». Совершить преступление – это значит сделать нечто совершенно обратное подвигу – пренебречь в личных интересах интересами других людей, интересами родины, общества, человечества
(А. Крон. Капитан дальнего плавания). Знач. Поступок, противоречащий интересам других людей, общества, родины, человечества. Антонимы: преступление – подвиг. II. Это оказалось почти невыносимо – стрелять в живого человека, хоть и во врага. Недаром слово «преступление» – от «преступить». Надо преступить в себе что-то такое, что отделяет человека от нечеловека (В. Токарева. Один из нас). Знач. и Происх. Слово образовано от переступить и означает 'переступить через человеческое в себе'.
Профессор, сущ., м. р. Через двадцать минут он возобновил свои объяснения, а не старая еще женщина с измученным лицом слушала его, как если бы некий пророк передавал ей откровение свыше. Объясняя, Гирин думал о том, как необходимо и благотворно непрестанное разъяснение гигантских достижений современной науки. Без насмешки над собой он понял, что превращается в проповедника, занимающегося передачей научных знаний самым различным, нередко первым встречным, людям и что, собственно, первые ученые и были именно такими проповедниками. Самое слово «профессор» означает по-латыни «проповедник», или «провозвестник», подчеркивая важнейшую роль популяризации в деятельности людей науки (И. Ефремов. Лезвие бритвы). Происх. Герой размышляет о первоначальном значении слова профессор в латинском языке ('проповедник') и видит в этом глубокий смысл, так как считает, что ученый должен пропагандировать достижения науки.
Реквизит, сущ., м. р. <…> мы всегда доставали хорошие костюмы для какой угодно пьесы, но если и не доставали, то шестые «О» сводные умели их делать для любой эпохи и в любом количестве из разных материалов и вещей, находящихся в колонии. При этом считалось, что не только вещи колонии, но и вещи сотрудников находятся в полном распоряжении наших театральных сводных. Например, шестой «Р» сводный всегда был убежден, что реквизит потому так и называется, что он реквизируется из квартир сотрудников (А. Макаренко. Педагогическая поэма). Знач. и Происх. По
мнению колонистов, слово реквизит образовано от слова реквизировать и обозначает 'то, что реквизировано'.
Саки, япон. К концу обеда слуги явились с дымившимися чайниками. Мы с любопытством смотрели, что там такое. «Теперь надо выпить саки», – сказал старик, и слуги стали наливать в красные, почти плоские лакированные чашки разогретый напиток. Мы выпили по чашечке. Нам еще прежде, между прочей провизией, доставлено было несколько кувшинов этого саки, и тогда оно нам не понравилось. Теплый он лучше: похоже вкусом на слабый, выдохшийся ром. Саки – перегнанное вино из риса. Потом налили опять. Мы стали было отговариваться, но старик объявил, что надо выпить до трех раз. Мы выпили и в третий раз, и наши хозяева тоже (И. Гончаров. Фрегат «Паллада»). Знач. Спиртной напиток из риса. Употр. Японское слово, с которым автор знакомится, как и с самим напитком, в гостях у японцев. Культ. В тексте описывается сам напиток и традиции, связанные с его употреблением.
си́нчик, сущ., м. р. Они ходят гулять и веселиться на синцик в сёльковой субёнке, а синчик называется у них первоосенний лед, до пороши, по которому можно скользить в нарядных башмачках и выставлять вперед ножку, кричать, шуметь и хохотать (В. Даль. Уральский казак). Знач. Первый осенний ледок. Употр. В говоре уральских казаков. Форм. В тексте отражены особенности диалектного произношения (замена звуков [ч] и [ш] соответственно на [ц] и [с]).
Синю́ха, сущ., ж. р. Начальница – высокая кавалерственная дама в небесно-голубом форменном платье – в окружении целого штата таких же ярких классных дам, в просторечии «синюх», важным кивком отвечала на почтительность наших поклонов (О. Форш. Одеты камнем). Знач. Классная дама в Смольном институте. Происх. От слова синий, т. к. форменные платья дам, служащих в Смольном институте, были голубого цвета.
Собачник, сущ., м. р., неодуш. I. Большое, гулкое, довольно чистое помещение со снующими взад и вперед людьми обоего пола в форме <… > Очень много дверей. Какие-то кабины, похожие на телефонные будки. Потом я узнала, что это так называемые «собачники» – закутки без окон, куда заводят заключенного, когда он должен ждать чего-нибудь. Основной закон тюрьмы – строгая изоляция. <…> К нам подходит надзирательница и тихо говорит мне: / – Следуйте за мной. / Еще минута – и я в «собачнике». Заперта снаружи. Одна. Нас снова разлучили. Я едва успеваю оглядеться. Кабина, чуть пошире телефонной будки, выложенная изразцовыми плитками. Вверху лампочка. Табуретка (Е. Гинзбург. Крутой маршрут). II. [Иванов-Разумник] в Лубянском приемном «собачнике» подсчитал, что целыми неделями их приходилось на 1 квадратный метр пола по ТРИ человека (прикиньте, разместитесь!), в собачнике не было окна или вентиляции, от тел и дыхания температура была 40–50 градусов (!), все сидели в одних кальсонах (зимние вещи подложив под себя), голые тела их были спрессованы, и от чужого пота кожа заболевала экземой. Так сидели они НЕДЕЛЯМИ, им не давали ни воздуха, ни воды (кроме баланды и чая утром) (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг). Знач. Маленькое помещение (кабина) без окон, используемое в тюрьме для кратковременной изоляции одного или нескольких заключённых. Употр. В тюрьмах в период массовых репрессий. Культ. Авторы описывают одну из составляющих тюремного режима. В отличие от карцера, служит не для наказания, а лишь для кратковременного содержания заключенного, однако, как и другие элементы режима, является средством подавления воли человека, оказавшегося в унизительных и стесненных условиях. Ср. также Бокс.
Старичок, сущ., м.р. Выражение «Старичку такому-то…», то есть такому-то мое почтение, употребляется в простонародье по всей Сибири, хотя бы относилось к человеку двадцати лет. Слово «старичок» означает что-то почетное, почтительное, даже льстивое (Ф. Достоевский. Записки из мертвого дома). Знач. и Употр. Используется в Сибири как почтительное и даже льстивое обращение к мужчине любого возраста.
Существительное, сущ., с. р. Субстанция (substance) – слово от слова по-русски сущность. Даже в обеих грамматиках, русской и французской, часть речи, называемая по-русски имя существительное, а по-французски le nom substantif, происходит от одного и того же корня (М. Загоскин. Москва и москвичи). Происх. Так же, как французский эквивалент le nom substantif, образуется от корня, обозначающего сущность, субстанцию.
Терраса, сущ., ж. р. Я уже почти забыла о его существовании. Доминик остался в прошлой жизни. Там, где по вечерам читают газету «Фигаро» на открытой террасе и (между переменами блюд) сожалеют о невинных жертвах очередного террористического акта. Террор, терраса – слова, которые начинаются одинаково, начинаются за здравие, а кончаются за упокой, я стала большим специалистом по словам (В. Платова. После любви). Форм. и Знач. В тексте обращается внимание на одинаковое начало у слов терраса и террор и проводится между ними семантическая параллель.
Товарищ, сущ., м. р. I. На другой день после посещения Масленникова Нехлюдов получил от него <…> письмо <…> Было подписано: «Любящий тебя старый товарищ» <…> / – Дурак! – не мог удержаться не сказать Нехлюдов, особенно за то, что в этом слове «товарищ» он чувствовал, что Масленников снисходил до него, то есть, несмотря на то, что исполнял самую нравственно грязную и постыдную должность, считал себя очень важным человеком и думал, если не польстить, то показать, что он всё-таки не слишком гордится своим величием, называя себя его товарищем (Л. Толстой. Воскресение). Знач. и Употр. Слово имеет компонент значения 'отсутствие социальной дистанции'. Нехлюдов чувствует, что слово товарищ в письме его корреспондента служит знаком снисходительного отношения. II. <… > в бою, заметив опасность, подстерегающую товарища (слово товарищ означало для него человека из его эскадрона, не более), не колебался помочь, хотя бы и с риском для собственной жизни: не потому, что ему было жаль этого человека, – просто бой был его работой, делом, успех которого, по объективным законам его профессии, зависел от взаимопомощи… (С. Бабаян. Ротмистр Неженцев). III. Стараемся, как можем, товарищи!.. <… > Лично мне это слово нравится в изначальном его контексте, начисто извращенном коммунистами. Хотя здесь оно, конечно же, использовано для того, чтобы слегка и без тяжких последствий пнуть правящий тогда режим (Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов»). Знач. В текстах отмечается наличие у слова товарищ двух значений: одно «обычное» ('человек, связанный с другим общей деятельностью'), другое – «извращенное коммунистами». Употр. Обращение товарищи является характерным признаком «правящего тогда режима». IV. Там, с ногами на ободранном диване, лежал щегольски одетый военный, рассматривая ногти. С крайней вежливостью и вдумчиво-пролетарским обхождением, через каждое слово поминая «товарищ» (причем «товарищ» звучало у него совсем как «граф Соколовский», «князь Телегин»), он расспросил о сути дела, извинился и вышел, поскрипывая желтыми, до колена шнурованными башмаками (А. Н. Толстой. Хождение по мукам). V. В усадьбе Лещинского появились новые люди. Слово «товарищ», за которое еще вчера платились жизнью, звучало сейчас на каждом шагу. Непередаваемо волнующее слово «товарищ!» (Н. Островский. Как закалялась сталь). VI. – До свиданья, товарищ дорогой, – проговорил старик опять с внезапной ласковой усмешкой. / – До свиданья, товарищ, – буркнул Кирилл, чувствуя, как жар поднялся из груди, мгновенно захватывая и поджигая щеки, виски, уши, всю голову. Он бросился в чащу широким шагом, распахивая перед собою спутанную, цепкую поросль, точно плывя по зеленому гомонящему морю и слыша в буйствующих переливах повторяющееся шумящее слово: товарищ, товарищ! Это его, Кирилла Извекова, впервые назвали таким словом – товарищ, и он сам впервые назвал таким словом – товарищ – старика, из тех людей, с какими ему предстояло жить в будущем (К. Федин. Первые радости). Знач. В текстах отмечается наличие особых положительных коннотаций у слова товарищ в речи революционеров. VII. – Да что вы все попрекаете – помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножом? Вы что на это выразите, товарищ? / – Филипп Филиппович! – раздраженно воскликнул Филипп Филиппович. – Я вам не товарищ! Это чудовищно! <…> / – Уж, конечно, как же… – иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу, – мы понимаем-с. Какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ванными не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право… (М. Булгаков. Собачье сердце). VIII. Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже – вернее всего – господин. Ближе – яснее – господин (М. Булгаков. Собачье сердце). Употр. Обращение товарищ (и в этом согласны между собой профессор Преображенский и Шариков) не может употребляться по отношению к социально чуждым пролетариату элементам. Это слово не подходит для тех, кто учился в университете и жил в просторной комфортабельной квартире (Для таких людей больше подходит обозначение гражданин или даже господин). IX. – Что вы, товари… – прошептал ополоумевший администратор, сообразил тут же, что слово «товарищи» никак не подходит к бандитам, напавшим на человека в общественной уборной, прохрипел: – гражда. – смекнул, что и это название они не заслуживают, и получил третий страшный удар неизвестно от кого из двух, так что кровь из носу хлынула на толстовку (М. Булгаков. Мастер и Маргарита). Знач. и Употр. Слово товарищ (как и гражданин) используется как обращение, но сохраняет связь с первоначальным значением, поэтому обращения товарищ и гражданин по отношению к нападающим на тебя хулиганам неуместно. X. – Олька, Олька, у тебя тут крысы бегают. У, пошла, поганая! Ай-ай-ай, понимает, сволочь! Обозлилась. Аяяй, по ящику ползет! Как бы под юбку не залезла. Ой боюсь, ой боюсь! Отвернитесь, господа мужчины. Виновата, я забыла, что теперь не мужчины, а товарищи граждане (Б. Пастернак. Доктор Живаго). XI. <…> Гогоченко в упор спросил: / – А вы кто такой, товарищ, будете? / Попко <…> робко ответил: / – Кажется, командировочный Попко. / Гогоченко <…> грозно рявкнул: / – А ты, собственно говоря, товарищ или баба? / – Может, и баба, – вздохнул печально Попко. – Манечка меня часто зовет «бабой» (И. Эренбург. Тринадцать трубок). Употр. и Знач. В первые послереволюционные годы не все носители языка использовали слово товарищ по отношению к женщине – товарищ используется в текстах как синоним слова мужчина. XII. Были образованы в станицах и хуторах советы, и как ни странно, осталось в обиходе даже, некогда ругательное, слово «товарищ». Был кинут и демагогический лозунг: «За Советскую власть, но против коммуны, расстрелов и грабежей» (М. Шолохов. Тихий Дон). Знач. и Употр. В тексте отмечается утрата словом товарищ негативных коннотаций по мере упрочения советской власти. XIII. Оранжевые сапоги вынырнули в Москве, в конце 1922 года. <…> в Москве в ту пору уже бегали новые моторы с хрустальными фонарями, двигались по улицам скоробогачи в котиковых ермолочках и в шубках, подбитых узорным мехом «лира». В моду входили остроносые готические штиблеты и портфели с чемоданными ремнями и ручками. Слово «гражданин» начинало теснить привычное слово «товарищ», и какие-то молодые люди, быстро сообразившие, в чем именно заключается радость жизни, уже танцевали в ресторанах уанстеп «Дикси» и даже фокстрот «Цветок солнца» (И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок). Употр. и Культ. В тексте прослеживается связь употребительности обращения товарищ и степени экономической свободы: во времена нэпа слово товарищ вытеснялось наименованием гражданин.
→ Тт, аббр. В Москве разоблачена антипартийная фракция, в которую вошли не кто – нибудь, а члены Президиума ЦК КПСС тт. Маленков, Молотов, Каганович. И, согласно формулировке официального сообщения, примкнувший к ним Шепилов. По партийно-бюрократической грамматике того времени аббревиатура «тт.» означала товарищи, но не простые товарищи, а плохие товарищи. Если надо было сказать, что выступили хорошие товарищи, например, товарищи Хрущев, Микоян или кто там еще, то писалось полное слово: «товарищи», а если плохие товарищи, то не «товарищи», а «тт.» (данное утверждение к пистолету «ТТ» отношения не имело, но в подсознании с ним как-то ассоциировалось) (В. Войнович. Монументальная пропаганда). Знач. и Культ. То же, что товарищи, но с негативными коннотациями. Асс. Аббревиатура ассоциируется с маркой пистолета «ТТ» – и из-за сходства плана выражения, и потому, что судьба «плохих» товарищей, обозначенных аббревиатурой «тт.» могла быть самой трагической.
Тьфу, междом. Рассмеявшись – что мне оставалось другого? – рассмеявшись, я вслух произносил «тьфу» (единственное, кстати, слово, заимствованное русским языком из лексикона чертей; смотри также немецкое «Teufel») (В. Набоков. Памяти Л. И. Шигаева). Происх. В тексте утверждается, что слово заимствовано из лексикона чертей, поскольку Tuefel – по-немецки значит 'чёрт'.
Уследить, глаг., сов. – Это сегодня, – мрачно сказал Егоров, – а что будет завтра? / – Вы не волнуйтесь, – ответил Ленчик. – Уследим. / Видимо, Егорову понравилось само слово. Оно заключало приятный для него смысл: не все, мол, будет в порядке, это ясно, и беспорядок, конечно же, будет, но за ним «уследят» (Г. Щербакова. Ах, Маня…). Знач. В значении слова уследить есть такие слагаемые 'должно происходить нечто, что нарушает нормальный ход вещей' и 'некто контролирует ситуацию и не допустит нежелательных последствий'.
Халат, сущ., м. р. I. Там [в Туркестане] есть такой закон, что, ежели гость похвалит, скажем, шубу хозяйскую, – халат по-ихнему, – пондравится ему, то хозяин должен отдать ее (П. Романов. Гостеприимный народ). Знач. В понимании персонажа, халат – это шуба. Употр. Слово «ихнее», т о есть используется в Туркестане. II. ХАЛАТ – недисциплинированный (Н. Богословский. Заметки на полях шляпы).
Шелка, сущ., мн. ч. – «Девичий стан, шелками схваченный»! – чуть не визжал от восторга Бражников. – Шелка – члены так называемой Школьной Единой Литературно-Критической Ассоциации, страшные бандиты из совета учащихся, нападающие на женщин по ночам. Женщины, схваченные шелками, никогда не возвращались… (Д. Быков. Орфография). Знач. и Происх. Сокращение от Школьная Единая Литературно-Критическая Ассоциация.
Шпаргалка, сущ., ж. р. В случае чего мой сосед А. готовит так называемую шпаргалку, т. е. бумажку, на которой написана диктовка, а мое дело лишь незаметно списать с нее фразы (что нам продиктуют, бывает заранее известно, и мы имеем право учить хоть наизусть эту диктовку) (С. Надсон. Дневники). Знач. Листок бумаги с заранее написанным текстом (здесь: текст диктанта) задания, усвоение которого будет проверяться педагогом. Употр. В школьном дискурсе.
Broom, англ. – Broomtree По местам посажено было чрезвычайно красивое… дерево, называемое по-английски broomtree. Broom значит метла; дерево названо так потому, что у него нет листьев, а есть только тонкие и чрезвычайно длинные зеленые прутья, которые висят, как кудри, почти до земли (И. Гончаров. Фрегат «Паллада»). Знач. Broom – метла. Broomtree – буквально: дерево-метла. Дерево без листьев, с тонкими ветками в виде длинных, низко висящих прутьев Употр. В английском языке.
Cherry brandy, англ. Чиновник выпил чашку чаю, две рюмки cherry brandy (вишневой наливки) и уехал (И. Гончаров. Фрегат «Паллада»). Знач. Вишневая наливка. Употр. Английское выражение.
Sparrow, англ. Воробьи по-английски sparrow. Они так называются, оттого что часто спариваются. Поэтому их много (Б. Левин. Блуждающие огни). Знач. Воробей. Употр. Английское слово. Происх. От русского слова спариваться.
Примечания
1
URL: /. Примеры из корпуса помечены аббревиатурой НКРЯ в скобках после названия произведения.
(обратно)2
Ср. с обстоятельствами возникновения интереса к «народной лингвистике» (folk linguistics) в западном языкознании – при изучении бесписьменных языков [Albert 1964; Bauman 1975; см. также сборник: Explorations 1974].
(обратно)3
О другом значении термина «метатекст» см. подробнее на с. 35–37.
(обратно)4
Обозначение «наивная» сегодня приобрело целый ряд синонимов: «естественная», «обыденная», «бытовая», «народная», «стихийная», «профанная», «обывательская».
(обратно)5
В настоящее время в печати находится III часть монографии.
(обратно)6
Репертуар значений, в которых употребляется термин «металингвистика» в науке, необычайно широк. Очевидным образом расходится понимание металингвистики в концепции М. М. Бахтина [см. анализ: Бочаров 1999] и в работах по философии и психологии (где под металингвистикой часто подразумевают проблематику, которую Ф. де Соссюр относил к «внешней лингвистике» [Соссюр 1977], а современное языкознание относит к социолингвистике, психолингвистике, риторике, лингвокультурологии). Ср. также данный термин в условном, неузуальном употреблении (например, для характеристики стилистической системы как системы второго порядка [Бартминьский 2005]) и т. п. Термин, кроме того, популярен у представителей так называемой «любительской лингвистики» и используется для обозначения «совершенно новой структуры, материя которой простирается за грань чувственного опыта» [Голубев 2010]. В то же время в современной лингвистической литературе термин «металингвистика» устойчиво соотносится с проблематикой, связанной с формированием, употреблением и исследованием языковедческой терминологии [см., напр.: Чернейко 2001; Куликова, Салмина 2002 и др.]. Логично рассматривать как аспект металингвистики, например, историю языкознания как историю развития метаязыковой деятельности [см., напр.: Донских 1987; Мечковская, Супрун 1991; Мечковская 1984; 2009], а также теорию и историю лексикографии, которые осмысливают практику составления словарей.
(обратно)7
Утверждения об отсутствии метаязыковой рефлексии в советской литературе не соответствуют фактическому положению дел: металексические комментарии в текстах советской литературы отнюдь не редки, в том числе и в произведениях 40—50-х годов прошлого века, и в «лагерной» прозе, и в романе «Белые одежды» В. Дудинцева.
(обратно)8
Возможно, нуждается в уточнении и тезис о том, что метаязыковая рефлексия в СМИ стала более активной. Большее количество метаязыковых контекстов в СМИ не означает возрастание их частотности. В период, который охватывается вниманием исследователей, возросло количество самих массовых изданий, появился Интернет, то есть увеличился объем речевой продукции. Безусловно, зависимость между либерализацией общественной жизни и ростом метаязыковой активности субъектов речи в СМИ существует, однако она, как представляется, должна быть опосредованной и более тонкой, чем принято считать.
(обратно)9
Другое дело, что критические комментарии к выражениям, которые В. Хлебда называет «опорными знаками» советского мифа (лампочка Ильича, письма трудящихся, Все лучшее – детям!; первый в мире и т. п.), действительно, появились в печати только на исходе прошлого века.
(обратно)10
Например, у Николая Антоновича Татаринова склонность к морализаторству проявлялась в виде рассуждений о значении слова: – Как ты сказал – «спасибо»? – Он услышал, как я за что-то сказал старушке спасибо. – А ты знаешь, что такое «спасибо»? Имей в виду, что в зависимости от того, знаешь ли ты это или не знаешь, понимаешь ли, или не понимаешь, может тем или иным путем пойти и вся твоя жизнь (В. Каверин. Два капитана).
(обратно)11
Ср. с описываемыми В. Г. Гаком речевыми рефлексами – клишированными формулами, которые «используются в речи не с номинативными целями, а для организации модально-коммуникативной рамки высказывания» (говоря откровенно, Шутка ли сказать! Мы говорим на разных языках… и др.) [см.: Гак 1994].
(обратно)12
Квазиавтонимными называют слова, «не являющиеся автонимными, но соответствующие автонимным именам в близких по смыслу высказываниях». Известно, что высказывания с такими именами легко преобразуются в высказывания с автонимными именами [см.: Шмелёв 1996: 171], например: А что такое лактометр, знаешь? – А что называют лактометром, знаешь?
(обратно)13
Н. К. Рябцева называет подобные выражения ментальными перформативами [Рябцева 1992].
(обратно)14
Можно сказать, что данная статья не только иллюстрирует, но и (пусть имплицитно) утверждает эти принципы, поскольку на сегодняшний момент нет отечественных работ, в которых была бы детально обоснована методика анализа обыденного метаязыкового сознания с позиции историка языка.
(обратно)15
Структурное значение фиксирует место номинативной единицы в лексической системе языка. Выделяют два типа структурного значения: синтагматическое (валентность) и парадигматическое (значимость), которое определяют путем противопоставления данной единицы другим единицам в составе лексической парадигмы [см.: Новиков 1989: 175–176].
(обратно)16
Ср. устное замечание А. Д. Шмелёва по поводу одного из обозначений: «Вряд ли стоит считать удачным термин «естественный лингвист». Означает ли он, что учёный-языковед – это лингвист «неестественный»?»
(обратно)17
Д. Ю. Полиниченко использует термин «фолк-лингвистика» [Полиниченко 2007 б] для обозначения «промежуточной ступени между наивной сферой знания о языке и собственно наукой» [Полиниченко 2009: 67]. Этот термин, который сконструирован по аналогии с ранее созданным обозначением «фолк-хистори» (Д. М. Володихин), представляется нам не вполне удачным. Дело в том, что в европейском языкознании как эквиваленты русских терминов «наивная лингвистика», «народная лингвистика», «стихийная лингвистика» используются термины «folk linguistics)) (англ.) [см., напр.: Hoenigswald 1966; Bauman 1975; Bugarski 1980; Preston 2005; Niedzielski, Preston 2000 и др.], «Volklinguistik» (нем.) [Brekle 1985; 1986], «linguistique populaire» (франц.) [Brekle 1989; Paveau 2005; 2007; а также статьи в журнале: Linguistique populaire 2008]. Известны прецеденты использования термина «folk linguistics» без перевода в заметных (и часто цитируемых) работах отечественных языковедов [см., напр.: Ромашко 1987; Булыгина, Шмелёв 1998; 1999; 2000]. В этих условиях обозначение «фолк-лингвистика» устойчиво ассоциируется у специалистов не с более узкой областью «любительской лингвистики», а со всей сферой «наивных» (осознанных и бессознательных) представлений о языке. Кроме того, сегмент фолк-ассоциируется не только с понятием «народный», но и с понятием «фольклорный» и таким образом заставляет соотносить «фолк-лингвистику» с идеей коллективности. (Однако данный термин получил распространение, например, в Интернете [Омелин 2008]).
(обратно)18
В то же время работы ряда исследователей обходятся без специального обозначения речевых отрезков, выражающих метаязыковые суждения, или же содержат названия частных видов таких фрагментов, соотносимые с их функцией: «…в ней [современной литературе] «разбросаны» многочисленные оценки языковой нормы, представления об эталонной речи, разнообразные, часто субъективные характеристики речевых нарушений и коммуникативных неудач» [Черняк 2006: 590], «он [автор] разъясняет или мотивирует наименование, дает ему эстетическую оценку, приводит всплывающие в сознании ассоциации – в общем, дает разнообразный комментарий к выбору слова» [Норман 1994 а: 40; разрядка в цитатах наша – М. Ш.] и т. п.
(обратно)19
Следует учитывать многозначность и даже омонимию, развившуюся в практике использования данного термина. Так, в теории и практике перевода понятие метатекста используется для различения оригинала и перевода [см., напр.: Шаховский, Сорокин, Томашева 1998 и др.]; в работах по литературной критике метатекстом может называться текст критического произведения в отношении к прототексту (анализируемому тексту) [Лошаков 2002: 165]. В литературоведческих и лингвопоэтических работах представлено достаточно широкое понимание метатекста: с одной стороны, это метанарратив, «одновременное повествование о событиях и повествование о повествовании» [Тименчик 1981: 66; см. также: Лотман 1981; Цивьян 1995: 611], а с другой стороны, – сложный феномен, «надтекстовое» образование, которое включает в себя некий «затекстовый» фон, принципы его изображения в художественном тексте (особый «код») и реальное воплощение этого фона во всем корпусе произведений автора [Болдырева 2007: 20–21; 111].
(обратно)20
Однако и в этом понимании термин получил семантическое развитие и используется в более широких значениях. Так, под метатекстом может пониматься всякий отход от непрерывного повествования (не только комментарий к коду), разного рода вставки, пояснения, «лирические отступления» и т. п. [см., напр.: Гилёва 2010].
(обратно)21
О сложности и неоднозначности определения понятия «языковое сознание» (рассмотрение которого не входит в задачи нашей работы) см., например, в работе К. Ф. Седова [Седов 2009: 106–109].
(обратно)22
А. Н. Ростова выделяет в метаязыковом сознании также сферу «сверхсознания», к которой относит «языковое чутье как компонент одаренности», чутье, способное привести к мгновенному озарению, интуитивному прозрению [Ростова 2000: 39]. Другая трактовка метаязыкового «сверхсознания» близка пониманию коллективного бессознательного [Юнг 2006] – это «то, что знает социум, эксплицирует, но не может верифицировать» [Чернейко 1997: 181].
(обратно)23
Н. Д. Голев иллюстрирует сегменты этой «телескопической структуры» примерами последовательного осознания «типа текстовой личности», однако указывает, что описываемые закономерности могут касаться осознания любого лингвистического феномена [Голев 2009 а: 13].
(обратно)24
Точнее будет сказать, что исследователи описывают именно эти две формы метаязыкового сознания.
(обратно)25
Исследования, посвященные научной метаязыковой рефлексии, и работы по обыденной рефлексии практически не пересекаются, хотя в ряде сочинений высказывались идеи о генетической общности двух форм «языковедного» мышления [Мечковская 1998; Зубкова 2009 и некот. др.] и существовании «переходных» форм [Резанова 2009 а]. Один из немногих опытов сопоставления научного и «антинаучного» подходов к описанию языка представляет собою критический разбор акад. А. А. Зализняком методов «любительской» лингвистики [Зализняк 2000; 2009].
(обратно)26
В. Б. Кашкин отмечает, что одной из причин того, что лингвистические взгляды рядовых пользователей долгое время оставались за пределами внимания науки, явилась и предубежденность лингвистического сообщества против непрофессионального взгляда на язык [Кашкин 2008: 35].
(обратно)27
Опубликованные дочерьми Г. Г. Зубкова фрагменты: его воспоминаний и рассказов, а также лингвистический комментарий к ним представляют интерес и как ценный исторический документ, и как материал для наблюдений языковеда. В этой книге мы неоднократно ссылаемся на указанную статью и надеемся, что сочинения Г. Г. Зубкова будут со временем выпущены отдельным изданием.
(обратно)28
В этих случаях нередко представление об особом, «нерядовом» статусе писателя среди носителей, не являясь предметом обсуждения, содержится в пресуппозитивной части высказывания. Так, В. А. Маслова пишет о концептах, которые получили отражение во взглядах «философов, писателей и рядовых носителей языка» [Маслова 2004; 16].
(обратно)29
Так, В предисловии к «Словарю языка Достоевского» говорится о том, что этот словарь призван отражать все ипостаси языковой личности Ф. Достоевского: «и художника слова, и публициста и рядового носителя русского языка» [Караулов, Гинзбург 2001].
(обратно)30
Ср., например, анализ «деятельностной» языковой личности А. Солженицына [Петренко, Штайн 2009].
(обратно)31
Ср. настойчиво проводимую В. И. Далем мысль о том, что русские недостаточно хорошо знают свой язык и потому используют иноязычные слова вместо исконных [Даль 1860].
(обратно)32
При этом несистематическое лингвистическое знание, как правило, присуще рядовому носителю языка – как результат изучения русского языка в школе (в вузе).
(обратно)33
Здесь рефлексив включен в так называемую несобственно-прямую речь, которая, по определению, отражает речемыслительный план персонажа [см.: Коростова 1999], однако писать о действующих лицах – это прерогатива автора. Кроме того, в художественном тексте метаязыковая рефлексия – это, как правило, актуализатор позиции автора.
(обратно)34
Речь идет о квалификации неопределенно-личных предложений как безличных, которое свойственно наивному языковому сознанию.
(обратно)35
Ср. замечание А. Ремизова: Самое недостоверное – исповедь человека. Достоверно только «непрямое высказывание», где не может быть ни умолчаний по стыдливости, ни рисовки «поднимай выше». И самое достоверное… то, что неосознанно, что напархивает из ничего, без основания и беспричинно^ (А. Ремизов. Огонь вещей: сны и предсонья).
(обратно)36
Здесь под образом понимается обобщенное представление о предмете, его отображение в сознании.
(обратно)37
Различия в содержании этих терминов и вопрос об их предпочтительности для обозначения тех или иных видов обыденной этимологизации обсуждался в лингвистической литературе [см.: Максимов 1982; Гридина 1989; Варбот 2003; Введенская, Колесников 2003; Откупщиков 2005 и др.], здесь мы на нем специально не останавливаемся.
(обратно)38
Высказывалось мнение, что «особенно слабо в естественном языке представлены средства, необходимые для того, чтобы говорить о языке» [Моррис 1983: 46–47], другие полагают, что способность и средства «говорить о языке» существуют даже у этносов, находящихся на первобытном уровне развития и не имеющих терминологии [ср.: Beacco 2001], видимо, справедливо утверждение, что с развитием метаязыкового сознания совершенствуются и средства метаязыка [Голев 2009 а: 23; Зубкова 2009: 90].
(обратно)39
Поскольку рефлексив – это далеко не всегда предложение, то не стоит отождествлять его семантическую организацию с семантической структурой предложения. В то же время рефлексив имеет природу оценочного суждения, поэтому определенный параллелизм с семантикой предложения может иметь место.
(обратно)40
Термин «гипертекст» ввёл в 1965 г. Т. Нельсон [Nelson 1965] для обозначения «ветвящегося» текста. Под гипертекстом понимается «форма организации текстового материала, при которой его единицы представлены не в линейной последовательности, а как система явно указанных возможных переходов, связей между ними» [Субботин 1988: 2].
(обратно)41
Строго говоря, понятия «метаязыковая функция» и «метатекстовая функция» не совпадают; возможны разные интерпретации их соотношения; мы рассматриваем метатекстовую функцию как частное проявление метаязыковой и включаем средства метатекста в общую систему метаязыковых средств.
(обратно)42
Мы не ставим перед собой задачу доказать, что средства метаязыка реализуют некую общую семантическую (функционально-семантическую) категорию и потому составляют особое поле. Подобный подход требует самостоятельного рассмотрения и решения целого ряда принципиальных вопросов, выходящих за рамки данной работы. Но поскольку поле рассматривается как «континуальное образование с центром (ядром), где формирующие его характеристики представлены наиболее ярко и однозначно…, и постепенно ослабевающими к периферии зонами» [Всеволодова 2007: 35], мы сочли возможным воспользоваться метафорой поля для обозначения основного принципа классификации материала. Как неоднократно отмечалось специалистами, противопоставление центра и периферии есть вообще универсальный принцип организации языка [Живов, Успенский 1973: 24]. При этом мы отдаем себе отчет в том, что результат целенаправленного описания «поля метаязыковости» с применением соответствующего лингвистического инструментария окажется, вероятнее всего, иным, нежели представление средств метаязыка в данной работе.
(обратно)43
Единицы метаязыка могут совпадать с единицами языка (например, метаязыковые термины), но могут представлять собой сочетания, которые не совпадают с традиционно выделяемыми единицами языка.
(обратно)44
Графические выделения изучались как средство интонационной и смысловой «разметки» в письменной речи [Лигута 1975; Яковенко 2007 и др.], как стилистическое средство [Валуенко 1976; Арнольд 1979; Вашунина 1995; Артемова 2002; Ахметова 2006 и др.]; предпринимались попытки рассматривать графические выделения с точки зрения их семиотических (семантических) функций [Шварцкопф 1967; 1997; Рао Супжато 1996; Шубина 2004; 2006: 178–239; Бердичевский 2006: 7; Зализняк 2007; Кольцова 2007: 109–110]; в исследованиях, посвященных метаязыковой рефлексии носителя языка, кавычки интерпретируются как специальный маркер метаязыковой рефлексии [Кормилицына 2000; Вепрева 2005; Нечаева 2005; Пчелинцева 2006; Сидорова 2007; Трикоз 2010 б].
(обратно)45
Есть основания говорить о метаязыковой функции и в тех случаях использования кавычек, которые регулируются основными правилами правописания: а) в собственных наименованиях типа ансамбль «Непоседы», магазин «Охотник» (поскольку маркируют употребление слова как онима, а не апеллятива) и б) для выделения прямой речи (здесь кавычки служат «переключателем» речевых планов, маркируют границу между высказываниями различных субъектов речи). Так, например, в зарубежных работах цитация рассматривается как инструмент реализации метаязыковой функции языка [Светашова 2009: 12]. Более того, кавычки могут быть единственным метапоказателем, например, при отсутствии нарицательного наименования предмета (кафе, кинотеатр, санаторий и т. п.). В предложениях с прямой речью пунктуационное оформление также может служить единственным метапоказателем (если отсутствуют слова, непосредственно обозначающие процесс речи / мысли). Ср.: В голове у Аннушки образовалась вьюга: «Знать ничего не знаю! Ведать ничего не ведаю!..» (М Булгаков. Мастер и Маргарита).
(обратно)46
Выделенные курсивом выражения являются цитатами из стихотворения А. Пушкина: Исполнен отвагой, / Окутан плащом, / С гитарой и шпагой /Я здесь под окном, а также: Шелковые петли к окошку привесь («Я здесь, Инезилья…»).
(обратно)47
Цитата из монолога Нины Заречной: Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, – словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли… (А. Чехов. Чайка).
(обратно)48
Выводы о специализации графических выделений требуют определенной осторожности, поскольку конкретные виды выделений могут быть продиктованы причинами технического характера и представлять собой выбор не автора, а редактора. Можно также наблюдать в разных изданиях одной книги различные способы выделения одних и тех же речевых отрезков. Делая вывод об авторском характере выделений А. Солженицына, мы руководствовались, во-первых, тем обстоятельством, что в тексте романа «Архипелаг ГУЛаг» используются разные виды выделения (кавычки, курсив, разрядка, ударение, капитализация), во-вторых, эти виды выделений используются достаточно последовательно и единообразно, о чем свидетельствует сопоставление разных изданий.
(обратно)49
Наряду с многоточием показателями метаязыкового выбора часто выступают и другие средства: лексический повтор отрезков речи, предшествующих искомому слову, вокализации (гм, э-э, м-м и т. п.). Ср.: Так вот, сударыня, правосудию очень важно знать, был ли кто-нибудь из ваших, гм… из ваших хороших знакомых вполне ознакомлен с расположением вашей квартиры (В. Брюсов. Последние страницы из дневника женщины).
(обратно)50
Понятие аналога используется в различных лингвистических теориях. Так, например, союзными аналогами называют слова разных частей речи (наречия, частицы, междометия), которые выполняют в сложных предложениях функции скрепы, не будучи союзами в полном смысле этого слова [Русская грамматика 1980, II: § 3110 и др.].
(обратно)51
Метатекстовые функции вставки рассматривались в ряде лингвистических работ [Куликова, Салмина 2002: 109; Шмелёв 2006; Онишко 1997 и др.].
(обратно)52
Подобный прием поиска слова, характерный, для поэтической манеры М. Цветаевой, М. В. Ляпон назвала «блуждание вокруг денотата» [Ляпон 1989: 25], а М. Л. Гаспаров охарактеризовал как «уточнение образа», «топтание на месте, благодаря которому мысль идет не вперед, а вглубь» [Гаспаров 1997: 262].
(обратно)53
С таким расширительным пониманием согласуется и множественное число существительных singularia tantum (вещественных пепси и фанта, собственного «Ассошиэйтед-пресс»).
(обратно)54
Однако если метаязыковой смысл использования прописных / строчных букв отличается от конвенционального, автор вводит в текст необходимый вербальный комментарий: Мнят себя Бог знает кем, а потом старятся и умирают <…> Раньше это слово велено было писать с маленькой буквы, я и писал. А сейчас уже не могу (Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов»).
(обратно)55
В другой терминологии – «графические игры» [Максимов 2004], графиксация [Изотов 1998: 76].
(обратно)56
Аналогичные примеры с точки зрения их семантической специфики могут интерпретироваться и как прием псевдомотивации с использованием прописных букв [Ильясова 2002; Стахеева, Власкина 2009].
(обратно)57
Ср.: Ты – муж, а слово «муж» в переводе на дачный язык значит бессловесное животное, на котором можно ездить и возить клади сколько угодно, не боясь вмешательства общества покровительства животных (А. Чехов. Трагик поневоле).
(обратно)58
С точки зрения семантической и функциональной специфики нулевые метаоператоры можно сопоставить не с нулевыми окончаниями (которые противопоставлены материально выраженным не только нулевой формой выражения, но и собственным морфологическим значением), а с нулевыми суффиксами, которые выражают те же морфологические или словообразовательные значения, что и синонимичные им материально выраженные суффиксы, отличаясь от последних только отсутствием фонемного состава (ср., напр., материально выраженные и нулевые суффиксы прошедшего времени глагола: принесла – принёс, а также нулевые словообразовательные суффиксы: глиняный, но золот()ой; ходьба, но бего и т. п.).
(обратно)59
Пример из статьи А. В. Леденёва, который рассматривает звуковые повторы (аллитерацию) как «графико-фонетические маркеры привилегированных значений» [Леденёв 2001: 451].
(обратно)60
Подобное столкновение в одном контексте слов, объединенных деривационными отношениями, описано в специальной литературе как особый прием – словообразовательный повтор [см.: Кожевникова 1987; Николина 2005 а].
(обратно)61
Паронимическое сближение слов осуществляется с опорой на консонантные совпадения, поэтому в некоторых случаях трудно провести четкую границу между паронимической аттракцией и аллитерацией [см.: Голуб 1986: 94; Северская 1988: 214] или этимологизированием [см.: Никитина, Васильева 1996: 105].
(обратно)62
Расположение сопоставляемых слов может быть как контактным, так и дистантным, однако расстояние между ними должно соответствовать возможностям читательского восприятия: важно, чтобы адресат фиксировал обе сопоставляемые единицы как находящиеся в одном контексте.
(обратно)63
Источники цитаты – известная тавтограмма: Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж чрезвычайно чисто.
(обратно)64
Такое положение характерно для слов, мотивационные связи которых в современном русском языке ослаблены (метель – мести, опенок – пень и т. п.). В то же время «характеризующие тексты», в которых используются слова с живыми словообразовательными связями, принимаются в качестве доказательств и при отсутствии специальных метаоператоров. Ср. приводимые автором примеры: Шелковник по болотам растет, жёлтенький светочек высокий, листок такой круглый <…> мягонький, как шелковый или А это вот шумовка. Она от шума в голове, когда вот голова сильно шумит, её и пьют и т. п. [Блинова 2009: 234]. Видимо, для квалификации подобных контекстов как «метаязыковых» или «характеризующих» оказываются важными сразу несколько факторов: 1) актуальность обнаруживаемых словообразовательных связей, 2) наличие средств акцентирования (например, повтор: от шума в голове – когда голова сильно шумит; ср. также пример другого исследователя: Физа в больнице, у ей грыжа прогрызла в пах. Она с палочкой – и вот это. прогрызла ей в пах, а в однем правом <… > боку была <…> а счас в левом опять прогрызла [Иванцова 2009: 347]), 3) народно-этимологические технологии семантизации слова, наконец, 4) субъективный фактор – готовность исследователя к обнаружению соответствующих примеров.
(обратно)65
Фактически здесь речь идет не о том, что каждый непременно получает только приличное воспитание, а о том, что слово приличное является постоянным эпитетом к слову воспитание, тогда как определение неприличное со словом воспитание не используется.
(обратно)66
Ср. соотношение слов тюремщик и тюремник, которые комментируются в словаре В. И. Даля: «Тюремный сторож, тюремщик <…> Тюремник <…> узник, заключеник, вязень, кто посажен в тюрму, острожник» [СД].
(обратно)67
Формулируя наиболее актуальные задачи изучения обыденного метаязыкового сознания, Н. Д. Голев отмечает, что «нуждается в исследовании функционирование терминов-понятий и шире – знаний – различных наук (в том числе лингвистики)» в условиях нелингвистического дискурса [Обыденное… 2009, I: 481–482]. Работы, в которых подвергалось анализу содержание филологических понятий в обыденном сознании, пока единичны [см.: Кашкорова 2008; Швец 2009], однако данное направление исследований представляется перспективным.
(обратно)68
В частности, ценный материал для наблюдения предоставляет Национальный корпус русского языка. Вообще использование лингвистических корпусов в настоящее время позволяет вносить коррективы во многие устойчивые представления специалистов о состоянии и тенденциях развития языка.
(обратно)69
В толковом словаре слово стройбат помечено как разговорное [БТС: 1281].
(обратно)70
В подобных случаях именно просторечие выглядит как немаркированный вариант языка («нормальный», общепонятный), а ему противопоставлен какой-либо иной вариант, в котором простые и понятные наименования заменены более сложными: У отдельного человека, в отличие от несчастной липы, <…> есть органы для ухода. В просторечии – ноги (Г. Щербакова. Мальчик и девочка).
(обратно)71
На уровне лексики такая «упрощённая» картина мира реализуется как «размытость значения слова» [Крысин 1989: 60], при котором говорящими нечётко ощущается денотативная отнесённость, не очерчены границы лексического значения единицы. Собственно говоря, употребление нелингвистами самого термина просторечие (как и терминов жаргон, сленг) демонстрирует упомянутую «размытость значения слова».
(обратно)72
Ср. популярную в лингвистике (первые десятилетия после революции) идею об архаических, «отсталых» типах говоров и «передовых», близких к литературному языку, о необходимости борьбы с самими диалектами и с диалектизмами в русской речи [см. об этом: Касаткин 1993: 86–89].
(обратно)73
Определение литературный в сочетании литературный язык может и не нести никакой семантической нагрузки – о таких случаях идет речь в § 2.1; в этой части книги такие примеры не рассматриваются.
(обратно)74
В соответствии с таким представлением литературное слово – это слово из художественного текста: А семья у меня, по нашим временам, огромная. <…> и тетя, которую раньше назвали бы приживалкой, но это плохое литературное слово. А мы тетю любим, она выгуливает собаку и вычесывает кота, она с нами всю жизнь, на самых непочетных работах (Г. Щербакова. Моление о Еве). Ср. с примером из текста 1862 г.: <…> сами посудите: Пселдонимов – ведь это происходит от литературного слова «псевдоним» (Ф. Достоевский. Скверный анекдот).
(обратно)75
Именно это обстоятельство заставляет исследователей обращать специальное внимание на соотношение понятий «литературный язык» и «язык художественной литературы», особо комментировать факт их несовпадения [см.: Максимов 1975].
(обратно)76
Правда, в словаре слово масляник дается с пометой «областное» [СУ].
(обратно)77
Если быть точнее: в нашем материале не встретилось ни одного примера, в котором интерпретировались бы как разновидности литературного языка / речи, например, научная речь или официально-деловая.
(обратно)78
Здесь имеются в виду только те примеры, в которых словосочетание человеческий язык синонимично выражениям обычный язык, нормальный язык. Об иных значениях данного сочетания см. в § 2.1.
(обратно)79
При этом разными носителями языка и «нормальное» может пониматься неодинаково. В целом для обыденного сознания нормальный язык – это не столько специальное обозначение для одного из социальных вариантов языка, сколько обозначение привычного говорящему варианта – того, которым он пользуется в повседневной коммуникации. Ср. пример, в котором «нормальной» и «человеческой» признается жаргонная речь: Я ему, блин, в натуре человеческим русским языком сказал, типа давай перетрем это дело. Короче, угомонись малехо. Ты уже всю округу своей бодягой забил. Или уже, блин, отстегивай за наши убытки, или конкретно урезай обороты (В. Мясников. Водка. НКРЯ).
(обратно)80
В то же время «перевод» с общепонятного языка на социально / функционально ограниченный код – это чаще всего содержание комического дискурса. Ср.: Ницше написал. Там, сука, витиевато написано, чтоб нормальный человек не понял, но все по уму. Вовчик специально одного профессора голодного нанял, посадил с ним пацана, который по-свойски кумекает, и они вдвоем за месяц ее до ума довели, так, чтоб вся братва прочесть могла. Перевели на нормальный язык (В. Пелевин. Чапаев и пустота).
(обратно)81
Безусловно, под рефлексией здесь понимается осознанное, критическое, верифицируемое отношение (то, что мы охарактеризовали – применительно к языку – как рефлексию второго уровня), которое мифу «противопоказано». В то же время на уровне подсознательного контроля поведения (рефлексия первого уровня) миф непременно учитывается как «объективная реальность, которая подразумевается в разговоре и других действиях» [Филлипс, Йоргенсен 2004: 69; выделено нами – М. Ш.].
(обратно)82
В. В. Колесов считает, что в такой диффузности, нерасчлененности понятия проявляются особенности специфически русского «образно символического» восприятия слова [Колесов 2003: 33]. Возможно, указанное свойство характерно не только для этнического менталитета, сколько для обыденного сознания, которое в норме оперирует мифами.
(обратно)83
Ср. мифологические построения «любительской» лингвистики, которые, как правило, изложены наукообразным языком.
(обратно)84
Отдельные составляющие научного знания связаны друг с другом, здесь существует логическая преемственность, которая предполагает развитие, уточнение, корректировку, опровержение имеющегося знания; «развенчанные» теории (ср. теорию теплорода) перестают быть фактом науки; альтернативные учения вступают в диалогические отношения друг с другом.
(обратно)85
Термин «мифологема», введенный первоначально [см.: Юнг 1997] для обозначения глобальных мифологических сюжетов или образов (мифологических архетипов), в настоящее время приобрел широкое значение и используется для обозначения отдельных «частных» мифов и различных содержательных компонентов мифа, например, сказочных реалий: русалка, Баба Яга, скатерть-самобранка [см.: Норман 1994 б]. В соответствии с таким широким пониманием можно говорить о мифологеме обыденного сознания «Язык», а также о более частных мифологемах обыденного метаязыкового сознания «Орфография», «Норма», «Словарь» (и даже более узко – «Словарь В. И. Даля») и т. д.
(обратно)86
Показательно, что в специальной литературе одни и те же явления описываются то как миф, то в терминах «стереотип» [Кон 1966; Лебедева 2000; 2009 а], «установка», «предубеждение», «предрассудок» [напр.: Кон 1966], а также «социальный эталон» [напр.: Бодалев, Куницына, Панферова 1971].
(обратно)87
Ср. используемый К. Леви-Строссом термин «мифема» [Леви-Стросс 1985].
(обратно)88
Мы говорим о классификации мотивов, а не мифов, поскольку один миф может включать несколько мотивов разных типов.
(обратно)89
Ср.: «есть статические представления о том, что такое язык и как он устроен, и динамические, процедурные, технологические представления и собственно приемы и действия наивных пользователей» [Кашкин 2008: 39; выделено нами – М. Ш.].
(обратно)90
В. Б. Кашкин называет следующие мифы (мифологемы), характерные для обыденной философии языка: 1) представление о «вещности» слова и «вещного» характера языка (мифологема реификации); 2) убеждение в существовании естественной связи слова и вещи, которое оно обозначает; 3) мифологема дискретности семантики; 4) представление о взаимной детерминация слов-вещей в высказывании; 5) уверенность в накопительном характере языковой памяти; 6) мифология языковой и культурной границы, включающая межкультурные стереотипы; 7) мифология авторитетности в языке [Кашкин 2002: 18–31]. Исследователи указывали на существование таких мифов, как «Древность родного языка», «Его исключительное богатство», «Его необыкновенная сложность» (ср. с аналогичными мифами у других народов [напр.: Yaguello 1988]), «Угрозы родному языку, теряющему свою чистоту и правильность» и др. [Гудков 2009; Милославский 2009].
(обратно)91
Ср. с научно-лингвистическим представлением о вариантности как неотъемлемом свойстве языковой нормы [Крысин 2008].
(обратно)92
Этот и подобные примеры, кроме прочего, демонстрируют расхождение в результатах рефлексии первого (бессознательного) уровня и второго (уровня обыденного осознания языка). Так, Н. Е. Петрова приводит убедительные аргументы в пользу «естественности» происхождения субстантивных сочетаний с семантикой предлога (в этой связи, по этому поводу, в этом свете): они являются следствием неосознанной рефлексии говорящих о внутренней форме предлогов в связи с, по поводу, в свете [Петрова 2008].
(обратно)93
Как отмечают специалисты, «конвенциональный характер многих типов норм с трудом поддается объяснению обыденной метаязыковой рефлексии, поэтому в этой области широко представлена лингвистическая мифология» [Голев 2009 а: 21].
(обратно)94
Ср. описанный И. Пильщиковым и М. Шапиром факт: упоминание в их работах орфографической ошибки А. Пушкина (в связи с атрибуцией текстов) вызвало гневную критику целого ряда специалистов, которые считали недопустимым говорить о безграмотности великого поэта [Пильщиков, Шапир 2006: 510–511].
(обратно)95
Во избежание многократных повторов в том же значении будем использовать сочетание «бранная лексика», хотя последний термин имеет более широкое значение [см.: Мокиенко 1994: 57; Левин 1998: 810]. В современной лингвистике используется также термин «инвективная лексика» [напр.: Жельвис 1997; 2000; Голев 2003 а и др.], который актуализирует использование брани как средства вербальной агрессии, оскорбления.
(обратно)96
Научный труд, который не имеет аналогов в лингвистической науке: серьезный исследовательский текст заключен здесь в рамку игрового, шутливого метатекста. Авторитетные российские языковеды А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский опубликовали свою работу не просто под псевдонимом – заслугу создания словаря они «уступили» загадочному персонажу с неслучайным именем Василий Буй, оставив себе скромную роль редакторов [см.: Баранов, Добровольский 1995].
(обратно)97
Ср. понятие «мифологический сюжет» в трактовке О. М. Фрейденберг, которая понимала под этим обозначением «не сюжет мифа, но сюжет, созданный мифотворческим мышлением» [Фрейденберг 1997: 224].
(обратно)98
В филологии под мотивом понимается «отвлеченное от конкретных деталей и выраженное в простейшей словесной формуле схематическое изложение элементов содержания» [Чудаков 1967: 995].
(обратно)99
Так, в словаре «Русская заветная идиоматика» список источников материала включает более 100 наименований художественных произведений, поэтических и прозаических сборников, изданных преимущественно в конце 1980-х – начале 1990-х гг. [Василий Буй 1995: XXI–XXIV].
(обратно)100
Было бы неверно считать, что стереотипы, связанные с оценкой обсценизмов, «открыты» современными авторами – большинство соответствующих мотивов встречается и в литературе более ранних периодов, однако бесспорно, что рефлексии о мате в последние два десятилетия приобрели большую частотность.
(обратно)101
В каком-то смысле мифологемой является и «язык Пушкина», поскольку под «языком Пушкина» понимается не 'язык Пушкина', и даже не 'язык произведений Пушкина', а лишь язык его произведений, включенных в учебные программы по литературе. Призывы «говорить на языке Пушкина» означают не 'говорить на языке Пушкина', а 'использовать языковые единицы, которые содержатся в хрестоматийных произведениях Пушкина' (то есть использовать средства литературного языка).
(обратно)102
См. статью Н. Д. Голева, в которой подробно описаны разнообразные игровые способы намека на бранные выражения [Голев 2005].
(обратно)103
Ср. замечание лингвиста: «…во всех слоях русского общества в нужных случаях «крепкие и сильные слова и выражения» были одним из самых эффективных способов «излить душу», – благо российская действительность всегда давала для таких излияний достаточно поводов» [Мокиенко 1994: 51].
(обратно)104
Ср. замечание писателя Валерия Попова: «…есть слова, которые не смотрятся на бумаге. Они на заборе смотрятся» [Попов 2006: 215].
(обратно)105
Ср. также подробно воспроизведенные граффити в общественном туалете в романе В. Платовой «Ужасные невинные».
(обратно)106
Ср. высказанную А. Н. Барановым и Д. О. Добровольским идею о существовании «особой грамматики обсценного дискурса» [Василий Буй 1995: IX], которая регулирует построение «многоэтажных» бранных выражений.
(обратно)107
Этот мотив согласуется с «большим» мифом об уникальности и необыкновенной сложности русского языка, который, по мнению ряда исследователей, компенсирует глубинный комплекс «отставания от Запада» [см.: Гудков 2009: 84].
(обратно)108
Ср. высказывание писателя-фантаста Е. Лукина: «Русский мат на несколько веков старше современного языка и звучал ещё в древнерусском. Вот и гадай после этого, кто кем засорён» [Лукин 2007].
(обратно)109
Ср. часто цитируемые строки В. Высоцкого: Проникновенье наше по планете / Особенно заметно вдалеке. / В общественном парижском туалете / Есть надписи на русском языке (Письмо к другу…).
(обратно)110
Ср. высказываемое специалистами мнение о том, что активное использование обсценизмов обусловлено психосоциальными и физиологическими особенностями именно мужчин [Жельвис 1997: 111 и др.].
(обратно)111
Рост внимания исследователей к метаязыковой рефлексии в художественном тексте совпадает с активизацией соответствующего феномена в отечественной литературе [см.: Фатеева 2000], в частности – в литературе постмодернизма [Зубова 2003]. По образному выражению О. Седаковой, «есть дух интеллектуальной эпохи… Эта тема эпохи – язык» [Цит. по: Полухина 1997: 221]. Обращение поэта к языку как к предмету художественного изображения получило название лингводицеи [Глушко 1998].
(обратно)112
Я. И. Гин заключает данный термин в кавычки.
(обратно)113
Ср. замечание Л. О. Чернейко о том, что «оценка знака заключается уже в самом его выборе говорящим как наиболее эффективного для решения коммуникативных задач средства» [Чернейко 1990: 74].
(обратно)114
Ср. с понятиями «воображаемая филология» (В. П. Григорьев), или «мнимая лингвистика» (Т. В. Цивьян).
(обратно)115
Ср. замечание исследователя о существовании в языке похожей лакуны: «Нет [в русском языке – М. Ш.] слова, которое обозначало бы собирательницу или собирателя семьи, т. е. члена семьи, письмами, расспросами, встречами скрепляющего, собирающего семью» [Харченко 2009: 99].
(обратно)116
Ср. с риторическим понятием топа («общего места») – обобщенной смысловой модели, по образцу которой формулируется суждение о предмете.
(обратно)117
Металогическая речь (от греч. meta – через, после, logos – слово) – это речь, оснащенная тропами [см.: Голуб 1986: 223].
(обратно)118
Еще в древнерусской книжной культуре сложилась традиция металогического оформления метаязыковых терминов, которые сопровождались разнообразными эпитетами, выступали в составе метафор, сравнений [см., напр.: Семёнова 2007: 88]. Исследователи поэтического текста обратили внимание на то, что денотативная сфера «язык» активно выступает источником метафорики в поэзии ХХ века, участвуя в формировании как «левой», так и «правой» части метафорического построения [см.: Кураш 2007]. В целом ряде работ отмечалось, что грамматические термины могут выступать в переносном значении и использоваться в составе тропов [см.: Николина 2004 а: 61 и др.]; оформился даже особый термин – «филологическая метафора» [см., напр.: Ахапкин 2002].
(обратно)119
См., в частности, работы, в которых метафорическое представление слова, языка, речи анализируется как когнитивная модель [Демьянков 2000; 2001; Левонтина 2000 а; 2000 б].
(обратно)120
См. об интерпретации слов-фантомов в художественном тексте (§ 3.3.).
(обратно)121
Ср. также описанную А. Солженицыным историю слов кулак и подкулачник и рассказ П. Романова «Кулаки», в котором повествуется о том, как в деревне «назначали» кулаков, чтобы выполнить разнарядку.
(обратно)122
Либеральные ценности.
(обратно)123
«Лингвистика старости» и в настоящее время изучена гораздо меньше, чем, скажем, «лингвистика детства», тем ценнее для языковеда наблюдения, представленные в художественных текстах.
(обратно)124
Картотека примеров из художественных текстов, включающая различные виды комментариев (в том числе к именам собственным) и рефлексивы с нулевыми метаоператорами (без вербального комментария), насчитывает около 7 тыс. единиц. Из них свыше 5 тыс. – примеры вербального комментария к словам и выражениям.
(обратно)125
Ср.: лингвистическая персонология – наука, изучающая языковые категории в аспекте связи с различными видами языковых личностей [Нерознак 1996; Вопросы лингвоперсонологии 2007 и др.]
(обратно)126
Цитата из стихотворения С. Есенина «Не гляди на меня с упреком».
(обратно)127
Одна из попыток обобщения таких оценок, выраженных при помощи согласованных определений (сильное, горячее слово; холодное школьное выражение; угрюмое название; улыбчивый термин; опошленное слово и т. п.), принадлежит Л. О. Чернейко, которая выделяет несколько типов оценок: эмоциональные, эстетические, этические, рациональные, лингвистические [Чернейко 1990: 74–79]. В статье отмечается, что основанием для формирования оценки может являться отношение говорящего к означаемому или звуковая форма слова. Как отмечают специалисты, эстетические оценки языковых единиц достаточно регулярны в обыденной метаязыковой деятельности, но при этом мало изучены [см.: Голев 2009 а: 21].
(обратно)128
Суждения о «пустых» словах в определенной мере преодолевают границы обыденного метаязыкового мышления, поскольку противоречат так называемому вербализму – «уверенности носителей языка, что абстрактные понятия всегда отражают некие сущности» [Фельдман 2006: 11; выделено автором].
(обратно)129
Это приближает их к воспроизводимым неидиоматическим единицам – фразеологическим выражениям [см.: Шанский 1985: 61–63], которые составляют периферию фразеологической системы.
(обратно)130
Безусловно, приведенное рассуждение инициировано художественной задачей автора; здесь эксплуатация полисемантичности слова стоять является художественным приемом, однако данный прием базируется на обыденном восприятии многозначности как языковой аномалии.
(обратно)131
В частности – многочисленные толкования слов, расшифровки аббревиатур, которые встречаются в анекдотах, шутках, шуточных загадках, выполняя в них функцию текстообразования.
(обратно)132
Представляет интерес проект словаря обыденных толкований, над которым в настоящее время работают ученые Кемеровского государственного университета (руководитель проекта – проф. Н. Д. Голев).
(обратно)133
В приложении к монографии помещены образцы статей для словаря «Литературный портрет слова».
(обратно)134
Под лексикографическим типом понимается совокупность лексем с совпадающими свойствами (семантическими / прагматическими / синтагматическими / просодическими и т. д.). Одна и та же лексема по разным свойствам может попадать в разные лексикографические типы [Апресян 1995: 389].
(обратно)135
Выражение авторский словарь в лингвистическом обиходе стало многозначным: как строгий термин [см.: Шестакова 2006] оно называет словари, описывающие язык одного автора [напр.: Белякова, Оловянникова, Ревзина 1996–2004 и др.], в нестрогом употреблении оно используется для обозначения новых, оригинальных лексикографических проектов (ср. с сочетаниями типа авторская методика, авторский учебник и т. п.), выполняемых отдельными авторами. В данном случае сочетание авторский словарь используется во втором значении.
(обратно)136
Ср. замечания в книге журналистки М. Арсеньевой «Язык мой – друг мой» с характерным подзаголовком «Филологи – к барьеру»: «…народ в возникших спорах тоже должен участвовать. Он – потребитель филологической науки, а потребитель сегодня – фигура активная», – и далее: «Мы, потребители науки, … должны иметь на это потребительские права» [Арсеньева 2007: 2, 173]
(обратно)137
Подобно тому как в своё время публиковались подборки текстов диалектной или разговорной речи, не только послужившие иллюстрацией к теоретическим положениям, но и ставшие ценным материалом для новых наблюдений лингвистов.
(обратно)138
Как, например, «Краткий словарь когнитивных терминов» (М., 1996), который систематизирует терминологию соответствующей области знания.
(обратно)139
Знаком ► отмечены единицы, которые ранее не фиксировались толковыми словарями; знак ◊ предваряет сочетания слов, включающие заголовочную единицу.
(обратно)




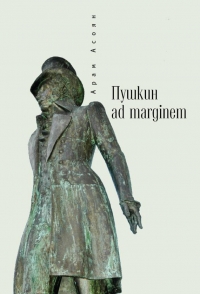


Комментарии к книге «Язык в зеркале художественного текста. Метаязыковая рефлексия в произведениях русской прозы», Марина Робертовна Шумарина
Всего 0 комментариев