Виктор Георгиевич Зинченко, Валерий Григорьевич Зусман, Зоя Ивановна Кирнозе Литература и методы ее изучения. Системный и синергетический подход: учебное пособие
Посвящается памяти ВИКТОРА ГЕОРГИЕВИЧА ЗИНЧЕНКО
(29.03.1937-30.10.2009)
От кота Бахтина до ящиков Павича
25 ноября 1975 г. писатели России и творческое объединение критиков и литературоведов организовали встречу по случаю 80-летия Михаила Михайловича Бахтина (1895–1975). В пригласительном билете он был скромно назван литературоведом, а само мероприятие приурочено к дате его смерти. Недлинный список планируемых выступлений содержал имена С.С. Аверинцева, В.В. Иванова, С.Л. Лейбовича, В.В. Кожинова и Г.М. Фридлендера.
Серый осенний день и подчеркнутая будничность события не предполагали многолюдства. В малый зал Центрального Дома литераторов пропускали строго по приглашениям. И хотя книги М.М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» (1972) и «Творчество Франсуа Рабле» (1965) уже получили признание в отечественной и мировой науке, подлинный масштаб личности ученого в России оставался неизвестным. Власть настораживала и биография Бахтина, и его подозрительная теория «диалогизма», где в качестве Третьего, Нададресата признавался не только суд истории, но также и Бог, Совесть. Проведший большую часть жизни в изгнании, в Казахстане и в провинциальном Саранске, где был допущен читать лекции на заочном отделении, студенты и преподаватели которого по лени или осторожности избегали профессора, обвиненного в контрреволюционной деятельности, Бахтин неохотно открывал свои мысли случайным собеседникам. Дотошные «бахтиноведы» имели немного случаев рассказать о личных контактах с философом, совершившим настоящий переворот в литературоведческой науке.
На вечере памяти Бахтина, организованном через несколько лет после его переезда из Саранска в московскую больницу, а затем и в дом престарелых в городе Климовске, С.С. Аверинцев и В.В. Иванов впервые в полный голос сказали о гениальности Бахтина. Но наибольшее впечатление произвела речь В.В. Кожинова, посетившего Бахтина в домашней обстановке. Вели разговоры о высоких материях, о мифоритуальной традиции карнавала, о загадочном характере поэтики Достоевского. Но загадочность В.В. Кожинов подметил и в самом Бахтине, вдруг прервавшем разговор и пристально глядевшем на спрыгнувшего с подоконника кота:
– О чем Вы задумались, Михаил Михайлович?
– О коте. Потому что столько ученых знают о мыслях Рабле или Шекспира, а я не могу понять непредсказуемого кота.
Любопытно, что почти те же слова сказал другой гений XX века – физик Илья Пригожин, соединивший рассуждение о коте с загадкой живой жизни. Ибо вопреки логичности и исчерпанности любой схемы, воплотившейся в самую современную систему, остается загадочным и до конца непредсказуемым все живое, «вечно зеленое древо жизни», как и смысл великих произведений литературы.
Именно о смысле – самой трудной философской категории – размышлял и Виктор Георгиевич Зинченко, обдумывавший систему «литература», в которой порождается смысл. Смысл по-своему осознается в истории теории литературы XX–XXI вв. Так, в романе классика постмодернизма Милорада Павича «Ящик для письменных принадлежностей» смысл спрятан в ящиках каталога и кодах Интернета и лишь демонстрирует окончательную неразгаданность смысла и бытия.
Этот роман М. Павича «имеет два завершения – одно в книге, другое в Интернете». В бумажной версии романа Павич указал электронный адрес для активных и увлеченных созданием собственных текстов читателей. В сети Интернет может возникать совершенно другой финал романа. Павич сознательно переуступает читателю функцию творца. Аналогичный ход делает и другой классик постмодернизма Ален Роб-Грийе, один из ключевых авторов Нового романа. В книге «Романески» он утверждает, что «каждый видит свою собственную действительность». Происходит «возвращение зеркала».
В литературе постмодернизма проза имеет «нелинейную интертекстуальную структуру». Наличие общего смысла в ней не исключается, но его нахождение читателем не обязательно. В постмодернистском тексте автора интересует прежде всего процесс повествования, а не его смысловой итог. «Роман», пишет Роб-Грийе, «занят не выражением, а поиском», «роман не ставит своей целью кого-то информировать». Он сам образует действительность и «также постоянно ставит все под вопрос».
Постмодернистский автор работает над порождением текста, создаваемого приемами самыми сложными, как это происходит, к примеру, у Павича, у которого проза постоянно хаотизируется, порождая саморегулирующееся свойство и переходя в новое качество через синергетический скачок. Однако при всей сложности постмодернистской и вообще любой системы, ни одна из них не может решить загадку живой природы.
Применительно к изучению литературы в ее системных качествах старый нерешенный вопрос заключается в попытке понять, как слово, становясь образом, начинает воздействовать на природу человека. И хотя общее определение художественной литературы давно известно и даже зафиксировано в школьных учебниках, оно остается спорным, побуждающим к размышлению. Соединение буквы, «литеры» с художественностью принадлежит скорее сфере декларации. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках остается до конца нерешенной. Спор филологов-лингвистов и литературоведов о соотношении «текста» и «художественного произведения» продолжается.
У М.М. Бахтина уже рассматривалась проблема текста в лингвистике и в литературоведении. Выше текста он ставит произведение как эстетический факт, в котором смысл персоналистичен, «в нем всегда есть вопрос, обращение и предвосхищение ответа…».
Над этой же проблемой размышлял в последние дни своей жизни и один из авторов книги о литературе и методах ее изучения – Виктор Георгиевич Зинченко. Он определял литературу как особую фазу текста, в котором вследствие синергетического скачка рождается новый смысл. Рождение это происходит исключительно благодаря присутствию автора в тексте. Именно поэтому текст переходит в литературное произведение. В этом заключается замысел и главный вывод книги о синергетическом подходе к методам изучения литературы.
Здесь же итог многолетних занятий проблемами межкультурной коммуникации. Биография В.Г. Зинченко и его научная деятельность во многом связаны с Одессой, где он родился и получил образование: окончил с медалью школу, поступил на филологический факультет в университете, в котором прошел все должности от лаборанта до заведующего кафедрой и декана.
И хотя В.Г. Зинченко с юности интересовался историей и литературой, это не мешало ему также увлекаться логикой и математикой, что особенно проявлялось в последние годы жизни. После защиты диссертации о чешском романе он опубликовал ряд работ по истории и теории литературы. Последними из них стали «Словарь по межкультурной коммуникации» и предлагаемая книга «Литература и методы ее изучения. Системно0синергетический подход». Она подводит итог научных поисков В.Г. Зинченко и его жизни.
Введение
Второе издание учебного пособия опирается на идеи предшествующей книги, рассматривающей методы изучения литературы в соотнесенности с системным подходом.
Взаимодействие гуманитарных и естественных наук – важнейшая особенность современной научной парадигмы. По утверждению академика B.C. Стёпина, «историзм объектов современного естествознания и рефлексия над ценностными основаниями исследования» сближают естественные и социально-гуманитарные науки. Их противопоставление, «справедливое для науки XIX в., в наше время (…) во многом утрачивает свою значимость»[1]. В книгу вводится представление о системно-синергетической парадигме как модели постановки проблем и их решений в сфере точных и гуманитарных наук (Т. Кун). Выявление системного качества, нелинейного рационализма, общих принципов поведения систем при различной природе составляющих их элементов требует особого понятийного аппарата и особой терминологии. Системно-синергетическая парадигма порождает новые вопросы и новый стиль научного мышления.
Новым моментом в книге стало представление о системе «литература». Авторы исходили из способности литературы к саморегуляции, которая изучается в рамках системного подхода, и к саморазвитию, которое изучается синергетикой[2]. Отсюда кажущаяся экстравагантность подзаголовка книги – «Системно-синергетический подход».
Синергетическая парадигма – общая модель мировидения, понимания и оценки действительности. Синергетика – фундаментальное направление современного научного мышления, имеющее междисциплинарный характер и объединяющее естественно-научное и гуманитарное знание; теоретическая основа естественных и гуманитарных наук, связанная с идеями системности, нелинейности, нестабильности и способности систем к самоорганизации. Представляется, что система «литература» – сложная, нестабильная, нелинейная система, способная к самоструктурированию, саморегуляции, самовоспроизведению[3].
Определяя смысл термина, один из основателей науки Г. Хакен подчеркивал, что «синергетика – это междисциплинарное поле, в рамках которого исследуются системы, состоящие из нескольких или большого числа элементов». Для интерпретации системы «литература» синергетика важна потому, что помогает понять ее динамический характер. Акцент в этом случае ставится на новых, эмерджентных свойствах элементов, которым они ранее вне системы не обладали. Таким свойством является превращение текста в художественный текст, т. е. в художественное произведение. Попытка понять литературу в аспекте системно-синергетического подхода означает включение теории литературы в современную научную парадигму.
Тема 1 Художественная литература
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: литература, художественная литература, словесное искусство, текст, литературное произведение, материальный и идеальный аспекты художественного произведения, автор, читатель, вариант, инвариант, программа функционирования системы «литература»
В энциклопедических словарях и литературоведческих справочниках литературой, как правило, называют совокупность письменных и печатных текстов, из числа которых иногда выделяют корпус текстов художественной литературы. Последнюю обычно именуют литературой, не прибегая к дополнительным определениям, как это делается в случае, когда речь идет, например, о технической или философской литературе. Этому обычаю будем следовать и мы, говоря о художественной литературе.
С сожалением приходится констатировать, что определения понятия художественной литературы отсутствуют не только в справочных изданиях, но и в научной литературе. Столь странная на первый взгляд ситуация имеет простое объяснение: многие авторитетные литературоведы прошлого столетия считали невозможным дать определение понятия художественной литературы. Так, например, в начале XX века Б.В. Томашевский писал: «Обнять одним определением все формы литературы во все времена немыслимо и совершенно бесцельно: только в историческом изучении жизни человеческого общества раскроется, чем была литература в разные времена. Такое общее определение, помимо того, и невозможно: сходные явления в разное время то относились к литературе, то исключались из нее. Каждый век имеет свое определение литературы»[4]. Сходные суждения присутствуют и в относящихся ко второй половине прошлого века трудах академика
Н.И. Конрада: «Иным является в разное историческое время и состав литературы. Дело при этом не в том, что, скажем, в древности в состав литературы входило все – и песня, и историческое сочинение, и правовой документ, и философский трактат, и рассказ, а в более позднее время литературой стало только то, что получило наименование «художественной литературы». Исторически столь же реально и другое: различное представление о «художественности» и в связи с этим различный состав именно художественной литературы. Так, например, в Китае в некоторые периоды Средневековья в орбиту художественной литературы не входил рассказ или роман, но входил политический трактат или публицистическая статья, если они были написаны с соблюдением определенных стилистических правил»[5].
Вариантом представленной выше позиции в прошлом столетии была та, которая принадлежала автору известного исследования «Структура художественного текста» Ю.М. Лотману. В этой книге он писал: «Зададимся вопросом: какие тексты являются художественными, а какие нет? Трудность всеобъемлющего ответа на него общеизвестна. Стоит сформулировать любое правило, как тотчас же живая история литературы предлагает столько исключений, что от него ничего не остается»[6]. Ученый не дал определения литературы, но он выделил четыре возможности функционирования текстов:
1. Писатель создает текст как произведение искусства, и читатель воспринимает его так же.
2. Писатель создает текст не как произведение искусства, но читатель воспринимает его эстетически (например, современное восприятие сакральных и исторических текстов древних и средневековых литератур).
3. Писатель создает художественный текст, но читатель не способен отождествить его с каким-либо из тех видов организации, которыми для него исчерпывается понятие художественности, и воспринимает его с точки зрения нехудожественной информации.
4. Этот случай тривиален: нехудожественный текст, созданный автором, воспринимается читателем как нехудожественный.
Эта типология возможностей функционирования текстов будет использована нами в ходе поисков ответа на вопрос об определении литературы, но отправной точкой для нас станет мысль об искусстве, принадлежащая Гегелю. Нам представляется, что он описал структуру системы «искусство», заметив, что оно «распадается на произведение, имеющее характер внешнего, обыденного наличного бытия, – на субъект, его продуцирующий, и на субъект, его созерцающий и перед ним преклоняющийся»[7].
В этом высказывании Гегель указал элементы, входящие в состав системы «искусство», и отметил особое место в ней произведения искусства. Он проследил также присутствие в системе «литература» прямой связи, идущей от продуцирующего субъекта через произведение к созерцающему это произведение субъекту, и обратной связи, проходящей от созерцающего произведение субъекта через произведение к продуцирующему произведение субъекту. Но, что особенно важно, Гегель уловил особенность отношений между элементами системы «искусство», порождающих то, что теперь мы называем системным качеством.
О нем, на наш взгляд, он говорит тогда, когда отмечает появление у произведения, «имеющего характер внешнего, обыденного наличного бытия», свойства быть предметом преклонения для созерцающего его субъекта, т. е. художественной ценностью.
Гегель дал описание инварианта системы «искусство», одним из видов которого является литература, поэтому, опираясь на его суждение, нетрудно представить инвариант системы «литература» в виде цепи, состоящей из трех элементов – автор, произведение и читатель, – в центре которой находится элемент «произведение». К нему от элемента «автор» идут прямые и обратные связи и от него эти связи проходят к элементу «читатель», что позволяет считать систему «литература» центрированной относительно элемента «произведение». Присутствие на входе и на выходе системы «литература» Человека в лице автора и читателя превращает ее в большую саморегулирующуюся систему с присущим этому классу систем системным качеством целого.
В системе «литература» нетрудно заметить присутствие двух связанных общим для них элементом «произведение», а потому лишь относительно автономных подсистем «автор – произведение» и «произведение – читатель». В этих подсистемах существуют отношения (1) «автор – произведение» и (2) «произведение – читатель», а также отношение отношений (1) и (2), вытекающее из того, что в отношениях (1) и (2) есть общий для них член отношения «произведение». Отношение отношений (1) и (2) отражает наличие в системе «литература» корреляции, частным случаем которой является функция. Отношение (1) «автор – произведение» при этом может выступать в роли независимой переменной, функцией от которой окажется отношение (2) «произведение – читатель». В описанной Гегелем системе «искусство» гомеостатичность, которая характерна для больших систем, «заслоняет» присутствие в ней стохастической (вероятностной) причинности. То же самое можно заметить относительно системы «литература», в которой корреляционный анализ позволяет обнаружить воздействие случайных факторов, осложняющих отношение между отношениями (1) и (2).
Корман Борис Осипович
(1922–1983) – историк и теоретик литературы. Б.О. Корман разработал концепцию целостности литературного произведения, создал оригинальную теорию автора, разграничив понятия биографического автора и автора концепированного, биографического читателя и читателя как идеального адресата. В работе «О целостности литературного произведения Б.О. Корман писал: «Реально-биографический автор (писатель) создает с помощью воображения, отбора и переработки жизненного материала автора как носителя концепции произведения. Инобытием такого автора является весь художественный феномен, который предполагает идеального, заданного, концепированного читателя. Процесс восприятия есть процесс превращения реального читателя в читателя концепированного; в процессе формирования такого читателя принимают участие все уровни художественного произведения, все формы выражения авторского сознания».
Литература:
Корман Б.О. Лирика Н.А. Некрасова. – Воронеж, 1964.
Корман Б.О. Избранные труды по теории и истории литературы. – Ижевск, 1992.
Поскольку отношение (1) зафиксировано в тексте произведения, то текст является одновременно и «материей» произведения, и носителем программы функционирования системы «литература», содержащей указания читателю и корректирующей поведение системы, на основе обратных связей. Необходимость в авторских указаниях на принадлежность произведения к художественной литературе обусловлена спецификой словесного искусства. Дело в том, что, в отличие от других видов искусства, где в роли указаний на художественность произведений выступает материал, которым оперирует автор произведения, литература как художественная, так и нехудожественная, использует в качестве материала один и тот же естественный язык. Поэтому писатели прибегают к разным видам указаний, из которых самым простым самым распространенным является подзаголовок с названием литературного жанра или его разновидности (повесть, рассказ, роман, поэма или исторический роман, фантастическая повесть и т. п.)[8].
Инвариант программы функционирования системы «литература» описал, не ставя перед собой такой задачи, Б.О. Корман, которого интересовала проблема целостности литературного произведения: «Процесс восприятия произведения реальным, биографическим читателем есть процесс формирования читателя как элемента эстетической реальности. В этом акте созидания концепированного читателя принимают участие все уровни литературного произведения. Так, прямооценочная точка зрения «навязывает читателю открыто выраженное представление о норме. Пространственная точка зрения заставляет читателя видеть то и только то, что видит субъект сознания. Она определяет его положение в пространстве, расстояние от объекта и направление взгляда. То же (с соответствующими изменениями) можно сказать и о временной точке зрения. Двойственный характер говорящего во фразеологической точке зрения предполагает и двойственный характер предлагаемой читателю позиции. С одной стороны, читатель совмещается с говорящим, принимая не только его пространственно-временную, но и оценочно-идеологическую позицию. С другой стороны, ему дана возможность возвыситься над говорящим, дистанцироваться от него и превратить его в объект. Чем в большей степени реализуется вторая возможность, тем в большей степени приближается реальный читатель к читателю, постулируемому текстом. Следовательно, степень обязательности позиции (степень ее навязанности), предлагаемой текстом, различна для каждой из точек зрения.
Наибольшей она является для прямо-оценочной, наименьшей – для фразеологической»[9].
Вячеслав Семенович Стёпин – академик РАН, автор трудов по философии, методологии науки и философской антропологии. В работе «Синергетика и системный анализ» B.C. Стёпин отмечает вклад Гегеля в разработку категориального аппарата исторически развивающихся систем. В монографии «Теоретическое знание» автор определяет самоорганизацию, включающую в себя самострук-турирование, саморегуляцию, самовоспроизведение, «…как процесс, который приводит к образованию новых структур».
Литература:
Стёпин B.C. Философская антропология и философия науки. – М., 1992.
Стёпин B.C. Теоретическое знание. – М., 1999.
Очевидно, что программа функционирования литературного произведения, как и ее инвариант в системе «литература», могут быть описаны различными способами. Дело здесь, однако, не в способах описания программ, а в их существовании и в роли, которую они играют в судьбе системы «литература».
Если рассматривать «действие программы саморегуляции как цели, обеспечивающей воспроизводство системы», то можно подойти к пониманию проблемы системного качества литературы как сохраняемого «блоком управления» свойства целого, внутри которого происходит преобразование свойств составляющих это целое частей[10]. Когда писатель создает текст, содержащий описание вымышленного мира, и снабжает его программой, обеспечивающей восприятие этого мира в качестве художественного изображения, а читатель преклоняется перед этим изображением, текст, не переставая быть носителем информации, становится литературным произведением. При этом не менее конкретное лицо – читатель, открывший для себя художественность текста и преклоняющийся перед нею, предстает как ценитель литературного произведения. И эта ситуация может повторяться при каждом новом акте рецепции.
Упомянутая выше типология функционирования текста была построена Ю.М. Лотманом на основе учета отношения отношений (1) и (2). Случай, когда писатель создает текст как произведение искусства и читатель воспринимает его так же, как и случай, когда «нехудожественный текст, созданный автором, воспринимается читателем как нехудожественный», – это проявления однозначного соответствия отношения (2) отношению (1). Случаи же, обозначенные Ю.М. Лотманом как второй и третий, требуют отдельного рассмотрения. Здесь необходимо вспомнить, что корреляция может быть более или менее тесной. В нашем случае это означает, что зависимость отношения (2) от отношения (1) может быть более или менее ясно выраженной. При этом число, показывающее степень тесноты корреляции, коэффициент корреляции, заключено между -1 и 1. В «целевых» системах, к числу которых относится система «литература», коэффициент корреляции стремится от -1 к 1, никогда не достигая, однако, значения 1.
Это позволяет утверждать, что существует тенденция к верному пониманию указаний автора на принадлежность художественного текста к литературе и справедливой оценке читателем литературного произведения и что эта тенденция проявляется тем яснее, чем шире оказывается круг читателей и чем дольше оно функционирует. Из этого следует, что если писатель создает текст не как произведение искусства, то такой текст имеет меньше шансов на то, чтобы в процессе функционирования оказаться отнесенным к числу художественных текстов, чем текст, который создавался как художественный, и, напротив, у художественного текста оказывается меньше шансов на то, чтобы остаться причисленным к нехудожественным текстам, чем у текста, который был создан автором как нехудожественный.
Если учесть, что свойства системы «литература» соответствуют классу больших саморегулирующихся систем, то литературу можно было бы определить как одну из систем, составляющих этот класс. Однако такой вывод был бы преждевременным, потому что саморегулирующиеся системы представляют собой только «устойчивые состояния еще более сложной целостности»[11] – саморазвивающихся систем. Поэтому литературу представляется возможным определить как большую саморегулирующуюся систему, которая состоит из соединенных прямыми и обратными связями элементов – автор, произведение и читатель – и обладает способностью к саморазвитию.
Вопросы к теме
1. В чем состоит специфика «художественной литературы»?
2. Одинаков ли состав «художественной литературы» в разные эпохи?
3. Понимание системы «искусство» у Гегеля содержит указание на прямые и обратные связи. Как характеризует философ обратную связь?
4. Каким образом в системе «литература» возникает новое системное качество?
5. В чем заключается программа функционирования системы «литература»?
Литература по теме
1. Гегель. Эстетика: В 4 т. – М., 1968–1973.
2. Кормам Б.О. Литературоведческие термины по проблеме автора. – Ижевск, 1982.
3. Курдюмов С.П., Князева Е.Н. Структуры будущего: синергетика как методологическая основа футурологии // Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в искусстве. – М., 2002.
4. Стёпин B.C. Синергетика и системный анализ // Синергетическая парадигма. Когнитивно-коммуникативные стратегии современного научного познания. – М., 2004.
5. Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. М., 1985.
6. Хакен Г. Информация и самоорганизация. – М., 1991.
Тема 2 Система «Литература»
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система, коммуникация, системные принципы, прямые и обратные связи, интегративное свойство, экстралитературная реальность, традиция, материальный и идеальный аспекты системы, текст, художественное произведение, концепированный автор, концепированный читатель
Термин «система» происходит от греческого слова systema – целое, составленное из частей, соединение. Система – это «совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определенную целостность, единство»[12]. В соответствии с таким представлением о системе сложился понятийный аппарат, который лег в основу системных принципов, в том или ином виде присутствующих в работах по проблемам межкультурной коммуникации, культурологии и теории литературы. К числу системных принципов относятся:
1. Целостность – «…принципиальная несводимость свойств системы к сумме составляющих ее элементов» и невыводимость свойств целого из свойств отдельного элемента.
2. Зависимость каждого элемента, свойства и отношения системы от его места, функций внутри целого.
3. Структурность – возможность описания системы через установление ее структуры, т. е. сети связей и отношений, обусловленность поведения системы не столько поведением ее отдельных элементов, сколько свойствами ее структуры.
4. Взаимозависимости системы и среды. Система формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимодействия со средой, являясь при этом активным ведущим компонентом взаимодействия.
5. Иерархичность. Каждый компонент системы в свою очередь может рассматриваться как система, а исследуемая в данном случае система представляет собой один из компонентов более широкой системы.
6. Множественность описания каждой системы. В силу принципиальной сложности каждой системы ее адекватное познание требует построения множества различных моделей, каждая из которых описывает лишь определенный аспект системы.
Уже отмечалось, что предположение о том, что искусство являет собой систему, Гегель дал еще в XIX веке. Он отметил, что «искусство распадается на произведение, имеющее характер внешнего, обыденного наличного бытия – на субъект, его продуцирующий, и на субъект, его созерцающий и перед ним преклоняющийся»[13].
Немецкий философ гениально предугадал необходимость наличия в системе прямых и обратных связей. Система «искусство» у Гегеля выглядит так: 1) субъект продуцирующий (автор), 2) произведение, имеющее характер внешнего, обыденного, наличного бытия, 3) субъект, его созерцающий и перед ним преклоняющийся.
Идея Гегеля может быть выражена схемой:
Субъект продуцирующий ↔ произведение ↔ субъект созерцающий и преклоняющийся.
Система «литература» может быть представлена так:
Центральное положение произведения чрезвычайно существенно: именно произведение является средоточием связей и отношений между автором и читателем.
В схеме наряду с основной триадой (автор ↔ произведение ↔ читатель) присутствуют культурная традиция и экстралитературная реальность. Они являются ее разверткой, окружающей средой, с которой происходит обмен информацией и энергией.
Винер Норберт (Wiener, 1884–1964) – основоположник кибернетики и математической теории связи. Н. Винер исходит из того, что «кибернетика» (греч. Kybernetes – «рулевой», «кормчий») как наука об управлении и связи противостоит возрастанию энтропии. Под «энтропией» при этом понимается тенденция природы «…к нарушению организованного и разрушению имеющего смысл».
Н. Винер – создатель концепции «обратной связи» в коммуникативных системах «человек ↔ человек (общество)», «человек (общество) ↔ машина». Действие прямых и обратных связей в системе «литература» преобразует «текст», содержащий конкретную информацию, в художественное произведение.
Литература:
Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. – М., 1958.
Винер Н. Творец и робот. – М., 1966.
В системе различают прямые и обратные связи, выделяя при этом два вида обратных связей – положительные и отрицательные.
Обратная связь (feed back), которую Норберт Винер называет положительной, усиливает функционирование системы, а обратная связь, которая ослабляет функционирование системы, – отрицательной. Положительная обратная связь, как правило, ведет к неустойчивой работе системы, тогда как отрицательная обратная связь стабилизирует функционирование системы. В текстах современного сербского писателя М. Павича[14] активно «работает» положительная обратная связь, придающая осознанную неустойчивость системе. Так, например, в соответствии с игровыми правилами постмодернизма автор «Хазарского словаря» создает произведение-ресторан, где каждый читатель-посетитель «составляет меню по своему вкусу». Об этом характерном примере положительной обратной связи, придающей программную неустойчивость системе, остроумно писал швейцарский критик Андре Клавель.
Присутствие в системе «литература» прямой связи, идущей от автора через произведение литературы к читателю, и обратной связи, идущей от читателя через произведение к автору, создает возможность для саморегуляции системы «литература». Система «литература» обладает интегративным свойством. Интегративное свойство – это способность системы выступать в качестве целого по отношению к ее частям.
Предложенное описание системы «литература» сходно со схемами, отображающими процесс литературной коммуникации, хотя они и не тождественны. Поскольку понятие коммуникации пришло в литературоведение из теории информации, где оно означает процесс передачи информации от одной системы к другой, финалом этого процесса считается использование полученного сообщения. В языковой и литературной коммуникации его завершением для специалиста-филолога является интерпретация текста. В рецептивной эстетике результат видят в процессе превращения текста в художественное произведение благодаря конкретному акту коммуникации. Обратная связь между элементами «автор – произведение» и «читатель – произведение» лежит за пределами передачи информации, а потому ее не фиксирует ни литературная коммуникация, ни рецептивная эстетика. Термин «коммуникация» (от лат. communicatio) обозначает общение, обмен мыслями, сведениями, эмоциями.
Коммуникативную цепь обозначают схемой:
Отправитель → Сообщение → Получатель
Автор → Текст → Читатель
Вторая часть схемы фиксирует ее применение к предмету литературы. Простейший пример коммуникации – написание и отсылка письма адресату Понятие «общение» охватывает разные уровни коммуникации. В математике, технике и лингвистике используются термины «код», «шум», «канал связи», «информация», «трансляция». Кибернетики, используя коммуникативные возможности различных технических систем, создают компьютеры все новых поколений. В литературе схема коммуникативной цепи отсылает нас к формуле Гегеля. Но в реальной действительности отношения эти не ограничиваются тремя элементами и содержат необходимые опоры в реальности и предшествующем опыте литературы как виде словесного искусства. Автор создает произведение, опираясь на традицию, учитывая знание этой традиции читателем. Даже в частном послании он следует принятой этикетной формуле. Вспомним, сколь обязательна была эта формула в письме в деревню, где полагалось уважительно называть адресата, непременно вспомнить соседей и родственников и в заключение упомянуть собственное положение сына или брата. В драме «Борис Годунов» А.С. Пушкин опирается на фольклорные традиции легенды о царе-изгнаннике[15]. Но и самые дерзкие новаторы в литературе традицию игнорировать не могут. Не менее существенна связь автора с реальностью, с которой читатель «сверяет» произведение, определяя его значимость и актуальность.
В словесных определениях литературной коммуникации слабо различаются понятия «текст» и «произведение». Ими нередко пользуются как синонимами, и это не случайность. Наиболее последовательно литературная коммуникация может быть представлена в схеме[16]
В схеме «литературная коммуникация» присутствует не художественное произведение, а текст. И происходит это именно потому, что в отношении «текст – читатель» нет обратной связи. В ней не заложено условие читательской оценки текста, которое присутствует у Гегеля, говорившего о субъекте, созерцающем и преклоняющемся перед произведением искусства. Это предполагает иную схему, в которой текст заменен произведением, имеющим смысловую разнонаправленность.
Присутствие прямой и обратной связей в системе «искусство» означает, что продукт творчества художника, не переставая быть носителем информации, становится художественным произведением, музыкой, «божественным глаголом», живописным полотном. Если же обратной связи нет, то, по выражению поэта, «и музыка мне мнится смутным шумом, / когда я слушаю стихи друзей».
Сложность системы «литература» не только в соединении пяти необходимых элементов, а прежде всего в том, что система «литература» имеет материальный и идеальный аспекты. В ее материальном аспекте каждый компонент может быть объективирован. Автор — реальное лицо с собственной биографией: Пушкин, Лермонтов или Ерофеев. Произведение — его рукопись или отпечатанная книга. Читатель — покупатель этой книги. Традиция — круг предшественников, на который автор ориентируется. Реальность — те события, в русле которых он живет и «зеркалом» которых одухотворяется либо костенеет.
Система приобретает материальный аспект благодаря имеющему идеальный характер отношению читателя к произведению.
Читатель, признавший художественную ценность произведения, способствует его популяризации, тиражирует его, морально и материально поддерживает автора – своего современника, собирает сведения об ушедшем из жизни писателе. Об этом свидетельствуют случаи хранения читателем с риском для благополучия, а порой и для жизни, рукописей и книг, подвергавшихся цензурному запрету, переписывание в Средние века текстов полюбившихся произведений, приобретение книг для личных библиотек, большие тиражи и переиздания популярных произведений и связанное с этим возрастание авторских гонораров, рассказываемые о писателях анекдоты.
Двойственный – реальный и идеальный — аспект имеют и другие элементы системы. Конкретная реальность влияет на судьбу автора и его произведения, определяя его тематику и проблематику Одновременно она и та реальность, которая воссоздана в произведении и с которой читатель соотносит произведение, читательское представление о реальности, не остающееся неизменным в разные времена. Цветные тени на снегу или воздушная среда, размывающая четкие очертания предметов, увиденные импрессионистами, поначалу показались зрителям искажением реальности и вызвали решительный протест. Сегодня они являются частью привычного художественного восприятия, как станет им, возможно, в XXI веке синтез слова и живописного образа в поэтике концептуалистов.
Традиция – сознательно избираемый художником опыт предшественников либо влияние культуры, постигаемое независимо от воли авторов, сказывающееся в следовании нормам языка, жанровым формам, художественным приемам, то, что В.М. Жирмунский называет «неосознанной ориентировкой». Читатель – конкретный читатель текста, имеющий подобно биографическому автору, свое лицо, и одновременно «концепированная личность», «конгениальная» автору, способная понять текст и сделать его в своем восприятии художественным произведением.
В идеальном аспекте системы «литература» автор перестает рассматриваться как биографическое лицо. Он берется как автор концепированный, носитель художественного сознания, обнимающего произведение целиком. М.М. Бахтин писал о «вненаходимости» автора по отношению к произведению.
Осцилляции, колебания системы «литература» между материальным и идеальным аспектами задают «программу» этой системы, содержащую биографические и эстетические моменты, но не смешивающую их[17]. Уже отмечалось, что такая программа связана с тем, что писатель, создавая текст, содержащий описание вымышленного мира, задает алгоритм, обеспечивающий восприятие этого мира в качестве художественного изображения. Если читатель преклоняется перед ним, то текст, не переставая быть носителем информации, становится литературным произведением, а тот, кто написал его, оставаясь реальным лицом, становится автором (создателем) произведения. Не менее конкретное лицо – читатель, открывший для себя художественность текста и преклоняющийся перед ней, предстает как ценитель литературного произведения. В процессе восприятия произведения реальным, биографическим читателем происходит «…процесс формирования читателя как элемента эстетической реальности. Реальному читателю произведение (автор, стоящий за ним и выразивший себя в нем) «навязывает» известную позицию»[18]. Предстающий как ценитель литературного произведения читатель дистанцируется от текста, возвышается над ним. Такой читатель – идеальный адресат, «идеальное воспринимающее начало». Он является элементом «…не эмпирической, а эстетической реальности»[19].
Вопросы к теме
1. Перечислите основные системные принципы. Приведите примеры прямых и обратных связей в системе «литература».
2. Присутствует ли анализ отношений «автор ↔ произведение» и «произведение ↔ читатель» в книге Д.С. Лихачева «Поэтика древнерусской литературы»? Подтвердите свое мнение.
3. В чем состоит двойственность системы «литература»?
4. В чем отличие «текста» от литературного «произведения» как центрального элемента системы «литература»?
Литература по теме
1. Гегель. Эстетика: В 4 т. – М., 1968–1973.
2. Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. – М., 1958.
3. Винер Н. Творец и робот. – М., 1966.
4. Попович А. Проблемы художественного перевода. – М., 1980.
5. Корман Б.О. Избранные труды по теории и истории литературы. – Ижевск, 1992
6. Садовский В.Н. Система // Философский энциклопедический словарь. – М., 1983.
7. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. – М., 1978.
8. Юдин Е.Г. Системный подход и принцип деятельности. – М., 1978.
9. Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Системные исследования и общая теория систем // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник. – М., 1969.
Тема 3 Системный подход
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метод, подход, система, открытая система, системный подход, эмерджентное свойство системы «литература», эмерджентное свойство, смысловой скачок, автор биографический, автор концепированный, биографический метод, культурно-исторический подход, социологический метод, формальный метод, структурный метод, рецептивная эстетика, концептуально-филологический подход
Зарождение системного подхода к изучению литературы восходит к идеям Аристотеля (384–322 до н. э.), Г.В.Ф. Гегеля (1770–1831) и других философов, Ф. де Соссюра (1857–1913) и его последователей в лингвистике, Ю.Н. Тынянова (1894–1943) и ученых, входивших в Пражский лингвистический кружок (1926—1950-е годы). Системный подход к изучению литературы сформировался во второй половине XX века под влиянием общих теорий систем Л. фон Берталанфи (1901–1972) и лауреата Нобелевской премии И.Р. Пригожина (1917–2003). К числу литературоведов, использовавших системный подход, принадлежали Д.С. Лихачев, P.O. Якобсон, Н.И. Конрад, И.Г. Неупокоева.
Представление о художественной литературе как о системе и вытекающая из такого представления потребность в системном подходе к ее изучению имеют свою традицию, восходящую, в частности, к учению И.В. фон Гете о метаморфозе растений. Ближайшим образом представление о литературе как системе восходит к работам P.O. Якобсона 1920-х годов, его мыслям о системе поэтического языка и в особенности к плодотворным идеям Ю.Н. Тынянова. Стремясь понять, из каких элементов состоит художественное произведение, он вводит понятие «система» для обозначения семантической организации текста. В книге «Стихотворная семантика» (1923), переименованной по настоянию издателя в «Проблему стихотворного языка», разработаны положения о воздействии словесной конструкции на глубинный смысл произведения. Эти мысли оказали заметное влияние на филологическую науку
В тезисах «Проблемы изучения литературы и языка» Ю.Н. Тынянов пунктом первым выдвигает требование «четкости теоретической платформы» и развития «науки системной»[20]. В этом же направлении рассматривается книга Ю.Н. Тынянова «Проблемы стихотворного языка» Б.В. Томашевским. В 1944 году на вечере, посвященном памяти Ю.Н. Тынянова, он говорил, что поставленные в книге задачи есть задачи сегодняшнего литературоведения: «Это книга, которую надо изучать, которую надо усвоить, которую надо продолжить»[21].
Продолжение и развитие мыслей о системной связи в литературе, «конструкции» и глубинного смысла встречается затем у многих отечественных и зарубежных авторов. Термины «система» и «конструкция» постепенно становятся привычными. Так, в основе концепции И.Г. Неупокоевой, положенной в основу «Истории всемирной литературы», присутствует мысль о том, что только при системном подходе «возможно создание теоретического представления о литературной эпохе не просто как о хронологическом отрезке времени с определенными доминантными и второстепенными чертами… но как о динамическом целом…»[22]. О «системах, складывающихся на больших этапах всемирной истории», писал Н.И. Конрад[23].
Людвиг фон Берталанфи
(Bertalanffy, 1901–1972) – австрийский биолог, создатель общей теории систем. Общая теория систем Берталанфи – «модель определенных общих аспектов реальности», угол зрения, позволяющий увидеть предметы, которые раньше не замечались. Обобщив положения физической химии, кинетики и термодинамики, он построил общую теорию биологических организмов, представлявшую собой взгляд на мир как на «большую организацию». Основными положениями общей теории систем Л. фон Берталанфи считал теорию управления с моделями обратной связи, представление об открытых системах, объясняющих организацию «живых сущностей» разных типов и уровней. По мысли Берталанфи, «системные законы» проявляются аналогичным образом в природе, человеческом обществе, технике и т. д. Опираясь на концепцию Л. фон Берталанфи, литературу можно рассматривать как открытую систему.
Литература:
Берталанфи Л., фон. История и статус общей теории систем //Системные исследования: ежегодник. 1973. – М., 1973. С. 20–36.
Берталанфи Л., фон. Общая теория систем: критический обзор // L. von Bertalanffy. General System Theory – A Critical Review. «General Systems». -Vol. VII. – 1962. P. 1–20. Пер. H.C. Юлиной. – Интернет-ресурс:
Развернутое определение литературы как системы дал Д.С. Лихачев: «Под системой литературы я подразумеваю определенное соотношение ее частей между собой: видов литературы (переводной и оригинальной, церковной, исторической, естественно-научной, публицистической и пр.), ее жанров, ее отдельных произведений. В понятие системы литературы входит кроме того и отношение литературы к другим областям культуры: к науке, религии, общественной мысли, различным искусствам, фольклору и пр. Наконец, к системе литературы относится и ее отношение к исторической действительности, соотношение с которой составляет самую существенную часть системы»[24].
Нетрудно подметить, что академиков Н.И. Конрада, Д.С. Лихачева, как и И.Г. Неупокоеву, интересуют прежде всего региональные, зональные и национальные литературные системы, а также литературные эпохи, рассматриваемые как система. Такой подход может быть реализован по преимуществу в пределах исторического метода, «лишь при органическом сочетании его с методом сравнительным»[25]. Оговорка И.Г. Неупокоевой весьма существенна. Вопрос о разделении литературы на художественную и нехудожественную через уточнение системных признаков в приведенных положениях не ставится.
Системный подход вырабатывался в области естественных и точных наук, но получил широкое применение и в кругу наук гуманитарных. Этому не следует удивляться, потому что системный подход представляет собой направление методологии специально-научного познания, в основе которого лежит исследование объектов как систем. Современное литературоведение является одним из видов такого познания. В его научный аппарат вошли представления, понятия и термины не только из общей теории систем, но и из такой специальной научной дисциплины, как занимающаяся сложными системами синергетика. И все же слова Ю.Н. Тынянова о том, что «история системы есть в свою очередь система»[26], пока остаются для литературоведов скорее «протоколом о намерениях», чем программой действий.
Дмитрий Сергеевич Лихачев
(1906–1999) – академик РАН, специалист в области истории и теории литературы, этики, культурологии. Председатель редколлегии серии «Литературные памятники», сыгравшей заметную роль в сохранении культуры России.
В теории литературы разработал понятие «внутреннего мира» художественного произведения. Опираясь на теорию систем, анализировал литературу в составе сложной нестабильной системы «культура». Развивая идеи С.А. Аскольдова, ввел понятие концептосферы национального языка.
Литература:
Лихачев Д.С. Заметки о русском. – М., 1981.
Лихачев Д. С. Поэзия садов. – Л., 1982.
Лихачев Д.С. Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение и другие работы. – СПб., 1997.
Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. – № 8. – 1968. С. 76.
Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: антология. – М., 1997.
Одна из причин такого положения вещей видится в том, что еще не описана система «художественная литература» и нет даже определения понятия «художественная литература», т. е. не определен объект исследования. Без этого филологам трудно вести диалог со специалистами в области системного анализа и синергетики, уже активно занимающимися проблемами искусства, и невозможно преодолеть разрыв в научной традиции, проявившийся между методологией современных системных исследований и методами, которые были созданы за долгую историю существования филологии и литературоведения.
Система «литература» – не синоним художественной литературы, как система «произведение» – не слепок художественного произведения: различие между системой «литература» и художественной литературой можно сравнить со схематическим планом местности и живой природой. Река, представленная на карте извилистой линией, по выражению поэта – «виноградной узкой веткой», имеет свойства, на картах не обозначаемые. Описание системы «литература» дает лишь «топографию» объектов, освоенных литературоведческими методами-подходами. Но оно необходимо литературоведу, как карта путешественнику в стране со сложным рельефом. Однако у системного подхода есть и другая, не менее важная роль: он вводит литературу в круг системных объектов с их специфическими закономерностями, задающими решения о применимости или неприменимости чрезвычайно разнообразных литературоведческих методов, и, главное, позволяет интегрировать описания литературы, выполненные на их основе.
За время своего существования литературоведение выработало немало методов, но в рамках системного подхода часть из них не может иметь применения, потому что они находятся в противоречии с системными принципами. Так, например, когда вульгарный социологизм (В.М. Фриче, В.А. Келтуяла, В.Ф. Переверзев и др.) рассматривал литературное произведение вплоть до его стиля в качестве производного от экономических отношений в обществе и классовой принадлежности писателя, то нарушался принцип взаимозависимости системы и среды, утверждающий активную роль системы в отношениях со средой.
Вульгарный социологизм демонстрирует не пренебрежение к свойствам литературы, а иное, чем в системе «литература», видение причин и следствий.
Литературоведческие методы создавались для изучения литературного произведения, взятого либо в связях и отношениях с окружающей средой (например, биографический метод и культурно-исторический метод), либо вне связи и отношений с этой средой (например, формальный метод и структурный метод). Произведение же является лишь одним из элементов системы «литература», поэтому ни один из существующих литературоведческих методов не может соответствовать всем системным принципам и играть роль универсального метода по отношению к системе «литература».
Однако каждый из литературоведческих методов, если он не претендует на универсальность, может открывать какую-то сторону изучения художественной литературы.
Системный подход — направление в методологии научного познания и социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем. Методологическая специфика системного подхода определяется тем, что он ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих его механизмов, на выявление многообразных типов связей между компонентами сложного объекта и сведение их в единую теоретическую картину, которая включает также связи объекта с окружающей его средой. Системный подход обнаруживает системы там, где их раньше не замечали, и, прослеживая системные закономерности в поведении таких объектов, заглядывает в их будущее.
В предлагаемом нами описании на входе и на выходе системы «литература» стоит Человек, представленный элементами «автор» и «читатель». Эти элементы обозначены, но они еще не стали предметом системного анализа и не описаны как системы. Однако само их присутствие в относительно автономных подсистемах «автор – произведение» и «произведение – читатель» позволяет говорить о чрезвычайной сложности этих подсистем и о принадлежности системы «литература» к числу целенаправленных систем, способных к саморазвитию.
Системный подход воплощает принципы изучения художественного произведения или всего творческого наследия автора как органического целого в синтезе структурно-функциональных и генетических представлений об объекте. Отношения «автор – произведение», «традиция – произведение», «реальность – произведение» оказываются связанными через произведение, занимающее в системе центральное место и обретающее статус художественности благодаря прямой и обратной связи с читателем.
При системном подходе осуществляется единство анализа и синтеза. Как уже упоминалось, автором художественного произведения оказывается конкретно описанный биографический автор (анализу подвергается вся его жизнь) и концепированный автор (весь текст). При этом биографический метод фокусирует внимание на биографическом авторе. Между биографическим автором и автором концепированным есть несомненная связь, выражающаяся в автобиографических аспектах произведения. Однако переход от автора биографического к автору концепированному связан всегда с появлением нового смысла, со смысловым скачком.
Согласно системному принципу иерархичности, каждый компонент системы в свою очередь может рассматриваться как система. С этой точки зрения «Автор» – одновременно сложная система и элемент еще более сложной системы «литература», имеющей материальные и идеальные аспекты. Система «Автор» может быть представлена схемой:
Автор биографический ↔ Автор концепированный ↔ Повествователь ↔ Образ повествователя (автора)
Формальный и структурный методы посвящены имманентному изучению произведения как сложной иерархической системы.
Взаимоотношения «Автор ↔ Традиция» и «Читатель ↔ Традиция» изучают культурно-исторический метод и герменевтика.
Социологический метод сфокусирован на отношениях «Автор ↔ Реальность», «Читатель ↔ Реальность».
Рецептивная эстетика занимается отношениями «Произведение ↔ Читатель» и «Читатель ↔ Произведение».
Сравнительно-исторический метод и компаративистика изучают сопоставление национальных литературных систем в рамках сверхсложной системы «мировая литература».
Системно-синергетический подход к литературе раскрывает появление эмерджентных свойств в системе «литература». Эмерджентное свойство — новое свойство элементов системы, которым они ранее (вне системы) не обладали и которое появляется у них в больших (сложных) системах. Эмерджентное свойство присуще не только элементам систем, но и самим системам. Эмерджентное свойство системы проявляется в скачкообразности возникновения системы в ходе ее самоорганизации и в скачкообразности изменений в системе в процессе ее саморазвития.
Ряд последующих тем книги раскрывает применительно к системе «литература» «зоны ответственности» различных методов и подходов.
Вопросы к теме
1. Почему необходимо различать понятия метода и подхода?
2. Какие подсистемы в системе «литература» попадают в поле зрения биографического и культурно-исторического подходов?
3. Какие литературоведческие методы нацелены на изучение взаимосвязей автора и читателя с экстралитературной реальностью и традицией?
4. В чем заключается эмерджентное свойство системы «литература»?
Литература по теме
1. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. – М., 1979.
2. Неупокоева И.Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и сравнительного анализа. – М., 1976.
3. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977.
4. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. – М., 1978.
5. Юдин Б.Г. Системный анализ; Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Системный подход // Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.
Дополнительная литература
1. Лихачев Д. С. Древнеславянские литературы как система // VI Международный съезд славистов. – Прага, 1968.
2. Пригожим И., Стетерс И. Порядок из хаоса. – М., 1986.
3. Успенский Б.А. Поэтика композиции: структура художественного текста и типология композиционной формы. – М., 1970.
4. Bertalanffy Е. General system theory. Foundation, development, application. – N.Y., 1968.
Тема 4 Биографическим метод
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биография, личность писателя, автор биографический, автор – субъект сознания, автор концепированный, личность писателя, психология, литературный портрет
Биографический метод один из первых научных способов изучения литературы, разработанный в эпоху романтизма французским критиком, поэтом и писателем Шарлем Огюстеном Сент-Бёвом. Его деятельность как литературного критика связана с развитием романтизма во Франции, в частности с редакцией газеты «Глоб», выходившей с 1824 года. В биографическом методе биография и личность писателя рассматриваются как определяющие моменты творчества[27]. В системе «литература» они ориентированы на отношение «автор – произведение», в котором «автор» – прежде всего живой, конкретный человек. «Литература, литературное творение, – признается Сент-Бёв, – неотделимы для меня от всего остального в человеке, от его натуры; я могу наслаждаться тем или иным произведением, но мне затруднительно судить о нем помимо моего знания о самом человеке; я бы сказал так: «каково дерево, таковы и плоды» (курсив. – Ш.О. Сент-Бёв.) Вот почему изучение литературы совершенно естественным образом приводит меня к изучению психологии»[28].
Шарль Огюстен Сент-Бёв
(Sainte-Beuve, 1804–1869) французский критик, поэт, писатель. Известность получает после публикации поэтического сборника «Жизнь, стихотворения и мысли Жозефа Делорма» (1829), в котором романтический подход проявляется в пристальном внимании к душевной жизни человека. Сент-Бёв – автор многочисленных критических статей, вошедших в сборники «Исторический и критический обзор французской поэзии и французского театра XVI века» (1828), «Литературно-критические портреты» (ч. 1–5, 1836–1839), «Шатобриан и его литературный круг в период Империи» (1861). В России к творчеству Сент-Бёва привлек внимание
А.С. Пушкин, отметивший «сухую точность» его поэзии и влияние страстей на характер героя. Интерес к биографии художника – главная тема исследований Сент-Бёва, ставшего родоначальником первого в литературе научного метода.
Литература:
Сент-Бёв Ш.О. Литературные портреты. Критические очерки / Сост., вступ. статья, коммент. М. Трескунова. – М., 1970.
Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. Трактаты. Статьи. Эссе / Сост., общ. ред. Г.К. Косикова. – М., 1987.
Изучение психологии Сент-Бёва начинается, по возможности, со знакомства с живым человеком. Так, в мае 1839 года, возвращаясь морем из Италии во Францию, Сент-Бёв познакомился с И.В. Гоголем. Позже он писал, что разговор с Гоголем, «полный силы, отличающийся точностью и богатством наблюдений над нравами и фактами действительной жизни», помог ему «схватить на лету всю оригинальность и реализм его сочинений и назвать повесть «Тарас Бульба» русским эпосом, а Гоголя – великим реалистом. От живого впечатления, при котором Сент-Бёв уловил характер наблюдений писателя над жизнью, критик переходит к определению метода его письма.
Понятно, не всякому случается побеседовать с автором, о котором он пишет исследование. В таком случае, по мысли Сент-Бёва, ему следует обратиться к архивным материалам, к документам, письмам, очевидцам жизни автора, к его биографии. В этом безбрежном море ушедших времен и событий завершенной человеческой жизни Сент-Бёв расставляет свои опорные пункты. Сент-Бёва неоднократно упрекали за субъективизм и отсутствие научной системы. Действительно, он не составил ее целостного изложения, не написал трактатов о том, как факт жизни становится фактом литературы. Лучшим пособием для изучения опыта Сент-Бёва надо признать чтение его литературных портретов, «медальонов»[29]. Именно в них содержатся советы Сент-Бёва сторонникам биографического метода, существование которого сам он считает непреложным фактом: «У меня есть метод… и хотя он не сразу явился в виде определенной теории, но сложился в процессе самой критической практики; длительное же применение лишь утвердило его в моих глазах»[30].
Попробуем вслушаться в советы Сент-Бёва. Начать знакомство с автором он предлагает «с самого начала», с изучения родственников великого человека, с его отца, братьев, сестер и особенно с матери – «наиболее близкой и несомненной родственницы», а также с детей, потому что и в них проявляются те свойства, которые в великом писателе может скрывать его величие: «Сама природа облегчает анализ»[31].
После того как удалось собрать все возможные сведения о происхождении и единокровных близких художника, а также о его воспитании и образовании, Сент-Бёв советует познакомиться с тем первым окружением, с той группой друзей и современников, в которой очутился писатель в пору становления. Важное значение имеют также читаемые им книги, учителя и даже ученики. Самый их выбор многое скажет.
Но поскольку писатель, как и всякий человек, с возрастом меняется, Сент-Бёв по отношению к нему «задается известным числом вопросов, на которые исследователь должен ответить для самого себя “хотя бы чуть слышно”, ибо без этого он не сможет быть уверенным, что знает своего автора всего целиком, если даже ему кажется, что вопросы эти не имеют отношения к сути его сочинений – Каковы были его религиозные взгляды? – Какое впечатление производило на него зрелище природы? – Как он относился к женщинам, к деньгам? – Был ли он богат, беден? – Каков был его распорядок, повседневный образ жизни? и т. д. – наконец, каковы были его пороки или слабости? Ведь они есть у всякого». Любой ответ на эти вопросы представляется Сент-Бёву значимым для оценки литературного сочинения, в котором «личность писателя сказывается вся целиком».
Именно так рассматривает Сент-Бёв Корнеля, Лафонтена, Монтеня, Руссо и других французских авторов. В литературном портрете «Пьер Корнель» он в первую очередь ставит задачей распознать в его первом шедевре «общее состояние литературы», когда в нее вступает новый писатель, полученное им воспитание и особенности таланта, которым наделила его природа.
Далее следует характеристика первой половины XVII века, когда «внимание юного провинциала Корнеля» привлекали три громких имени, имена трех поэтов – Ронсара, Малерба и Теофиля, литературные споры о трех единствах, театральные обычаи и вкусы парижской публики.
Рассказ о суровом воспитании Корнеля, предназначенного отцом к судейской карьере, наложен на историю первой любви будущего автора «Сида». В ней, по мысли Сент-Бёва, «уже раскрывается своеобразный характер этого человека. Простодушный, мягкий, застенчивый, робкий в речах, неловкий, но искренний и почтительный в любви», утратив надежду на взаимность, он женится через пятнадцать лет на другой и ведет «жизнь почтенного буржуа, ни разу не поддавшегося соблазнам и вольным нравам театральной среды, с которой ему приходится соприкасаться». Из свойства характера и обстоятельств жизни Корнеля Сент-Бёв выводит оценку женских образов драматурга – цельных и благородных, но несколько одномерных, поскольку «Корнель плохо знал женщин».
Истоки трагикомедии «Сид» Сент-Бёв обнаруживает ив случайном факте биографии Корнеля – встрече его с де Шалоном, бывшим секретарем королевы-матери, который перевел Корнелю несколько мест из испанского автора Гильена де Кастро, но более в особенности натуры Корнеля: «Честный, высоконравственный, привыкший ходить с гордо поднятой головой, он не мог не поддаться сразу же глубокому обаянию рыцарских героев этой доблестной нации»[32]. Отсюда ведет критик и проблематику «Сида», и особенности «испанского жанра», который Корнель приспосабливает к французскому вкусу XVII века.
В приведенных портретах анализ Сент-Бёва обращен на поиски «тайного звена», соединяющего два бытия художника – «новое, сверкающее, великолепное», проявляющее себя в художественном произведении, и «тусклое, замкнутое, скрытое от людских взоров, которое он предпочел бы навеки забыть»[33]. При этом условии, по мысли Сент-Бёва, исследователь может считать себя познавшим самую суть творчества писателя. Но так ли это?
В методе Сент-Бёва средоточием отношений реальности и традиций является биографический автор, а не автор– субъект сознания, концепированный автор, выражением которого предстает художественный текст.
Однако и «бесхитростная» описательность Сент-Бёва на поверку оказывается ходом, ведущим к значимому аналитическому пассажу. Обратимся еще к одному примеру – статье об «Исповеди» Руссо. Далеко не все в этой работе можно считать сегодня справедливым. В ней слышится отзвук голосов, обвинявших просветителей, и в том числе Руссо, во всех крайностях и последствиях Великой буржуазной революции. Сент-Бёв полагает, что, исповедуясь перед всеми без христианского смирения, Руссо поступает как врач, увлекательно описывающий несведущим пациентам симптомы душевной болезни. Но новаторский характер «Исповеди» в статье подмечен точно, и сделано это опять-таки при помощи биографического метода. Из описаний родных Руссо, его жизни в мещанской швейцарской среде, из анализа известного эпизода о совместном чтении вместе с отцом оставшихся после смерти матери занимательных романов Сент-Бёв делает удивительный по тонкости вывод. Приведем цитату из Руссо, откомментированную Сент-Бёвом: «Вначале отец “всего-навсего хотел научить меня грамоте на занимательных книжках; но вскоре я так приохотился к чтению, что мы стали с ним читать по очереди без передышки и проводили за этим занятием целые ночи. Мы никак не могли расстаться с романом, пока не дочитывали все до конца. Иногда отец, услыхав, что уже щебечут ласточки, пристыженно говорил: пойдем-ка спать, видно, я не меньше ребенок, чем ты”».
Обратите внимание на эту ласточку – это первая ласточка, и она возвещает новую весну в языке; появляется она только у Руссо. Вместе с ним наш восемнадцатый век начинает чувствовать природу
Точно так же именно Руссо первым в нашей литературе начинает чувствовать домашнюю жизнь, жизнь небогатых горожан, потаенную, сосредоточенную, в которой скапливается столько сокровищ добродетели и кротости»[34].
То, что Сент-Бёв делает при помощи биографического метода, можно осуществить и по-иному, так, как написано во многих учебниках и статьях: вначале связать художественные открытия Руссо с сентиментализмом, в котором отразились настроения народных масс, не удовлетворенных официальным просвещением, затем изложить биографию и творческий путь Руссо, а при характеристике «Исповеди» подтвердить цитатами развитие у Руссо чувства природы и анализ внутреннего мира человека. Кому-то эта сухая схема, может быть, даже покажется предпочтительнее способа Сент-Бёва. Но насколько убедительнее «средствами искусства» приходит Сент-Бёв к выводам о роли Руссо как предтече французского романтизма! Сам автор говорит, что ему претят приемы лабораторного исследования или геометрическая схема. Его анализ «способен вызвать особое чувство волнения» и только на первый взгляд субъективен. В основе биографического метода справедливое представление о том, что автор произведения – живой человек с неповторимой биографией, события которой влияют на его творчество, с собственными мыслями, чувствами и даже болезнями, живущий в свое время, что, естественно, определяет выбор тем и сюжетов его произведений. Но личность писателя как творца не тождественна его произведению. Между тем у Сент-Бёва «творение в конечном счете оказывалось не целью, а средством познания»[35]. Преувеличение роли биографического автора с неизбежностью ведет к субъективности исследования, к созданию импрессионистического портрета художника.
Однако в биографическом методе упрощается категория автора, в котором скрывается целая система. Автор биографический не равен автору художественному, концепированному. Кто определит, в какой мере эпилепсия с характерными для этой болезни симптомами «застреваемости» и «вязкости» определила стиль Флобера? Какое событие жизни Достоевского обусловило появление в его романах несчастных детей? Другое дело, что для пользования биографическим методом необходимы энциклопедические знания и интуиция. Воскликнуть, как Сент-Бёв: «Это первая ласточка» во французской литературе XVIII века!» – может лишь исследователь, основательно знакомый с этой литературой. И писать так, чтобы литературоведческая работа приближалась к художественному произведению, – тоже особый дар. Может быть, поэтому биографический метод существует именно как метод, а не как научная школа. И все же у Сент-Бёва были талантливые продолжатели. Среди них первым стоит назвать Ипполита Тэна. Биографический метод явился своего рода «приготовительной школой», повлиявшей на возникновение психологического подхода и фрейдизма.
С использованием биографического метода могут строиться и современные исследования по компаративистике. Так, к примеру, сопоставление наследия Чосера и Толстого оказывается возможным не единственно по идейно-художественному типологическому признаку, но благодаря биографическому моменту «отречения», продиктованному в обоих случаях разочарованием в «суете житейской». То, что настроение кризиса давно известно в мировой культуре и слова Екклесиаста о «суете сует» почти повторяются в «Исповеди» Толстого, не снимает необходимости искать переворот в самой душе художника. Описание духовного кризиса Толстого потребовало от автора работы «переосмысления его привычного образа жизни, и не только личной, в том числе семейной, но и нового отношения к тому, что до этого момента было главной целью сочинительства»[36].
Советы основоположника биографического метода получили широкий отклик в зарубежном и отечественном литературоведении. На протяжении веков образ «биографического автора» обрастал подробностями его реальной жизни от младенчества до смертного часа. И, как завещал Сент-Бёв, особая роль в академических и популярных штудиях всегда отводилась матери, оказывающейся непосредственной участницей творческого процесса. В школьном учебнике по литературе для учащихся 10-го класса, например, так вспоминается о родителях Николая Алексеевича Некрасова, выросшего в Поволжье в поместье отставного офицера: «Сын безжалостного помещика, строго каравшего своих крепостных крестьян даже за мелкие провинности, пронес боль за простого человека через всю жизнь. Этим он обязан матери, Елене Андреевне, урожденной Закревской – дочери южнорусского помещика, служившего в Варшаве. Там она увлеклась не слишком молодым, но волевым и энергичным офицером. Быстро сыграли свадьбу, быстро яркое увлечение сменилось отнюдь не яркой, а иногда просто тягостной семейной жизнью, когда вспышки гнева мужа заставляли трепетать весь дом. А судьбу матери сын описал в одном из важнейших стихотворений начала своего творчества “Родина” (1846)». С образом матери автор главы связывает и всю проблематику творчества Некрасова, и структуру его личности («От отца он унаследовал независимость, от матери – тягу ко всему прекрасному и возвышенному»[37]). Этот же «ход» повторяется и в других главах учебника. Л.Н. Толстой «не помнил матери, которая умерла, когда ему было полтора года…но одухотворенность и способности он унаследовал от матери, а жизнелюбие – от отца, Николая Ильича Толстого, участника войны 1812 года, после окончания кампании разорившегося, женившегося на богатой невесте и занявшегося хозяйством, не желая служить ни в конце царствования Александра I, ни при Николае I по чувству собственного достоинства. Далее делается вывод, что Толстой воскресил характеры отца и матери в героях «Войны и мира»[38].
Элементы биографического метода всегда присутствовали при анализе творчества художников, особенно при анализе лирики, где авторское «Я» часто виделось читателю тождественным автору Мысль Б.М. Эйхенбаума об авторе как живом историческом факте, который надо уметь разглядывать, в лирике особенно привлекательна. Лирический герой А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова или А.А. Ахматовой начинал жить как реальный человек, ущемляя традицию и историческую реальность. В результате встречи биографического и художественного автора появляется новая реальность. С этим материалом превосходно работали представители биографического метода и культурно-исторической школы.
Вопросы к теме
1. На каких принципах строится биографический метод?
2. Как он соотносится с психологическим и культурно-историческим подходами?
3. В чем сила и ограниченность биографического метода?
4. Какие звенья коммуникативной цепи можно исследовать с помощью биографического метода?
Литература по теме
1. Жирмунский В.М. Биография писателя // Введение в литературоведение: курс лекций. – СПб., 1996.
2. Косиков Г.К. Современное литературоведение и теоретические проблемы науки о литературе // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. Трактаты. Статьи. Эссе. – М., 1987.
3. Луков В.А. Сент-Бёв // Зарубежные писатели: библиографический словарь / Под ред. Н.П. Михальской. – М., 1997. – Ч. 2.
4. Пушкин А.С. Vie, poesies et pensees de Joseph Delorme //Поли. собр. соч.: в 10 т. – Л., 1978. – Т. 7.
5. Сент-Бёв Ш.О. Литературные портреты. Критические очерки. – М., 1970.
6. Трыков В.П. Литературные портреты. – М., 1999.
Дополнительная литература
1. Барахов B.C. Литературный портрет. Истоки, поэтика, жанр. – Л., 1985.
2. Горбунов А. Н. Отречение: Чосер и Толстой // Лики времени: сб. статей. – М., 2009.
3. Реми де Гурмон. Книга масок. – Томск, 1996.
4. Нефедов Н.Т. Возникновение биографического метода // История зарубежной критики и литературоведения. – М., 1988.
5. Цвейг С. Сент-Бёв // Собр. соч.: в 7 т. – М., 1963. – Т. 7.
6. Billy A. Sainte-Beuve. Sa vie et son temps. T. 1–2. – Paris, 1952.
Тема 5 Культурно-исторический метод
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цивилизация, раса, среда, момент, характер народа, дух народа
Исторический подход оказался столь значимым для литературоведения, что позволил использовать в XIX веке общие наименования культурно-исторического метода и школы и сравнительно-исторического метода. Разница в понятиях «школа» и «метод» не должны нас слишком смущать. «Школа» – общность исследователей, объединенных сходными задачами, установками и научно-теоретическими постулатами, методом как способом похода к художественному материалу и его интерпретации.
Культурно-исторический и сравнительно-исторический методы обращаются прежде всего к региональным исторически значимым и национальным системам либо к современному социальному контексту. Исследователей интересуют связи произведения с исторической традицией либо их функционирование в рамках определенной социальной формации. Гегелевская формулировка «автор – произведение – потребитель» по-прежнему работает, но «автор» поставлен под контроль истории в ее временном или социальном выражении. Акцент на центральном звене системы – художественном произведении – преимущественная задача других классических или современных методов изучения литературы.
Культурно-исторический метод способ изучения литературы, разработанный во второй половине XIX века французским философом, историком и литературоведом И.-А. Тэном. Тэн по праву считается главой школы, в которую принято включать ученых разных стран. Это Ф. Брюнетьер и Г. Лансон (Франция), Г. Брандес (Дания), В. Шерер (Германия), Ф. де Санктис (Италия). Русская культурно-историческая школа представлена А.И. Пыпиным, автором «Истории русской литературы»[39]. В XX веке сторонником культурно-исторического метода называют П.И. Сакулина. Все эти ученые признавали значение Сент-Бёва и его подхода к литературе, но в поисках дополнительных опор выдвигали требование историзма, возведенного в ранг метода.
Тэн Ипполит-Адольф (Taine, 1828–1893– французский философ, критик, историк литературы, писатель. Получив блестящее образование в Высшей Нормальной Школе, Тэн с юности увлекается античной и немецкой философией и мечтает о создании универсального научного метода, объединяющего позитивные знания, социальную психологию и искусство, – «закона развития систем». В концепции Тэна внимание к документу соединяется с представлением о закономерности и поступательности движения истории. Интерес к переломным эпохам отразился в исторических трудах – «Старый режим» (1867), «Анархия, якобинская диктатура, революционное правительство» (1878–1884). Заключительная часть цикла «Современный строй» осталась незавершенной.
Испытав влияние метода Сент-Бёва и унаследовав основные положения культурно-исторической школы («История английской литературы» (т. 1–4, 1863–1864), литературно-критические статьи о Бальзаке (1858), Стендале (1854), Жорж Санд(1876) и др.), Тэн подчеркивает роль социального начала, рассматривая природу человека как «встречу» физиологического, социального и исторического факторов, становясь одним из теоретиков натуралистической эстетики. В книгах «Критические опыты» (1858), «Философия искусства» (1865–1869), «Об уме в познании» (т. 1–2, 1870) и др. Тэн ищет «общую идею поведения человека». В подходе Тэна к литературе главное внимание нацелено на связь с исторической реальностью, но также и на ее восприятие читателем.
Литература:
Тэн И. История английской литературы. Введение // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX веков. Трактаты. Статьи. Эссе. – М., 1987.
Тэн И. Философия искусства. – М., 1933.
Тэн И. Новейшая английская литература в современных ее представителях/ Пер. Д.С. Ивашинцева. – СПб., 1876.
Наиболее последовательно это положение разработано И. Тэном. Автор статей по итальянскому, голландскому и греческому искусствам, статей о французских философах XIX века, многих исторических и философских трудов, а также литературно-критических работ, Тэн создает фундаментальную пятитомную «Историю английской литературы», в предисловии к которой излагает суть культурно-исторического метода. По словам Сент-Бёва, «История английской литературы» является историей английской расы и цивилизации «через ее литературу»-
Уже в этом определении просматривается сходство и различие подходов Тэна и Сент-Бёва. Не отрицая связи личности писателя с создаваемым творением, Тэн интересуется по преимуществу более общими историческими и национальными закономерностями. Убежденный сторонник позитивизма, один из основоположников натуралистической теории,
Тэн ищет систему, которая в искусстве, как и в науке, позволила бы опереться на прочные основы.
В знаменитом введении к «Истории английской литературы» Тэн говорит о том, что в современной критике «никто не шагнул» дальше и вернее, чем Сент-Бёв: в этом отношении мы все его ученики. Именно этот метод мы должны принять за исходную точку дальнейшего развития». Но Тэна занимает именно «развитие», где, по его мнению, для исследователя «открывается новый путь». Его интересует не только частная биография, но и поиски «общей идеи поведения человека», ибо в человеческих чувствах и идеях «есть некая система, и главной движущей силой этой системы являются известные общие черты… отличающие людей одной расы, одного века и одной местности»[40]. В литературном произведении Тэн ищет уже не только «психологию души его создателя», но и психологию народа и века.
«Три первоначальные силы, три различных источника» определяют, по мысли Тэна, характер литературы. Это – «Раса. Среда. Момент». Под расой он понимает врожденный темперамент, равно свойственный индивиду или целому народу. Раса может менять облик, рассеяться по разным странам и континентам, обосновываться в разных климатических зонах, бытовать в разные эпохи на разных ступенях цивилизации – она все равно обнаружит духовную общность.
Характер народа Тэн рассматривает «как концентрированное выражение» всей его истории, всего беспредельного прошлого, «как величину, обладающую определенными размерами и массой». «Самый богатый источник основных свойств расы, которые дают начало историческим событиям… его сила, как мы видим, происходит оттого, что это не просто источник, но как бы озеро или глубокий водоем, куда в течение многих веков несут свои воды другие источники»[41]. Раса у Тэна – понятие стабильное, мало изменчивое в веках, тождественное национальному характеру и национальному менталитету
Определив таким образом духовное строение расы, Тэн приступает к изучению «среды», в которой она обитает. Вслед за романтиками, и в частности Ж. де Сталь, Тэн обращает внимание на географические факторы, формирующие характер народов. Прослеживая условия жизни германских народов после переселения из общей их родины в те края, где они нашли окончательное пристанище, Тэн видит различие между германскими расами, с одной стороны, и расами эллинскими и латинскими – с другой. Основывается оно прежде всего на различии местностей, в которых они обосновались: «Одни осели в областях с климатом холодным и влажным, в глуши сумрачных, болотистых лесов или вдоль диких берегов океана, не зная иных переживаний, кроме меланхолии и буйства, пристрастились к пьянству и грубой пище и стали жить войнами и набегами; другие, наоборот, расположились среди великолепной природы, у ласкового, играющего под солнцем моря, занялись мореплаванием и торговлей и, избавленные от грубых потребностей желудка, с самого начала проявили тягу к общественной жизни и политической организации… Так, из двух цивилизаций Апеннинского полуострова одна… нацелена на борьбу, завоевания, государственность и законодательство, поскольку изначально представляла собой укрепленный город, пограничный emporium, военную аристократию… вторая же, лишенная единства и честолюбивых политических притязаний из-за прочности муниципальных устоев, космополитического положения папы и военных вторжений соседних народов, уступила наклонности своего дивного, гармонического гения и вернулась во всем к культу красоты и неги».
Характер народа формируется под влиянием внешних обстоятельств: «того всечасного, мощного нажима, который воздействует на всякое сообщество людей и неустанно, из рода в род, формирует их как всех вместе, так и каждого в отдельности. В Испании такое влияние оказал восьмивековой крестовый поход против мусульман, получивший широчайший размах и завершившийся истощением нации вследствие изгнания мавров, ограбления евреев, учреждения инквизиции и религиозных войн; в Англии – восьмивековой политический строй, поддерживавший в человеке личное достоинство и почтительность к власти, независимость и повиновение и приучивший его действовать сообща с другими под эгидой закона; во Франции – римская государственность, которая была навязана послушным варварам, затем погибла под развалинами Древнего мира, но сложилась вновь под воздействием скрытого национального инстинкта, развилась в условиях наследственной королевской власти и превратилась в итоге в своего рода эгалитарную, централизованную, административную республику, где правящим династиям постоянно грозят революции»[42].
Подводя итоги понятию «среда», Тэн говорит о том, что географические, исторические, социальные факторы значат для нации то же, что для индивида – место проживания, воспитание, семья, профессия и общественное положение. В зависимости от «встречи» расы и среды меняется «рисунок» в литературе и в искусстве. Сравнивая французскую трагедию времен Корнеля и Вольтера, греческий театр при Эсхиле и Еврипиде, итальянскую живопись Леонардо да Винчи и маньеристов, Тэн находит, что даже при сходстве живописного и литературного описания и человеческого типа мы имеем произведение из разных культурно-исторических эпох. В Средние века господствовал идеал рыцаря или монаха. Возрождение – «период свободных творческих взлетов», эпоха классицизма – «время риторических классификаций». Момент у Тэна – это «исторический уровень культуры и традиция»[43].
Пуришев Борис Иванович (1903–1989) – ученый старой школы, коренной москвич, выпускник Высшего литературно-художественного института, возглавляемого в начале 20-х годов В.Я. Брюсовым. Б.И. Пуришев – специалист по зарубежной литературе и древнерусскому искусству. Он автор монографий, многих статей в энциклопедиях, предисловий академических изданий, составитель хрестоматий, по которым учились и учатся поколения студентов пединститутов и университетов. Б.И. Пуришев работал в Институте мировой литературы, читал лекции в Московском университете и в ИФЛИ, но больше всего сил он отдал Московскому государственному педагогическому институту. Отсюда он уходил в 1941 г. в ополчение, сюда вернулся после войны из плена, здесь защитил докторскую диссертацию о немецкой литературе XV–XVII веков. «Учить учителей» было его позицией и жизненным кредо, которое он никогда не декларировал, но осуществил с завидной твердостью, отказываясь от лестных предложений и посулов и не жалея времени на студентов и аспирантов. Увидеть воочию родину Гёте (а он много лет вел семинар по «Фаусту»), замки Луары и Флоренцию так и осталось для него неосуществленной мечтой. Он был «невыездной» и по рождению, принадлежности к дореволюционному роду крупных предпринимателей, по обстоятельствам жизни, и особенно по той, сразу же угадываемой ступени внутреннего сопротивления, которая не позволяла ему ни на гран поступаться внутренним достоинством, предпочесть комфорт порядочности, вступить в какую-нибудь организацию. Не академик, не член союза писателей, не член партии, даже не заслуженный деятель науки, он был уважаем М.М. Бахтиным, В.В. Виноградовым, Д.С. Лихачевым и удостаивался доверия людей разных взглядов. Он не создал собственного метода в литературоведении. История закрыла перед ним пути, которыми шли корифеи академических школ. На несведущий взгляд он был скорее популяризатором. Как некогда о Сент-Бёве, о нем говорили, что у него нет собственной системы. Система Б.И. Пуришева глубоко укоренена в материале. Широта культурного кругозора, которая была ему свойственна, есть первейшее условие владения методом, который он использует.
Б.И. Пуришев – автор многочисленных статей по истории западноевропейской литературы, многолетний член редакции серии «Литературные памятники». Его основные труды – «Очерки немецкой литературы XV–XVII веков», «Андрей Рублев и общие вопросы развития древнерусского искусства XIV–XVII веков», «Литература эпохи Возрождения». Б.И. Пуришев – составитель «Хрестоматии по зарубежной литературе средних веков».
Специалист по западноевропейской литературе, Б.И. Пуришев был глубоким ценителем древнерусского искусства, сочетал в своем творчестве культурноисторический и сравнительно-исторический подходы.
Литература:
Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: курс лекций. – М., 1996.
Пуришев Б. Воспоминания старого москвича. – М., 1998.
Пуришев Б. Классический идеал в «Фаусте» Гёте // Филологические науки. – 1974. – № 4. С. 5–10.
Пуришев Б. Очерки истории немецкой литературы XV–XVII вв.-М., 1955.
Пуришев Б. Вальтер фон дер Фогельвейде и немецкий миннезанг // Фон дер Фогельвейде В. Стихотворения. – М., 1985. – (Лит. памятники). С. 223–272.
Культурно-исторический метод трактует литературу как запечатление духа народа в разные этапы его исторической жизни. Поиски общих причин появления художественного произведения порождают его трактовку не только как создания биографического автора, но и как документа эпохи.
Уступая формальному методу в точности, отказываясь от сближения литературного исследования с работой математика и статиста, выдвигая на первые роли общекультурный кругозор, интуицию исследователя, культурно-исторический метод и сегодня служит способом изучения сложнейших явлений литературы. Им пользуются признанные ученые, особенно в России. Обратимся в качестве примера к трудам московского профессора Б.И. Пуришева.
В курсе лекций о литературе эпохи Возрождения, изданных уже после смерти ученого[44], в разделе об английской литературе XVI века автор обращается к загадочной фигуре, предшественнику Шекспира и Гете, Кристоферу Марло (1564–1593). Читатель узнает сведения о биографии Марло – сыне сапожного мастера, закончившем Кембриджский университет со степенью магистра искусств, знатоке древних и новых языков, не захотевшем сделать выгодную церковную карьеру. Марло привлекал многоцветный мир театра, а также вольнодумцы, осмеливавшиеся сомневаться в ходячих религиозных и прочих истинах. Известно, что он был близок к кружку сэра Уолтера Рали, подвергшегося опале в царствование Елизаветы и окончившего свою жизнь на плахе в 1618 году при короле Якове I. Если верить доносчикам и ревнителям ортодоксии, Марло был «безбожником», он критически относился к свидетельствам Библии, в частности, отрицал божественность Христа и утверждал, что библейская легенда о сотворении мира не подтверждается научными данными и т. п. Возможно, что обвинения Марло в «безбожии» и были преувеличены, но скептиком в религиозных вопросах он все-таки являлся. К тому же, не имея обыкновения скрывать свои мысли, он сеял «смуту» в умах окружавших его людей. Власти были встревожены. Над головой поэта сгущались тучи, и в 1593 г. в одной таверне близ Лондона Марло был убит агентами тайной полиции.
Трагическая судьба Марло в чем-то перекликается с трагическим миром, возникающим в его пьесах. На исходе XVI века было ясно, что этот великий век вовсе не являлся идиллическим.
При анализе «Трагической истории доктора Фауста» (1588) исследователь отмечает, что, желая усилить психологический драматизм пьесы, а также увеличить ее этические масштабы, Марло обращается к приемам средневековых моралите. Добрые и злые ангелы борются за душу Фауста, поставленного перед необходимостью выбрать, наконец, верный жизненный путь.
Белый стих перемежается в пьесе прозой. Комические прозаические сценки тяготеют к площадному зубоскальству. Зато белый стих, пришедший на смену рифмованному, господствовавшему на сцене народного театра, под пером Марло достиг замечательной гибкости и звучности. После «Тамерлана Великого» им стали широко пользоваться английские драматурги, и в их числе Шекспир. Масштабности пьес Марло, их титаническому пафосу соответствует приподнятый величавый стиль, изобилующий гиперболами, пышными метафорами, мифологическими сравнениями.
В процитированном фрагменте ясно видны приемы биографического, культурно-исторического и сравнительно-исторического методов. Темы и сюжеты пьес Марло соотнесены с обстоятельствами его жизни. Так, говоря о мотивах трагедии «Фауст», Б.И. Пуришев «попутно» вспоминает о возрасте Марло, недавно вышедшего из студентов, и о тех скудных условиях жизни, в которых находился сын человека из народа.
Биография Марло и его творчество точно вписаны в понятие расы и исторического момента – царствование Елизаветы, существование кружка опального сэра Уолтера Рали, пору идеологических церковных ортодоксов французской истории XVI века, а также характера английской культуры. В разделе проанализированы трагедии Марло «Парижская резня», «Мальтийский еврей», «Тамерлан Великий», «Трагическая история доктора Фауста». Пьесы английского драматурга сопоставлены с трагедией Шекспира «Венецианский купец» и с немецкой народной книгой о Фаусте. Чтобы так написать раздел о Марло, надо предварительно знать не только творчество драматурга, но и европейскую эпоху XVI–XVII веков в ее историческом и культурном облике. И подобный метод исследования – не один из подходов к изучению выбранного автора. Он использован при анализе творчества Боккаччо, включившего в круговорот городского быта «Декамерона» дела и дни людей из разных общественных кругов, от «тощего» до «жирного» народа. «Это ремесленники, проходимцы, клирики, нобили, купцы… Боккаччо с интересом присматривается к их активности, сообразительности, энергии, находчивости. Зато его отталкивали тупая алчность, жестокий эгоизм, примитивное высокомерие, особенно нелепо выглядевшее у нуворишей. Сам Боккаччо, несмотря на старание отца, купцом не стал и темные стороны буржуазной практики видел достаточно ясно». Б.И. Пуришев упоминает среди персонажей Боккаччо реально живших людей, художников Бруно и Буффальмакко и в попутном комментарии называет книгу Дж. Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550); Флоренция и Неаполь столь часто оказываются местом действия новелл в особенности потому, что «они ему хорошо известны, с ними связано многое в его жизни».
Здесь вновь видно, как «факт жизни» Боккаччо становится «фактом литературы», определяя важнейшие мотивы «Декамерона», произведения, укорененного в исторический момент и национальную итальянскую почву.
В «Очерках немецкой литературы XV–XVII веков», непосредственно связанных с докторской диссертацией Б.И. Пуришева, мы вновь видим торжество тех же историко-литературных подходов[45].
Стоит вспомнить, что создавалась книга в эпоху безоглядного торжества социологизма и борьбы с «космополитизмом», когда ученый совет Ленинградского университета клеймил и изгонял В.М. Жирмунского, десятки ученых вынужденно меняли места работы, а то и жительства, и положение самого Б.И. Пуришева отнюдь не было прочным. Но обратимся к тексту книги. В главе об историческом своеобразии литературы немецкого Возрождения речь идет о том, что и в эпоху Реформации даже политически умеренные бюргерские авторы были втянуты в бурный поток событий: это было время больших масштабов, больших дерзаний, больших надежд. Всеобщее внимание было приковано к судьбам отчизны, рушились вековые устои Средневековья. Поэтому комнатно-интимная поэзия не отвечала требованиям времени. Литература искала для себя обширного поприща. Писатели охотно выходили на площадь и обозревали многолюдную толпу людей. Они любили на страницах своих творений устраивать шумные сатирические карнавалы, участниками которых являлись представители всех сословий. Они звали на суд правды все существующее.
Такая литература не могла пройти мимо народа, тем более что и к жизни она была вызвана прежде всего подъемом демократического движения. Многие произведения немецкой литературы XV–XVII веков не только прямо обращались к демократическому читателю, но и отражали воззрения, чаяния и вкусы многочисленных простых людей, наполнявших города и села «священной Римской империи». Поэтому литература, которую обычно называют бюргерской, нередко являлась собственно народной в широком смысле этого слова. Она и создавалась при непосредственном участии скромных тружеников, вроде Ганса Сакса, подчас представляя собой литературную обработку различных фольклорных произведений. Даже ученые гуманисты, гордившиеся тем, что они пишут на классическом языке Цицерона и Квинтилиана, прислушивались к голосу народа. В их произведениях то и дело возникали образы и мотивы, почерпнутые из народного обихода.
Все это свидетельствует о том, что в эпоху Реформации в Германии демократические массы играли огромную роль не только в политической, но и в эстетической сфере, именно они были застрельщиками прогресса, а посему любое значительное произведение, созданное прогрессивным автором, в той или иной мере становилось народным. Отсюда и устойчивость литературных жанров, возникших в свое время в демократической среде (шванк, фастнахтшпиль и др.); и пристрастие к площадной буффонаде, скоморошескому комизму, к карнавальным маскам; и плебейский задор «народных книг»; и грубоватый лубочный реализм многих произведений, вызывающих в памяти многочисленные немецкие гравюры на дереве XV и XVI веков (М. Вольгемут, Л. Кранах и др.), которые в качестве народных картинок широко распространялись среди населения…
Именно в XVI веке сложилась народная легенда о Фаусте, заключавшая в себе революционный протест против косности средневекового мира и «прославление великих творческих сил человека».
Во фрагменте воссоздана историческая эпоха Ренессанса, особенности национальной немецкой истории и «момента» их встречи в культуре страны, переживавшей углубление кризиса феодальной империи и ощущавшей присутствие мощных народных сил, возрождение литературных жанров, возникших в демократической среде, и связь их не только с площадной буффонадой и скоморошеством, но и «народной книгой» и гравюрами на дереве. Эти многочисленные линии сплетены, сфокусированы при помощи академических методов, что делает текст чрезвычайно «емким».
Уже из приведенных примеров видно, что не только научиться писать подобным образом, но, даже читая, понять глубину изложения – дело отнюдь не простое, требующее методики, которую Д.С. Лихачев назвал методикой «пристального чтения».
Вопросы к теме
1. В чем сходство и отличие подхода Сент-Бёва и Тэна?
2. Какой смысл Тэн вкладывает в понятия «раса», «среда», «момент»?
3. Почему в культурно-историческом методе главное место отводится документу эпохи, а не художественному произведению?
Литература по теме
1. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. – М., 1967.
2. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: курс лекций. – М., 1996.
3. Тэн И. История английской литературы. Введение // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX веков. Трактаты. Статьи. Эссе / Сост. и общ. ред. Г.К. Косикова. – М., 1987.
Дополнительная литература
1. Лихачев Д. С. Эпохи и стили. – М., 1973.
2. Пуришев Б.И. Очерки немецкой литературы XV–XVII веков. – М., 1955.
3. Тэн И. Философия искусства. – М., 1933.
Тема 6 Сравнительно-исторический метод. Компаративистика
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: историческая поэтика, сравнительное литературоведение, сопоставление, сравнение, повторяемость, воздействие, ряды культуры, генетическая связь, психологический параллелизм, мотив, качество отношений между образами, сюжет, суггестивность, диалог, компаративистика, «свое и чужое», рецепция, аспекты рецепции, «встречное течение», самозарождение, типологические соответствия, воспринимающая среда, интертекстуальность
Сравнительно-исторический метод сложился в литературоведческих школах русских университетов в последней трети XIX века. Родоначальником его стал академик Александр Николаевич Веселовский. Выпускник Московского университета, оставленный в нем для подготовки к профессорскому званию, А.Н. Веселовский, мечтавший специализироваться в области западноевропейских литератур, поступает гувернером к детям русского вельможи князя Голицына, что дает ему возможность посетить Испанию, Италию, Францию и Англию. Расширение культурного кругозора А.Н. Веселовский считал необходимым условием формирования ученого-филолога.
Получив в дальнейшем казенную стипендию для поездки за границу, А.Н. Веселовский слушает лекции по германской и романской филологии в Берлинском университете, посещает Прагу и Сербию, чтобы углубить знания по славистике, живет в Италии, где занимается проблемами итальянского Возрождения.
Широта интересов и культурный кругозор определяют основное направление научной деятельности Веселовского – историка и теоретика литературы, лингвиста и издателя русских и западных средневековых текстов. Его литературное наследие, насчитывающее сотни работ, должно было составить 26 томов.
Веселовский Александр Николаевич (1838–1906) – выдающийся историк и теоретик литературы, академик Петербургской Академии наук, автор капитальных исследований по исторической поэтике и истории всемирной литературы. Научный горизонт исследователя охватывал большие и малые культуры, фольклорные традиции, сложившиеся на разных континентах.
А.Н. Веселовский – создатель сравнительно-исторического метода. Сопоставляя эпические формулы и мотивы, романы и повести разных эпох и народов, автор «Исторической поэтики» исследовал «повторяющиеся отношения» элементов в разных рядах (литературном, бытовом, социальном). Веселовский заложил основы генетического и типологического изучения словесности, показав, что «миграция» и «самозарождение» мотивов дополняют друг друга.
Научные идеи А.Н. Веселовского были восприняты представителями самых разных литературоведческих методов и школ. Среди его учеников и продолжателей следует назвать Ф.А. Брауна, Д. К. Петрова, В.Ф. Шишмарева, В.М. Жирмунского и многих других.
Литература:
Веселовский А.Н. Избранные статьи / Вступ. ст. В.М. Жирмунского. – Л., 1939.
Веселовский А.Н. Историческая поэтика / Вступ. ст. В.М. Жирмунского. – Л., 1940.
Веселовский А.Н. Историческая поэтика / Вступ. ст. И.К. Горского. – М., 1989.
Веселовский А. Избранные труды и письма / Отв. ред. П.Р. Заборов. – СПб., 1989.
Веселовский А.Н. Собрание сочинений. Т. 1–6, 8, 16. СПб.; М.; Л., 1908–1938.
Веселовский А.Н. Избранное: Историческая поэтика / Сост. И.О. Шайтанов. – М., 2006.
Веселовский А.Н. Собрание сочинений // http: //az.lib.ru/w/ weselowskij_a_n
Среди разрабатываемых Веселовским проблем наибольшее значение для формирования нового метода имела его историческая поэтика[46]. Основы метода изложены в программной лекции, прочитанной А.Н. Веселовским при вступлении в должность профессора Петербургского университета, «О методе и задачах истории литературы как науки» (1870). В лекции А.Н. Веселовский заявляет о своей приверженности к культурно-исторической школе. Историю литературы он видит «как историю общественной мысли в образно-поэтических формах». В дальнейшем во «Введении к исторической поэтике» и в серии университетских курсов и статей А.Н. Веселовский намечает теоретическое обобщение огромного материала, изученного им самим и этнографами, лингвистами и литературоведами с использованием достижений культурно-исторической школы. Рассмотрев генезис поэтических категорий, А.Н. Веселовский первым показал, что они «суть исторические категории»[47].
Признавая принцип историзма основой метода, он подмечает, что культурно-историческая школа проходит мимо повторяемости явлений, исключая тем самым рассмотрение дальнейших рядов культуры. Если рассматривать только ближайшие ряды культуры, то повторение может быть вариативным, содержать сдвиг, различие смежных членов. Более явственным может быть сходство «…на более отдаленных степенях рядов»[48].
Задолго до ОПОЯЗа А.Н. Веселовский привлекает внимание к синхронному изучению различных, притом не обязательно соседних, рядов культуры. От этого положения отталкиваются Ю.Н. Тынянов и P.O. Якобсон.
Придавая повторяемости признак закономерности, А.Н. Веселовский полемизирует с «европоцентристским» пониманием культуры. Каждая культурная область имеет свою специфику развития, а потому некорректно говорить об «отставании» или «застойности» неевропейских народов. В этом состоит преимущество созданной А.Н. Веселовским «всемирно-исторической школы» перед культурно-исторической[49]. Сопоставляя «параллельные ряды сходных фактов» на самом широком литературном материале, А.Н. Веселовский ищет типологические соответствия в культуре разных «рас» и эпох.
А.Н. Веселовский подчеркивает связь, существующую между «крупными явлениями» и «житейскими мелочами». Одним из первых он включает в контекст литературы бытовой фон с его лингвистическими и психологическими составляющими, дающими богатый «материал для сравнений». Наряду с «Традицией» «Реальность» – один из важнейших элементов системы «литература» в «Исторической поэтике» А.Н. Веселовского[50]. С начала 80-х годов оформляется тема «исторической поэтики». В названиях работ «Из истории романа и повести» (1886), «Эпические повторения как хронологический момент» (1897), «Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля» (1899) прослеживается и представление о художественном слове как об особой сфере духа, и мысль о необходимости найти в литературе закономерности, «параллели» не только исторические. Но сопоставить ряды сходных фактов можно лишь при наличии принципа повторяемости, общем основании для сравнения. Уже на материале греческой античности ученый замечает, что при всей исторической последовательности развития литературы «сходство мифических, эпических, наконец, сказочных схем не указывает необходимо на генетическую связь»[51]. И генетической связи в принципе не отрицая, А.Н. Веселовский находит в разных литературах сходство сюжетов.
В разделе «Язык поэзии и язык прозы» (три главы из исторической поэтики, 1898) исследователь рассматривает механизм возникновения простейших поэтических формул, сопоставлений, символов, мотивов, «стоявших вне круга обоюдных влияний». Эти древние элементы образности «…могли зародиться самостоятельно, вызванные теми же психическими процессами и теми же явлениями ритма». Генезис поэтического мышления и стиля восходит к «психологическому параллелизму, упорядоченному параллелизмом ритмическим». Хотя «сходство условий вело к сходству выражения», подбор образов в литературах удаленных регионов существенно отличался. Это легко объясняется расхождением бытовых форм, фауны и флоры. Гениальное открытие А.Н. Веселовского состоит в указании на сходство «качества отношений» между этими образами[52]. Сближаются сами основы сопоставления, категории и признаки (движение, волевая деятельность и т. д.)[53]. Говоря иным терминологическим языком, в удаленных друг от друга древних литературах два звена соответствовали друг другу: «коллективный автор» и «реальность». Поставив перед собой задачу классификации сюжетов мировой литературы, исследователь видит тем не менее, что сопоставлять произведения, выяснив родственные сюжеты, некорректно. В самых похожих сюжетах есть свои ходы, обусловленные национальной и исторической спецификой произведения, а научная приблизительность А.Н. Веселовскому, стороннику позитивистской философии, почитателю Тэна, была глубоко чуждой. Так рождается мысль найти мотив как «неделимую единицу сюжета», ибо «сходство объясняется не генезисом одного мотива из другого, а предположением общих мотивов, столь же обязательных для человеческого творчества, как схемы языка для выражения мысли; творчество ограничивается сочетанием данных схем. В этом смысле сказка может быть настолько же отражением мифа, насколько осадком эпической песни или народной книги».
Одновременно это основание для типологических соответствий. Более всего А.Н. Веселовского занимает вопрос о соотношении «предания», традиции и личного «почина», индивидуального творчества. Если спроецировать на «Историческую поэтику» основную коммуникативную схему, то станет очевидно, что отнюдь не произведение занимает здесь центральное место. Главным звеном системы «литература» являются «формулы, образы, сюжеты», самозарождающиеся или мигрирующие. Система «литература» принимает следующий вид:
Коллективный автор ↔ Традиция ↔ Коллективный читатель
Традиция в этом случае и есть здесь главное произведение, плод развития литературы и культуры. Автор и читатель заняты по преимуществу общением с «преданием», которое ставит пределы их романтизму и импрессионизму Эта позиция восходит не только к позитивистским взглядам академика, но и одновременно к основным концептам русского культурного мира. Так, в работе «Из введения в историческую поэтику» (1893) угадывается личная интонация. А.Н. Веселовский предостерегает современников от переживания мира «врозь», что ведет к утрате синтеза со своим временем. Однако большие поэты нуждаются в «общем сознании жизненного синтеза»[54]. Другими словами, гений становится таковым лишь при условии стабильной, множественной обратной связи в цепи автор произведение читатель.
Относительная неизменность традиции и изменчивость реальности ограничивают и расширяют свободу авторского творчества. «Новые спросы жизни» подсказывают автору новое содержание для старых, «готовых» форм. Долгое время русского ученого меньше занимает индивидуальность художника, его интересуют «типы». Если индивидуальность важна, то как индивидуальность «групповая», эпохальная. Поэт родится, «но материалы и настроение его поэзии приготовила группа»[55].
А.Н. Веселовский сближает процессы творчества и процессы восприятия, различая их лишь по интенсивности. На языке данной книги можно сказать, что автор «Исторической поэтики» уделяет пристальное внимание прямым и обратным связям в системе традиция коллективный читатель. В работе «Определение поэзии» А.Н. Веселовский отмечал, что в ходе эволюции поэзии меняется содержание, «…но формальный элемент» остается тот же. Сохраняющееся «согласие формальных элементов необходимо для того, чтобы художник мог творить и зритель наслаждаться его творением»[56]. А.Н. Веселовский отмечает диалектику устойчивости и изменчивости в литературе, объясняя устойчивость наличием прямых и обратных связей (художник творит читатель наслаждается творением). В работе «Определение поэзии» ученый понимает поэзию «…как живой процесс, совершающийся в постоянной смене спроса и предложения, личного творчества и восприятия масс, и в этой смене вырабатывающей свою законность».
«Восприятие» связано у русского академика с категорией «суггестивности», способностью слова, образа, сюжета «подсказывать» слушателю и читателю иной эпохи «новое содержание», удерживаясь и закрепляясь в памяти. Опираясь на сравнительно-исторический метод, современная культурология сопоставляет модели суггестивности различных литератур и культур. В позднем тексте «Задача эстетической поэтики» (1900) А.Н. Веселовский сосредоточивает внимание на «эстетических» моментах художественного творчества, на изображении как таковом. Он размышляет о «внутренних образах» предметов и «эстетических типах языка». Ученый подчеркивает, что «в эстетическом акте» происходит условное отображение предметного мира. Предметы «схватываются интенсивно, со стороны, которая представляется» художнику «типической». В результате изображенный мир обретает цельность и как бы «личность» (во всех случаях курсив А.Н. Веселовского). Отчетливо видно, как отсюда тянутся нити к опоязовской концепции «игры» с миром, с одной стороны, и к персонализму М.М. Бахтина – с другой.
Суггестивными представляются идеи А.Н. Веселовского об «эстетических типах языка». Как и А.А. Потебня, он обращается к «содержательному анализу корнеслова…», указывая на «разнообразие типических восприятий, которые удержались в народно-исторической традиции, развиваясь путем ассоциаций». А.Н. Веселовский подчеркивает, что «переживание этих внутренних образов и групп ассоциаций вызывает вопрос об условиях и законах их эволюции»[57]. Можно сказать, что здесь сформулирована программа исследований концептов в культуре.
А.Н. Веселовский своего колоссального здания не достроил. Слишком обширен был материал. «Неделимые» мотивы при самом пристальном рассмотрении обнаружили способность члениться. Даже выдвигаемый А.Н. Веселовским в качестве образца мотив «затрудненного брака» мог быть разделен и не один раз. Позже, в XX веке, с этой способностью молекулы столкнутся физики. Но, по определению В.М. Жирмунского, создатель исторической поэтики – гений. Его замысел – высшее достижение литературоведения XIX века[58]. Относительно недавно И.О. Шайтанов издал «Историческую поэтику», «…отказавшись от хронологии прижизненных публикаций, а следуя логическому плану автора, соотнося с этим планом то, что было им сделано»[59]. Реконструкция замысла «Исторической поэтики» открывает возможность нового взгляда на идеи А.Н. Веселовского, далеко выходящие за рамки сравнительно-исторического метода[60].
Диалог, «сравнение», «сопоставление» принадлежат к числу наиболее общих принципов культуры и жизни. В поздних набросках «К методологии гуманитарных наук» (1974) М.М. Бахтин отмечал, что «…текст живет, только соприкасаясь с другим текстом (контекстом). Только в точке этого контакта текстов вспыхивает свет, освещающий и назад и вперед, приобщающий данный текст к диалогу»[61]. Эта «точка контакта» текстов и является главным предметом «сравнительного литературоведения». Сравнение — важнейший инструмент «понимания» как такового. Им широко пользуется герменевтика.
Сам термин – «сравнительное литературоведение» (Komparatistik, Litterature Comparee, Comparative Literature) – указывает на «сравнение» как основу метода. В основе всякого «сравнения» и «сопоставления» лежат механизмы «тождества» и «различения» своего и чужого. Эти механизмы присущи как художественному творчеству, так и научному мышлению[62]. В творчестве принцип «сравнения» ведет к появлению переносных значений, связанных в конечном итоге с метафоризацией и символизацией. В науке сопоставление выявляет повторяемость разных признаков и явлений, демонстрируя их существенное сходство и различие. Можно сказать, что сравнительно-исторический метод имеет общенаучное моделирующее значение, заключая в себе один из важнейших мотивов человеческого мышления вообще.
Принцип сравнения широко используется для изучения социальных наук (политология, социология, педагогика, международное право), а также культурологии, искусствознания, литературоведения и лингвистики (контрастивная лингвистика). Опираясь на сравнительно-исторический метод, можно рассматривать, например, взаимодействие различных искусств с литературой. Так, Д.С. Лихачев исследовал древнерусскую литературу «в ее отношениях к изобразительным искусствам», подчеркивая, что «…взаимопроникновение» было фактом их внутренней структуры[63]. О «музыкальности» в литературе писал, например, А.В. Михайлов, понимая под ней тенденцию «..скомпоновать» материал по закону более высокому, чем закон самого материала, – «лирически» преображать материал, поднимать его над буквальным значением на более высокую ступень…»[64]. «Диалог» искусств имеет, таким образом, различные уровни. В преображенном виде «живописность» и «музыкальность» входят в структуру литературных произведений. «Литературность», напротив, проникает в живописные и музыкальные тексты. При помощи сопоставления подобия и различия разных видов искусств выявляется их специфика, непохожесть друг на друга и одновременно – их родство.
В системе «литература» принципы сравнительно-исторического метода используются для анализа любого участка коммуникативной цепи. Специальной областью сравнительного литературоведения является сопоставительное изучение явлений, принадлежащих к разным литературам. Понятно, что приемы компаративного анализа широко используются для изучения эпох, авторов и произведений внутри одной и той же национальной литературы («А. Белый и А.С. Пушкин»; «А.С. Пушкин и древнерусская литература» и т. д.). Для истории литературы как науки сравнительное литературоведение имеет общеметодологическое значение. Некоторые исследователи полагают, что предметом сравнительного литературоведения является все развитие мировой словесности[65].
У сравнительного литературоведения есть своя дальняя предыстория. В качестве условной точки отсчета можно оттолкнуться и от предпринятого Гердером сопоставления античного и шекспировского театра. Как известно, немецкий философ сопоставлял эти явления «…с точки зрения генетической и историко-сравнительной…»[66]. Исходя из того, что «генезис» и исторические «превращения» драмы на Севере и Юге различны, Гердер делал вывод, что нельзя оценивать Шекспира по меркам «великого Софокла». «Мировосприятие» (Weltverfassung), традиции героического прошлого, музыка, поэтическое выражение, степень театральной иллюзии, – все разводит шекспировский и античный театр[67]. Их «почва» не сопоставима. Сформулированные здесь «различия» между Софоклом и Шекспиром нужны Гердеру для того, чтобы указать на «шекспировский путь» современной ему немецкой литературы.
Представление о различиях эпох и «…поступательном движении человеческого рода…» приводит Гете к знаменитой концепции «всеобщей мировой литературы». Каждая нация, каждая литература принимают участие в этом движении, постепенно выявляя «внутренний мир» народа при помощи языка[68]. По ходу этого развития возникают «скрещивания», «смешения» различных стилей мышления, диалектов. По верному замечанию В. фон Гумбольдта, часто «новые способы представлений присоединяются к уже существующим», а чужие наречия воспринимаются в качестве формул в целом. Попадая в новый контекст, воспринятое «…начинает переосмысливаться и употребляться по другим законам»[69]. Опираясь на суждения Гердера, Гёте и В. фон Гумбольдта, можно сказать, что сравнительное литературоведение имеет своим предметом сопоставление «внутренних миров», выраженных в литературных произведениях при помощи различных естественных и поэтических языков.
Ближайшим источником сравнительного литературоведения является эстетика романтизма с характерными для нее принципами историзма и универсальности. Концепция романтической поэзии как синтеза всех литературных родов и искусств, поэзии и философии, литературы и особым образом понятого быта, энтузиазма и иронии готовит возникновение компаративистики. Эти тенденции находят свое завершение в эстетике Г.Ф.В. Гегеля, который подвергает целостному анализу все известные в его время эпохи, стили и жанры мирового искусства[70].
Сам термин «сравнительное литературоведение» (litterature comparee) возникает во Франции по аналогии с термином Кювье «сравнительная анатомия» (anatomie comparee)[71]. Эта естественнонаучная ориентация продолжает быть значимой для французской компаративистики XIX века, получая свое развитие в трудах Ф. Брюнетьера и И. Тэна, о которых уже шла речь в этой книге. Как известно, И. Тэн и Ф. Брюнетьер соотносят свои литературные теории с идеями Ч. Дарвина и Э. Геккеля. Понятие эволюции становится у них ключевым. Французская компаративистика, представленная в дальнейшем работами Ж. Текста, Г. Лансона и Ф. Бальденсперже, оказывается надолго связанной с концепциями позитивизма и дарвинизма. Отказ от эстетических оценок, а также стремление к накоплению огромного фактического материала, объясняющего различные типы «произведенных» или «воспринятых» влияний (influences recues et exercees), характерны для работ известного французского компаративиста П. Ван Тигема[72]. Представителями этой школы были собраны интересные факты, обнаружены важные источники «влияний». Может быть, потому, что французская литература XVII–XVIII веков играла особую роль в европейской литературе, чаще «воздействуя» на других и реже «заимствуя», вопрос о механизмах «рецепции» этими исследователями разрешен не был.
Духовно-историческая школа в Германии вела полемику с позитивизмом и биологизмом французской компаративистики.
В. Дильтей, основатель школы, явившийся также одним из важнейших теоретиков герменевтики, отстаивал специфику гуманитарных наук, их особую «целостность» и независимость рядом с науками о природе. Немецкий философ указывал на необходимость изучения «духа художника» и «духа эпохи» (Zeitgeist), опираясь на категорию «переживания» (Erlebnis). Не столько регистрация фактов, сколько принцип рецепции интересовал Дильтея и исследователей его школы[73].
Принципиальный вклад в развитие сравнительного литературоведения внес русский ученый, академик А.Н. Веселовский, создавший здание «исторической поэтики», а с ним вместе и новые пути исследования фольклора и древней литературы[74]. От А.Н. Веселовского идет в отечественной науке ряд важнейших традиций. Концепции А.Н. Веселовского развивает В.М. Жирмунский – один из основоположников отечественного сравнительного литературоведения. Сравнительно-исторические исследования русских формалистов также генетически связаны с трудами А.Н. Веселовского. Свою школу сравнительного литературоведения создал М.П. Алексеев. На материале древнерусской литературы проблемы международных литературных связей разработал Д.С. Лихачев. Проблеме «Запад – Восток // Восток – Запад» посвятил свои книги Н.И. Конрад. Ю.М. Лотман широко применял сопоставительный метод для изучения различных знаковых систем. Приведенный ряд имен не претендует на полноту Каждый филолог может строить его по-своему Представляется, однако, что здесь перечислены ключевые фигуры отечественного литературоведения.
К важнейшим идеям современного сравнительного литературоведения относится принцип равноценности актов воздействия и восприятия[75]. Точнее, следует говорить о едином процессе «воздействия-восприятия». «Воздействие» и «восприятие» – еще один пример действия прямых и обратных связей в искусстве. Знаменитая теория «влияний» совершенно верна, поскольку «влияния» всегда существовали и будут существовать. Однако она сразу же вызывает сомнения, как только компаративисты пытаются представить ее как единственно возможную перспективу исследования. Сравнительное литературоведение, основанное на теории диалога, исходящее из представления о филологии как «круговороте общения»[76], исходит из равноценности статусов отправителя и получателя художественной информации. Термины «влияние» и «воздействие» связаны с точкой зрения отправителя информации. Термин «восприятие» учитывает перспективу реципиента. Между тем воздействие и восприятие – это двусторонний, открытый, незавершенный и незавершимый процесс. Поэтому наиболее корректным представляется термин «литературные связи», разработанный В.М. Жирмунским, Д. Дюришиным и другими исследователями. Этот термин сигнализирует о диалогической природе сравнительного литературоведения[77].
«Воздействие» меняет художественное мышление реципиента. Об этом интересно размышлял создатель «эстетики воздействия» В. Изер. Однако состоявшийся диалог приводит к тому, что «отправитель» также становится иным. В процессе рецепции в воспринятом феномене (авторе, традиции, тексте) раскрываются новые, ранее скрытые, смысловые грани. Длящееся восприятие меняет представление о структуре воспринимаемого явления.
Понятно, что «Кальдерон Гете» существенным образом отличается от «Кальдерона Гофмансталя», а «Шекспир Вольтера» принципиально отличается от «Шекспира Гюго». Однако сами Кальдерон и Шекспир в результате этой рецепции становятся иными. При этом существо «круговорота общения» вовсе не состоит в декларациях симпатии или литературной вражды. Скрытые связи, проступающие на фоне критических отзывов, литературных манифестов, адаптаций, переводов и театральных постановок, действуют гораздо сильнее. Подчиняясь механизму отталкивания, Вольтер на совершенно ином материале пробует приемы Шекспира. «Удаление» от Шекспира приносит существенные художественные результаты.
Второй принцип сравнительного литературоведения указывает на наличие «встречных течений» (А.Н. Веселовский) как условие восприятия. «Воспринимающая среда» и воспринимающий автор должны быть подготовлены к усвоению внешнего импульса. Тогда постепенно из внешнего фактора он превращается в фактор внутренний. В процессе восприятия задаются «свои вопросы», намечается своя линия переработки, «пересоздания» материала. Так, «Германия» М.И. Цветаевой – «Гейне – Гёте – Гёльдерлин» – больше всего похожа на ее же «Пушкина» и «Пугачева». «Германия» Цветаевой связана с ее непокорностью, внутренним бунтарством, жестом отвержения, отказом следовать вкусам и настроениям толпы.
Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971) – один из создателей сравнительно-исторического метода изучения мировой литературы, академик АН СССР, развивавший идеи A.Н. Веселовского. В.М. Жирмунский – автор основополагающих трудов по сравнительному литературоведению.
Поступив на романогерманское отделение Петербургского университета, созданное академиком А.Н. Веселовским, В.М. Жирмунский становится учеником B.Ф. Шишмарева, С.А. Венгерова, Ф.А. Брауна, разрабатывавших проблемы международных литературных связей и типологических соответствий в русле исторической поэтики.
Это направление «унаследовал» и развил В.М. Жирмунский. Окончив в 1912 г. университет и пройдя двухлетнюю стажировку по языку и литературе в Германии, он стал в 1915 году приват-доцентом, а с 1933 г. основателем кафедры истории западноевропейских литератур, которой заведовал до 1949 г., когда вместе с Г.А. Гуковским и Б.М. Эйхенбаумом был изгнан из университета за космополитизм и «веселовщину». Научная, организаторская, педагогическая деятельность академика В.М. Жирмунского проявилась в его участии в работе многих научно-исследовательских учреждений – Институте сравнительного изучения литератур Запада и Востока (1921–1935), Институте языка и мышления (193—1935), Пушкинском доме (1935–1950). Им разрабатывались глобальные проекты («История западноевропейских литератур», цикл «Поэтика», исследование эпоса тюркских народов, цикл языковедческих работ, труды по общему языкознанию и сравнительной грамматике).
Присущее В.М. Жирмунскому универсальное знание обусловило широту его научных горизонтов, представление о необходимости изучения литературы и языка в контексте других рядов культуры. В.М. Жирмунский глубоко разработал проблематику исторической поэтики, лингвистической поэтики, сравнительного литературоведения (литературные связи, сопоставительное изучение оригинала и перевода, отграничение «сопоставления», «сравнения» от «влияния», «встречное течение»). Вслед за А.Н. Веселовским В.М. Жирмунский выявил два типа сравнений: сравнение «...историко-генетическое, рассматривающее сходные явления как результат их родства по происхождению и последующих исторически обусловленных расхождений» и сравнение «…историко-типологическое, объясняющее сходство генетически между собой не связанных явлений сходными условиями общественного развития».
Закладывая основы современной компаративистики, В.М. Жирмунский специально выделил сравнение, «…устанавливающее международные культурные взаимодействия, «влияния» или «заимствования», обусловленные исторической близостью данных народов и предпосылками их общественного развития». (Жирмунский В.М. Исследования по славянскому литературоведению и фольклористике. – М., 1960. С. 252–254).
Литература:
Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. – 2-е изд. – СПб., 1996.
Жирмунский В.М. Эпическое творчество славянских народов и проблемы сравнительного изучения эпоса. – М., 1958.
Жирмунский В.М. Народный героический эпос. Сравнительно-исторические очерки. – М.; Л., 1962.
Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. – 2-е изд. – Л., 1978.
Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. – Л., 1979.
Жирмунский В.М. Гёте в русской литературе. – 2-е изд. – Л., 1981.
Все, что М.И. Цветаева упоминает и любит, она любит с какого-то определенного момента и «поныне», т. е. любит – «сейчас». Лирическое вживание-переживание, соединяющееся с невозможностью «предать» любимое, составляет суть ее восприятия. Эта особая, автобиографичная «Германия» – своего рода «второе я» Цветаевой. И вместе с тем это действительно Германия, увиденная большим поэтом с определенной точки зрения[78].
Два основных механизма рецепции можно обозначить терминами – «пересоздание» и «воссоздание». Термин «пересоздание» имеет свою давнюю историю и более чем вековое теоретическое осмысление. Г.В.Ф. Гегель обозначал его как «вторжение в имманентный ритм понятий».
В.М. Жирмунский писал, что «пересоздание» представляет собой «…новое творчество из старых материалов»[79]. Отсюда видно, что в типологическом плане В.М. Жирмунский считает восприятие родственным творчеству. По мнению Л.Я. Гинзбург, «пересоздание» предполагает также проецирование на другого автора своей картины мира и способов ее воплощения[80].
«Воссоздание» означает иной тип диалога. Здесь ограничено влияние лирической стихии, экспансия воспринимающего «я». «Воссоздание» предполагает исторический подход, ощущение дистанции, открытие «чужого» как такового.
«Пересоздание» и «воссоздание» практически не встречаются в чистом виде. Всякая рецепция предполагает «двойную экспликацию», переплетение, «наложение» спорящих друг с другом начал. Реципиент замечает и отсекает определенные грани воспринимаемого явления.
Вернемся к идеям А.Н. Веселовского, который дал характеристику закономерностей, проливающих свет на потенциальное «сходство – несходство» сравниваемых явлений. Начнем с очевидного случая, когда сходство возникает в результате непосредственного контакта, имеет генетическое происхождение.
А. Дима обозначает такие контакты как «прямые»[81]. Здесь важную роль играет личное знакомство писателей-современников. Так, В.Я. Брюсов был лично знаком с бельгийским поэтом Э. Верхарном, произведения которого он хорошо знал и переводил. Верхарна Брюсов считал одним из своих учителей. Гейне был знаком с Тютчевым совершенно иначе, чем Тютчев с Гейне. Их встречи имели для них разное значение, поскольку Гейне воспринимает Тютчева лишь как русского дипломата[82]. Совершенно иной смысл имело личное знакомство А. Белого с немецким поэтом Кристианом Моргенштерном. Этот эпизод явился важной вехой внутреннего развития русского поэта. Во время единственной встречи не было сказано ни слова. После лекции их общего учителя Р. Штейнера поэты взглянули друг другу в глаза и обменялись крепким рукопожатием. Однако для А. Белого это мгновение приобрело символическое значение. Позднее эта встреча стала важным мотивом его поэзии. С К. Моргенштерном связывал А. Белый свое истолкование современности[83]. Таким образом, личное знакомство, фактор внешний, может быть связан с внутренними моментами восприятия и творчества.
Очень часто узы глубокой симпатии связывают писателей удаленных эпох. Таково, например, тяготение О.Э. Мандельштама к Данте Алигьери. Известно, какое значение имел для молодого Гете Шекспир. В этом случае великие авторы прошлого – Гомер, Данте, Шекспир, Вольтер, Руссо, Диккенс, Толстой, Достоевский, Чехов, Пруст Джойс, Кафка (ряд этот произволен) – становятся факторами литературы других эпох. Так, наряду с Байроном и Вальтером Скоттом Шекспир решающим образом повлиял на развитие европейской литературы первой трети XIX столетия. Произведения писателей прошлого оказываются тем самым вовлеченными в динамическое, «сегодняшнее» развитие культуры, переходя с оси диахронии на ось синхронии[84].
Иногда возникают мифы, связанные с личностью поэта. Они тоже становятся факторами литературы. Биографическая фигура превращается в мифологическую. Миф о Новалисе, Байроне или Кафке создается по законам художественного творчества. Коллективное восприятие подобных явлений, приводящее к мифологизации образа писателя, заставляет вспомнить о механизмах фольклора. Преданию, легенде, возможному варианту развития событий отдается решительное предпочтение перед фактами.
Известны случаи, когда произведение, не имевшее большого значения для собственной литературы, подвергается мифологизации в другой литературе. Такая судьба выпала, например, на долю произведениям Р. Джованьоли «Спартак» и Э.Л. Войнич «Овод». В советской литературе они были усвоены с особой интенсивностью, поскольку совпали одновременно с социальными и художественными запросами времени. Добавим, что Э.Л. Войнич, в свою очередь, была пропагандисткой русской культуры.
Для сравнительного литературоведения большое значение имеет вопрос о владении иностранными языками. Это определяет круг источников, на которые мог опираться автор (критик или читатель). Если автор не знает данного иностранного языка, то он должен воспользоваться переводами (на родной язык или другие известные ему языки). Сказанное вовсе не означает, что такое восприятие будет поверхностным или примитивным. Плохой перевод иногда очень много дает художнику, открывая простор его воображению. Начинается процесс «договаривания», «досказывания», сотворчества.
Часто сведения о том или ином художнике доходят до «воспринимающей среды» при помощи «литературы-посредницы»[85]. Так, А.С. Пушкин с немецким романтизмом знакомился по книгам госпожи де Сталь, а также по французским переводам лекций о драматическом искусстве А.В. Шлегеля. Понятно, что с французским языком у современников А.С. Пушкина отношения были иными. Этот язык знали с детства, на нем начинали писать раньше, чем на русском. Вполне понятно, что имя Вольтера, например, хорошо знакомо Пушкину-лицеисту. Оно встречается в дневниковых записях этого времени. В стихотворном послании «Городок» (1815) дается развернутая характеристика «отца Кандида», который «…Фебом был воспитан, // Из детства стал пиит; // Всех больше перечитан, // Всех менее томит; (…)». Примечательно, что в стихотворном перечне поэтов, помещенном в «Городке», Вольтер, «символ вольнолюбия», поставлен на первое место[86]. Отметим, что и «русский Байрон» имел поначалу французский облик. Согласно свидетельству П.А. Вяземского свободное владение английским было явлением исключительным (указание С.В. Сапожкова).
Однако гораздо чаще, говоря о «знакомстве» того или иного автора с иноземным писателем, имеют в виду не личное общение, а круг чтения, театральные впечатления, переводы. Высшей формой «контакта» двух авторов является оригинальное художественное произведение, созданное с опорой на воспринимаемый образец. Литературная критика, театральная эстетика, сценическая деятельность, перевод, цензура, типы изданий, а также – и прежде всего – усвоение опыта воспринимаемого автора в оригинальном творчестве составляют основные аспекты рецепции. Часто сравнительно-исторические исследования построены именно по аспектному принципу. Все виды откликов одного автора на творчество другого рассматриваются во взаимосвязи, в системе. При этом большое внимание уделяется и хронологии рецепции. Важно ответить на вопрос: когда, в каком контексте и какие моменты творчества иноземного автора были восприняты? Так, например, немецкий романтик Л. Тик размышлял о Шекспире в своих дневниках, письмах, написал о нем ряд статей, обращался к его биографии и творчеству в романтических «Письмах о Шекспире» (1800). Комедия Тика «Кот в сапогах» сложно связана с комедийной традицией английского драматурга[87]. Очень сложен «шекспировский пласт» в мистериальной драме Л. Тика «Геновева» (1799). Здесь усвоение Шекспира переплетается с рецепцией Кальдерона. Очень интересен и перевод трагикомедии «Перикл», предпринятый Тиком (1811). Сравнивая вариант немецкого романтика с переложением И.-И. Эшенбурга (1782), можно заметить, как отличаются подходы, как порой в передаче лишь одного слова сталкиваются эпохи. Так, И.-И. Эшенбург, литератор эпохи Просвещения, последовательно переводит шекспировское «imagination» (воображение) глаголом «denken» (мыслить, думать). Здесь мы имеем дело не только с переводом с одного языка на другой, но и с переводом на иной эстетический код. Для тяготеющего к рационализму И.-И. Эшенбурга вариант «denken» представляется органичным. Шекспировское «imagination» Тик переводит по-другому. В его тексте появляется существительное «Einbildung» (воображение). Как известно, концепт «воображение» определяет эпоху романтизма. Несомненно, перевод является одной из важнейших форм интерпретации текста, а сравнительное переводоведение – одним из важнейших разделов компаративистики. Сопоставление разноязычных переводов ключевых текстов определенной эпохи приближает к пониманию «концептосферы» национальной культуры[88].
Сравнивая два произведения, следует учитывать соотношение жанров, способ повествования, композицию, систему персонажей и способы их построения, тематику и мотивную структуру. Дальнейшими доказательствами генетических связей являются свидетельства на уровне стиля и языка.
Наличие текстуальных связей выявляется путем исследования аллюзий, серьезных и пародийных намеков, эпиграфов, цитат, вариаций, филиаций, реминисценций, адаптаций, коллажей, пастишей, значимых умолчаний…[89]. Добавим, что предметом дискуссии сегодня остается объем и соотношение этих терминов друг с другом.
Часто терминология других искусств помогает осмыслить явления литературы. Хотя материал музыки – звук – отличается от слова как материала литературы, тем не менее художественное мышление, принципы обработки и компоновки материала композиторов и писателей могут иметь общие черты.
В связи с проблемой цитирования очень интересна терминология, которую предлагает великий композитор XX века А.Г. Шнитке (1934–1998). Формулируя концепцию «полистилистики» в музыке (к полистилистике еще предстоит вернуться), он дает свое понимание принципов «цитирования», «аллюзии» и «адаптации». В работе «Полистилистические тенденции в современной музыке» (1971?) под «принципом цитирования» понимается целая «…шкала приемов…», связанная с использованием «…стереотипных микроэлементов чужого стиля» («характерные мелодические интонации, гармонические последовательности, кадансовые формулы»), принадлежащих иной эпохе или иной национальной традиции. На уровне художественного мышления, построения текста и интонационной структуры перечисленные моменты значимы и для литературы, прежде всего для лирики, где используется сходная терминология (мелодика, интонация, гармония, формулы завершения отрезков стихотворного текста – рифма, строфические схемы). Другой уровень цитирования представляет собой точные или переработанные цитаты, а также псевдоцитаты. «Принцип аллюзии» А.Г. Шнитке объясняет в соотношении с «цитированием». Аллюзия«…проявляется в тончайших намеках и невыполненных обещаниях на грани цитаты, но не переступая ее». Под техникой адаптации понимается «…пересказ чужого нотного текста собственным музыкальным языком (аналогично современным адаптациям античных сюжетов в литературе) или же свободное развитие чужого материала в своей манере…»[90]. Представляется, что эти положения имеют общетеоретический смысл. Обратим внимание и на то, что Шнитке опирается на термин «прием» – ключевое понятие русского «формализма». Дальнейшие этапы и уровни анализа предполагают исследование «стереотипных микроэлементов чужого стиля»; приемов совмещения своего и чужого языков при адаптации-пересказе; наблюдения над развертыванием чужого материала при помощи собственных стилистических приемов; выявление прямых цитат и «псевдоцитат»; попытка выявления аллюзий – вплоть до значимых пропусков элементов, «минус-приемов».
Предметом сопоставительного анализа становится также сопоставление сходных (или контрастирующих) жанровых структур, композиционных схем, типов конфликта, сочетаний мотивов и тем, способов построения и расположения персонажей. При этом необходимо помнить о принципиальной полигенетичности литературных явлений, часто восходящих одновременно к множеству разных источников. Обнаруженное сходство не следует абсолютизировать. В ходе анализа необходимо ставить вопрос о системе сходств и отличий, о том художественном смысле, который это сопоставление приоткрывает[91].
Другой тип сравнительно-исторического исследования часто называют типологическим. А.Н. Веселовский связывал его не с «миграцией» фольклорных мотивов и образов, а, напротив, с их возможным «самозарождением». В этом случае сходство возникает, как правило, без непосредственного контакта. В принципиальном плане речь идет о явлениях, обладающих сходными чертами, но не связанных общим происхождением. В.М. Жирмунский обозначает такие случаи как «стадиальные аналогии» или «стадиальные параллели»[92].
Д. Дюришин отмечает, что «чистые случаи» стадиальных аналогий возникают при масштабном сопоставлении древней литературы Востока и Запада[93]. Трудно предположить, что авторы или позднейшие исполнители «Илиады» Гомера, киргизского «Манаса» или, скажем, армянского «Давида Сассунского» общались друг с другом. Несомненные черты сходства восходят в этом случае к общей идеологии эпического века, героическим воинским идеалам. Эпические герои в древних памятниках разных народов обладают сходными чертами, а в поэмах развертываются родственные мотивы и сюжеты. Представляется, однако, что в типологических исследованиях окончательно исключить генетическое объяснение почти невозможно. Большинство работ в области сравнительного литературоведения представляет собой одновременное изучение генетических и типологических связей. Тексты чаще сопоставляют по генетическому признаку. Как правило, контексты соотносят, используя приемы типологического анализа. Однако и здесь остается в силе принцип множественного подхода к истолкованию. Иногда более продуктивным оказывается типологическое сравнение произведений авторов новой и новейшей литературы, не так уж сильно удаленных друг от друга во времени и пространстве. Вглядываясь в историю культуры и языка, ученые реконструируют общий источник для самых разных контекстов, на первый взгляд не имеющих между собой ничего общего.
В XX веке, в эпоху усиления межнациональных контактов и нарастающей глобализации, возникает новая фаза компаративистики. Опираясь на представления об интертекстуальности, современные исследователи принципиально отходят от представления о генетических и типологических связях[94]. Исходным пунктом служит утверждение о том, что текст не способен к «репрезентативности», т. е. не может «представительно замещать» ни реальность, ни какой-нибудь другой текст»[95]. У компаративистов этого направления часто можно встретить термины «диалог» и «диалогичность». Однако в этом контексте понятие «диалог» утрачивает связь с «социофизической реальностью», которую оно имеет у М.М. Бахтина. Отрицанию подвергается то, что автор «Проблем поэтики Достоевского» понимал как «внетекстовый интонационно-ценностный контекст», определяющий «диалогизующий фон» восприятия произведения.
В несколько ином плане размышляет об интертекстуальном понимании компаративистики современный австрийский литературовед Зоран Константинович. По его мнению, новый подход подразумевает прежде всего выход за «вербальные границы», изучение в равной мере категорий автора и читателя. Современная компаративистика не может ограничиваться одним текстом одного автора, но стремится к охвату всех текстов, которые «сконденсированы» (abgespeichert.) в изучаемом тексте. При этом текст рассматривается как «палимпсест», т. е. разговор со всеми другими текстами, с которыми «они» (и автор, и текст) соприкасались в течение своей жизни. 3. Константиновича интересуют «соотношения» различных знаков и кодов, которые возникают при соприкосновениях различных культур. Подключая к анализу все «области жизни» (unter Einbezug aller Bereiche des Lebens), компаративистика, по его мнению, изучает изменения в сознании людей, вызванные взаимодействием разных культур. Очевидно, что социальный компонент приближает 3. Константиновича к М.М. Бахтину и его пониманию «диалога»[96]. Добавим, что и «полистилистика» А.Г. Шнитке представляет собой «…порыв… к расширению музыкального пространства…», музыкальное средство «…для философского обоснования связи времен». Автор «Concerto grosso № 1» выдвигает мысль об «абсолютной», «внеассоциативной ценности произведения», которая не сводится к игре цитат[97].
В этой точке расходятся устремления современных компаративистов. Одни понимают «интертекстуальность» как шаг вперед в понимании литературных взаимосвязей, как вхождение компаративистики в контекст современной семиотической культурологии. Другие, как уже отмечалось, отсекают целый ряд уровней, выдвигая тезис о «нерепрезентативной природе художественного слова». Представляется, что это противопоставление отчасти снимается благодаря подходу к литературе как системе. Разные звенья этой системы, имеющие разные функции, должны обрести свой язык описания. Прямые и обратные связи, делающие систему литературы принципиально открытой, «снимают» вопрос о единственно возможном языке описания.
Известен целый ряд компаративистских работ, созданных на основе интертекстуального подхода[98]. Выполненные талантливыми учеными, эти исследования не вызывают сомнения. Однако по ним очень трудно учиться компаративному анализу. Проблема «адекватности сопоставления» с точки зрения интертекстуальности лишена смысла. Между тем литературоведческая техника возникает постепенно. И здесь ограничительные моменты могут играть не только отрицательную роль. Знание критериев сравнения может послужить основой приобретения навыков сравнительного анализа. Потом, пройдя этот этап и убедившись в его недостаточности, исследователь может пробовать свои силы в интертекстуальной компаративистике. Сошлемся на конкретный пример генетического сопоставления, предпринятого академиком М.П. Алексеевым и посвященного теме «Эмиль Золя и И.Г. Чернышевский» (1940)-.
Свое исследование автор начинает с напоминания известного факта, что Э. Золя «…ни разу не был в России» и русского языка (здесь и далее курсив мой. – В.З.) не знал. Однако Россия находилась в поле зрения писателя. Золя вел переписку с русским и корреспондентами, дружил с И.С. Тургеневым, шесть лет сотрудничал с журналом «Вестник Европы». Из России Э. Золя получил «материальную и моральную поддержку», когда все журналы во Франции были для него закрыты и он «умирал с голоду».
Алексеев Михаил Павлович (1896–1981) – историк литературы, специалист по сравнительно-историческому литературоведению, академик АН СССР. В центре внимания исследователя – международные связи русской литературы. Архивные разыскания М. П. Алексеева всегда были нацелены на введение в научный оборот неизданных прежде материалов. Интерес к факту, документу и их интерпретация на основе исторического подхода – отличительная особенность мышления М.П. Алексеева.
Литература:
Алексеев МП. Из истории английской литературы: Этюды, очерки, исследования. – М.; Л., 1960.
Алексеев МП. Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI–XIX вв. – Л.,1964.
Алексеев М.П. Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. 2-е изд. – Л., 1984.
Алексеев МЛ. Русско-английские литературные связи (XVIII век – первая половина XIX века). – М., 1982. (Лит. наследство; т. 91).
Алексеев МП. Сравнительное литературоведение. – Л., 1983.
Алексеев МП. Пушкин и мировая литература. – Л., 1987.
Следующим шагом анализа становится выявление круга чтения Э. Золя, определение степени его знакомства с русской литературой. Французские литературоведы давно уже обратили внимание на тот факт, что Э. Золя читал в переводах произведения Л.И. Толстого и И.С. Тургенева, откликался на них.
Очевидно, что М.П. Алексеев начинает с характеристики контекста, «почвы» рецепции. Знания русского языка, переводы, личные контакты, корреспонденты, сотрудничество в русских изданиях и круг чтения – таковы основные вопросы первого этапа исследования.
Получив на них ответы, М.П. Алексеев формулирует основную гипотезу статьи: «Есть все основания предполагать, что Э. Золя читал роман ИТ. Чернышевского «Что делать?», и вполне возможно, что это чтение не прошло бесследно для автора «Ругон-Маккаров», отозвавшись в одном из романов этого знаменитого цикла».
Далее анализ связан с реконструкцией истории переводов произведений Н.Г. Чернышевского на французский язык. М.П. Алексеев обращается к личности переводчика романа, восстанавливает примечательный контекст его первой публикации. На французский язык «Что делать?» перевел А.Н. Тверитинов, «горячий поклонник Чернышевского». Выпущенный «в ограниченном количестве экземпляров» перевод тем не менее послужил основой для последующих изданий романа на европейских языках. М.П. Алексеев прослеживает судьбу ряда книг, подаренных Тееритиновым знаменитым литераторам. Так, отмечает он и то обстоятельство, что один экземпляр получил И.С. Тургенев. В поисках дальнейших доказательств возможной осведомленности Э. Золя о романе Чернышевского М.П. Алексеев обращается к критическим откликам на «Что делать?» во французской печати.
Часть из них появилась в солидных изданиях (Revue des deux mondes, например), часть принадлежала крупным авторам и ученым – Жорж Санд, Ф. Брюнетьеру. Молодой Ф. Брюнетьер негативно отозвался о «русском нигилизме» вообще и романе Н.Г. Чернышевского, в частности. Он даже счел возможным сравнить Н.Г. Чернышевского с Э. Золя, что, с точки зрения Ф. Брюнетьера, вовсе не было похвалой. Вряд ли, замечает М.П. Алексеев, Э. Золя не знал этого отклика.
Автор статьи обращается к поиску прямых подтверждений тому, что Э. Золя действительно читал русский роман. И такое свидетельство он находит. Оно принадлежит литератору И.Я. Павловскому В одной из своих корреспонденций он приводит свой разговор с Э. Золя, которого он застал за чтением «Что делать?». Золя признался тогда, что «…хочет переделать русскую героиню, устраивающую фаланстеры, на французский лад». М.П. Алексеев замечает, что корреспондент зафиксировал не только знакомство Э. Золя с произведением Н.Г. Чернышевского, но и факт воздействия (курсив М.П. Алексеева) «…этого романа на французского писателя в момент его творческой работы» над циклом «Ругон-Маккары».
Затем наступает фаза проверки достоверности указаний И.Я. Павловского. М.П. Алексеев намечает контекст, связанный с личностью Н.Я. Павловского. Выясняется, что к Э. Золя его направил И.С. Тургенев, поручив ему вести переговоры о приобретении прав на рукопись (курсив М.П. Алексеева) «…очередного романа серии «Ругон-Маккаров» – «Дамское счастье…». М.П. Алексеев анализирует контекст публикации свидетельства И.Я. Павловского об Э. Золя – читателе Н.Г. Чернышевского и приходит к выводу о полной достоверности содержащихся в ней фактов.
И все же исследователь склоняется к осторожному выводу о том, что не удалось «…установить со всей точностью, когда и через чье посредство роман Н.Г. Чернышевского – конечно, во французском переводе А.Н. Тверитинова, – стал известен Эмилю Золя». Добавим, что посредником в данном случае выступила «воспринимающая среда»: наличие интереса к России в кругу Э. Золя, дружба с Тургеневым, который содействовал контактам Золя с русскими литераторами.
Сопоставление подразумевает не только обнаружение сходства, но и различия. Так, М.П. Алексеев подчеркивает, что в романе Э. Золя «социальная утопия» потеряла революционный характер. Преобразования Денизы связаны с парижским «локальным колоритом». «Замысел Золя был – переделать (курсив М.П. Алексеева) русскую героиню на «французский лад». И он этот замысел осуществил.
Важным моментом являются и текстуальные совпадения. Одно из них М.П. Алексеев усматривает в слове «фаланстер», которое использует героиня Э. Золя. Другая бесспорная цитата связана с вывеской нового магазина на Невском, который открывают Вера Павловна и Мерцалова: «Аи bon travail. Magasin des Nouveaut.es»[99]. Магазин в романе Э. Золя называется «Аи bonheur des dames. Magasin des nouveaut.es». Текстуальные совпадения являются лишь одним из элементов того диалога, который между собой ведут романисты Э. Золя и Н.Г. Чернышевский.
В конце своей статьи М.П. Алексеев еще раз возвращается к мысли о том, что у романа Э. Золя было множество источников. Однако роман «Что делать?» следует также включить в их число. Однако ученый ставит и дальнейшие вопросы, намечая перспективу новых изысканий. «Не следует ли поискать следов мыслей Н.Г. Чернышевского и в более поздних произведениях
Э. Золя, например в «Труде» (1901), с его повествованием о новых началах гражданственности, с его идеями солидарности и бодрого общественного труда?»
«Медленное чтение» статьи М.П. Алексеева показывает, что генетическое сравнение требует от литературоведа огромных знаний, осмотрительности, точности и осторожности в выводах. Выделенные курсивом опорные понятия указывают на этапы и приемы сопоставительного анализа подобного типа.
Вопросы к теме
1. Назовите общие черты культурно-исторического и сравнительно-исторического методов.
2. Что такое «европоцентризм»?
3. В чем заключается общеметодологическое значение принципа «повторяемости» явлений?
4. Перечислите основные «ряды» культуры, которые А.Н. Веселовский рассматривает в «Исторической поэтике».
5. Что такое «психологический параллелизм»?
6. Как соотносятся «мотив» и «сюжет» в понимании А.Н. Веселовского?
7. Как соотносятся «традиция» и «личный почин» в трудах А.Н. Веселовского?
Литература по теме
1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / Сост. С.Г. Бочаров. 2-е изд. – М., 1986.
2. Веселовский А.Н. Избранные статьи / Вступ. статья В.М. Жирмунского. – Л., 1939.
3. Веселовский А.Н. Историческая поэтика / Вступ. статья В.М. Жирмунского. – Л., 1940.
4. Веселовский А.Н. Историческая поэтика / Вступ. статья И.К. Горского. – М., 1989.
5. Веселовский А.Н. Избранное: Историческая поэтика / Сост. И.О. Шайтанов. – М., 2006.
6. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы / Предисл. Ю.В. Богданова. – М., 1979.
7. Жирмунский В.М. Введение в литературоведение: Курс лекций. – СПб., 1996.
8. Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. – Л., 1979.
9. Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. 2-е изд. – Л., 1978.
Дополнительная литература
1. Алексеев М.П. Сравнительное литературоведение / Отв. ред. академик Г.В. Степанов. – Л., 1983.
2. Бройтман С.Н. Историческая поэтика: учеб. пособие. – М., 2001.
3. Веселовский Александр. Избранные труды и письма / Отв. ред. П.Р. Заборов. – СПб., 1989.
4. Дима А. Принципы сравнительного литературоведения. – М., 1977.
5. Конрад Н.И. Запад и Восток. Статьи. 2-е изд., испр. и доп. – М., 1972.
6. Михайлов А.В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры. – М., 1989.
7. Михайлов А.В. Обратный перевод. Русская и западноевропейская культура: Проблема взаимосвязей / Сост., подгот. текста Д.Р. Петрова и И.С. Хурумова. – М., 2000.
8. Смирнов И.П. Порождение интертекста: Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б.Л. Пастернака. 2-е изд. – СПб., 1995.
9. Топер П.М. Перевод в системе сравнительного литературоведения. – М., 2000.
10. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра / Подготовка текста и общ. ред. И.В. Брагинской. – М., 1997.
11. Шайтанов И. Классическая поэтика неклассической эпохи. Была ли завершена «Историческая поэтика»? // Вопросы литературы. – № 4. – 2002.
12. Шайтанов И.О. Зачем сравнивать? Компаративистика и/или поэтика //Вопросы литературы. – Сентябрь – октябрь 2009.
13. Genette Gerard. Palimpsestes. La litterature au second degre. -P., 1982
Тема 7 Социологический метод
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социально-исторический контекст (среда, фон), материальная культура, социальная типизация, теория отражения, классовый подход, социологическая поэтика, базис и надстройка
Социологический метод связан с пониманием литературы как одной из форм общественного сознания. Во «взаимной соотнесенности» с другими подходами, а не как единственный и универсальный, он приобретает смысл и значение[100]. Этот метод акцентирует прежде всего связи литературы с социальными явлениями определенных эпох. История его возникновения восходит ближайшим образом к культурно-исторической школе в литературоведении. Закономерно, что в XIX столетии важнейшей философской основой этого метода был позитивизм. С культурно-исторической школой социологический метод сближают историзм, стремление рассматривать литературу как выражение закономерностей материальной культуры народа, внимание к процессам, а не к индивидуальностям, готовность объяснять художественное творчество при помощи законов других наук (в первую очередь – экономики, социологии и т. д.), интерес к воздействию литературы на политическую ситуацию и – шире – общественную жизнь. Социологический метод может быть использован как для анализа самого произведения «на фоне» общественной жизни, так и для изучения его воздействия на читателей, публику. Здесь он соприкасается с психологическими подходами к литературе, а также с рецептивной эстетикой. В первом случае в произведении выделяются прежде всего исторические тенденции, социально обусловленные моменты, изображение действия экономических и политических законов, характеры, тесно связанные с «общественной атмосферой». Во втором случае речь идет о проблеме рецепции произведения различными группами (слоями, сословиями, классами) читателей.
Понятый таким образом социологический метод и сравнительное литературоведение в целом ряде случаев решают сходные задачи[101]. Смысловые области и зоны применения различных школ и методов в литературоведении пересекаются, налагаются друг на друга. Подобно тому как жанровая природа сложного произведения может содержать различные аспекты, восходить одновременно к разным родам и видам литературы, так и исследование этого произведения можно осуществлять с помощью различных типов анализа. Важно, чтобы пересекающиеся методы были взаимно «соотносимы», чтобы они непротиворечиво дополняли друг друга.
Социологический метод, который имеет свою законную сферу применения, не раз выдавали за единственно возможный, универсальный подход к литературе. При этом происходила неизбежная в таких случаях вульгаризация. Русская критическая традиция XIX века, представленная работами В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, при всех оттенках и отличиях между ними, готовила появление социологического метода в литературе. Полемика с собственно эстетическими моментами в искусстве, отчасти характерная уже и для Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова, усилилась, как известно, в критике Д.И. Писарева[102].
Чтобы проиллюстрировать основные черты этого метода, необходимо обратиться к его становлению. Социологическое мышление, как и всякое другое, особенно интересно тогда, когда оно предстает не как готовый рецепт, а в «неготовом», динамическом состоянии. Так, в 40—60-е годы XIX века социологический метод как таковой в России еще только складывается. Подобно своим учителям В.Г. Белинскому и Н.Г. Чернышевскому Н.А. Добролюбов был далек от упрощений вульгарного социологизма. Обозначая свою критику как «реальную», он соотносил картину, представленную тем или иным автором, с действительностью. Исследуя, например, вопрос о том, «…возможно ли» то или иное лицо, автор статьи «Луч света в темном царстве» (1860) переходит к «собственным соображениям о причинах», породивших тот или иной характер. Следовательно, очевидным постулатом «реальной» критики является мысль о том, что причины существования всякого характера лежат в самой жизни, во внетекстовой действительности. Н.А. Добролюбов стремится «…определить собственную норму этих произведений, собрать их существенные характерные черты…», отражающие реальность[103].
Очевидно, что критика интересует лишь взаимоотношение «текст – реальность». Тем самым в поле зрения Н.А. Добролюбова попадает лишь одна часть коммуникативной цепи в литературе. И это вовсе не свидетельствует о «слепоте» критика. Напротив, речь идет о программном, принципиальном моменте, об аналитическом «видении».
В качестве примера сошлемся на статью Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве», в которой, как известно, дана блестящая трактовка драмы Н.А. Островского «Гроза». Значение этой статьи для истории русской литературы неоспоримо. Возвращение к ней сегодня оправдано уже потому что к идеям, высказанным Добролюбовым, одновременно восходят концепции вульгарного социологизма и теории, возникшие в кругу М.М. Бахтина[104].
Н.А. Добролюбов начинает статью с рассуждений о «служебной» роли литературы, «…которой значение состоит в пропаганде, а достоинство определяется тем, что и как она пропагандирует»[105]. Вместе с тем он указывает, что величайшие гении над этой «служебной» ролью возвышались, изображая «полно и многосторонне» существенные стороны жизни. Таков был великий Шекспир. Таков и драматург Островский.
Чтобы этого достичь, Н.А. Островский отказывается от традиционных драматургических жанров. «Гроза», по мнению Н.А. Добролюбова, не укладывается в традиционные схемы «комедии интриг» или «комедии характеров». Островский создает в своем творчестве новый жанр, который в статье обозначен как «пьесы жизни». Отметим, что это жанровое наименование и само по себе весьма характерно для социологического мышления. Если «интрига» или «характер» категории в большей степени внутрилитературные, то понятие «пьеса жизни» выводит анализ на иной уровень. Дело даже не в том, что, по мнению Н.А. Добролюбова, Островский обращается к «житейской, экономической стороне вопроса», а, скорее, в том, что его привлекает «…общая, не зависящая ни от кого из действующих лиц, обстановка жизни». «Положение» действующих лиц, добавляет автор статьи, господствует над ними, т. е. над их характерами. Это важный принцип социологического метода: не столько индивидуальное, сколько социально-типическое интересно в литературе.
Благодаря социологическому методу критик определенные моменты в пьесе «Гроза» акцентирует и замечает, а другие, по-своему тоже важные, не фиксирует. Следует вспомнить, что Н.А. Добролюбов принял участие в литературной борьбе, развернувшейся вокруг творчества Н.А. Островского. В спорах вокруг пьесы «Гроза» столкнулись авторы, принадлежавшие к разным идеологическим и литературным направлениям[106]. Вполне понятно, что некоторые идеи Н.А. Добролюбова даны в полемическом заострении, что, однако, на основные тезисы не влияет.
Критик вплотную подходит к мысли о соответствии характера героини жанровой природе «Грозы». Действительно, в «пьесе жизни», как и в душе героини, нет ничего изначально заданного, «формулированного», восходящего к твердым логическим основаниям. Катерина во всем подчиняется своей натуре, «водится» ею. Основой ее характера является страсть, придающая этой героине глубину и одновременную алогичность. Однако и в русской жизни многое неподвластно логике. Если Н.А. Добролюбов уверенно соотносит развитие русской жизни с характером Катерины, то два литературных момента – характерологический и жанровый – он между собой не сопоставляет и не сводит.
Скорее всего, это кажется ему чем-то само собой разумеющимся и очевидным. Для социологического метода собственно литературные характеристики кажутся банальными и вторичными признаками. Это искажение обусловлено особой оптикой социологического метода, его местом в осмыслении литературы как системы.
В качестве центральных критик выдвигает понятия «фона» и «почвы». В «пьесе жизни» «…борьба, требуемая теориею драмы… совершается… не в монологах действующих лиц, а в фактах, господствующих над ними». Эти «факты» составляют «почву» русской жизни, как ее изображает Островский. Очень тонким представляется замечание Н.А. Добролюбова о персонажах, которые не вовлечены непосредственно в главный конфликт. Они и составляют тот самый «фон», «толпу», которые определяют судьбу главной героини. Критик высказывает оригинальные соображения о «массе» как факторе искусства и жизни, что позднее станет одним из важнейших мотивов социологического анализа литературы.
Н.А. Добролюбова более всего интересует, как формируются представления о добре и зле, экономические и бытовые привычки «толпы». Он замечает, что представители «темного царства» в пьесе «тяжело дышат», так как чувствуют, что есть сила выше их – «…закон времени, закон природы и истории…». Социологический метод в литературоведении стремится вскрыть закономерности, стоящие за литературным произведением, «обстоятельства», внеположенные ему. Критик и самих действующих лиц произведения рассматривает как элементы «обстановки» (курсив Н.А. Добролюбова), как говорящие и двигающиеся «обстоятельства», делающие необходимым «фатальный конец» героини. По его мнению, именно «среда», подчиненная силе Диких и Кабановых, «…производит обыкновенно Тихонов и Борисов…»[107]. Анализируя драму Катерины, критик глубоко постигает ее гармоничный, вольнолюбивый характер. Однако подлинной причиной трагедии он считает положение, занимаемое героиней в том укладе, который установился под влиянием диких и кабановых. Этот акцент на социальном положении персонажа, стремление прежде всего таким образом уяснить суть конфликта являются важными элементами социологического метода.
Н.А. Добролюбов подчеркивает, что Н.А. Островский не стремится к «дагерротипной точности», прибегая к «…художественному соединению однородных черт, проявляющихся в разных положениях русской жизни, но служащих выражением одной идеи». Н.А. Добролюбов называет этот принцип обобщения «возведением в тип», приданием какому-либо единичному признаку родового, постоянного значения[108]. Как известно, этот принцип обобщения социальных моментов называется типизацией. Такую типизацию принято считать основой «критического реализма». Несомненно, что социологический метод способен, как никакой другой, объяснить взаимоотношения произведения с внешней действительностью, указать на диалог автора с реальностью. Социологический метод подобно всем другим вариантам анализа выдвигает собственные принципы генерализации. Однако они затрагивают лишь один аспект литературы как системы: взаимоотношения автора произведения с реальностью. Отвечая на полемические выпады оппонентов, Н.А. Добролюбов признает, что его трактовка «Грозы» приведена в соответствие с некоей идеей.
В этой связи законным представляется вопрос и о том, что Н.А. Добролюбов в своей статье не упоминает, чего он не замечает? Очевидно, что определенные моменты художественной структуры драмы Островского критик решительно оставляет без внимания.
Нельзя утверждать, что Н.А. Добролюбов в целом игнорирует «…мир, художником создаваемый». В этом автора «Луча света…» упрекал другой выдающийся интерпретатор «Грозы», поэт и критик Ап. Григорьев[109]. И все же верно, что «художественный мир» пьесы как таковой, самоценный, самодостаточный и по-иному реальный Н.А. Добролюбова не привлекает. Очевидно, что Н.А. Добролюбов оставляет без внимания символизм, действительно характерный для «Грозы». Автора знаменитой статьи это явление не интересует. Отметим, что и позднее литературная критика не вполне овладела инструментарием, необходимым для такого анализа[110]. Между тем теория литературы XX века утверждает, что собственно поэтическая функция языка заключена во взаимосвязи между «наименованием и окружающим его контекстом». Чем выше поэтичность наименования, тем более «ослабленным» может быть отношение к реальности[111]. Символизация представляет собой, скорее всего, внутритекстовый аналог типизации. Если типизация предполагает «возведение в род», придание единичному факту всеобщего значения, собирание разрозненных фактов действительности воедино, в целостный эстетический факт, то символизация полагает сквозную семантизацию значимо повторяющихся элементов текста. При этом возникает «художественный мир» произведения.
Типизацию Н.А. Добролюбов описал превосходно. Описанием символизации, характерной для художественного текста, он в данном случае пренебрег. Для символического плана пьесы очень важно упоминание о грозе и «громовых отводах» в разговоре между Кулигиным и Диким (д. 4, явл. 2). По мнению последнего, не в «елестричестве» дело, поскольку гроза людям в «наказание посылается». Кулигин, напротив, считает, что «гроза» – вовсе не угроза, а «благодать» (д. 4, явл. 4). Обращаясь к собравшейся толпе, он восклицает: «У вас все гроза!» Здесь это слово символизирует страх, который в разнообразных обличиях наполняет сердца калиновцев, соединяясь с глубочайшим невежеством. Добавим, что Н.А. Добролюбов превосходно чувствует социальную символику драмы. Однако он не исследует ее в самом тексте произведения. Критик выводит ее вовне, проецируя на «общественную атмосферу», русскую жизнь.
«Река» и «ключ» также приобретают в пьесе символическое значение. Катерина получает от Варвары ключ от калитки в саду Он жжет ей руки, она поначалу хочет бросить его далеко, «…в реку кинуть…» (д. 2, явл. 10). Однако в реку, в омут кинется она сама.
Поэтика предзнаменований значима и на звуковом уровне. Так, в тексте пьесы сближаются лексемы «враг – овраг», «отымут – омут» и др. Катерина очень чутка к тому символизму, который составляет самую сердцевину традиционного уклада жизни. Суть его состоит в «приметах», которые, по словам Кабановой, на все есть (д. 4, явл. 5). Она сразу понимает, о ком идет речь, когда прохожие рассуждают о том, что гроза эта уж непременно кого-нибудь убьет. В этот миг вновь появляется старая барыня, выкрикивающая слова о соблазне красоты: «В омут лучше с красотой-то!» (д. 4, явл. 6). В пьесе разговор о приметах тотчас сопровождается явлением живой приметы, «реализованной метафоры».
В момент свидания произносит Катерина слова о грехе, который «камнем ляжет на душу» (д. 3, сц. 2, явл. 3). «Камень» этот вызывает ожидание реки и омута. Катерина гибнет, идет ко дну На одном уровне драма разыгрывается, на другом она постоянно подготавливается, как «гроза», собирается. Эти постоянные взаимопереходы и превращения слов, реплик, устойчивых выражений и составляют сквозную символическую основу текста.
Внутритекстовые преобразования, «генерирование» смысла не являлись для Н.А. Добролюбова предметом критического рассмотрения. Не предназначенный для постижения «внутренней формы» произведения или слова, социологический метод воплощает другую возможность прочтения искусства.
Опираясь на идеи русских разночинцев-демократов и концепции К. Маркса и Ф. Энгельса, позднее Г.В. Плеханов, П. Лафарг и В.Н. Ленин заново и более жестко сформулировали основные положения социологического подхода. Так, например, в статье «Добролюбов и Островский» (1911) Г.В. Плеханов критиковал просветительские элементы в мировоззрении критика, восходящие, по его мнению, к философии Л. Фейербаха. Апелляцию Н.А. Добролюбова к отвлеченному, «естественному» разуму Плеханов объяснял отсутствием у него «классовой точки зрения»[112]. К идеям Г.В. Плеханова близки, например, и положения некоторых работ Д.Н. Овсянико-Куликовского, одного из самых значительных представителей психологического подхода в литературоведении.
Начиная со второй половины 20-х годов XX века в Советской России все большую значимость приобретал тезис о «классовом» понимании литературы. Закрепилось понимание искусства слова как «зеркала» жизни, призванного отражать и воспитывать эту жизнь в соответствии с идеологией победившего пролетариата. Позднее писателей станут называть «инженерами человеческих душ» (И. Сталин).
Социологизм, представленный в трудах А.В. Луначарского, В.М. Фриче или П.С. Когана, не был чем-то абсолютно одинаковым или однородным. Разные авторы отличались разной степенью одаренности, масштабности. Однако именно концепции «вульгарного социологизма» легли в основу деятельности целого ряда творческих объединений, обусловили принципы множества исследований и изданий. Так, в первой советской «Литературной энциклопедии» последовательно проведена установка на то, что «классовый генезис поэзии» принципиален. Подчеркивалось, что противоречия в идеологии писателей «пронизывают» и форму их произведений[113]. Наиболее последовательные и ограниченные представители вульгарного социологизма жестко и прямолинейно связывали художественное мышление писателя, вплоть до деталей стиля, с его классовыми корнями, отношением к политической борьбе, считая эти параметры определяющими для понимания творчества в целом.
Однако социологический метод, глубоко связанный с классическими традициями русской литературы и культуры, к вульгарным и крайним формам не сводится. Вне социологического мышления нельзя понять концепцию «диалога» в творчестве М.М. Бахтина. Безусловно, социальный компонент не является в научном мышлении М.М. Бахтина главным или единственным. Однако важность его неоспорима. Так, в поздних заметках «К методологии гуманитарных наук» (1974) ученый размышляет о социальной, внесловесной «обусловленности» произведения, связанной с «внетекстовым интонационно-ценностным контекстом». М.М. Бахтин подчеркивает, что этот контекст в «своих наиболее существенных и глубинных пластах» остается «вне данного текста как диалогизующий фон его восприятия». Таким образом, социальный аспект произведения понят здесь как нечто лежащее вне текста, но причастное диалогу с ним[114].
В 30-е годы интересное изложение принципов «социологической поэтики», далекое от крайностей вульгарного социологизма, дал друг М.М. Бахтина В.Н. Волошинов. В блестящей статье «Слово в жизни и слово в поэзии» автор стремится понять «…особую форму социального общения, реализованного и закрепленного в материале художественного произведения…»[115]. Принцип диалога, общий для ряда ученых круга М.М. Бахтина, определяет положения этой теории.
Однако вполне понятно, что на суждениях молодого Валентина Волошинова лежала жесткая печать времени. Так, в духе эпохи он выдвигает тезис о «внутренней, имманентной социологичности любых идеологических образований». Эстетические явления он понимает как разновидность социальных. Слово, по его мнению, всегда выступает в высказывании, захватывая при этом какую-то определенную внесловесную ситуацию. Автор, слушатель и герой объединены, таким образом, единым «пространственным и смысловым кругозором», который В.Н. Волошинов определяет как «подразумеваемое», данное всем участникам общения. Этот кругозор определяет и «общность основных оценок», подразумеваемых теми, кто творчески созерцает художественное произведение («хоровая поддержка»). Общность оценок детерминирует интонационный и жестовый ряд, интонационную общность, характерную для взаимоотношений автора произведения, его героя и слушающих.
Заметим, что рассуждения эти отнюдь не лишены оснований. Именно интонационная общность соединяла А.М. Горького и читателей его «Песни о Буревестнике» (1901), позволяя последним с большой легкостью переходить от иносказания к конкретно-историческому пониманию смысла произведения. В призыве «Пусть сильнее грянет буря!..» современники без труда угадывали призыв к революции. Однако слово в произведении, как не раз уже отмечалось в этой книге, связано не только с «хоровой поддержкой», но и с внутритекстовым художественным контекстом. Слово соотносится не только с реальностью, лежащей вне текста, но и с реальностью самих слов, составляющих этот текст.
Ощущая заданность своих построений, В.Н. Волошинов пытается смягчить их. Так, по его мнению, идеологическая оценка в художественном произведении вовсе не должна выражаться в форме поучений или сентенций. Это снижало бы поэтический смысл целого. «Оценка должна остаться в ритме, в порядке развертывания изображенного события; она должна осуществляться только формальными средствами материала». Отметим, что В.Н. Волошинов делает и обратный ход: «…в то же время, не переходя в содержание, форма не должна утрачивать связи с ним, отнесенности к нему…». Здесь возникает важный момент: является эта «отнесенность» формы к содержанию моментом социологическим или имманентно-поэтическим? Автор статьи разрешает это противоречие, вводя понятие «иерархичность» структуры формы. В качестве основного выдвигается требование «адекватности стиля», которое имеет в виду «оценочно-иерархическую адекватность формы и содержания».
Закономерно, что В.Н. Волошинов сочувственно вспоминает классицистские и неоклассицистские теории, разделявшие стиль на «высокий и низкий». Художественная форма раскрывала там свою «активно оценивающую природу». Содержание и форма должны быть «равнодостойны». Выбор содержания и выбор формы – это один и тот же акт, определяющий основную позицию творящего, которая продиктована одной и той же социальной оценкой. Таким образом, оценочность, притом сквозная, данная извне (как «хоровая поддержка» и «подразумеваемое» и изнутри – в иерархичности структуры формы), определяет сущность социологической поэтики. Эту мысль иллюстрирует и следующее определение: «…поэтическое произведение – могущественный конденсатор невысказанных социальных оценок: каждое его слово насыщено ими. Эти-то социальные оценки и организуют художественную форму как свое непосредственное выражение». С точки зрения формализма или структурализма, можно было бы заметить, что здесь не учитывается особый характер коммуникации в искусстве (P.O. Якобсон, Ю.М. Лотман). Как известно, сообщение в поэтической речи направлено в наибольшей мере на само «словесное выражение», «знак», на сам принцип «поэтической номинации» (Ян Мукаржовский). Произведение конденсирует не только «невысказанные социальные оценки», но и контекстуальные поэтические значения (Ю.Н. Тынянов, Ян Мукаржовский, Г.О. Винокур).
Однако, по мнению В.Н. Волошинова, формальный подход к искусству пренебрегает ролями слушателя и героя, которые являются «постоянными участниками события творчества». Задача социологической поэтики состоит, по мнению В.Н. Волошинова, именно в том, чтобы «…объяснить каждый момент формы как активное выражение оценки в этих двух направлениях – к слушателю и предмету высказывания – герою».
Автор подчеркивает, что значение, смысл формы относится не к материалу, как полагают формалисты, а к содержанию. Он приводит при этом следующее разъяснение: «…можно сказать, что форма статуи не есть форма мрамора, а форма человеческого тела, причем она «героизирует» изображенного человека, или «ласкает», или, может быть, принижает его (карикатурный стиль в пластике), т. е. выражает определенную оценку изображенного». Представляется, что социологическая поэтика проникает внутрь произведения со стороны восприятия, подключая смысловой, оценочный и интонационный кругозор слушающего. Чисто лингвистический анализ художественного произведения не правомерен с точки зрения этого подхода[116].
В финале очерка В.Н. Волошинов переходит к анализу «внутренней речи». «Стиль поэта рождается из не поддающегося контролю стиля его внутренней речи, а эта последняя является продуктом всей его социальной жизни». Самая интимная внутренняя речь уже содержит установку на слушателя, который «…может быть только носителем оценок той социальной группы, к которой принадлежит сознающий».
Кругозор автора замкнут и принципиально ограничен идеологическим и социальным горизонтом данного момента истории.
В.Н. Волошинов не допускает мысли, что возможно общение и понимание между носителями разных идеологических оценок, разных языковых и культурных сознаний, не пересекающихся или далеко отстоящих друг от друга в системе рангов социальной иерархии. Перед нами сознание монолитное и принципиально ограниченное, что вовсе не отрицает таланта исследователя.
Очерк В.Н. Волошинова указывает одновременно на силу и слабость социологического метода. Полемика «формалистов» с учеными круга М.М. Бахтина могла бы быть исключительно продуктивной. Однако их сближение или синтез в 30-е годы были решительно невозможны. В дискуссию о литературе вмешалась тогда идеология. В перспективе обе эти крупные школы решающим образом повлияли на развитие теории литературы в нашей стране и во всем мире.
Многие идеи В.Н. Волошинова и близких ему литературоведов оказали воздействие на исследователей следующего поколения. Социологические мотивы в литературоведении совсем не всегда были данью политической и научной конъюнктуре. Так, на зависимость героя от социальной среды указывал выдающийся советский литературовед Г.А. Гуковский (1902–1950). Он писал, например, что в «маленькой трагедии» Пушкина не Сальери является подлинным убийцей Моцарта, а «историческое бытие»[117].
Однако именно исследования Г.А. Гуковского являются замечательным примером преодоления социологического метода изнутри – отчасти вопреки собственным установкам. В блестящей книге «Пушкин и русские романтики» ученый четко сформулировал положения социологического метода[118]. Он подчеркивал, что определенность в «классовом смысле» необходима, поскольку никто не может «выпрыгнуть из классовой борьбы». Исследователь акцентировал мысль, что важнейшим завоеванием литературы XIX века на ее пути от романтизма к реализму явилось сочетание историзма с «анализом социальной дифференциации», изображение «зависимости» психики человека от истории и социума.
Конечно, понятие «типизация» также занимает в этом исследовании важное место. Однако следует помнить о научном, общекультурном и политическом контекстах, влиявших на создание этой книги. Как известно, Г.А. Гуковский полемизировал с представителями вульгарного подхода к литературе[119]. Оппоненты Г.А. Гуковского отказывали в ценности любому явлению искусства, которое не совпадало с их пониманием реализма.
В XX веке основы социологического метода формулировали представители разных философских и идейных тенденций. «Социологией литературного вкуса» занимался в 20-е годы в Германии Л. Шюккинг. В 30—50-е годы XX века Б. Брехт, В. Беньямин, Т.В. Адорно и М. Хоркхеймер были влиятельными представителями социологического метода в философии и литературоведении. Их теории очень далеки от вульгарного социологизма[120]. После Второй мировой войны Т.В. Адорно, М. Хоркхеймер и Г. Маркузе выступили с критикой капиталистического общества потребления, предложив свое понимание искусства в современном обществе. Хорошо известны исследования по социологии искусства, принадлежащие Ш. Ладо и Э. Сурьо.
Вероятно, можно говорить об очередном витке обновленного позитивизма в гуманитарных науках. Ряд фундаментальных трудов по социологии искусства (40—70-е годы XX в.) принадлежит А. Хаузеру, который возвращается к теоретическим построениям марксизма, решительно дистанцируясь от его политической практики. Хаузер опирается на понятия «базис» и «надстройка», вводя в понятие «базис» не только «материальные», но и «духовные составляющие», связанные с индивидуальным сознанием людей»[121].
Энгельс Фридрих (Engels,
1820–1895) – немецкий политэконом, социолог, философ. Совместно с Карлом Марксом обосновал теорию научного коммунизма. В эстетике сформулировал понятие реалистической типизации, выдвинув требование точности деталей и необходимости создания «типического героя в типических обстоятельствах» (Письмо к Гаркнесс). Предлагая характеристику культурноисторическим эпохам, Энгельс особенно подчеркнул прямую связь экономической необходимости и порождения культуры. Возрождение он определял как эпоху, «которая нуждалась в титанах и породила титанов» («Диалектика природы», 1873–1883). В работах «Происхождение семьи, частной собственности и государства», «Манифест коммунистической партии» (совместно с К. Марксом, 1848) и др. содержится мысль об искусстве и литературе как отражении социальной реальности и надстройки над экономическим базисом.
Литература:
Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. 2-е изд. Т. 1–39,– М., 1955–1981.
Вплоть до 80-х годов XX века в литературоведении социалистических стран в качестве основы социологического метода был принят исторический материализм К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина.
Сошлемся на исследования известного теоретика Г. Лукача, превосходно образованного ученого, знатока классической немецкой философии. Размышляя над спецификой искусства, Г. Лукач опирается на марксистско-ленинскую теорию отражения[122]. По мнению ученого, искусство представляет собой «собственный мир» (eine eigene Welt), обладающий «завершенностью» (Abgeschlossenheit.) и «непосредственностью» (Unmittelbarkeit). Однако в силу разных причин Г. Лукач не мог остановиться на положении, повторявшем известные мысли В. фон Гумбольдта и Г.В.Ф. Гегеля. Г. Лукач совершил следующий шаг. По его мнению, «непосредственность» отражения, этот «собственный мир» произведения искусства является лишь «необходимой иллюзией» (ein notwendiger Schein – «видимость», «кажимость»). Другими словами, подлинной действительностью является лишь материалистически понятая реальность.
Будучи теоретиком, прошедшим большую школу диалектического мышления, Г. Лукач исследует – вслед за Г.В.Ф. Гегелем – «взаимоопрокидывание», взаимопереход содержания и формы, а также переход содержания в форму (das Umschlagen des Inhalts in Form). Ученого интересует соотношение обобщенного и конкретного в литературе. Он вплотную подходит к описанию символического характера искусства, но не употребляет, не может употребить этот термин. В этом случае ему пришлось бы вновь и вновь уточнять, что он понимает под «отражением». Лукач вынужден мыслить в жестко заданных параметрах, подразумевающих сочетание диалектики содержания и формы с принципом «партийности» в литературе.
Во второй половине XX века социологический метод не раз соединяли с элементами структурализма (Л. Гольдман). Эта тенденция сохраняется и на рубеже XX–XXI веков. Происходит «встреча» семиотики, литературной поэтики и социальной психологии[123]. Так, в оригинальной книге И. Паперно о семиотике бытового поведения в кругу Н.Г. Чернышевского показано, «как человеческий опыт, принадлежащий определенной исторической эпохе, трансформируется в структуру литературного текста, который, в свою очередь, влияет на опыт читателей»[124]. Эта научная тенденция выходит, конечно, далеко за рамки социологического метода. Представляется, однако, что новое соединение семиотики и социологии расширяет рамки социологического подхода к литературе и культуре.
Подводя итоги, отметим, что складывавшийся в работах H.А. Добролюбова социологический метод был менее жесток, более обобщен и открыт, чем, скажем, постулаты в более поздних трудах Г.В. Плеханова или тем более В.М. Фриче. Социологические мотивы в мышлении М.М. Бахтина, напротив, определили его концепцию «диалога», ставшую одной из центральных в литературоведении XX века. Опасен не социологический метод сам по себе, а его возможный диктат, «единоначалие». Литература – открытая система. Система ее истолкований подразумевает множественность подходов, их внутреннюю незавершенность и открытость.
Вопросы к теме
I. Перечитайте статью Н.А. Добролюбова «Что такое обломовщина?». Приведите примеры «социальной типизации».
2. Согласны ли вы с тезисом, что в «Моцарте и Сальери» А.С. Пушкина не Сальери является подлинным убийцей Моцарта, а «историческое бытие»? (Г.А. Гуковский)
3. Определите элементы системы «литература», связи и отношения между которыми можно исследовать с помощью социологического метода.
Литература по теме
1. Добролюбов Н.А. Литературная критика. – М., 1979.
2. Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве. 3-е изд. Т. 1–2. – М., 1976.
3. Плеханов Г.В. Литература и эстетика. Т. 1–2. – М., 1958.
Дополнительная литература
1. Писарев Д.И. Литературная критика: в 3 т. / Сост. Ю.С. Сорокина. – Л., 1981.
2. Волошинов В.Н. Философия и социология гуманитарных наук / Сост. Д.А. Юнов. – СПб., 1995.
3. Паперно Ирина. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма / Авториз. пер. с англ. Т.Я. Казавчинской. – М., 1996.
4. Georg Lukacs. Der russische Realismus in der Weltliteratur. – Berlin, 1952.
5. Arnold Hauser. Soziologie der Kunst. – Munchen, 1974.
Тема 8 Психологические подходы
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психология, психологический склад писателя, психологическая точка зрения на литературу, восприятие, ощущение, язык, внутренняя форма слова, читательское восприятие, бессознательное, коллективное бессознательное, психоанализ, архетип
В основе психологических подходов лежит общая мысль об идее слова, как порождающей модели (А.Ф. Лосев). Психологическое направление в литературоведении отвечает потребности разгадать тайну художественного произведения, опираясь преимущественно на психологию творца и читательское восприятие. Направление получает развитие с усилением внимания к отдельной личности с последней трети XIX века и на всем протяжении XX столетия. Психологический подход представлен разнородными и подчас противоречивыми явлениями – специальным направлением в общей психологии (психология искусства), опирающимся на эмпирику, психологической школой на Западе и Харьковской психологической школой, фрейдизмом, аналитической психологией Юнга, новыми подходами последователей Фрейда и Юнга, разработками их учеников и оппонентов. При всех различиях школ и методов общее в психологическом подходе видится в ориентации на изучение психологии автора как творца и на исследовании восприятия художественного произведения читателем. В системе «литература» сторонников психологического подхода интересуют в первую очередь связи «автор – произведение» и «произведение – читатель», субъективная сторона авторского творения, постигаемого читателем в зависимости от собственного душевного склада и жизненного опыта.
Интерес к психологии явился своеобразной реакцией на принцип обусловленности литературы социально-исторической средой, получившей развитие в работах, отмеченных некритическим, механическим использованием положений культурно-исторической школы. Вместе с тем психологическое направление возникло в ее недрах. У истоков психологической школы на Западе труды И. Тэна, а в России – академика А.Н. Веселовского[125]. С теоретиками культурно-исторической и социально-исторической школы психологическое направление объединяет основное положение о связи литературы с национальной традицией и с историческим процессом.
За рубежом психологическое направление в литературоведении развивали Э. Эннекен, В. Вундт, В. Вец, Э. Эльстер, Э. Бертгам, Э. Гроссе. Так, французский ученый Эмиль Эннекен (1858–1888) выдвинул идею соединения эстетического и социологического аспектов, для которого предложил специальный термин «эстопсихология». В самом произведении, и только в нем советует он искать необходимые указания тому, кто хочет разгадать тайну художника. Для этого Эннекен предлагает общий план анализа: 1) эстетического; 2) психологического; 3) социологического[126].
В России психологический метод обязан своим развитием прежде всего трудам А.А. Потебни и его последователей – Д.Н. Овсянико-Куликовского, А.Г. Горнфельда, В.Н. Харциева, Б.А. Лезина и других ученых, публиковавших свои работы в альманахе «Вопросы теории психологии творчества», редактируемого А.А. Потебней.
В 1862 году А.А. Потебня опубликовал серию статей в «Журнале Министерства народного просвещения», посвященных философии языка В. фон Гумбольдта. Затем эти статьи вышли отдельной книгой под названием «Мысль и язык». В основе труда – «высокая психология, близкая к философии и поэзии, к истории и к тому, что теперь называют этнографией и антропологией в духе Леви-Стросса»[127].
Потебня Александр Афанасьевич (1835–1891) – языковед, этнограф, исследователь литературы, создатель собственной оригинальной концепции и целого направления «лингво-поэтики», член-корреспондент Петербургской академии наук (1875) и профессор Харьковского университета, работал в разных областях науки.
Одной из них является психология художественного творчества. В представлении А.А. Потебни художник, чтобы ответить на волнующий его вопрос, обращается к своему пониманию жизни и находит его в образе-символе. Произведение отражает не действительность, а авторское представление о действительности. В процессе такого постижения жизни рождается подлинная поэзия, получающая отклик в душе читателя или слушателя нередко прежде или даже вне ее логического анализа. Классические положения этой теории развиты в работе «Мысль и язык». Уже понятие о звуке предполагает его «соответствие свойствам душевных потрясений». По мере уменьшения необходимости «отражения чувства в звуке увеличивается другого рода связь звука и представления… и образ звука, следуя постоянно за образом предмета, ассоциируется с ним». Но наиболее важная особенность слова не звук и не содержание, а та его «особенность, которая рождается вместе с пониманием», – «внутренняя форма».
Основные труды А.А. Потебни: «К истории звуков русского языка» (1876–1883), «Слово о полку Игореве: текст и примечания» (1878), «Мысль и язык» (1862). Многочисленные заметки и наброски к лекциям были систематизированы учениками Потебни и опубликованы позднее («Из записок по теории словесности», 1905).
Литература:
Потебня А.А. Эстетика и поэтика. – М., 1976.
Потебня А.А. Теоретическая поэтика. – М., 2003.
Главный термин А.А. Потебни – «внутренняя форма слова» – выходит из представления о том, что слово рождается вместе с пониманием, звучание соединяется со значением. Как и В. фон Гумбольдт (1767–1835),
А.А. Потебня увидел в слове свернутую метафору, единство членораздельных звуков, создающих представление и образ. Его отправная точка – этимология – глубинная национальноментальное представление о предмете (окно – око, медведь – ведавший мед и т. д.)
Гениальность догадки А.А. Потебни заключается в том, что внутренняя форма слова выражает не всю мысль, обозначает не все признаки вещи, а лишь один из многих возможных. Так, образ стола, получивший внутреннюю форму от корня «стл», того же, что и в глаголе «стлать», в реальности может обозначать всякие столы, независимо от их формы, размера, предназначения или материала[128]. Центр образа, сохраняющий функции опорного значения, находится на пути от
научной констатации к чувственному восприятию. Язык несет на себе следы индивидуального человеческого общения. В слове, в его внутренней форме заложена идея движения – от ока к окну, от этимологического обозначения к современному представлению, «забывшему» об изначальном смысле, но обогащенному научной идеей тождества слова и вещи.
Внутренняя форма – образ образов, завязанная на вторичное участие, на философскую идею диалога, гегелевское положение об обратной связи. А.А. Потебня называет этимологическое положение ближайшим. Но внутренняя форма, имеющая и второе субъективное содержание, определяет ее двуединство и позволяет назвать внутреннюю форму знаком, символом, «отношением содержания к сознанию; она показывает, как представляются человеку его собственные мысли»[129]. И представление это всегда субъективно, чувственно. Этимология – только отправная точка, из которой развивается внутренняя форма. По представлению современного исследователя, «в одной этой мысли в зародыше содержится уже Соссюр и соссюровский структурализм»[130]. Но путь от внутренней формы слова к внутренней речи ведет и к религиозной философии, и к философии языка П.А. Флоренского и Г.Г. Шпета.
Идея внутренней формы слова естественно объединяет эстетику, лингвистику и психологию, а при построении структуры текста демонстрирует тождество слова и вещи.
При переходе от произведения к воспринимающему сознанию (читателю, слушателю и т. д.) обращение к идее внутренней формы слова – это уже не констатация, а направление пути к смыслу, к началу начал, доступные поэзии и вере. Превращение общепринятого значения в индивидуальный смысл возникает в личном опыте человека. При подходе к литературе можно сказать, что образ не прямо выражает мысль, но оказывается средством в создании мысли. И сколь бы ни был умен и талантлив автор, он не может предугадать субъективного впечатления каждого читателя. Не может он и быть уверен в том, что его мысль понята однозначно. Идея В. фон Гумбольдта о языке как о деятельности дает возможность А.А. Потебне провести аналогию слова со стрелочником на железной дороге, переводящим поезд на рельсы, а восприятие слова – с возгоранием одной свечи от другой[131].
Поставив в центр своей концепции идею восприятия, А.А. Потебня вслед за В. фон Гумбольдтом приходит к мысли, что творимое автором содержание беднее образа, ибо образ производит субъективное впечатление в воспринимающем, и всякое понимание, по мысли В. фон Гумбольдта, есть вместе с тем непонимание.
Ценность этого положения в признании многозначности образа и в возможности его разных толкований, в неокончательное™ любых подходов.
Но как в таком случае исследователю искусства и литературы уйти от релятивизма, от субъективности трактовки? В поисках ответа ученые Харьковской школы обратились к фигуре автора, к его биографии и психологии, а также к историческому и национальному контексту произведения, что связало психологическую школу с биографическим методом, с культурно-исторической школой, но также с социологическим методом. Формирование взглядов А.А. Потебни и его учеников складывалось не только под воздействием идеалистической философии, но и концепций русских революционных демократов, что находит отклик и у А.А. Потебни, и особенно у одного из самых известных его последователей – Д.Н. Овсянико-Куликовского.
В основу концепции Д.Н. Овсянико-Куликовского, помимо идей психологической школы и воздействия А.А. Потебни, легли мысли о неодолимости общественного прогресса, оформленные в категориях позитивистской философии. Свою исходную точку зрения сам он формулирует так: «Человечество вышло из зверства и, проходя через варварство, развивается в направлении к высшей человечности и красоте». При этом, по мысли ученого, «о красоте объективной (в природе и в космосе) и речи быть не может: это миф…» Может быть, речь только о красоте субъективной, т. е. об ощущении, чувстве, сознании, идее красивого. Но в таком случае эту субъективную красоту нужно разложить на известные психические процессы. Эти психологические процессы у Овсянико-Куликовского имеют национальную и социальную форму. Национальность для него – «объединение социальных групп в более обширную группу на почве общего языка, который является опорой для коллективной умственной деятельности», возвышающейся над собственно языковой сферой. Процесс этот Овсянико-Куликовский прослеживает в религии, в мифе, в литературном творчестве, где возможно вывести «психологическую форму личности» писателя[132].
Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853 1920) вошел в науку как лингвист, начав с сравнительной грамматики индоевропейских языков и санскрита. Командировка в 1877 году за границу с перспективой кафедры в Новороссийском (Одесском) университете обернулась пробуждением интереса к Новой французской школе психологов. По возвращении в Россию Д.Н. Овсянико-Куликовский становится одним из редакторов журнала «Вестник Европы». В начале 1917 года он выступает за конституционную монархию, за Временное правительство, против большевиков. Два последних года жизни проводит в Одессе. Литературное наследие Д.Н. Овсянико-Куликовского огромно. Ему принадлежат работы о Гоголе, Тургеневе, Льве Толстом, поэзии Гейне, Гете, Чехове, Герцене, Горьком, Михайловском. В начале XX века неоднократно издаются книги Д.Н. Овсянико-Куликовского и собрание его сочинений. Под его редакцией выходит «История русской литературы XIX века». (М., 1910)
Литература:
Овсянико-Куликовский Д.Н. История русской интеллигенции. Т. 1–3. – СПб., 1906–1911.
Овсянико – Куликовский Д.Н. Собрание сочинений. Т. 1–5, 7–9. – М.; Пг., 1923–1924.
Овсянико – Куликовский Д.Н. Теория поэзии и прозы: (Теория словесности). 5-е изд. – М.: Пг., 1923.
В качестве примера подобного анализа можно привести неоднократно издававшийся очерк Д.Н. Овсянико-Куликовского «Гоголь». Ученого особенно интересует природа гениальности творца «Мертвых душ». Для ответа на поставленные вопросы вначале излагается подробная биография русского писателя, в которой выявляются его природные особенности и истоки душевной драмы: «Этот больной человек, этот невропат, меланхолик, ипохондрик и мизантроп нес великую тяготу великого призвания». К определениям «художник-мизантроп», «художник-ипохондрик» добавляются природные свойства лиричности и крайнего эгоцентризма: «род гипертрофии того центра психики, который называется «Я». Физиологическая психология служит Д.Н. Овсянико-Куликовскому отправной точкой для характеристики миропонимания Гоголя: религиозная идея, «благородная, но фатальная», привносит в эту больную душу «самоотравку гениальности»[133].
Гоголь хотел сначала 1) нарисовать все плохое в природе русского человека; 2) обнаружить в нем затем хорошие задатки; 3) указать путь спасения России. Этот замысел Д.Н. Овсянико-Куликовский видит в «эгоистической антитезе» – «Я и Русь»; «Я и Бог». Основная часть работы посвящена художественному методу Гоголя и содержит разделы: «Гоголь как ум»; «Гоголь и Россия»; «Гоголь – моралист и мистик»; «Общерусс на мало-российской основе». Уже перечень глав указывает на близость Д.Н. Овсянико-Куликовского к культурно-историческому методу. Однако общая трактовка замысла поэмы «Мертвые души» выводится в первую очередь из «особого психологического склада» писателя, из «интуиции гения»[134].
И в работе о Гоголе, и в других статьях Д.Н. Овсянико-Куликовского привлекают, помимо конкретного анализа, также более общие философские проблемы – смысла и ценности жизни, природы таланта и гениальности, морали и цивилизации. Он верит, что, «становясь цивилизованнее, человечество становится человечнее», что талант рождается «из силы творчества и оригинальности», а «гениальность есть явление мысли»[135].
В работах «Лев Толстой как художник», «История русской интеллигенции», «Поэзия Генриха Гейне» и особенно в очерках о Горьком и Михайловском Д.Н. Овсянико-Куликовский разрабатывает положения общественной психологии и социальной психологии. В утверждении влияния классовой идеологии на душевный мир писателя он близок к революционным демократам и к Г.В. Плеханову «Между художественным творчеством… и нашим обыденным житейским мышлением, – полагает Д.Н. Овсянико-Куликовский, – существует тесное психологическое сродство: основы первого даны в художественных элементах второго»[136].
Но, находясь и на социологической почве, Д.Н. Овсянико-Куликовский не порывает с потебнианством. Обдумывая вопрос о том, что есть национальность, он пишет об «объединении социальных групп в более обширную группу на почве общего языка, достигшего известной высоты развития и являющегося психическим основанием для коллективной умственной деятельности, стремящейся возвыситься над тем, что непосредственно дано в языке». Авторское выделение слов «язык» и «коллективная умственная деятельность» подчеркивает основной ход мысли Д.Н. Овсянико-Куликовского: значимость языка проявляется в творчестве, в мифе, в религии, превращающихся с языком «в психологическую форму»[137]. И в редактируемой Д.Н. Овсянико-Куликовским «Истории русской литературы XIX века» принципы психологической школы оказываются доминирующими[138].
По-другому подходят к изучению литературы ученые, занимающиеся общей психологией. В основе их подходов лежит мысль о необходимости выявления «мысли – речи – языка» как сложной саморегулирующейся системы. Это – нелинейные системы. Новая парадигма, укоренившаяся в психологии в терминах синергетики лишь в конце XX века, имеет своим основанием психологический анализ конца XIX столетия.
Для них художественное произведение – прежде всего материал для наблюдения и эксперимента. Психологическая наука в поисках новых объектов и методов изучения обращается к «сложным проблемам эстетической реакции». Именно так определяет свои задачи Лев Семенович Выготский (1896–1934) – автор трудов по развитию высших психологических функций и психологии искусства в предисловии к книге «Психология искусства», написанной в начале 20-х годов и опубликованной лишь в 1965 г. Еще в студенческие годы, слушая лекции Ю.И. Айхенвальда, интерпретировавшего литературные тексты в русле психологической школы, Л.С. Выготский задумывается над проблемами психологического воздействия искусства на читателя, что находит отражение в его раннем трактате о Гамлете (1916)[139]. Знакомство с психологией развивается у молодого ученого в связи с интересом к литературе и искусству. Высоко оценивая методы точного анализа формальной школы, Л.С. Выготский не приемлет представлений о тексте как о структуре. Полемизирует он и с А.А. Потебней, упрекая его за недооценку переживаний личности. Для него наиболее существенной представляется психологическая сторона художественного произведения. Его цель – «развить своеобразие психологической точки зрения на искусство и наметить центральную идею» на стыке «объективной психологии» и «нового искусствоведения». Глобальность поставленной задачи и ее, по определению автора, «синтетический характер» обусловливают сильные стороны концепции Л.С. Выготского. Подкупает живой интерес к фактам рождения и восприятия произведений искусства, широта кругозора и смелость автора, не опасающегося вступать в дискуссию с признанными авторитетами, давать оценки А.А. Потебне и 3. Фрейду, собственно анализ художественных произведений – от «Гамлета» Шекспира до басен Крылова.
В основе метода Л.С. Выготского – ассоциативная психология. При восприятии другого человека Л.С. Выготскому видится недостаточность понимания одних слов и мыслей. Недостаточно «и понимание мысли собеседника без понимания его мотива, без того, ради чего высказывается мысль». В психологическом анализе доходят до конца только тогда, «когда распознают последний и самый утаенный план речевого мышления, его мотивации»[140].
Выготский Лев Семенович (1896–1934) – психолог, культуролог, теоретик литературы. Разрабатывал принципы локализаций высших психологических функций мозга. Изучая детскую психологию, пришел к мысли, что структура сознания – динамическая нелинейная система, в которой при общем методе анализа возможно выявить характер соответствующих психологических процессов.
Используя категории «материала» и «формы», разрабатываемые русской формальной школой, показал их соотношение в элементах художественного текста – в композиции, сюжете, фабуле, теме и идеи произведения. Применительно к художественной литературе продемонстрировал метод психологического анализа, при котором главное внимание уделял связям автор – произведение и произведение – читатель. Сравнительно сопоставительные параллели сближают метод Л.С. Выготского со сравнительно-исторической школой, а углубленное внимание к физиологической психологии с фрейдизмом («Психология искусства», 1925). Внимание к соотношению сознания и речевой деятельности («Мышление и речь», 1934) породило собственную школу в советской психологии, из которой вышли А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия.
Литература:
Выготский Л.С. Мышление и речь. – М., 1996.
Выготский Л.С. Психология искусства». – М., 1968.
Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т. 1–6. – М., 1982–1984.
При подходе к литературе и к художественному образу превращение общепринятого значения в индивидуальный смысл возникает в процессе индивидуального опыта. Подобное превращение требует от автора и читателя психологического анализа. Именно так рассматривает Л.С. Выготский литературное произведение – эпос, лирику и драму Обратимся к классическому примеру – анализу Л.С. Выготским рассказа И.А. Бунина «Легкое дыхание». Л.С. Выготский обращает главное внимание на название рассказа. В русле системного подхода это глобальное определение, обусловливающее построение всех частей. В тексте выделяются «наименьшие фрагменты», сохраняющие свойства целого. Л.С. Выготского интересует «тайна порождения речи», то, как слова Бунина влияют на читателя. Основной сюжет ответа на вопрос не дает. Это рассказ о жизни гимназистки Оли Мещерской, в которой нет ничего романтического. Вскружившая голову гимназисту, ставшая любовницей пожилого приятеля отца и застреленная казачьим офицером, Оля Мещерская остается в круге банальности и пошлости того, что автор называет «мутью жизни». Ассоциативная психология строится через включение в анализ рассказа второго и третьего мотивов. Эта история классной дамы, не более романтичная, чем история Оли Мещерской. Разочарование в обожаемом брате, придуманная идея высокого служения просвещению и экзальтированная печаль по погибшей ученице, заставляющая даму посещать могилу на кладбище, – тоже «житейская муть». Внимание к стилю Бунина заостряется при анализе эпизодов, где нет высоких слов. Включение в текст дневника Оли еще более снижает романтику «Легкого дыхания». Слово «любовь» вообще ни разу не употребляется.
Разгадку названия, «самый утаенный план речевого мышления» Л.С. Выготский находит в психологическом подтексте, в переключении бытового плана на природный, философский, который выше и чище «житейской мути». Психологический анализ Л.С. Выготского строится на расщепленности сюжета, на «скачке» от повествования о жизни Оли и описания могилы с венком из искусственных цветов к pointe, к разговору гимназисток, подслушанному классной дамой («Послушай, как я вздыхаю…»). Оля Мещерская живет, как дышит. И рассказ Бунина не о ней, а о легком дыхании.
Подобный прием психологического анализа, при котором линейное повествование получает новое направление, используется Л.С. Выготским при анализе «Гамлета» Шекспира. Цитируя мысль С.М. Эйзенштейна, ученый отмечает, что для разработки художественной формы необходимо, чтобы герой одновременно развивал и задерживал действие. Задержки действия у Л.С. Выготского – уход от линейного сюжета в подтекст, позволяющие фиксировать скрытые психологические мотивы. Позже Л.Я. Гинзбург назовет этот прием расхождением мотива и поступка.
В представлении Л.С. Выготского словесно выраженный художественный образ не одномерен, не линеен. Само русское слово «образ», как и латинская «форма», несет в себе и активное и пассивное начала, принимающие и образующие, ибо «где есть что-то образовавшееся, там было и образующее»[141]. Процесс формирования основной идеи рассказа у Л.С. Выготского есть сопряжение слова и поведения «как свернутое, сокращенное действие»[142].
Но эмпирически подмеченные связи между автором и произведением, допускающие гипотезы, делают метод Л.С. Выготского импрессионистическим. В поисках более основательных научных опор сам Л.С. Выготский обращается к фрейдизму Направление получило имя своего создателя австрийского врача-психиатра Зигмунда Фрейда (1856–1939). В оценке Л.С. Выготского Фрейд – «один из самых бесстрашных умов века» – вскрывает «те общебиологические законы, которые властвуют во всем мире»[143].
Став широкой философской и антропологической доктриной, фрейдизм вырабатывает и собственную философию культуры, и собственный метод исследования бессознательных психологических процессов, которым Фрейд придает универсальное значение. В системе «литература» – это то же отношение «автор – произведение», причем в качестве источников и мотивов в произведении выступают элементы психосексуального развития автора, особенно переживания его раннего детства.
Одним из первых значение и критику фрейдизма в литературоведении обозначил В.Н. Волошинов, ученый, принадлежавший к кругу М.М. Бахтина. В работе 1927 г. четко выделены доминанты фрейдистского психоанализа: «Судьба человека, все содержание его жизни и творчества – следовательно: содержание его искусства, если он художник… – определяется судьбами его полового влечения, и только ими одними. Все остальное – лишь обертоны основной, могущественной мелодии сексуальных влечений». Эта «новая обще-психологическая теория» уже на рубеже XIX–XX веков претендовала на решение многих загадок поведения человека. Теория приобрела «столь великую популярность, что многие… и в наши дни убеждены, что психология – это и есть Фрейд»[144].
Открытие Фрейда и в самом деле трудно переоценить. За главным регулятором человеческого поведения, за сознанием он обнаружил глубинный пласт могущественных, часто непреодолимых желаний. Их выявление ради исцеления души получило название психоанализа, а сам фрейдистский метод – психоаналитического метода. Важнейшим его инструментом 3. Фрейд считал изучение свободных ассоциаций, позволяющее проникнуть в «преисподнюю психики». В психоанализе проделан путь перехода от физиологии к психологии. Бессознательное оказывается полем действия инстинктов самосохранения – страха, агрессии и продолжения рода. Последний, несущий огромный заряд энергии, назван термином «либидо», ставшим своего рода паролем психоанализа[145]. Выявление либидо благодаря гипнозу и свободным ассоциациям показалось Фрейду недостаточным. Он обратился к изучению сновидений, результаты которого изложил в книге «Толкование сновидений» (1900). В ней появляются символы, имеющие, по мысли автора, универсальное значение. И хотя точность этих образов медицинскими экспериментами не подтвердилась, в искусстве XX века, в частности в поэтике сюрреализма, они составляют настоящий толковый словарь.
Фрейд Зигмунд (1856 1939) – австрийский врач-невропатолог, психиатр, психолог, писатель, основоположник психоанализа. С 1902 года профессор Венского университета. После оккупации Австрии фашистской Германией в 1938 г. эмигрировал в Великобританию.
В начале творческого пути в 70—80-е годы XIX века занимался проблемами изучения головного мозга, а с конца 80-х годов под влиянием французской школы приступил к изучению неврозов. С середины 90-х годов разрабатывал психоанализ – метод обнаружения и лечения неврозов, основанный на технике свободных ассоциаций. Анализ сновидений и ошибочных умозаключений привел Фрейда к проникновению в бессознательное, в закрытую зону психики, испытывающую влияние сексуальности и жестокости.
Фрейд создал собственную систему, в основе которой лежит конфликт между личностью и общественными запретами, сознательным и бессознательным. При увеличении роли ранних сексуальных влечений «эдипов комплекс», роль сублимации – вытеснение инстинктивных влечений под воздействием реальности, расщепление сферы психоанализа на области
социальной психологии, религии и художественную культуру – сделали Фрейда одним из самых известных психологов и мыслителей века. В литературоведении Фрейд – глава направления, изучающего отношение автора к тексту и влияние художественного образа на читателя. Особенно продуктивным фрейдизм оказался при анализе модернистских и постмодернистских текстов, осмысливающих культуру XX века как невротическую и психопатологическую.
Литература:
Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции / Изд. подгот. М.Г. Ярошевский. – М., 1989.
Фрейд 3. Психология бессознательного. – М., 1990.
Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1992.
Это замена целого частью, уподобление человека вещи, олицетворение, символы полета, падения, видения острых предметов, их сгущение в причудливые образы, перестановки, игры с временем и с пространством[146].
В стремлении сформулировать биогенетический закон поведения человека 3. Фрейд обращается к произведениям искусства. Ему принадлежит и ряд работ в этой области – статьи о Леонардо да Винчи, Шекспире, Гете, Гофмане… При всей разности материала концепция фрейдистского человека в них доминирует. Личность предстает под двойным давлением – природным и социальным. Естество находится в антагонизме с культурой, в которую личность погружена. Человек вынужден подавлять в себе инстинкты агрессии и сексуальности, что рождает дисгармонию. В поведении взрослого решающим остается опыт ребенка. Знаменитая улыбка Джоконды на полотне да Винчи – «полная тайны улыбка его матери».
Современное литературоведение, несомненно, многим обязано 3. Фрейду. Оно унаследовало самое «ценное в психоанализе – обращение не к официальному сознанию, а ко всей психике в ее целом, и прежде всего к глубинам бессознательного », к поискам противоборствующих «субъективных мотивировок» поведения человека[147].
Одной из главных болезней, описанных Фрейдом, стала «болезнь сомнений (folie de doute)», вошедшая в русскую медицину под термином «навязчивые состояния»[148]. В основе навязчивых состояний лежит специфическая форма невроза, при которой человек не может отказаться от поведения, когда его поступки и побуждения совершаются как бы насильственно, помимо его воли. Навязчивые сомнения, непреодолимая медлительность, препятствующая успешной повседневной деятельности, повышенная педантичность, бесплодные раздумья могут вылиться в образ патологической личности («человек-волк», «человек-крыса»). Этот ход, подмеченный в искусстве как путь создания художественного образа, можно видеть в произведениях разных эпох от химер средневекового собора и живописи Босха до современных произведений литературы и искусства.
В сегодняшних работах по философии и филологии методология Фрейда сопрягается с генеративной поэтикой. Переход от поверхностной структуры к глубинной путем анализа трансформаций[149] можно рассматривать так же, как цель психоанализа[150]. В генеративной грамматике это трансформации негативной, вопросительной либо номинативной конструкций, при которых идея сохраняет себя в глубинной языковой форме. Применительно к литературному анализу это может быть расщепление текста, исследование его мотивов, ведущих к социальным или психологическим зонам вопреки сопротивлению текста, напоминающему сопротивление пациента, подвергающегося психоанализу Подобную технику ретардации сам Фрейд использовал при анализе произведений Софокла и Шекспира. Эта же техника используется и в других психологических подходах, в частности, у Л.С. Выготского.
При обращении к модернизму, где «бессознательное субъекта есть дискурс Другого» (Ж. Лакан), фрейдистский анализ требует от исследователя бесстрастности, расчлененности текста, разбора произведения «по винтикам»[151]. Вслед за Фрейдом у Лакана бессознательное структурируется как «язык в его индивидуальной форме».
Таким образом, фрейдистский метод психоанализа представляется наиболее пригодным для изучения модернизма и постмодернизма. Он вряд ли соотносим с идеей М.М. Бахтина, ищущего в диалоге «третьего» – Бога или Высший смысл.
С другой стороны, самые достоинства фрейдистского анализа таят в себе возможности упрощения. С.С. Аверинцев справедливо сопоставляет «методологическую модель» фрейдизма с моделью вульгарного социологизма: «В избитой шиллеровской формуле о любви и голоде, господствующих над миром, фрейдизм взял первую половину, вульгарный социологизм вторую»[152].
Категоричность оценок, идентификация автора с персонажем во многом снимают возможность видеть в художественном произведении эстетический объект, лишают образ многозначности, составляющей тайну и обаяние художественной литературы. Не устраивала многих учеников 3. Фрейда и более общая модель – сведение сложных форм бытия к простейшему началу. Из последователей венского психоаналитика возникает целый ряд соперничающих школ, среди которых самыми известными становятся «школа индивидуальной психологии» Альфреда Адлера (1870–1937) и школа аналитической психологии Карла Густава Юнга (1875–1961)[153].
Австрийский психиатр и психолог А. Адлер, активный участник фрейдистского научного общества, разошелся с Фрейдом в признании пропасти между сознательным и бессознательным, поставив в центр «человеческой деятельности волю к власти» и став одним из основоположников неофрейдизма. Существенным был для него и социальный аспект объяснения психологических явлений.
К.Г. Юнг среди учеников 3. Фрейда в наибольшей мере интересовался вопросами искусства. Медик по образованию, начав с ассистента в психологической клинике Цюриха, он первоначально примыкает к венской аналитической школе 3. Фрейда, страстным поклонником которого является. Критицизм по отношению к учителю возникает примерно в то же время, что и у Адлера. Канун Первой мировой войны называют временем отхода Юнга от последователей фрейдизма. Наблюдая душевнобольных пациентов, он подмечает в их бреду мотивы более глубокие, чем те, что выявлял психоанализ. Юнг приходит к мысли, что глубинные формы бытия не сводятся к простейшему началу, что сексуальные мотивы наделены в психике сложнейшими символическими значениями. В работе «Метаморфозы и символы либидо» (1912) Юнг сопоставляет сны с мифами и образами фольклора. Эти аналогии приводят его к выводу, что за пределами фрейдовского бессознательного «Я» лежит «коллективное бессознательное». Применительно к системе «литература» жесткая подсистема Фрейда «автор – произведение» дополнилась отсылкой к отношениям «автор – традиция» и «автор – реальность». Концепция К.Г. Юнга содержит несколько уровней:
• бессознательное, вытесненное из сознания индивида (по Фрейду);
• групповое бессознательное семьи или мелких социальных групп;
• бессознательное более крупных групп (нации, группы наций, европейское сообщество и др.);
• общечеловеческое бессознательное;
• общебиологическое бессознательное, объединяющее человека с животным миром и лежащее за пределами психологии.
В глубинах бессознательного складываются архетипы, образы, родственные созданиям человеческой фантазии. Учение Юнга об архетипах восходит к платоновской традиции, у которого идеи, «перемещенные из божественного сознания в бессознательное человека»… теряют «свой ценностный ореол»[154]. Отказываясь от однозначного толкования человеческой фантазии, Юнг приближается к романтикам. Его мышление «проникнуто принципиальной несистематичностью». Художник у него – «прежде всего человек, отличающийся незаурядной чуткостью к архетипическим формам и особо точно их реализующий», что роднит его с пророком («Психология и алхимия», 1944)[155].
При обращении к литературным текстам представление о психике, граничащей с оккультизмом, приводит Юнга к делению их на «психологические» и «визионерские». Первые, менее насыщенные архетипическим материалом и содержащие элемент бытописательства, уступают пророческим, визионерским, содержащим в глубине миф. С этих позиций исследует Юнг и образы мировой культуры – Фауста Гете, Улисса Джойса, циклы опер Вагнера. При разработке типологии характеров («Психологические типы», 1921) Юнг предлагает выделять доминирующую психологическую функцию (мышление, чувство, интуицию, ощущение)[156].
Знакомство с юнговской психологией сказывается в творчестве многих художников XX века. Ему отдали дань Вячеслав Иванов, Герман Гессе, Томас Манн. Уступая 3. Фрейду в четкости, вводя в свою «глубинную» или «аналитическую психологию» принципиальную эклектичность, родственную понятиям «мировая душа», «мировая воля», «брахман», К.Г. Юнг вместе с тем выражает подход к внутреннему миру человека как к открытой многосоставной структуре. Это делает небесполезным знакомство с юнгианством и при изучении системы «литература».
Среди многих последователей Юнга особое место принадлежит французскому философу Гастону Башляру (1884–1962). Обратившись к современному естествознанию, философ на его материале пытается примирить рационализм и «чистый опыт», обнаружив во Вселенной психосоматические символы – архетипы: отцовски-защитную силу Огня, женственную нежность Воды, материнское тепло Земли, свободную стихию Воздуха. Позаимствовав у Юнга представление о сменяющих друг друга символических архетипах, Г. Башляр строит систему развития науки, первым этапом которой было развитие чистого эмпиризма, вторым – возникновение абстрактного мышления, третьим, современным – понятийное обобщение новых эмпирических открытий[157]. Этот третий, заключительный период характеризуется открытостью, готовностью к самоопровержениям под контролем результатов научного эксперимента, признанием неокончательности истин как «исправления ошибок»[158].
Синтезирующая способность науки, по Г. Башляру, проистекает из творческих способностей человека, спонтанности обыденного сознания, питающегося не только знаниями, но интуицией. Воображение – одна из главных опор концепции Г. Башляра[159]. Отсюда его интерес к искусству. В работах «Интуиция мгновения» (1932), «Лотреамон» (1939), «Поэтика пространства» (1957) он выстраивает «символические архетипы», проявляющиеся «индивидуально в разных типах сознания»[160]. Подобный подход, характерный для психологического направления, обусловливает особенности «метапоэтики» Г. Башляра. В отдельном поэтическом произведении, изучая его лексико-метафорический строй, вглядываясь в глубины слова-образа, он созерцает Вселенную.
Так, анализируя сборник Лотреамона «Песни Мальдорора», характеризуя в нем 185 образов разных животных, Г. Башляр находит в них общую агрессивность и приходит к мысли о мироощущении поэта, одинокого во враждебном мире. Подобный же подход осуществлен при анализе поэмы В.В. Маяковского «Облако в штанах». Отношение «автор – художественное произведение» изучается Г. Башляром вне биографического метода с опорой на «архетипы грезы».
В заключение можно сказать, что психологические подходы при анализе литературы как системы могут быть использованы в разной мере. Во многом это зависит и от характера художественного произведения, и от индивидуальности исследователя. Ни один из подходов не универсален, но ни один из них не бесполезен.
Вопросы к теме
1. Именами каких ученых представлен психологический подход к литературе?
2. Почему можно утверждать, что сторонников психологического подхода интересуют в первую очередь изучение психологии автора как творца и восприятие художественного произведения читателем?
3. На исследование каких отношений системы «литература» ориентирован психологический подход?
4. Каким образом категория «внутренняя форма слова» связана с психологическим методом?
5. В чем расходились сторонники культурно-исторического и психологического методов?
6. В чем причина популярности фрейдизма в литературоведении? Где пределы его применимости?
Литература по теме
1. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М., 1996.
2. Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1968.
3. Потебня АЛ. Эстетика и поэтика. – М., 1976.
4. Потебня АЛ. Теоретическая поэтика. – М., 2003.
5. Фрейд Зигмунд. Введение в психоанализ: лекции / Изд. подготовил М.Г. Ярошевский. – М., 1989.
Дополнительная литература
1. Аверинцев С.С. Аналитическая психология К.Г. Юнга //О современной буржуазной эстетике. Вып. 3. – М., 1972.
2. Академические школы в русском литературоведении. – М., 1975.
3. Балашова Т.В. Научно-поэтическая революция Гастона Башляра // Вопросы философии, – № 9. – 1972.
4. Бибихин В.В. Внутренняя форма слова. – СПб., 2008.
5. Волошинов В.Н. Фрейдизм. – М.; Л., 1927.
6. Жеребин А.И. Философская проза Австрии в русской перспективе. – СПб., 2008.
7. Осьмаков Н.В. Психологическое направление в русском литературоведении. – М., 1981.
8. Пресняков О.П. А.А. Потебня и русское литературоведение конца
XIX – начала XX века. – Саратов, 1978.
9. Руднев В.П. Прочь от реальности. – М., 2000.
10. Швейбельман Н.Ф. Опыт интерпретации сюрреалистического текста. – Тюмень, 1996.
11. Эткинд Е.Г. «Внутренний человек» и внешняя речь. Очерки психо-поэтики русской литературы XVIII–XIX веков. – М., 1998.
Тема 9 Формальный метод
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: форма и материал, прием, функция, конструкция, доминанта, литературность, система
«Формальный метод» – одно из самых продуктивных направлений в теории литературы XX века. Его предельно заостренную формулу дал В.Б. Шкловский (1893–1984), утверждавший, что литературное произведение представляет собой «чистую форму», оно «…есть не вещь, не материал, а отношение материалов». Тем самым форма была понята как нечто противоположное материалу, как «отношение». Поэтому В.Б. Шкловский парадоксальным образом уравнивает «…шутливые, трагические, мировые, комнатные произведения», не видит разницы в противопоставлениях мира миру или «кошки камню»[161]. Понятно, что это – типичный эпатаж. Однако к «пощечине общественному вкусу» эти идеи не сводятся. В принципе формалисты выступали не против содержания как такового, а против традиционного представления о том, что литература – это повод для изучения общественного сознания и культурно-исторической панорамы эпохи.
В начале XX века в университетах Москвы и Петербурга появилась научная молодежь, протестовавшая против принципов академической науки. В Петербурге новые веяния возникли в Пушкинском семинарии профессора С.А. Венгерова, крупного ученого, представителя «биографического метода»[162]. В его работе принимал участие и Ю.Н. Тынянов (1894–1943), интересовавшийся стилем, ритмом, мельчайшими деталями формы произведений А.С. Пушкина. Сами темы докладов участников семинара содержали протест против эклектики академического литературоведения, тяготевшего к изучению идеологических вопросов, биографических подробностей, смешивая их с рассмотрением образности произведений. Собственно художественные особенности академическая наука воспринимала как материал для анализа душевного склада и мировоззрения художников. У представителей формальной школы подход будет обратным: жизнь и взгляды писателей они станут рассматривать как материал, необходимый для построения художественного произведения. Этот «переворот» в научном мышлении и получил позднее название «формального метода».
Около 1915 г. в Московском университете сложился еще один центр новой науки. Участники Московского лингвистического кружка, в том числе P.O. Якобсон (1896–1982), Г.О. Винокур (1896–1947) и другие, занимались исследованием фольклора, а также языка современной поэзии. Именно тогда сложилась установка на то, что проблемы языка должны быть в центре внимания.
Лучшие поэты, принадлежавшие к поэтическому авангарду первых десятилетий XX века, принимали участие в работе кружка. Среди них – В.В. Маяковский, О.Э. Мандельштам, Б.Л. Пастернак. Революции и войны, отменявшие вековые традиции, стремительное развитие общества, острое переживание истории, – все это повлияло на мироощущение участников ОПОЯЗа. Если А. Блок, вглядываясь в темную Петербургскую площадь, мог ощущать ее таинственную непроницаемость и непостижимую непреодолимость, то люди новой эпохи «проходили» везде[163].
Поэтические эксперименты футуристов, искавших «самовитое слово», языковая археология В. Хлебникова, уводившая в глубинные пласты речи, казались молодым ученым сутью поэзии. Строгие методы лингвистического анализа P.O. Якобсон соединяет с интересом к феноменологии немецкого философа Э. Гуссерля, полагавшего, что языковой или эстетический объект исследуется не сам по себе, «…а в связи с тем, как его наблюдает и воспринимает субъект»1. Здесь заметны типологические переклички с идеями физиков первых десятилетий XX века, выдвигавших на первый план проблему «наблюдателя».
Якобсон Роман Осипович
(1896–1982) – выдающийся лингвист и литературовед, один из создателей Общества по изучению поэтического языка (ОПОЯЗ), участник Пражского лингвистического кружка, крупнейший представитель структурализма, применивший идеи кибернетики и информатики к теории литературы и искусства. Язык и бессознательное – еще одна сфера интересов P.O. Якобсона.
Якобсон окончил гимназию при Лазаревском институте восточных языков (1906–1914), а затем – славяно-русское отделение Московского университета (1914). Он входил в круг русского авангарда, хорошо знал В.В. Маяковского, Б.Л. Пастернака, О.Э. Мандельштама, К. Малевича и многих других художников и поэтов. После эмиграции из Советской России Р. Якобсон преподавал в крупнейших университетах Америки и Европы.
Идеи европейского авангарда, знакомство с основами феноменологии Э. Гуссерля и теорией относительности А. Эйнштейна утвердили раннего Якобсона в том, что «объект исследуется не в самом себе, а в связи с тем, как его наблюдает и воспринимает субъект». Это положение исключает диктат одного литературоведческого подхода или метода.
Раннего Якобсона привлекала проблема «внутренней формы слова», взаимосвязь звучания и значения, особенности заумного языка и фольклора. В книге о В. Хлебникове (1919) и других статьях 20—30-х годов XX века были заложены основы концепции «поэтического языка».
P.O. Якобсон разделяет тезис формальной школы о том, что превращение бытовой речи в поэтическую происходит благодаря «системе приемов». Систему приемов, обеспечивающую перевод бытового факта в литературный, Якобсон обозначает термином «литературность».
«Литературность» текста определяется наличием доминанты. Доминанта – «…фокусирующий компонент произведения искусства», управляющий «остальными компонентами», определяющий и трансформирующий их. По мысли Якобсона, именно доминанта «обеспечивает целостность структуры» текста.
Вместе с Ю.Н. Тыняновым P.O. Якобсон формулирует гипотезу о «системном характере языка и литературы» (1928), подготовившую позднейшие исследования проблем художественной коммуникации.
Специфика художественной коммуникации заключается в «направленности… на сообщение как таковое», в сосредоточении внимания «на сообщении ради него самого». Вслед за Гегелем P.O. Якобсон и другие представители структурализма закрепили центральное положение произведения / текста в системе «литература».
Литература:
Якобсон Роман. Избранные работы / Сост. и общ. ред. В.А. Звегинцева. – М., 1985.
Якобсон Р. Работы по поэтике / Сост. и общ. ред. доктора филологических наук М.Л. Гаспарова. – М., 1987.
Якобсон Роман. Язык и бессознательное / Сост., вст. слово К. Голубович, К. Чухрукидзе. – М., 1996.
Инициатором создания ОПО-ЯЗа, объединившего ученых Москвы и Петербурга, выступил В.Б. Шкловский, издавший в 1914 году новаторскую книгу «Воскрешение слова». Становление ОПОЯЗа пришлось на 1915–1916 гг.; в течение 1916–1919 гг. выходили «Сборники по теории поэтического языка». Новая школа заявила о себе в полную силу.
Кроме В.Б. Шкловского, в инициативную группу вошли литературовед Б.М. Эйхенбаум (1886–1959), занимавшийся проблемой «сказа», лингвисты О.М. Брик (1888–1945), исследовавший ритм и синтаксис стихотворной речи, и С.И. Бернштейн (1892–1970), занимавшийся теорией декламации. Позднее в работу ОПОЯЗа активно включился P.O. Якобсон. Ю.Н. Тынянов вступил в ОПОЯЗ несколько позднее, в 1919-м или 1920 г. Очень близки к ОПОЯЗу были литературоведы Б.В. Томашевский (1890–1957), автор «Теории литературы» (1925; 1931), не утратившей своего значения до сего дня, и В.М. Жирмунский (1891–1971), позднее вступивший в полемику с формализмом и отошедший от него («О формальном методе», 1923). Названные имена отнюдь не исчерпывают ряд филологов, стоявших у истоков О ПОЯ За. Очень быстро сложился целый научный круг со своими традициями, постепенно оформились общие принципы подходов к литературе и языку Возникла школа.
Томашевский Борис Викторович (1890–1957) – выдающийся отечественный филолог, историк и теоретик литературы, стиховед. Из-за участия в революционных кружках Б.В. Томашевский в 1908 г. вынужден был уехать в Бельгию, поскольку получение высшего образования в России было для него закрыто. В 1912 г. он получил образование инженера-электрика в Льежском университете (институт Монтефиоре). Во Франции Б.В. Томашевский изучал филологию в Сорбонне. Там же возник его интерес к французской поэзии. После возвращения в Россию в 1913 г. Б.В. Томашевский работает в архиве Пушкинского дома, готовит реферат для пушкинского семинара С. Венгерова.
Б.В. Томашевский был близок ОПОЯЗу. С представителями формальной школы его сближал интерес к фактуре стиха, литературному приему, к «конкретностям, специфически свойственным словесному искусству» (Цит. по: Левкович Я. Борис Викторович Томашевский. 1890–1957. К 100-летию со дня рождения. – М., 1991. С. 5—16). Профессиональный математик, Б.В. Томашевский стремился внести точные методы в изучение литературы. Стиховедческий анализ он соединял с достижениями статистики и положениями теории вероятности. Особого упоминания заслуживает итоговый труд Б.В. Томашевского «Стих и язык: Филологические очерки» (1959). Другой областью филологии, привлекавшей ученого, стала текстология (Писатель и книга. Очерк текстологии, 1928). Б.В. Томашевский вошел в историю отечественной филологии как пушкинист, теоретик литературы, специалист по сравнительно-историческому изучению культур.
Литература:
Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. – Л., 1925.
Томашевский Б.В. Формальный метод (вместо некролога).// Современная литература: Сб. статей. – Л., 1925.
Томашевский Б.В. Писатель и книга: очерк текстологии. – Л., 1928.
Томашевский Б.В. Стилистика и стихосложение: Курс лекций. – Л., 1959.
Томашевский Б.В. Стих и язык: Филологические очерки. – М.; Л., 1959.
Томашевский Б.В. Пушкин и Франция. – Л., 1960.
Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: учеб. пособие для вузов. – М., 2003.
Томашевский Б.В. Избранные работы о стихе: учеб. пособие для студентов филологических факультетов высших учебных заведений. – М., 2008.
Предшественников формализма следует искать одновременно в России и Западной Европе. В России это были символисты – В.Я. Брюсов, Вяч. Ив. Иванов и А. Белый, которые стремились ввести точные методы в литературу Показательно, что П.Н. Медведев (а с ним вместе в большой степени и М.М. Бахтин) подчеркивал типологическое родство русского формализма и общеевропейских формальных и «спесификаторских» течений[164]. Западное искусствознание в лице А. Гильдебранда, К. Фидлера, Г. Вельфлина разработало новый терминологический язык. Опиравшийся на их идеи О. Вальцель утверждал, что литературное произведение является прежде всего «конструкцией». Конструктивные особенности произведений, относящихся к разным видам искусства, можно соотносить между собой. В результате возникает эффект их «взаимного освещения». О. Вальцель сопрягает разные терминологические языки, говорит, например, об «архитектонике драм Шекспира»[165]. Благодаря усилиям В.М. Жирмунского работы немецкого ученого стали известны в России. Термин «конструкция» – одно из опорных понятий Ю.Н. Тынянова.
Большое значение для становления формального метода имела незавершенная «Поэтика сюжетов» А.Н. Веселовского. Как отмечает В. Эрлих, на становление формального метода повлияли определения «мотива» и «сюжета», которые даны в этой работе.
Однако еще большее значение имело то, что А.Н. Веселовский рассматривает «сюжет» не как момент тематики, а как элемент композиции, т. е. художественной организации материала[166]. Отсюда берет начало одна из центральных проблем формального метода – разграничение понятий «прием» и «материал». Применительно к сюжетному построению этот принцип предстает как противоположность «сюжета» и «фабулы». В «Теории литературы» (1931) Б.В. Томашевский определяет фабулу как «… совокупность событий в их взаимной внутренней связи»[167]. Фабула является «…материалом для сюжетного оформления»[168]. Очевидно, что моменты «делания», компоновки в этих определениях выдвинуты на первый план. В работе «Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля» (1916) В.Б. Шкловский подчеркивал, что «материал художественного произведения непременно педалезирован, т. е. выделен, «выголошен (курсив В.Ш.)»[169]. Это разграничение внешних моментов (материал) и моментов внутренних (форма) определяет «самоценность» литературы[170]. Формалисты стремились освободить искусство от воздействия идеологии. При этом их волновал «самоцельный» «воспринимательный процесс», «…ощущение вещи как видение, а не как узнавание…»[171]. Здесь скрыто противоречие. В.Б. Шкловский пытается его избегнуть, говоря о «воспринимательном процессе» (курсив мой. – В.З.). Пока «ощущение» вещи длится, пока нет готового результата, нет необходимости говорить о психологическом и социальном статусе адресата.
Большое значение для ОПОЯЗа имели концепции А.А. Потебни, одного из самых ярких представителей психологического подхода. Как известно, А.А. Потебня исходил из принципиальной метафоричности (символичности) слова. С этой концепцией горячо полемизировал В.Б. Шкловский, отрицавший, что литература есть «мышление образами». По его мнению, «…образы почти неподвижны…», а работа поэтических школ «…сводится к накоплению и выявлению новых приемов расположения и обработки словесных материалов»[172]. Образы даны как своего рода материал, который подвергается художественной обработке. Полемика с А.А. Потебней означала на самом деле уяснение собственных истоков. Разработанная А.А. Потебней лингвистическая поэтика стала одной из опор формального метода.
Возражали формалисты и Д.Н. Овсянико-Куликовскому, последователю А.А. Потебни, предлагавшему сосредоточиться на «особом психологическом складе» того или иного автора. Понятый как реальная фигура, как «автор биографический», автор не представлял интереса для формального метода. Его «личные чувства» объявлялись нерелевантными[173]. Так, в статье «Как сделана «Шинель» Гоголя» (1918) Б.М. Эйхенбаум писал, что «…душа художника как человека, переживающего те или другие настроения, всегда остается и должна оставаться за пределами его создания». По мнению ученого, в произведении происходит «игра с реальностью», свободное разложение и перемещение элементов. Мир произведения оказывается при этом построенным «заново», а потому «…всякая мелочь может вырасти до колоссальных размеров»[174]. Очевидно, что Б.М. Эйхенбаум высказывает здесь важные мысли о семантизации мельчайших, внешне второстепенных деталей произведения. В результате этой «игры с реальностью» возникает «художественный мир».
Таковы некоторые из важнейших тенденций, которые воздействовали на русских формалистов.
Несовпадение между ощущаемой в процессе делания вещью и ее возможным существованием в действительности – подлинная тема ОПОЯЗа. Очевидно, что произведение отличается от объектов действительности особой «условностью» (В.Б. Шкловский), «литературностью» (P.O. Якобсон). При этом «поэтическую речь» формалисты противопоставляли речи обыденной, прагматической, а под «литературностью» понимали «систему приемов», которая обеспечивала «превращение речи в поэтическое произведение». Это «превращение» приводило к тому, что реальные «положения» освобождались от их реального взаимоотношения и влияли друг на друга «по законам данного художественного сцепления»[175]. Очевидно, что «законы данного художественного сцепления», «контекстуальная синонимия» определяют такую категорию как «художественный мир».
«Прием» – центральное понятие формального метода. Закономерно, что знаменитая статья В.Б. Шкловского так и называлась – «Искусство как прием» (1915–1916)[176]. Обратимся для примера к другой известной статье В.Б. Шкловского «Пародийный роман. «Тристрам Шенди» Стерна» (1921)[177]. Ее центральная мысль – необходимость приема «остранения», выводящего художественный текст из «автоматизма восприятия». Л. Стерн привлекает В.Б. Шкловского тем, что не скрывает технику построения романа, а, наоборот, обнажает приемы его создания. Так, предисловие к книге, занимающее около печатного листа, появляется лишь в 64-й главе. Причины событий помещены после следствий, единство действия демонстративно нарушается через включение в роман параллельных новелл. Анализируя роман, В.Б. Шкловский выстраивает на его основе «общие законы сюжета». Главным приемом построения он называет «временной сдвиг». Так, в качестве примера названа глава, где мать повествователя «…шла осторожно в темноте по коридору, который вел в гостиную, когда… дядя Тоби произнес слово «жена». На протяжении шести глав разворачиваются параллельные сюжетные линии. Мать продолжает прислушиваться к разговору, застыв у приотворенной двери. В результате время в этом пласте романа останавливается. Этим примером В.Б. Шкловский иллюстрирует мысль об условности литературного времени. Форма пародийного романа Стерна предполагает неоконченный рассказ, который воспринимается на фоне авантюрного романа с его «…правилом кончать свадьбой».
Шкловский Виктор Борисович (1893–1984) – русский ученый, теоретик литературы, писатель, сценарист, культуролог в широком смысле слова.
Шкловский – инициатор «Общества обновления поэтического языка» (ОПОЯЗ) создал свою концепцию под влиянием идей А.А. Потебни и А.Н. Веселовского. Мысли Шкловского о значимости внутренней формы слова нашли выражение уже в 1913 году в докладе «Место футуризма в истории языка». Доклад, прочитанный в петербургском кабаре «Бродячая собака», а затем в теоретической работе «Воскресение слова» (1914) основывался на представлении о характере поэтического слова, обладающем особой образностью. Ее выявление проходит через «узнавание», «для которого необходимо «остранение», разграничение слова и «вещи». В книге воспоминаний «Жили-были» (1966) Шкловский писал: «Остранение – это показ предмета вне ряда привычного, рассказ о явлении новыми словами, привлеченными из другого круга к нему отношений».
Хрестоматийной работой В.Б. Шкловского стала статья «Искусство как прием», которую называют манифестом формальной школы. Статья создавалась в дискуссиях с единомышленниками – Л.П. Якубовским, Е.Д. Поливановым и О.М. Бриком. В сборниках по теории поэтического языка (1916, 1917) декларируется мысль о необходимой трудности восприятия, способного представить предмет «вне привычного ряда».
Идеи Шкловского во многом созвучны сегодняшним представлениям о системно-синергетическом методе литературы: текст выстраивается не по линейной логике, а следуя авторским ассоциациям, иногда удаляясь от предмета изображения, но сохраняя его в подтексте, чтобы к нему вернуться. Сопровождая книгу иллюстрацией шахматной доски, автор поясняет: «Конь ходит боком». Странность хода коня он объясняет условностью искусства.
В развитии современной теории литературы роль Шкловского огромна. Его научные открытия продолжили традиции А.Н. Веселовского и А.А. Потебни. Он принес в науку новую терминологию и новые подходы к литературе.
Литература:
Шкловский В.Б. Заметки о прозе русских классиков. 2-е изд. – М., 1955.
Шкловский В.Б. За сорок лет. Статьи о кино. – М., 1965.
Шкловский Виктор. Жили-были. Воспоминания. – М., 1966.
Шкловский Виктор. Тетива: О несходстве сходного. – М., 1970.
Шкловский В.Б. Собрание сочинений: В 3 Т. – М., 1973—74.
Шкловский В.Б. Энергия заблуждения: Книга о сюжете. – М., 1981.
Шкловский В.Б. О теории прозы. – М., 1983.
Шкловский В. Гамбургский счет. Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). – М., 1990.
Шкловский Виктор. Еще ничего не кончилось… – М., 2002.
Это приводит В.Б. Шкловского к заключению о «сдвиге и нарушении» обычных форм в этом произведении. Внимание автора статьи привлекают сентиментальные эпизоды в романе. В.Б. Шкловский считает, что сентиментальность «…не может быть содержанием искусства». Есть лишь «сентиментальная точка зрения», особый метод изображения, такой же, например, как изображение вещей с точки зрения лошади в «Холстомере» Л.Н. Толстого. По мнению В.Б. Шкловского, искусство «внеэмоционально», «внежалостно», «безжалостно», поскольку «…чувство сострадания взято как материал для построения». Здесь ощущается футуристическая основа взглядов В.Б. Шкловского: его преклонение перед «техникой» в широком и узком смыслах слова.
Поначалу формальная школа настаивает на «самоценности» приема, понимая его как единственного «героя» науки о литературе (P.O. Якобсон). Эта точка зрения представляется полемическим заострением важнейшей мысли: литература не копирует жизнь. Всякое изображение означает «смещение», «деформацию» изображаемого. Б.В. Томашевский определяет «прием» как способ «…комбинирования словесного материала в художественные единства»[178]. В статье «К вопросу о формальном методе» (1923) В.М. Жирмунский под приемом понимает «каждый элемент произведения», рассмотренный «…как эстетически направленный факт, производящий определенное художественное воздействие»[179]. Возражая против рассмотрения произведения как «суммы приемов», ученый соотносит «прием» с «…телеологическим понятием стиля (курсив В.Ж.)». Стиль при этом понимается как «единство приемов»[180]. По мнению В.М. Жирмунского, стиль связан с «общим художественным смыслом, общим художественным заданием», а в конечном итоге – с «эстетическими навыками и вкусами», мироощущением той или иной эпохи[181]. Эти положения означают выход за пределы полемического этапа. Формальный метод в интерпретации В.М. Жирмунского раздвигает свои границы и затрагивает новые элементы литературной «системы».
П.Н. Медведев упрекал формалистов в том, что они исходят из «индифферентности материала». Этот ученый из круга М.М. Бахтина фиксировал «низведение содержания» как одну из важных тенденций школы[182]. Однако в дальнейшем полемика против формалистов велась не только литературными, но и административными методами. В условиях господства одной точки зрения на историю, культуру и литературу ОПОЯЗ перестал существовать.
Формальный метод и формальная школа занимают исключительно важное место в истории литературоведения XX века. Из этой школы вырос структурализм[183]. Понимание литературы как системы, внимание к ее внутренним имманентным законам, представление об эволюции в литературе и ее «сопряжении» с другими рядами (литература и история, литература и быт) также связаны с трудами представителей ОПОЯЗа. Так, опираясь на давнюю философскую традицию, Ю.Н. Тынянов противопоставлял «систему» «…механическому агломерату явлений»[184]. В известной статье «О литературной эволюции» (1927) Ю.Н. Тынянов описывает принцип системности, который он обнаруживает в литературе на разных уровнях: «…литературное произведение является системою, и системою является литература». Признаками системы в понимании Ю.Н. Тынянова выступают соотнесенность элементов, а также их взаимодействие между собой. Однако система не «…есть равноправное взаимодействие всех элементов». Есть группа элементов, которая «выдвинута» (доминанта). При этом другие элементы подвергаются деформации. Произведение «…входит в литературу, приобретает свою литературную функцию именно этой доминантой».
В системе каждый элемент наделен «конструктивной функцией», которая представляет собой явление сложное, «поскольку элемент соотносится сразу: с одной стороны, по ряду подобных элементов других произведений-систем и даже других рядов, с другой стороны, с другими элементами данной системы (автофункция и синфункция)». Разъясняя эти сложные мысли, Ю.Н. Тынянов отмечает, что лексика данного произведения (например, архаизмы в одах М.В. Ломоносова) соотносится одновременно и сразу «…с литературной лексикой и общеречевой лексикой, с одной стороны, с другими элементами данного произведения – с другой».
С этим положением часто спорили ученые разных школ. Однако отсюда ясно следовала мысль о невозможности «имманентного» изучения произведения как системы «вне его соотнесенности с системою литературы». Литературное произведение в концепции формалистов само по себе является системой, связанной с другими системами. Возникает идея «контекста», которому было суждено стать одним из главных «героев» теории литературы в эпоху структурализма.
Ю.Н. Тынянов отмечает, что один и тот же факт может иметь разную функцию, разное дифференциальное качество в зависимости от того, с каким рядом он соотносится. Так, «…дружеское письмо Державина – факт бытовой, дружеское письмо карамзинской и пушкинской эпохи – факт литературный». Вхождение бытового речевого материала в литературу, превращение дружеского письма в литературный факт связано с тем, что в эпоху Карамзина ода М.В. Ломоносова «износилась» литературно. В салоне произошло закрепление новой литературной функции за бытовыми речевыми формами.
Благодаря системному подходу расширяется взгляд на литературный ряд, который исследователи начинают соотносить с другими рядами. Литература, поясняет Ю.Н. Тынянов, представляет собой «…систему функций литературного ряда в непрерывной соотнесенности с другими рядами». Все это не означает, однако, что утрачивается специфическая природа литературы. По точному замечанию Б.М. Эйхенбаума, литература «…не порождается фактами других рядов и потому не сводима (курсив Б.Э.) на них»[185]. Если имманентные законы истории литературы определяют смену конкретных литературных систем, то «…темп эволюции и выбор пути эволюции при наличии нескольких эволюционных путей» внутренние законы литературы не объясняют.
Здесь главная мысль о наличии «нескольких эволюционных путей», которые нельзя объяснить или вывести только из внутренних законов литературы. В совместных тезисах «Проблемы изучения литературы и языка» (1928) Ю.Н. Тынянов и P.O. Якобсон утверждают, что «…вопрос о конкретном выборе пути» или хотя бы выборе доминанты «…может быть решен только путем соотнесенности литературного ряда с другими историческими рядами». Эту «соотнесенность» ученые называют «системой систем», имеющей свои структурные законы. Здесь глубоко угадан вероятностный характер развития литературы, который P.O. Якобсон и Ю.Н. Тынянов понимают как «неопределенное уравнение». На первый взгляд может показаться парадоксальным, что одни и те же истоки обнаруживаются у теории литературы и теории термодинамики И. Пригожина.
Системность мышления формалистов проявилась в том, что они отошли от противопоставления диахронии и синхронии, восходившего к лингвистическим концепциям Фердинанда де Соссюра. Они не видели больше принципиальной значимости в противопоставлении «понятия системы понятию эволюции», поскольку «…каждая система дана обязательно как эволюция, а с другой стороны, эволюция носит неизбежно системный характер». Другими словами, на макроуровне они обнаружили действие прямых и обратных связей.
Представляются исключительно важными мысли Ю.Н. Тынянова о «тесноте стихового ряда, о том, что смысл каждого слова в стихе возникает «…в результате ориентации на соседнее слово…»[186].
Ю.Н. Тынянов описывает особую «сукцессивность», подсказывающую силу стиха и определяющую развертывание текста, его становление. Именно «второстепенные» признаки значения, индуцированные контекстом, придают слову ту семантическую «открытость», о которой позднее размышлял Ян Мукаржовский[187]. Однако она же определяет и семантику текста в целом. Повторное прочтение одного и того же стихотворения (или текста) демонстрирует это контекстуальное приращение смысла, который свободно движется в прямом и обратном направлениях. Тем самым на микроуровне, на уровне стихотворного текста, было подмечено действие общих законов системы «литература».
Показательна перемена терминологии в этом пассаже. Для описания контекстуальной синонимии понадобился научный язык Пражского лингвистического кружка и позднейшего структурализма. Однако без формального метода эти идеи не получили бы своего развития.
Чтобы осветить «художественное произведение» во всей его внутренней динамичности и сложности, формальный метод стремится отсечь «автора» и «читателя». Это – доминанта метода. Однако такой угол зрения не означает «запрет» на анализ других элементов системы «литература». Формальный метод также не является универсальным или единственно возможным. В системе «литература» он сфокусирован на самой литературе. Работы второй половины 20-х годов обозначили новые горизонты развития теории литературы. Представители формального метода вышли за его первоначальные границы. Был поставлен вопрос о системе соотнесенностей и взаимодействий элементов срединной части цепи художественной коммуникации «традиция текста – текст – реальность». Структурализм осмыслит их как единую знаковую систему[188].
Вопросы к теме
1. Почему представители формальной школы испытывали интерес к авангарду в искусстве?
2. Что такое «прием»? Можно ли утверждать, что прием «остранения» использовал в «Путешествии Гулливера» Дж. Свифт?
3. В чем суть полемики М.М. Бахтина и ученых его круга с формалистами?
4. Что такое «литературность»? Чем «бытовой факт» отличается от «факта литературного»?
5. Назовите основные признаки «системы» по Ю.Н. Тынянову.
Литература по теме
1. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика / Вступ. статья Н.Д. Тамарченко. Коммент. С.Н. Бройтмана при участии Н.Д. Тамарченко. – М., 1996.
2. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино / Отв. ред. B.А. Каверин и А.С. Мясников. Коммент. Е.А. Тоддес, А.П. Чудакова, М.О. Чудаковой. – М., 1977.
3. Шкловский Виктор. Гамбургский счет / Предисл. А.П. Чудакова. – М.,1990.
4. Эйхенбаум Б.М. О прозе: сб. статей. – Л., 1969.
5. Якобсон Роман. Работы по поэтике / Сост. д.ф.н. М.Л. Гаспарова; вступ. ст. д.ф.н. Вяч. Вс. Иванова. – М., 1987.
Дополнительная литература
1. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. – Л., 1977.
2. Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении. – М., 1993. (Бахтин под маской).
3. Ханзен-Лёве ОгеА. Русский формализм. Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения / Пер. с нем. C.А. Ромашко. – М., 2001.
Шкловский Виктор. Тетива: О несходстве сходного. – М., 1970.
Шкловский В.Б. Собрание сочинений: В 3 Т. – М., 1973—74.
Шкловский В.Б. Энергия заблуждения: Книга о сюжете. – М., 1981.
Шкловский В.Б. О теории прозы. – М., 1983.
Шкловский В. Гамбургский счет. Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). – М., 1990.
Шкловский Виктор. Еще ничего не кончилось… – М., 2002.
Тема 10 Метод литературной герменевтики
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: герменевтический круг, дивинация, логический круг, смысл, понимание, предпонимание, рецептивная эстетика
Литературная герменевтика – наука толкования текстов, учение о принципах их интерпретации. Применительно к системе «литература» процесс этот протекает в рамках подсистемы – «произведение – читатель – традиция».
Происхождение слова «герменевтика» связано с именем Гермеса, древнегреческого бога скотоводства и торговли, покровителя путников, вестника богов, пояснявшего людям их речи. Первоначально роль герменевтики сводилась к толкованию прорицаний оракула. В дальнейшем сфера ее применения расширилась и включила толкование священных текстов, законов и классической поэзии. Тогда и зародилась филологическая дисциплина, которая в XX веке получила название литературной герменевтики. Ее развитию способствовали школы риторов и софистов, разрабатывавших правила интерпретации текстов. Этими правилами пользовалась александрийская филология, которая, собирая и изучая письменные памятники, накопила большой опыт в деле истолкования произведений художественной литературы. В Средние века литературная герменевтика существовала в составе классической филологии, интерес к которой резко усилился в эпоху Возрождения. Он не угас и в период Реформации, когда разгорелась полемика между протестантскими и католическими теологами, расходившимися в толковании Священного Писания. На рубеже средних веков и нового времени сложилось понимание того, что развивавшиеся параллельно филологическая герменевтика и библейская герменевтика пользуются общими способами интерпретации и что обе они едины в своей сущности.
В герменевтике стали усматривать единство искусства понимания, искусства истолкования и искусства применения. Так сложились предпосылки для построения в XIX веке теории универсальной герменевтики, фундаментом которой должна была послужить универсальная же теория понимания.
Современная справочная литература определяет герменевтику как искусство истолкования (иногда и понимания)[189]. В общей теории герменевтики понимание «…не есть просто восприятие информации. Цель его – проникнуть за систему знаковых символов, из которых складывается речь (и записанное слово), с тем чтобы возможно более адекватно постичь скрытый в них смысл»[190]. То, что авторы дефиниций герменевтики видят в ней лишь искусство, – не только дань восходящей к глубокой древности традиции, но и следствие современного состояния герменевтики, еще не осознавшей того, что во второй половине XX века она стала наукой. В этом можно убедиться, сравнив теории понимания, существовавшие в прошлом столетии, с теми, которые возникли в нынешнем веке. Поскольку речь идет об универсальных теориях понимания, то это дает возможность проследить сдвиги, происшедшие и в литературной герменевтике.
Соотнесение объекта интересов литературной герменевтики с системой «литература» позволит сделать некоторые выводы о применимости герменевтических методов при изучении литературы как системы.
Первая универсальная теория понимания была предложена Ф.Д.Э. Шлейермахером. Будучи профессором теологии и философии, он читал курсы лекций в Галле и Берлине, был близок к кружку йенских романтиков. После его смерти на основе лекционных тетрадей были изданы трактаты «Диалектика», «Герменевтика» и «Критика», сыгравшие большую роль в развитии герменевтики. В своих теоретических построениях он исходил из того, что само собой возникает недоразумение, а не понимание. Видя в герменевтике искусство избегать недоразумения, он считал необходимым исследовать суть процесса понимания.
Шлейермахер Фридрих Даниель Эрнст (ScMeiermacher, 1768–1834) – немецкий протестантский теолог и философ. Близость Шлейермахера к йенским романтикам проявилась в «Речах о религии» (рус. пер. 1911). Основные положения философской герменевтики Шлейермахер изложил в трактатах «Герменевтика» и «Критика» (Hermeneutik und Kritik, Fr. а. М., 1977). Шлейермахер сформулировал семь «правил “психологической" экзегезы:
1) необходимо уловить общий смысл и композицию произведения; 2) увидеть связь целого и частей; 3) понять особенности стиля автора; 4) учитывать, что это понимание не может быть абсолютным и исчерпывающим; 5) приблизиться к индивидуальному миру автора, составить представление о его личности и жизни; 6) сочетать интуитивный и аналитич. подходы; 7) учитывать как содержание текста, так и кому он был адресован» (Мень А. Библиологический словарь: в 3 т. Т. 3. – М., 2002. См. также «Библиологический словарь» в Интернете: . yandex.ru/dict/men/article/).
Литература:
ScMeiermacher F.D.E. Hermeneutik. – Heidelberg, 1974.
Габитова P.M. Универсальная герменевтика Фридриха Шлейермахера // Герменевтика: история и современность. – М., 1985.
Гайм Р. Романтическая школа. – М., 1891.
Dilt.hey W. Leben Schleierma-chers. Bd. 1–2. – Berlin, 1970.
В тексте любого произведения, по мнению Шлейермахера, могут сочетаться два начала – следование существующим правилам и отклонениям от них, обусловленное тем, что гений сам создает образы и задает правила. Поэтому знание правил необходимо, но недостаточно для понимания произведения. Свободную от правил гениальность следует постигать непосредственно, как бы превращая себя в другого. Возможность такого перевоплощения в автора обусловлена наличием в каждом минимуме каждого иного. При этом сравнения с самим собой становятся импульсом для «дивинации», пророческого дара, способности предсказывать, догадки, делающей интерпретатора конгениальным автору.
В концепции Шлейермахера понимание не сводится к единичному акту, а представляет собой процесс с неоднократно повторяющейся на разных уровнях понимания дивинацией, герменевтический круг. Причина кругообразности этого процесса виделась ученому в том, что ничто истолковываемое не может быть понято за один раз. Процесс понимания мог длиться вплоть до момента, когда интерпретатору вдруг все становится ясным до деталей.
Созданная трудами Шлейермахера теория понимания не превратила герменевтику из искусства в науку. «Метод» понимания, по мнению Г.Г. Гадамера, должен держать в поле зрения как общее (путем сравнения), так и своеобразное (путем догадки); это значит, он должен быть как компаративным, так и дивинационным. С обеих точек зрения он остается «искусством», ведь его нельзя свести к механическому применению правил. Дивинация ничем не заменима[191].
С этим выводом Г.Г. Гадамера нельзя не согласиться, рассматривая концепцию Шлейермахера применительно к системе «литература», где понятию «правило» соответствует элемент «традиция» (текстов). Полю действий интерпретатора, по Шлейермахеру, в этом случае будет соответствовать подсистема «автор – произведение – традиция», поскольку «читатель»-интерпретатор в процессе понимания должен неоднократно «превращаться» в «автора», чтобы осуществлять акт дивинации.
Если учесть, что в подсистеме «автор – произведение – традиция» отношение «автор – произведение» характеризует генезис произведения в связи с традицией, то станет ясно, что Шлейермахер выводил возможность понимания из генезиса понимаемого текста, о чем он неоднократно писал. Однако акт понимания, по Шлейермахеру, осуществляется в подсистеме «автор – произведение – читатель», которая находится в обратной связи, идущей от «читателя» к «автору», с подсистемой «автор – произведение – традиция», и эта связь между автором и «читателем»-интерпретатором опосредована «произведением». Поэтому непосредственное постижение индивидуальности автора, лежащее в основе дивинации, в пределах системы «литература» оказывается невозможным.
Вторая половина XIX века была знаменательна для герменевтики появлением фундаментальной теории понимания, разработанной Вильгельмом Дильтеем (1833–1911). Профессор философии в Базеле, Киле, Бреславле, Берлине, член Берлинской академии наук, Дильтей внимательно изучал наследие Шлейермахера и написал книгу «Жизнь Шлейермахера» (1870). Методу «объяснения», применимому в «науках о природе», где возможно рассудочное проникновение в сущность вещей, Дильтей противопоставил метод «понимания», присущий гуманитарным «наукам о духе». Он исходил из того, что понимание собственного мира достигается путем интроспекции (самонаблюдения), понимание чужого мира – путем интуитивного «вживания», «сопереживания», «вчувствования», а понимание явлений культуры прошлого – путем истолкования их как проявлений целостной духовной жизни исторической эпохи. Реконструкцию жизни этой эпохи он строил по принципу соединения множества биографий.
Его перу принадлежит классическое эссе «Происхождение герменевтики». Поэтому нас не должна удивлять преемственность его теории по отношению к теории Шлейермахера в плане интереса к генезису произведения, хотя отношение «автор – произведение» он рассматривал в связи не с «традицией», как это делал Шлейермахер, а с «реальностью», что соответствовало постулатам созданного им варианта философии жизни. Выполнить условие непосредственного «вживания» во внутренний мир «автора» «читатель»-интерпретатор не мог, потому что связь, идущая от «читателя» к «автору», опосредована элементом «реальность», который к тому же представлял не саму реальность, а ее реконструкцию.
Теория понимания, детально разработанная Дильтеем, не вывела герменевтику из разряда искусств, но она привела к выделению литературной герменевтики из филологической в особую литературоведческую дисциплину. Дильтей – не только философ и историк культуры, но и основоположник духовноисторической школы в литературоведении, применивший положения своей теории понимания в литературной герменевтике. Его труды о И.В. Гёте, Ф. Петрарке, Г.Э. Лессинге, Ф. Гельдерлине, Новалисе и Ч. Диккенсе способствовали осознанию особенностей литературных текстов, выделяющих их из среды других памятников духовной культуры и предполагающих специальный подход к их изучению. Велика роль Дильтея в разработке понятия «рецепция», ключевого для современной компаративистики.
Герменевтика нового времени перенесла из античной риторики в теорию понимания правило, по которому целое надлежит понимать на основании части, а часть – на основании целого. Это правило – по аналогии с логическим кругом в определении через определяемое – называют герменевтическим кругом, кругом целого и части, или кругом понимания. Сам же герменевтический круг определяют как «парадокс несводимости понимания и истолкования текста к логически непротиворечивому алгоритму»[192].
Процитированный фрагмент подчиняется правилу, по которому целое надлежит понимать на основании части, а часть – на основании целого. И здесь срабатывает принцип системы.
Герменевтический круг присутствовал в трудах Шлейермахера и Дильтея, и оба исследователя прекрасно осознавали это. Более того, Дильтей с предельной корректностью описал применение правила, которым он руководствовался в своих герменевтических штудиях: «Для всякого (истолкования) характерно такое продвижение вперед, которое проходит от восприятия определенно-неопределенных частей к попытке захватить смысл их целого, точнее определить и сами части. Неуспех этого метода обнаруживается в том случае, когда отдельные части не становятся при этом понятнее. Это побуждает к новому определению (их общего) смысла до тех пор, пока он не станет достаточным. Эти попытки продолжаются настолько долго, пока не исчерпывается целиком весь смысл, который заключается в данных проявлениях жизни (или «текстах»)»[193].
Долгое время отношение к кругу в понимании было однозначно отрицательным, и герменевтики либо пытались избежать его, либо признавали неустранимым злом, с которым приходится мириться. Ситуация резко изменилась после издания книги Ганса Георга Гадамера «Истина и метод. Основы философской герменевтики», в которой много внимания было уделено проблеме понимания и связанному с ней вопросу о герменевтическом круге.
Гадамер Ганс Георг (Gadamer, 1900–2002) – немецкий философ, своими трудами в области герменевтики способствовал превращению литературной герменевтики из искусства толкования художественных текстов в научную дисциплину.
Основные положения, касающиеся литературной герменевтики, изложены Г.Г. Гадамером в монографии «Истина и метод» («WahrheitundMethode», 1960) и сборнике статей «Актуальность прекрасного», изданном в серии «История эстетики в памятниках и документах» (М., 1991).
Литература:
Гадамер Г.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – М., 1988.
Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991.
Развивая мысль М. Хайдеггера о том, что предвосхищающее движение предпонимания постоянно определяет понимание текста, Гадамер установил связь, существующую между процессом понимания и герменевтическим кругом: «Круг <…> имеет не формальную природу, он не субъективен и не объективен – он описывает понимание как взаимодействие двух движений: традиции и истолкования. Предвосхищение смысла, направляющее наше понимание текста, не является субъективным актом, но определяет себя из общности, связывающей нас с преданием. Эта общность, однако, непрерывно образуется в нашем взаимодействии с преданием. Она не изначально заданная предпосылка – мы сами порождаем ее, поскольку мы, понимая, участвуем в свершении предания и тем самым определяем его дальнейшие пути. Круг понимания, таким образом, вообще не является «методологическим» кругом, он описывает онтологический[194] структурный момент понимания»[195].
Вывод, сделанный Гадамером применительно к системе «литература», означает, что процесс понимания протекает в рамках подсистемы «произведение – читатель – традиция». Справедливость этого толкования слов Гадамера подтверждается тем, что «во-первых, он последовательно воздерживается от всяких суждений о тексте, отсылающем к какой-либо действительности, кроме самого текста (будь действительность социально-политическая или культурно-историческая)», и что «во-вторых, он налагает запрет на сведение смысла текста к его замыслу, т. е. как раз на то, на что в конечном итоге была направлена традиционно-герменевтическая стратегия»[196].
Ограничивая поле действий «читателя»-интерпретатора подсистемой «произведение – читатель – традиция», Гадамер установил пределы, в которых применимы методы, выработанные герменевтикой. Элемент «читатель» присутствует и в подсистеме «читатель – произведение – реальность», но в ней объектом понимания служат отношения между разнородными предметами – «произведением» (не реально существующим, исправленным или поврежденным текстом!) и реальностью. О применении правила целого и части здесь не может быть речи. Иное дело подсистема «произведение – читатель – традиция», где традиция – «это сохранение того, что есть, сохранение, осуществляющееся при любых исторических обстоятельствах», а сохранение «суть акт разума, отличающийся, правда, своей незаметностью»[197]. Здесь речь идет о предметах однородных, и герменевтическое правило оказывается применимым.
Между элементами подсистемы «произведение – читатель – традиция» существуют прямые и обратные связи, которые образуют замкнутый круг:
Присутствие такого круга в подсистеме «произведение – читатель – традиция» свидетельствует о том, что не применение правила целого и части порождает круг понимания, а, напротив, наличие круга понимания позволяет использовать правило целого и части. Замкнутость круга понимания является предпосылкой бесконечности процесса интерпретации, если речь идет о тексте литературного произведения.
Мысль Гадамера о том, что «подлинный смысл текста или художественного произведения никогда не может быть исчерпан полностью» и что «приближение к нему – бесконечный процесс»[198], соответствует принципу множественности описаний каждой системы. Этот принцип исключает возможность дать одно единственно верное описание, которое стало бы конечной точкой в процессе интерпретации литературного произведения, но допускает возможность существования множества одинаково верных, хотя и не исчерпывающих описаний: смысл системы «произведение» сам оказывается системой, как только мы начинаем описывать его аспекты (уровни) в конкретном литературном произведении.
Сделав теорию понимания более строгой, Гадамер «реабилитировал» правило целого и части, лежащее в основе герменевтического метода. Но в свете новой теории понимания правило потребовало существенного дополнения, которое философ назвал «предвосхищением совершенства», или «презумпцией совершенства», «доступно пониманию лишь действительно совершенное единство смысла»: «Мы всегда подходим к тексту с такой предпосылкой. И лишь если предпосылка не подтверждается, т. е. если текст не становится понятным, мы ставим ее под вопрос. Например, мы начинаем сомневаться в надежности традиции, пытаемся исправить текст и т. д.»[199]. Иначе говоря, правило целого и части можно применить лишь в том случае, если смысл произведения действительно представляет собой целое. Усматривая в смысле систему, нужно будет признать, что «презумпция совершенства» предполагает целостность этой системы как условие понимания и интерпретации. Это означает принципиальную несводимость смысла целого к сумме смыслов составляющих его частей и невыводимость из смысла частей смысла целого и зависимость смыслов частей от их места в смысле целого и их отношения к этому смыслу. В связи с этим важно заметить, что «понимание текста всегда предопределено забегающим вперед движением предпонимания»[200]. С точки зрения системного подхода, круг понимания – это движение от предпонимания целого к пониманию целого и от понимания части к новому шагу в предпонимании целого. В последние десятилетия в русле герменевтики получила развитие «рецептивная эстетика», разработанная в трудах Г.Р. Яусса (1921–1997) и В. Изера[201].
Философская герменевтика Гадамера сыграла большую роль в превращении герменевтики, в частности – литературной герменевтики, из искусства в науку. Литературоведческая герменевтика использует те же процедуры и в том же порядке, что и герменевтика как метод понимания в философии: «а) выдвижение некоторой гипотезы, в которой содержится предчувствие или предпонимание смысла текста как целого; б) интерпретация исходя из этого смысла отдельных его фрагментов, т. е. движение от целого к его частям; в) корректировка целостного смысла исходя из анализа отдельных фрагментов текста, т. е. обратное движение от частей к целому. В свою очередь, обогащенное понимание целого позволяет по-новому переосмыслить и понять части целого; иначе говоря, круг не только замыкается, но и многократно повторяется»[202].
В России западный опыт соединяется с русской философской и лингвистической традицией. Именно в этом направлении развивалась мысль выдающегося философа, этнопсихолога и лингвиста, предвосхитившего ряд идей семантики и семиотики XX века, Густава Густавовича Шпета (1879–1940(7); точная дата и место смерти неизвестны). Осужденный вместе с талантливыми филологами и переводчиками А.Г. Габричевским, М.А. Петровским, Б.И. Ярхо, Г.Г. Шпет погиб в сталинских лагерях.
Подобно многим другим русским философам рубежа XIX–XX веков, Г.Г. Шпет пережил в молодости увлечение марксизмом, в котором его привлекал социально-исторический подход к действительности. От марксизма взгляды Г.Г. Шпета эволюционировали в сторону феноменологии, «…вскрывающей механизм человеческого сознания во всех сферах его деятельности – в философии, в искусстве, религии»[203].
В философии Г.Г. Шпет исходил из «абсолютной реальности» идеального. Он верил в «абсолютную реальность (курсив Г.Ш.) потустороннего», полагая, что «разумный дух» становится реальным лишь через воплощение идеального в действительности. При этом заряд идеального проникает в действительность, превращая ее в «духовную историческую реальность». Историю он понимал как «непрерывное движение». Она представлялась ему осуществленной, но в то же время «осуществляющейся» и «подлежащей осуществлению» реальностью[204].
«Злым делом» считал философ попытки «осуществлять историю», опираясь на частное и частичное уразумение ее смысла. По мнению Г.Г. Шпета, такое вторжение в развитие означало бы его «прекращение», поскольку история живет собственным «свободным и непосредственным творчеством». Одно только лишь «поучение» можно извлечь из ее хода: нельзя, чтобы какое-то мнение выступало как бесспорное «знание», «стесняя свободу всех остальных». В этом и заключается, по мнению Г.Г. Шпета, «чистота» философии. Эта мысль имеет универсальный характер. Она касается науки, искусства и самой жизни.
Эта ключевая идея лежит в основе понимания Г.Г. Шпетом герменевтики. В пределе философия и герменевтика для него – синонимы. Последняя связана с «принципиальной проблемой понимания», т. е. с уразумением «самого духа». К этим вопросам ученый обращается во всех основных работах – книге «Явление и смысл» (1914), серии очерков «Герменевтика и ее проблемы» (1918), а также знаменитых «Эстетических фрагментах» (1922). При этом очень важным для Г.Г. Шпета является анализ «семасиологических проблем».
Г.Г. Шпета сближает с учеными ОПОЯЗа протест против психологизма. Комментируя труды немецкого исследователя Э. Шпрангера, он подчеркивает знаковый характер произведения. Выраженный знаками «внутренний смысл» произведения первоначально возникает в душе поэта, однако в дальнейшем «отрешается» от него. «Отрешенная связь» свидетельствует о наличии собственной жизни произведения. «Понимание» при этом не сводится к индивидуальной психологии автора. Оно включается в исторический процесс, который немыслим без общности и общения. Очевидно, что эти идеи перекликаются с теориями М.М. Бахтина, которые возникают в том же историко-культурном контексте.
В «Эстетических фрагментах» Г.Г. Шпет подчеркивал, что слово – прежде всего сообщение и средство общения. В этой своей функции оно есть «архетип культуры»[205]. Слово способно выступать в этой роли, поскольку оно представляет собой структуру. Другими словами, понимание слова как «архетипа культуры» опирается на идею структурности.
Под «структурой» Г.Г. Шпет понимает органическое, глубинное «расположение» отношений в слове. Чувственно-воспринимаемые и формально-идеальные термины отношений образуют «конкретное строение», в котором «…отдельные части могут меняться в «размере» и даже качестве, но ни одна часть из целого in potentia не может быть устранена без разрушения целого».
С точки зрения Г.Г. Шпета, структурно прежде всего то, что невещественно и оформлено. Поэтому дух и культура принципиально структурны. В вещественном и общественном мирах структурой наделены лишь оформленные образования. «Систему структур» представляет собой организм человека.
Разъясняя свое положение о «системе структур», Г.Г. Шпет подчеркивал, что «каждая структура в системе сохраняет конкретность в себе». Эта идея философа представляется принципиальной. На примере макросистемы «литература» можно видеть, что каждое звено этой системы не утрачивает своей собственной системности, т. е. «конкретности». Сохраняя свои собственные свойства, подсистемы «произведение – читатель», «традиция – произведение» и т. д. включаются в общую «систему систем».
Г.Г. Шпету принадлежит важнейшее пояснение, согласно которому в структурной данности «…все моменты, все члены структуры всегда даны, хотя бы in potentia». При этом рассмотрение «…не только структуры в целом, но и в отдельных членах требует, чтобы не упускались из виду ни актуально данные, ни потенциальные моменты структуры». Именно эта идея Г.Г. Шпета наилучшим образом разъясняет понимание категории «художественный мир». Системный подход к литературе важен именно потому, что все «…имплицитные формы принципиально допускают экспликацию»[206]. Это мысль о природе системы и системности как таковых.
Следуя традиции В. фон Гумбольдта и А.А. Потебни, Г.Г. Шпет рассматривает «внутреннюю форму» в качестве важнейшего элемента структуры слова. «Внутренняя форма» является глубинной моделью возникновения поэтического начала. Отсюда следует, что «художественный мир» как макросистема представляет собой аналог «внутренней формы» слова.
В ходе поэтического «концепирования», называния мира возникает «третий род истины», который порой приводит к «полной эмансипации» поэтических форм от «существующих (курсив Г.Ш.) вещей»[207]. Ставшая образом вещь «…теряет свою логическую устойчивость». Образ не есть только «понятие» или только «представление». Он – «…между представлением и понятием»[208].
Эта мысль Г.Г. Шпета по-новому раскрывает положение о неисчерпаемости искусства. Скольжение образа (символа) между двумя сферами наделяет образ свойствами и той и другой. В зависимости от контекста в слове выдвигаются на первый план (становятся «доминантой») признаки понятийного или эмоционально-чувственного ряда. При этом какие-то признаки могут выходить на первый план или, напротив, становиться вторичными. Тем не менее и те и другие значимы.
Опираясь на анализ стихотворного текста, сходные мысли высказывали формалисты. С точки зрения Ю.Н. Тынянова, «второстепенные» признаки значения слова («колеблющиеся признаки») взаимодействуют с основным признаком, порождая особую «тесноту» стихового ряда[209]. Хотя формалисты в лице
В.Б. Шкловского отрицали образную природу искусства, они пришли к тем же выводам, что и Г.Г. Шпет.
В новейшее время литературоведческая герменевтика пошла по пути создания специализированных методик и интерпретационных моделей. Эта работа велась иногда независимо от идей Гадамера (М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев и др.), иногда в связи с ними (Г.И. Богин[210] и др.), иногда в известном противопоставлении им (Эрих Дональде, Хирш и др.). Специализация методик – показатель того, что литературная герменевтика выделилась в особую литературоведческую дисциплину[211]. Более того, сейчас ведутся герменевтические исследования на стыке литературоведения и лингвистики. Примером такого применения аналитических средств двух наук может служить фрагмент статьи Г.И. Богина «К онтологии понимания текста», в которой содержится изящный анализ стихотворения Д. Хармса:
Я шел зимою вдоль болота В галошах, шляпе и очках. Вдруг по реке пронесся кто-то На металлических крючках. Я побежал скорее к речке, А он бегом пустился в лес, К ногам приделал две дощечки, Присел, подпрыгнул и исчез. И долго я стоял у речки, И долго думал, сняв очки: «Какие странные дощечки И непонятные крючки!»Г.И. Богин в центр анализа помещает мысль о «другом тексте», заимствованную у Л. Витгенштейна. Этот «другой текст» виден уже в семантизации слов «Я шел зимою вдоль болота» («Человек…двигался пешком по берегу болота, которое по случаю мороза замерзло, а потому и затвердело»). Далее, «…реципиент отрефлектирует опыт использования в речи однородных членов предложения и заметит в стихотворении Хармса» предметную разнородность «…грамматически однородных членов»: Один – «В галошах, в шляпе и очках»; другой – «Присел, подпрыгнул и исчез».
В этом случае становится понятным, что «…стихотворение – «юмористическое», но если «мерить прогресс понимания мерой непонимания, то придется признать, что мы еще очень далеки от полной интерпретации. Уменьшить непонимание сможет тот, кто попытается соединить непосредственное восприятие с лингвистическим анализом текста и конечным умозаключением. Перед нами зрелище странного героя-интеллигента – «в галошах, шляпе и очках» и «кого-то», кто «проносится по речке» на «металлических крючках» и быстро исчезает в лесу, к ногам приделав две дощечки.
Вспоминая терминологию эпохи «спринтеров», чемпионов, «передовиков» и «попутчиков», обратимся вновь к тексту, чтобы отчетливо различить парадигму: «Старое воззрение на мир / Реально обновляемый мир». Эта парадигма включает в себя «целую россыпь малых парадигм».
Нам есть еще что понять в размышлении «…над прекрасной миниатюрой поэта-рыцаря нового мира, погибшего при развертывании совсем других парадигм от имени все того же нового мира»[212]. Иначе говоря, фрагмент статьи Г.И. Богина возвращает нас в герменевтический круг.
Движение между читательским и авторским восприятием в процессе «непонимания» и «предпонимания» ведет к «пониманию» текста, которое никогда не бывает полным.
Вопросы к теме
1. Сравните выражения: женское сердце – сердце женщины; часовой – человек на часах; капитанская дочка – дочь капитана; собачье сердце – сердце собаки; железный поток – поток железа. Почему переводчик выбрал для рассказа Дж. Лондона название «Сердце женщины», Н.С. Лесков – «Человек на часах»,
А.С. Пушкин – «Капитанская дочка», М.А. Булгаков – «Собачье сердце», а А.С. Серафимович – «Железный поток»?
2. Проследите герменевтический круг, который совершило ваше воображение при поисках ответа на предыдущий вопрос.
3. Отметьте случаи расхождения предпонимания с пониманием и их совпадения при знакомстве с заглавиями произведений «Аристократка» М. Зощенко, «Солнечный удар» И. Бунина, «Двенадцать» А. Блока. Приведите собственные примеры движения по герменевтическому кругу и его отличия от логического круга.
Литература по теме
1. Гадамер Г.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – М., 1988.
2. Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991.
3. Шпет Г.Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст. Литературно-теоретические исследования. – М., 1992.
4. Schleiermacher Friedrich Daniel Ernst. Hermeneutik. – Heidelberg, 1974.
Дополнительная литература
1. Богин Г.И. Филологическая герменевтика. – Калинин, 1982.
2. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб., 1996.
3. Мень А. Библиологический словарь: в 3 т. Т. 3. – М., 2002. См. также «Библиологический словарь» в Интернете: . ru/dict/men/article/me 1/me 1 -0312.htm.
4. Нефедов Н.Т. Литературная герменевтика // История зарубежной критики и литературоведения. – М., 1988.
5. Орнатский Ф. Учение Шлейермахера о религии. – Киев, 1884.
6. Dilthey W. Gesammelte Schriften. – Stuttgart, 1958.
7. Iser W. Der Akt des Lesens. – Munchen, 1994.
Тема 11 Структурный метод
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: структура, связь, отношение, элемент, уровень, оппозиция, вариант/инвариант, парадигматика, синтагматика, минус-прием
Свое название структурализм получил в связи с положением, которое занимает в его методологии понятие «структура». Возникновение метода связано с переходом в XX веке ряда гуманитарных наук от описательно-эмпирического к абстрактно-теоретическому уровню исследований. Структурализм, зародившись в лингвистике, вскоре освоил области литературоведения и этнографии, а затем и иные сферы культуры. Толчком к развитию структурализма в литературоведении послужил опыт русского формализма, вплотную подошедшего к изучению «специфически-структурных законов»[213] литературы и ее истории. Первые шаги литературоведческого структурализма связаны с деятельностью Пражского лингвистического кружка (1926 – начало 1950-х годов), во главе которого стояли чешские филологи В. Матезиус и Я. Мукаржовский. Членами Пражского лингвистического кружка наряду с чешскими языковедами и литературоведами стали русские ученые Н.С. Трубецкой, P.O. Якобсон и С.О. Корцевский. С Пражским лингвистическим кружком имели научные связи П.Г. Богатырев, Г.О. Винокур, Е.Д. Поливанов, Б.В. Томашевский и Ю.Н. Тынянов. Пражский лингвистический кружок издавал собственные «Труды» («Travaux du Cercle linguistique de Prague», 1929–1939) и журнал «Slovo a slovesnost», перешедший в 1953 г. в введение Чехословацкой академии наук. Период творческого расцвета кружка, заложившего основы структурализма в литературоведении, падает на 30-е годы.
Дальнейшее развитие литературоведческий структурализм получил в трудах Парижской семиотической школы (ранний Р. Барт, А.Ж. Греймас, К. Бремон, Ж. Женнет, Ц. Тодоров, Ю. Кристева и др.), а также Бельгийской школы социологии литературы (Л. Гольдман и его последователи).
Наибольшим влиянием французский структурализм обладал в период с середины 1950-х годов до начала 1970-х годов, когда сформировался структурный метод и были отточены приемы структурного анализа. В США структурализм сохранял за собой ведущее положение в литературоведении до конца 1970-х годов (Дж. Калмер, К. Гильен, Дж. Принс, Ф. Скоулз, М. Риффатер). В СССР развитие структурализма началось в 1962 г. симпозиумом по структурному изучению знаковых систем. Основными центрами структурных исследований в СССР были кафедра русской литературы Тартуского университета (Ю.М. Лотман и др.) и сектор структурной типологии языков Института славяноведения и балканистики АН СССР в Москве (В.В. Иванов, В.Н. Топоров, И.И. Ревзин и др.). В связи с этим иногда говорят о тартусско-московской школе в структурализме, сыгравшей большую роль в развитии литературоведения, хотя научные интересы ее представителей не ограничивались одним лишь литературоведением. На рубеже 1970—1980-х годов большинство западных структуралистов перешли на позиции постструктурализма и деконструктивизма.
Литературоведческий структурализм, используя достижения структурной лингвистики и этнографии, разработал сложный понятийный аппарат, приспособленный для изучения структуры – совокупности устойчивых отношений, обеспечивающей сохранение основных свойств объекта. Структурный метод оперирует терминами – отношение, элемент, уровень, оппозиция, положение, вариант, инвариант. Под отношением здесь понимается такая связь между элементами, при которой модификация одного из них влечет за собой модификацию других, а элементом считается далее неделимая в пределах избранного способа изучения часть исследуемого объекта. С понятием структуры в структурализме тесно связано понятие уровня, на котором ведется исследование объекта. Под уровнем понимается однопорядковость элементов, связанных отношением, или однопорядковость отношений в структуре элемента. Уровни выделяются на основе оппозиции – бинарного положения противопоставляемых элементов или рядов отношений в структуре объекта. Оппозиция является отражением положения – размещения элементов или рядов отношений в его структуре. Структура – основное свойство объекта – его инвариант — абстрактное обозначение одной и той же сущности, взятой в отвлечении от ее конкретных модификаций – вариантов. Модификации, если речь идет о художественном тексте, могут быть прослежены либо в плане выбора автором текста одного из синонимичных элементов (ось выбора, вертикальная ось, парадигматика), либо в плане соединения элемента с предшествующим ему и следующим за ним элементами (ось сочетания, горизонтальная ось, синтагматика).
Среди принципов, на которые опирается структурный метод, особо обозначились два – методологический примат отношений над элементами в системе и методологический примат синхронии над диахронией. Примат отношений над элементами означает не пренебрежение элементами и их «природными» свойствами, которое иногда приписывают структурализму, а признание несводимости свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов. Примат синхронии над диахронией означает не противопоставление структурного подхода историческому, а требование идти при изучении развивающихся систем не от существующих в диахронии их вариантов к инварианту, а от выявленного при отвлечении от развития системы инварианта к вариантам, возникающим в ходе ее существования.
Существует определенная последовательность процедур, используемых структурализмом. В.Ю. Борев определил ее как этапы структурного анализа и описал следующим образом:
«1. Аксиоматизация – нахождение не подлежащего дальнейшему доказательству основания для деления системы на элементы – по определенному параметру.
2. Диссоциация – обоснованное разделение по установленному в результате аксиоматизации основанию исследуемого объекта на элементы структуры.
3. Ассоциация – нахождение связи между элементами структуры.
4. Идентификация – определение по существенному признаку элементов типа отношений между ними.
5. Интеграция – рассмотрение всей совокупности элементов, составляющих структуру, не как простой суммы, а как единого целого»[214].
Литературоведческий структурализм исследовал структуру самых разнообразных литературных объектов (от структуры образа человека в произведениях отдельных писателей до структуры жанров и литературных направлений). Однако основным предметом изучения для структуралистов оставался художественный текст и поэтика литературы. Соотнося их исследования с системой литературной коммуникации, можно заметить, что текст рассматривался ими как по «образно-иконической оси»: «традиция – текст – реальность», так и по «оперативно-прагматической оси»[215]: «автор – текст – читатель», причем вычленение структурного аспекта художественного текста осуществлялось ими на некоторой знаковой системе. В литературоведческом структурализме – это вторичная семиотическая система (Р. Барт, Ю. Кристева и др.), или вторичная моделирующая система (Ю.М. Лотман и др.), надстроенная над естественным языком.
Исследования структуралистов позволили структурной поэтике и генеративной поэтике выделиться в особые области теории литературы. Методологией структурной поэтики является принцип имманентного исследования художественного текста. Находясь в рамках текстовой реальности, исследователь осуществляет анализ, который Р. Барт назвал произвольно закрытым, с целью установления принципов организации в художественное целое всех текстовых элементов произведения. Образцом такого рода работ может служить переведенная на многие языки и вошедшая в состав литературоведческой классики книга Ю.М. Лотмана «Структура художественного текста». Генеративная же поэтика исходит из представления о том, что глубинные структуры порождаются по строго определенным правилам и в идеальном виде отражают наиболее существенные свойства моделируемого объекта. Из глубинных структур можно вывести поверхностные структуры, которые точно выражают свойства моделируемого объекта. Таким образом, при помощи стандартных процедур выводится сложность и многообразие существующих и возможных литературных феноменов.
Ролан Барт (Barthes, 1915 1980), французский критик, журналист, социолог. С юности увлеченный авангардом, поклонник театра Брехта, Барт отдал дань внимания роману Бютора и Роб-Грийе, став в 50-е годы ключевой фигурой «Новой критики». Связанный с группой Тель-Кель, участники которой пропагандировали отказ от значимости слова, Барт публикует в 1953 году книгу «Нулевая степень письма». Нулевой степени письма у Барта соответствует концепция «смерти автора» и читателя. Тем самым из «системы «литература» уходит персонифицированный, личностный смысл. В 1975 году в книге «Барт о Барте» он формулирует свое кредо: «Я только вымышленный современник моего собственного бытия».
Обратившись к анализу знакового функционирования обыденной социальной жизни, Барт пишет статьи и книги о языке моды, рекламы («Система моды», 1967), о стиле историков и писателей – Мишле, Расина, Сада. Исследования связи между языком и обществом, власти современных средств массовой информации и внутренней структуры художественного произведения сделали Барта одной из ключевых фигур в структуралистике.
Литература:
Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Сост. Г.К. Косикова. – М., 1994.
Характерной чертой структурализма является стремление за сознательным манипулированием знаками, словами, образами, символами обнаружить неосознаваемые глубинные структуры, скрытые механизмы знаковых систем (ср., например, положения генеративной поэтики в книге Р. Барта «Мифологии»), В этом отношении литературоведческий структурализм сохранял преемственность по отношению к структурализму в этнологии, в частности к трудам К. Леви-Стросса. Интерес к глубинным структурам в сочетании с присущим структурализму стремлением к формации, логизации и математизации значения (Дж. Принс в своей «Грамматике историй» описал структуру сказки «Красная шапочка» с помощью алгебраических формул, занявших 12 книжных страниц) стали источником кризиса структурализма в последней трети XX века, когда рационализм и абсолютизация научных знаний вызвали сильную ответную реакцию среди самих структуралистов.
Если смотреть на структурный метод в литературоведении с точки зрения системного подхода, то следует признать его соответствие принципу структурности и применимость как по отношению ко всем компонентам системы «литература», так и к системе «литература», взятой в целом. Иное дело – пришедшие на смену структурализму постструктурализм и деконструктивизм, которые путем деструкции поверхностных структур считают возможным обнажить глубинные структуры. Сейчас трудно прогнозировать результаты деятельности литературоведов – постструктуралистов и деконструктивистов (Ж. Деррида, М. Фуко, Ю. Кристева, П. де Ман, X. Блум, Дж. Хартман, Дж. Х. Миллер, Ж. Деллез, Ф. Гваттари, Р. Жирар, Ж. Лакан, поздний Р. Барт и др.), но уже можно говорить о несовместимости принципов постструктурализма и деконструктивизма с системным подходом к изучению литературы.
Для молодых ученых следование им представляет большую опасность. На это указал М.Л. Гаспаров: «Такая парафилология принимает вид игры в прочтение одного текста на фоне другого, по возможности очень непохожего, и называется постструктурализмом или деконструктивизмом. Здесь как бы возводится в принцип то чтение классиков «от нуля», без эрудиции, отталкиваясь от последней прочитанной книги, с которой когда-то в детстве начинал каждый. Из этого возникают красивые (хотя обычно неудобочитаемые) творческие фантазии, очень много говорящие о душевном складе сегодняшней культуры, но очень мало – о рассматриваемом тексте и авторе»[216].
Современные философы часто именуют системный подход системно-структурным, указывая на его генетическую связь со структурным подходом. В литературоведении эта связь часто была двусторонней, потому что многие структуралисты исходят в своих построениях из системных представлений о литературе.
Близость системного и структурного подходов в литературоведении легко показать на примере введенного в теорию литературы Ю.М. Лотманом понятия минус-прием[217]. Ученый неоднократно возвращался в своих трудах к многочисленным случаям применения минус-приема в литературе, стремясь выяснить его природу и дать представление о его функциях в литературном произведении и литературном процессе.
Лотман Юрий Михайлович
(1922–1993). Исследования в области семиотики культуры и литературы Ю.М. Лотман сочетал с изучением русской и мировой литературы, с работой комментатора и деятельностью координатора тартуской группы московско-тартуской школы, в которой он был одной из ключевых фигур.
Фундаментальные труды Ю.М. Лотмана «Структура художественного текста» и «Анализ поэтического текста», переведенные на ряд иностранных языков, явились весомым вкладом в методологию науки о литературе. Рассматривая литературу как вторичную моделирующую систему, надстроенную над естественным языком, Ю.М. Лотман трансформировал применительно к литературе структурный метод, который был апробирован такими науками, как лингвистика и биология. Эти две книги вошли в состав литературоведческой классики еще при жизни ученого и стали своего рода заочной школой системно-структурного метода для студентов, аспирантов и преподавателей, специализировавшихся в области литературоведения.
Обладая острым чувством новизны, Лотман первым в отечественном литературоведении обратил внимание на общеметодологический смысл трудов И. Пригожина по теории систем («Культура и взрыв»).
Такое влияние трудов Ю.М. Лотмана было вполне закономерным, потому что он не просто перенес из других наук уже использованный ими понятийный аппарат и процедуры исследования структуры, но, представив литературу в качестве системного объекта, как бы заново открыл ее для литературоведения.
Литература:
Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970.
Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. – Л., 1972.
Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. Анализ поэтического текста. Статьи. Исследования. Заметки / Вступ. ст. М.Л. Гаспарова. – СПб., 1996.
Одно из высказываний Ю.М. Лотмана о минус-приеме содержится в книге «Анализ поэтического текста. Структура стиха». Оно велико по объему, а потому ниже будет приведена лишь его часть, достаточная для подтверждения мысли о близости системного подхода к структурному методу: «Структурный анализ исходит из того, что художественный прием – не материальный элемент текста, а отношение. Существует принципиальное различие между отсутствием рифмы в стихе, еще не подразумевающем возможности ее существования (например, античная поэзия, русский былинный стих и т. п.) или уже от нее отказавшемся, так что отсутствие рифмы входит в читательское ожидание, в эстетическую норму этого вида искусства (например, современный vers libre), с одной стороны, и в стихе, включающем рифму в число характернейших признаков поэтического текста, – с другой. В первом случае отсутствие рифмы не является художественно значимым элементом, во-втором – отсутствие рифмы есть присутствие не-рифмы, минус-рифма»[218].
Прежде всего заметим, что Ю.М. Лотман был знаком с исследованиями по общей теории систем и по теории литературной коммуникации[219]. Поэтому нас не должно удивлять, что для него прием – «не материальный элемент текста, а отношение». Исследователь не поясняет свои представления о составе системы литературной коммуникации («автор – текст – читатель»), но говорит о «читательском ожидании», что указывает на включение элемента «читатель» в систему, способную порождать литературные приемы. Далее Ю.М. Лотман рассматривает развитие системы «автор – текст – читатель» на примере истории рифмованного стиха, в ходе которого становится возможным создание и использование минус-приемов.
Подытоживая наблюдения над рассуждением Ю.М. Лотмана о минус-приеме, можно сказать, что исследователь определяет отношение, обусловливающее генезис и функционирование минус-приема, но не описывает системы, в которой существуют эти отношения, как бы оставляя решение этой задачи системному подходу. Между тем минус-прием не может существовать в условиях одной только прямой связи, идущей от автора через текст к читателю, т. е. в системе литературной коммуникации. Ю.М. Лотман отметил существование между элементами «автор», «текст» и «читатель» обратной связи, когда несколькими строками ниже писал, что «минус-приемы» – это «система последовательных и сознательных, читательски ощутимых отказов»[220]. Тем самым через анализ отношений между элементами, «участвующими» в создании минус-приема, Ю.М. Лотман непосредственно подошел к описанию системы «литература», элементы которой находятся в прямой и обратной связи друг с другом («автор – произведение – читатель»).
По мнению Ю.М. Лотмана, «…внетекстовая часть художественной структуры составляет вполне реальный… компонент художественного целого»[221]. Используя терминологию данной книги, можно сказать, что «художественное целое» – это произведение в системе «литература». Включенное в художественную коммуникативную цепь, произведение предстает в полноте его «внетекстовых связей». Упоминая их, автор «Анализа поэтического текста» выделяет исторические, социальные и «индивидуально-личные» связи. Последние почти не поддаются «анализу средствами современного литературоведения».
Ю.М. Лотман отмечает, что «внетекстовые связи» следует изучать не по отдельности, а «в их структурной совокупности». Феномен, который здесь обозначен как «структурная совокупность» «внетекстовых связей», описан в этой книге как система «литература».
Внетекстовые связи Ю.М. Лотман рассматривает лишь частично – «в их отношении к тексту». Автор сознательно вводит это ограничение, поскольку его главной целью является рассмотрение структуры поэтического текста. При структуралистском подходе объектом анализа является срединный элемент системы «литература» – текст произведения «от первого слова до последнего»[222]. Лишь иногда затрагиваются ближайшие звенья коммуникативной художественной цепи. При строгом структуралистском подходе прямые и обратные связи, действующие по всей цепи и влияющие на всю систему, учитываются лишь частично.
Во второй части книги, посвященной анализу поэтического текста, Ю.М. Лотман дает серию примеров. Как правило, автор начинает разбор с упоминания о «внетекстовых связях». И при структуралистском анализе это естественная отправная точка. Пунктирно намечаются история создания, жанр и традиция, к которым восходит данный стихотворный текст.
Второй шаг связан с выделением наиболее важных и активных уровней структуры текста. Следуя терминологической традиции формалистов, Ю.М. Лотман называет их «доминантными». Само это выделение происходит интуитивно и на самом деле предполагает учет данных всей художественной коммуникативной цепи. Доминантный уровень объясняет семантику единиц других уровней. Так, например, анализируя стихотворение К.Н. Батюшкова «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы…», в котором русский поэт воссоздает образ древнего итальянского города, часть развалин которого находится под водой, Ю.М. Лотман отмечает, что доминантными, наиболее активно работающими уровнями структуры здесь являются низшие – фонологический и метрический. Исследуя звуковой состав и ритмическую структуру стихотворения, Ю.М. Лотман прослеживает связи этих уровней с семантикой «словаря», лексики этого текста.
Структурный анализ ставит своей основной задачей исследовать окказиональную синонимию/антонимию единиц разных уровней. По мнению Ю.М. Лотмана, поэтическая структура уникальна тем, что способна превращать «…заведомо несинонимические и неэквивалентные единицы» в «синонимы и адекваты»[223]. Так, анализ стихотворения К.Н. Батюшкова выявил «сближение» и – одновременно – расхождение звукового, лексического и ритмического уровней текста.
Ю.М. Лотман делает главными «героями» анализа структурные принципы – «возвращение», «повтор», «антитезу»[224]. Специальным приемом, помогающим уловить вариативность[225] любого текста, является составление его «словаря». Как правило, он складывается из «микрословарей» единиц разных уровней[226].
Анализируя стихотворение К.Н. Батюшкова, Ю.М. Лотман составляет «словарь» на звуковом (фонологическом) уровне. При этом обнаруживаются значимые повторы. Схема распределения ударных гласных в этом тексте выглядит следующим образом:
Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы При появлении Аврориных лучей, Но не отдаст тебе багряная денница Сияния протекших дней, Не возвратит убежищей прохлады, Где нежились рои красот, И никогда твои порфирны колоннады Со дна не встанут синих вод.а__________а__________и
е__________о__________е
а__________а__________и
а__________е__________е
и__________е__________а
е__________и__________о
а__________и__________а
а__________а__________и__________о
Видно, что «возвращаются», «повторяются» и вступают в конфликт «четыре фонемы, которые легко обобщаются в две группы а/о и е/и». В дальнейшем этот анализ дополняется наблюдениями над «консонантными противопоставлениями», а также последовательным описанием ритмических структур. В результате Ю.М. Лотман приходит к выводу, что семантика пробуждения жизни закрепляется за фонемой «а», значение же гробницы, смерти – за «и»[227]. Эти соотношения единиц разных уровней имеют значение лишь в контексте данного стихотворного текста, где они выступают как окказиональные синонимы-адекваты.
Ю.М. Лотман подчеркивает, что в принципе между различными уровнями текста существует «двусторонняя» зависимость. В стихотворении К.Н. Батюшкова «семантические единицы» интерпретируют значения низших уровней. Однако существует и «обратная» связь: соотнесенность фонем порождает семантические сближения и антитезы на высших уровнях. При этом «фонологическая структура» интерпретирует семантическую. Тем самым Ю.М. Лотман отмечает действие прямых и обратных связей в структуре произведения. Представляется, что эта закономерность действует во всей художественной коммуникативной цепи, обеспечивая ее системный характер.
Заключая анализ стихотворения К.Н. Батюшкова, Ю.М. Лотман делает вывод, что «вся структура текста создает трагический образ разрушения красоты и невозможности ее воскрешения. Однако эта, выраженная всем строем стихотворения, идея вступает в противоречие с возникающим из того же текста ощущением вечности и неистребимости красоты. Это ощущение возникает из богатства звуковой организации и достигается исключительно фонологическими средствами». Очевидно, что для ученого интуиция, «гармония» все же первичны. И только на этом фоне высшая математика анализа обретает глубокий смысл.
Развивая принципы формального метода, структурализм делает следующий шаг: от анализа «искусства как приема» – к выявлению структурных принципов, где материал и форма неразделимы. Заключая этот раздел, отметим, что при всей близости понятий «система» и «структура», структурный метод и системный подход не синонимы.
Вопросы к теме
1. Определите понятия «отношения», «уровень», «оппозиция», «синтагма», «парадигма» в книге Ю.М. Лотмана «Структура художественного текста».
2. Что означают в работах структуралистов термины «парадигматика» и «синтагматика» и чем обусловлена потребность в понятиях парадигматики и синтагматики?
3. Прочитайте стихотворение А.А. Ахматовой и покажите на тексте принципы структурного анализа: выделите уровни, систему оппозиций, композиционный круг. Докажите, что композиционный круг неполон.
Ты письмо мое, милый, не комкай, До конца его, друг, прочти. Надоело мне быть незнакомкой, Быть чужой на твоем пути. Не гляди так, не хмурься гневно, Я любимая, я твоя. Не пастушка, не королевна И уже не монашенка я. В этом сером, будничном платье, На стоптанных каблуках… Но, как прежде, жгуче объятье, Тот же страх в огромных глазах. Ты письмо мое, милый, не комкай, Не плачь о заветной лжи, Ты его в твоей бедной котомке На самое дно положи.4. Определите отношения между понятиями «парадигма» и «парадигматическая ось», «синтагма» и «синтагматическая ось» в стихотворении Ахматовой.
5. Проверьте свой вывод, сопоставив синонимичные понятию «парадигматическая ось» понятия «ось выбора» и «вертикальная ось» с понятием «парадигматика», а синонимичные понятию «синтагматическая ось» понятия «ось сочетания» и «горизонтальная ось» с понятием «синтагматика».
Литература по теме
1. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970.
2. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. – Л., 1972.
3. Успенский Б.А. Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология композиционной формы // Семиотика искусства. – М., 1995.
4. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Сост. Г.К. Косикова. – М., 1994.
Тема 12 Рецептивная эстетика. Эстетика воздействия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рецепция, воздействие, рецептивная эстетика, эстетика воздействия, диалог, текст, произведение, чтение, читатель, реципиент, адресат, эксплицитный, имплицитный читатель, горизонт ожидания, точки неопределенности, незаполненная позиция
«Рецептивная эстетика» (Rezeptionsasthetik) и «эстетика воздействия» (Wirkimgsasthetik) – эстетика диалога между текстом и читателем, обусловившая смену парадигмы в теории литературы второй половины 60-х годов XX века. В основе – взаимодействие условного, вымышленного текста с реальным читателем[228]. В. Изер писал, что лишь прочтение литературного произведения приводит к «ключевому взаимодействию между его структурой и получателем»[229].
С точки зрения системного подхода к литературе рецептивная эстетика подключает подсистему «произведение читатель», фокусируя внимание на механизме работы прямых и обратных связей. Тем самым утрачивает значимость подсистема «автор произведение». История возникновения произведения, его генезис выпадают из поля зрения.
Взаимоотношение «автор традиция», столь значимое для культурно-исторического подхода и герменевтики, в определенной мере утрачивает значение. Рецептивная эстетика отказывается и от пристального изучения соотношения «автор – реальность», оставляя эту проблематику для социологического метода.
Анализ подсистемы «произведение читатель» находится на пересечении герменевтики, формального, социологического и психологического подходов. Симпатии и антипатии читателей – это читательские психологические установки, выведенные вовне и явленные в серии отрицательных и положительных реакций на произведение литературы.
Разрабатывая подсистему «произведение читатель», В. Изер опирается на концепции Ю.М. Лотмана и теорию систем немецкого философа и социолога Н. Лумана (Luhmann Niklas, 1927–1998), автора монографии «Социальные системы»[230]. У Ю.М. Лотмана В. Изер выделяет мысль о произведении как «живом организме», связанном с читателем механизмом обратной связи. Следуя Луману, Изер указывает на «саморегуляцию систем» как основу взаимодействия автора и читателя (110). Формулируя этот пункт, В. Изер вплотную приближается к системно-синергетическому подходу в гуманитарном знании.
Прямая связь в подсистеме «произведение читатель» порождает «эстетику воздействия» (Wirkungsasthetik). В этом случае речь идет о воздействии текста на читателя. Основные положения «эстетики воздействия» разработал В. Изер. Если акцент ставится на обратной связи, то запускаются механизмы «рецептивной эстетики». Ее основные положения были разработаны Х.Р. Яуссом.
«Рецептивная эстетика» и «эстетика воздействия» противостоят имманентной теории литературы. В Германии на рубеже 60—70-х годов XX века сложилась «констанцская школа» (Konstanzer Schule) рецептивной эстетики. С немецкой традицией связана и американская рецептивная критика, изучающая реакции читателя (receptive criticism, reader-response school)[231]. Констанцская школа включала в себя группу теоретиков литературы, историков и философов, объединенных вокруг университета в городе Констанц (Германия). Междисциплинарность – отличительная черта школы. Среди ее представителей литературоведы Х.Р. Яусс (Jauß, H.R., 1921–1977) и В. Изер (Iser, Wolfgang, 1926–2007), философ X. Блюменберг (Blumenberg, Hans, 1920–1996) и др. В рамках школы была подготовлена серия публикаций «Поэтика и герменевтика» (Poetik und Hermeneutik), получившая международную известность.
Идеи рецептивной эстетики возникают в англо-американском и немецком литературоведении в конце 60-х годов XX века. Рецептивная эстетика отталкивается от царивших тогда «эпохальных систем объяснения» литературы» (В. Изер). Представители «констанцской школы» отказывались видеть в произведении словесного искусства «документированное свидетельство» «духа эпохи», отражение социальных условий или выражение авторского невроза[232].
Рецептивная эстетика складывается в притяжении и отталкивании от ОПОЯЗа, Пражского лингвистического кружка, англо-американской «Новой критики» и структурализма. Х.Р. Яусс и В. Изер дистанцируются от понимания произведения как «суммы приемов», от техники «пристального чтения» и имманентного подхода в целом.
Опорой рецептивной эстетики служат философские концепции Э. Гуссерля, идеи феноменологического литературоведения Р. Ингардена, ключевые положения герменевтики. Большое значение для рецептивной эстетики имели философские идеи Г.Г. Гадамера, перенесенные на литературу[233].
«Рецептивная эстетика» нацелена в первую очередь на изучение «литературного опыта» (Erfahrung) читателя. При этом «рецепция» произведения, его «воздействие» на публику соотносятся с литературными «ожиданиями» читателей, с их «предпониманием» жанра, формы и тематики произведения на фоне предшествующей литературной традиции. Большое значение имеет и восходящее к ОПОЯЗу восприятие поэтического языка на фоне «бытового языка» данной эпохи. Очевидно, что с герменевтикой Яусса связывают категории «предпонимания» и «ожидания». К теориям русских формалистов восходит противопоставление поэтического и бытового языка. При этом художественные свойства текста, его «литературность» (P.O. Якобсон) изучаются не прямо, а опосредованно. Их реконструируют исходя из воздействия произведения на читателей. Ставится вопрос об изучении «социологии читательского вкуса».
Труды по эстетике Р. Ингардена являются мостиком между имманентным изучением литературы и рецептивной эстетикой. Воспринимая произведение, читатель «достраивает» его. Такое смысловое «достраивание» Р. Ингарден называет «конкретизацией». Конкретизация представляет собой «…вносимое читателем и не противоречащее произведению дополнение к нему». Обусловленной структурой произведения читательское «дополнение» «…находится уже за пределами произведения…»[234].
Р. Ингардену принадлежит мысль о «множестве… обликов» одного и того же произведения, которое оно «…приобретает… при многократном его чтении» одним и тем же читателем или читателями разных эпох. Множество прочтений объясняется не только социологическими причинами, «…разнообразием способностей и вкусов читателей», а также условий, при которых совершается чтение. Потенциальное множество конкретизаций восходит к «…определенной специфике самого произведения художественной литературы»[235].
Р. Ингарден полагает, что содержанию и форме присущи неустойчивость, неполная названность (поименованность), смысловая неопределенность. В этой неустойчивости, «…в отсутствие окончательной завершенности и неподвижности…», коренится «очарование» литературы[236]. Мысль о «местах неполной определенности» в тексте станет одной из центральных идей рецептивной эстетики.
Главным героем истории литературы становится читатель, адресат, публика как «образующая историю энергия». Х.Р. Яусс характеризует коммуникативный характер литературы как «…диалогическое и в то же время развивающееся отношение между произведением, публикой и новым произведением, которое может быть постигнуто как на уровне отношений между сообщением и воспринимающим, так и на уровне отношений между вопросом и ответом, проблемой и решением»[237] (пер. Ю.И. Архипова).
Ханс Роберт Яусс (H.R. Jaufi, 1921–1997) – немецкий историк и теоретик литературы, специалист по творчеству М. Пруста, один из создателей «рецептивной эстетики» в Германии. В 1966–1987 годах – профессор университета города Констанц, один из создателей «констанцской школы». В конце 60-х годов ХХ-го века в констанцком университете были осуществлены масштабные реформы в области гуманитарного знания, открывшие новые возможности и для литературоведения. Х.Р. Яусс стремился к утверждению новой парадигмы гуманитарного знания, основанной «интеракции» произведения и читателя. В работе, посвященной рецепции средневековой литературы (Alteritat und Modernitat der mittelal-terischen Literatur, 1977) Яусс выдвигает тезис о герменевтической ценности «инаковости» (Alteritat) в познании. В конце 80-х годов XX века Яусс вступает в полемику с представителями «Нового историцизма» (New Historicism) и деконструктивизма, отстаивая диалогический герменевтический подход к гуманитарному знанию. Динамичный, становящийся в диалоге текста и читателя смысл – ключевая категория литературы в понимании Яусса.
Литература:
Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения / Пер. с нем. и предисл. И. Зоркой // Новое литературное обозрение. – М., 1995. – № 12. С. 34–84.
Яусс Х.Р. К проблеме диалогического понимания // Вопросы философии. – 1994. – № 12. С. 97–106.
Яусс Х.Р. Письмо Полю де Ману// Новое литературное обозрение. – 1997. – № 23. С. 24–30.
Jaufi H.R. Literaturgeschichte als Provokation. – F. a. М., 1970.
Jaufi H.R. Alteritat und Modernitat der mittelalterischen Literatur.– Miinchen, 1977.
Jaufi H.R. Die Theorie der Rezeption. – Konstanz, 1987.
Jaufi H.R. Wege des Verste-hens. – Miinchen, 1994.
Программным текстом рецептивной школы стала вступительная лекция Х.Р. Яусса «Литература как провокация». Он прочитал ее в университете г. Констанц в 1967 г. Датировка лекции весьма примечательна. Накануне студенческой революции в Европе 1968 г. Х.Р. Яусс возражал против сведения теории литературы к «производительной и изобразительной эстетике», т. е. к эстетике творца. Творец – высший авторитет, носитель власти над созданным им миром. Доведенный до предела, такой подход игнорирует читателя как адресата, «…которому предназначено в первую очередь литературное произведение»[238]. Такой подход отрицал и привычное амплуа историка (теоретика) литературы, утратившего монопольное право на единственно верное истолкование «смысла» произведения. Категория «смысл» обрела в работах Яусса и Изера динамичность, неустойчивость, текучесть. «Констанцскую школу» интересовало становление смысла в диалоге произведения и публики.
Х.Р. Яусс сформулировал новое понимание литературы в ряде основных тезисов:
– значение (смысл) произведения не является постоянной, раз и навсегда данной, статичной величиной;
– смысл произведения меняется в зависимости от рецепции читателей;
– рецепция возникает на основе диалектических отношений между произведением и реципиентом на фоне исторического контекста;
– рецепция литературного текста читателями осуществляется на основе «референциальной рамки», регулирующей акт чтения. Референциальная рамка определяется структурой «читательских ожиданий» (Erwartungsst.rukt.ur). Ожидания читателей – это своего рода коллективное «предпонимание» литературы. Референциальная рамка – это «горизонт ожидания» читателя, формирующийся на основе жанровых норм эпохи, соотношения вымысла и действительности, текста и контекста в сознании читателей;
– процесс рецепции представляет собой непрерывный диалог «горизонта ожидания читателя» с сигналами текста[239];
– благодаря возможности «эстетической дистанции» (эффект «остранения») произведение высокой литературы может вызвать «изменение горизонта ожидания читателей»;
– «первичная рецепция» (рецепция читателей-современников) отличается от «вторичной рецепции» позднейших читателей[240]. В отличие от «имплицитного читателя» В. Изера Х.Р. Яусс делает акцент на эксплицитном, «историческом» читателе.
Х.Р. Яусс разработал основные идеи «эстетики воздействия». В трудах В. Изера получила развитие рецептивная эстетика.
Центральное положение рецептивной эстетики – рождение нового смысла в акте эстетического восприятия текста читателями. В. Изер опирается на идеи исследователя социальных систем И. Лумана, понимавшего смысл как «…возможность определять себя через указания на иные элементы системы»[241]. «Иной элемент системы» литература – это публика, читатель. По утверждению В. Изера, смысл – это всегда «воздействие» (Wirkung)[242], впервые возникающее «в ходе чтения» (erst, im Ablauf der Lekture, 241). Литературные тексты инициируют самовозникновение смысла (Sinnvollzuge). Поэтому текст не равен авторскому созданию как конечному продукту. Литературные тексты «могут производить нечто, чем сами они не являются» (50).
Развивая идеи Х.Р. Яусса, В. Изер анализирует категории «чтение» и «читатель». Он выделяет «внутреннего», «имплицитного» читателя, укорененного в самом тексте, и читателя эксплицитного, реально – исторического.
Имплицитный читатель – это теоретический конструкт, «трансцедентальная модель», при помощи которой может быть описано воздействие текста на читателя. В. Изер имеет в виду «роль читателя», закрепленную в апеллятивной структуре текста (66).
Центральный момент рецептивной эстетики состоит в понимании текста как сети апеллятивных структур, обращенных к реципиенту. Текст возникает как результат взаимодействия, как «интеракция» с читателем. В читательском восприятии происходит «конкретизация» текста. Апеллятивная структура произведения содержит открытый смысловой горизонт, потенциал «возможных актуализаций» в процессе чтения.
Рецептивная эстетика исходит из фундаментальной асимметрии текста и читателя. Развивая идеи Яусса, В. Изер выдвигает следующие понятия: структура «акта чтения», «репертуар текста», «горизонт ожидания», «места неопределенности» (Unbestimmtheitsstellen), «незаполненные позиции» («пробелы, Leerstellen).
Вольфганг Изер (Iser, Wolfgang, 1926–2007) – немецкий англист и теоретик литературы, одна из ключевых фигур «констанцской школы». Анализируя апеллятивную структуру текста, Изер вслед за Р. Ингарде-ном считал наличие смысловых «неопределенностей» условием воздействия текста на читателя. Эти идеи получили развитие в монографии «Имплицитный читатель» (Der implizite Leser, 1972). На материале английского романа XVII–XX веков автор исследовал роль читателя в тексте. «Имплицитный читатель» – аналог концепированного (имплицитного) автора, о котором писали американский литературовед У. Бут (Booth, Wayne С.) и Б.О. Корман. «Имплицитный читатель» – теоретический конструкт, связанный с читательской перспективой в тексте. В монографии «Акт чтения» (Der Akt des Lesens, 1976) Изер продолжил изучение коммуникативного взаимодействия между текстом и читателем. В дальнейшем В. Изер сосредоточил внимание на проблемах герменевтики и литературной антропологии. Обосновывая «литературную антропологию, В. Изер сосредоточил внимание на художественном вымысле (К антропологии художественной литературы).
Литература:
Вольфганг Изер в Москве: Материалы круглого стола и ответ В. Изера С. Фишу // Вестник Московского университета. – Серия 9: Филология. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – № 5.
Изер В. Рецептивная эстетика. Герменевтика и переводимость // Академические тетради. Вып. 6. – М., 1999.
Изер В. Изменение функций литературы. Процесс чтения: феноменологический подход // Современная литературная теория: антология. – М., 2004.
Деррида Ж., Хартман Д., Изер В. Деконструкция: триалог в Иерусалиме // http://www. gumer.info/bogoslov_Buks/ Philos/D err/dekon.php
Изер Вольфганг. К антропологии художественной литературы // / research/2009/02/27/izer.html Iser W. Die Appellstruktur der Texte. Unbestimmtheit als Wirkungsbedingung literarischer Prosa. – Konstanz, 1970.
Iser W. Der implizite Leser. Kommunikationsformen des Romans von Bunyan bis Beckett. – Munchen, 1972.
Iser W. Der Akt des Lesens. Theorie asthetischer Wirkung. 4 Autlage. – Munchen, 1994.
Раскрытие смыслового содержания текста при новом прочтении оказывается возможным, так как произведение, представляющее собой «обращение» (Appell) к читателю, содержит многочисленные точки неопределенности, которые читатель актуализует в прочтении[243]. Точки неопределенности связаны с незаполненными, пустыми, свободными местами в тексте (Leerstelle). В такой точке читатель может включаться в произведение, комбинируя различные «сегменты текста» и «перспективы повествования». У читателя возникают гипотезы о взаимоотношениях различных сегментов текста. «Незаполненные позиции», «пробелы» направляют активность читательского восприятия[244].
Эксплицитный читатель воспринимает произведение из своего исторического и социокультурного горизонта. Прочтение произведения представляет собой его «индивидуальную конкретизацию». При этом читатель реагирует на определенный «репертуар текста» (Textrepertoire). «Репертуар текста» включает в себя «внетекстовые нормы», отобранные автором из экстратекстовой реальности и включенные в произведение, а также повторяющиеся элементы предшествующих жанровых традиций. Этот компонент М.М. Бахтин обозначал термином «жанровая память». За счет сочетания внетекстовых норм и повторяющихся элементов предшествующей литературной традиции возникают «степени определенности» (Best.immheitsgrade) данного текста (134). В тексте намечаются контуры «горизонта ожидания» читателя, контуры диалога между читателем и текстом. От читателя зависит, как он будет реагировать на репертуар текста, заполняя «незаполненные позиции» в тексте в соответствии со своим «горизонтом ожидания».
«Незаполненная позиция», «пробел» – «место неопределенности» в тексте. Потенциально именно здесь читатель мог бы подключиться к пониманию текста. Но именно здесь происходит «негация», смысловое отрицание (332). Читатель не может «войти» в текст. «Незаполненные позиции» вызывают его повышенную активность. Включается сила читательского воображения. В. Изер называет «незаполненные позиции» «элементарными матрицами» взаимодействия текста и читателя (301). В этих точках происходит «динамизация» текстовой структуры, она приобретает «открытость» (Offenheit., 315). Если текст вызывает у читателя некие ожидания, которые в дальнейшем снимаются, то это может быть результатом воздействия «незаполненных позиций». В этих точках текст «отрицает» энергию воображения читателя (340). «Негация» связана с возникновением особой «алеаторики» смысла. Алеаторика подразумевает наличие свободных, открытых, динамичных смысловых позиций, которые не предопределены, не даны заранее (355). В тексте возникает напряжение между сказанным и недосказанным, несформулированным (353).
Смысловая алеаторика сочетает комбинаторные возможности текстовых элементов с «запретами» на определенные сочетания. Однако эти «запреты» редко прописаны в тексте. В текст их привносит читатель (355).
Попытаемся прочитать литературный текст с позиций рецептивной эстетики, рассмотрев для этого алеаторику смысла. Рассмотрим для этого новеллу пражского прозаика Г. Граба «Шофер такси» (Der Taxichauffeur, 1946) [245].
Г. Граб (Н. Grab, 1903–1949) – талантливый прозаик младшего поколения пражских немецкоязычных писателей, автор психологической прозы, в которой различимы традиции М. Пруста и Ф. Кафки.
В «кафкианской» новелле Граба «Шофер такси» возникают «незаполненные позиции», смысловые «пробелы». Написанная от первого лица, новелла содержит историю одной ошибки. Вернувшись из деловой поездки, повествователь просит шофера такси внести в комнату чемодан. Вместо того чтобы уйти, шофер такси, выполнив поручение, принимается разглядывать книжные полки. Погрузившись в чтение, шофер проводит в квартире всю ночь. Два дня спустя он приходит снова. С этого момента жизнь повествователя полностью переворачивается.
Шофер такси приходит снова и снова, достает с полки книги. Иногда он наигрывает на рояле «печальный мотив», причем играет, не притрагиваясь к клавишам. Шофер такси является и тогда, когда повествователь занят профессиональной беседой. Он отравляет ему часы работы и отдыха. В разное время и в разных частях комнаты гость выглядит по-разному: «…перед книжными полками стоял полный рыжеватый мужчина среднего возраста…», за письменным столом с включенной настольной лампой находился стройный молодой человек, одетый в потертую ливрею, которая сидела на нем «как влитая»[246]. Словно сроднившись со странным гостем, повествователь пытается однажды «…подойти к нему и погладить по голове». Но вдруг замечает, что «…черные вьющиеся волосы» шофера такси «…заплетены в отдельно стоящие плотные пучки, между которыми гнездятся микроскопические черви» (168). Рассказ завершается грустным вздохом повествователя: «Что я могу поделать? Как могло все это случиться… Не так уж тяжело было внести этот чемодан самому».
Повествователь подчеркнуто избегает каких-либо пояснений. Когда один из друзей посоветовал герою обратиться в полицию, чтобы подать жалобу на шофера такси, повествователь решительно отказался… Сама идея показалась ему весьма наивной: «Можно ли такое вообразить?! Я должен позвонить в полицию и сказать: «Послушайте, господин комиссар! У меня в квартире шофер такси» (168). В духе Кафки повествователь начинает прокручивать воображаемую ситуацию: «Будь я комиссаром полиции, я бы только посмеялся над таким вызовом. Кроме того, совершенно неясно – сведется ли все это только к смеху. Возможно, полиция станет подозревать меня – или даже преследовать. Так пусть уж все остается как есть» (168).
Современники Г. Граба остро чувствовали «незаполненную позицию» (Leerstelle), «пробел» в тексте. Шофер такси поднялся наверх, оставил багаж в прихожей (167). Рассказчик расплатился, и тут произошло нечто странное» (das Seltsame). «Репертуар текста» Г. Граба построен так, что читатель сам должен заполнить возникший пробел, разрешить неопределенность. В тексте заложена «негация», значимое умолчание, вызывающие активную работу воображения читателей.
Читатели-современники легко угадывали скрытое намерение автора. Они ощущали, что шофер такси из новеллы Г. Граба более всего напоминает чародея Чипполу из знаменитой антифашистской новеллы Т. Манна «Марио и волшебник» (Mario und der Zauberer, 1930). Т. Адорно артикулировал скрытый смысл текста Граба, назвав шофера такси символом национал-социалистического террора[247]. Смысл текста получил «конкретизацию» в диалоге с читателем.
Итак, представители «констанцской школы» полагали, что «смысл» произведения возникает в процессе его рецепции. Неисчерпаемость смысла в понимании Изера противостоит пост-структуралистской концепции принципиальной «неопределимости» смысла[248].
Вопросы к теме
1. Охарактеризуйте моменты притяжения и отталкивания между «рецептивной эстетикой» и «формальным методом» (герменевтикой, структурным подходом).
2. В чем заключаются моменты сходства и различия между «рецептивной эстетикой» и «эстетикой воздействия»?
3. Проанализируйте «свободные позиции» (смысловые пробелы) в тексте новеллы Ф. Кафки «Блюмфельд, пожилой холостяк» (Blumfeld, ein alterer Junggeselle, 1915).
Литература по теме:
1. Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения / Пер. с нем. и предисл. Н. Зоркой //Новое литературное обозрение. – М., 1995. – № 12. С. 34–84.
2. Яусс Х.Р. К проблеме диалогического понимания // Вопросы философии. – 1994. – № 12. С. 97—106.
3. Изер Вольфганг в Москве: материалы круглого стола и ответ
В. Изера С. Фишу // Вестник Московского университета. – Серия 9: Филология. – М.: Изд-во Моск. унив., 1999. – № 5.
4. Деррида Ж., Хартман Д., Изер В. Деконструкция: триалог в Иерусалиме // / Derr/dekon.php.
5. Изер Вольфганг. К антропологии художественной литературы // .
Тема 13 Категория «Смысл» в контексте системно-синергетического подхода к изучению литературы
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: синергетика, комплексный подход, равновесная структура, диссипативная система, метасистема, смысл, само-порождение смысла, системно-синергетический подход, словесная художественная коммуникация, текст и контекст, точка зрения, литературное (художественное) произведение, концепт, высказывание, синергетический скачок, эмерджентное свойство, саморегуляция, порядок, хаос
Системно-синергетический подход в литературе возникает на основе сочетания системного подхода к литературе и положений синергетики, спроецированных на гуманитарное знание. В результате складывается комплексный подход к словесности, предполагающий исследование ее проблем с привлечением аналитических средств и методологической базы других наук, включая естественные, математику, кибернетику
В 1960—1980-е годы, когда расширение междисциплинарных связей стало необходимым условием дальнейшего развития гуманитарного знания, получило распространение и комплексное изучение литературы. Отсутствие частной теории систем в литературоведении отчасти восполняется системным подходом, позволяющим интегрировать возможности литературоведческих методов с методами наук, далеких от филологии.
Эпоха, в которую мы живем, знаменует быстрое развитие естественных наук и укоренение идеи синтеза разных отраслей знаний, разных видов искусства, науки и искусства. Теория систем проникает почти одновременно в точные науки и в социологию. При поиске новых подходов полезным оказывается опыт разных ученых, соединение исследования крупномасштабных явлений и частных случаев, описание макроскопического и микроскопического уровней в построении моделей. Таким ученым стал И. Пригожин.
Илья Пригожин (Вишман)
(1917–2003) родился в Москве в семье инженера-химика. Раннее увлечение музыкой сформировалось под влиянием матери-пианистки («Я научился читать ноты раньше, чем слова»). Переезд семьи в 1921 году в Литву, а затем в Германию и Бельгию породили, по словам Пригожина, «острую восприимчивость к переменам».
Колебания в выборе карьеры концертирующего пианиста, профессионального философа, биолога и математика разрешились в пользу термодинамики. В 1943 г. бакалавр естественных наук защищает диссертацию о значении времени в термодинамических системах. Пригожина особенно интересуют неравновесные открытые системы, в которых материя либо энергия обмениваются реакцией с внешней средой. Пригожину принадлежит теория диссипативных структур, согласно которой неравновесность может служить источником организации и порядка. В 1977 г. Пригожин получил Нобелевскую премию за труды по термодинамике и «особенно за теорию диссипативных структур». В работах Пригожина осуществляется преодоление разрыва между математическими, биологическими и социальными сферами исследований, наукой и искусством. Его называют «поэтом термодинамики».
Пригожин был членом Российской, Бельгийской, Нью-Йоркской, Румынской и др. академий, почетным профессором многих университетов, в т. ч. и Московского. Диапазон его интересов – термодинамика, история, археология, философия, литература, музыка.
Литература:
Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций. – М., 1973.
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. – М., 1986.
Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. – М., 2003.
Пригожин И. От существующего к возникающему. Время и сложность в физических науках. – М., 1985.
Пригожин И., Стенгерс И. Квант, время, хаос. – М., 2003.
По характеру дарования бельгийский ученый, нобелевский лауреат И. Пригожин близок к великим натурфилософам прошлого. «Он один из создателей новой науки – физики неравновесных процессов, связанной с такими понятиями, как самоорганизация и диссипативные, неустойчивые структуры. Возрождая целостное видение мира и человека в нем как взаимосвязанных процессов становления, И. Пригожин выступает носителем общемировой и прежде всего европейской культуры, уникальным образом сочетая в своем творчестве верность научным традициям и новаторство»[249]. Пересмотр формулировок законов физики производится ученым благодаря новому понятию хаоса, более продуктивного, чем порядок. Пригожин создает собственную концепцию природы: «становление и событие не существуют раздельно, вероятностные законы приводят к созданию «картины открытого мира», в котором в каждый момент в игру вступают все новые возможности».
Если рассматривать литературу как часть системы искусства, то художественное произведение является частью системы «литература». Используя теорию систем, можно объяснить происхождение и существование чрезвычайно сложной упорядоченности, характеризующей как общее понятие «художественная литература», так и художественное произведение.
При том, что в системе «литература» каждый из компонентов – произведение, автор, традиция, реальность, читатель – являетсявсвоюочередьсистемой, именно художественное произведение – тот узел, где сходятся все связи. Автор становится автором, только если он создал свое произведение. Читатель – только если он его прочитал и оценил. Традиция и реальность – внешние условия существования произведения. В художественном произведении присутствуют все признаки системы – определенная целостность, структурность, иерархичность, зависимость от внешней среды, возможность быть описанным разными способами. Проще всего это продемонстрировать на примере произведений классицизма, в которых системные свойства структурности и иерархичности выражены наиболее явно.
По-видимому, мы имеем здесь дело с так называемыми равновесными структурами, в которых энтропия, неуравновешенность присутствуют в малой степени. Типичным примером равновесной структуры И. Пригожин называет кристалл, образуемый и поддерживаемый при незначительном отклонении от равновесия. В качестве литературного примера можно вспомнить историю уже не раз упоминавшейся трагикомедии Корнеля «Сид». Французская академия, направляемая волей кардинала Ришелье, осудила трагедию за нарушение классицистических норм. В вину Корнелю было поставлено обращение к испанской истории вместо истории античной, введение бокового любовного сюжета, мешающего развитию единства действия, и перенесение сцены объяснения героя с невестой из одного места в другое. Но, несмотря на эти отклонения, «Сид» был и остается эталоном классицистической трагедии. Исправив «недостатки» своего шедевра, Корнель в последующем творчестве неукоснительно соблюдал строгие правила. Эти правила, пользуясь терминологией точных наук, можно назвать «стационарными состояниями», а чем больше стационарных состояний, тем система устойчивее, но тем она и более закрыта.
И. Пригожин заметил, что существует и другой тип структур. Он называет их диссипативными, испытывающими значительные отклонения от равновесия, характерными для открытых систем[250].
В нашем случае такой открытой, неустойчивой системой предстает прежде всего связь произведение читатель, которая постоянно меняется. Известны сотни примеров, когда книги, высоко оцениваемые в одну эпоху, напрочь забываются в другую. Но и в пределах своего времени произведения принимаются одной группой читателей и отвергаются другой. Эту проблематику успешно изучала рецептивная эстетика.
Понятие открытой системы применимо и к жанрам. Оно обозначено в определении романа как свободной формы. Открытой систему делает присутствие в ней не только прямых, но и обратных связей. При этом неравновесные связи и ограничения допускают возникновение новых состоянии, свойства которых контрастируют со свойствами равновесных состояний: «Неравновесные связи являются sine qua non условием самоорганизации, но самоорганизация, в свою очередь, изменяет роль и смысл связей»[251]. Этим положением можно объяснить относительную автономность художественного произведения от автора, когда создание обретает самостоятельную жизнь, изумляющую порой художника, как изумляют дети родителей неожиданным проявлением характера. Вспомним знаменитую сцену, описанную биографами А.С. Пушкина, завершившего трагедию «Борис Годунов» и якобы воскликнувшего в восторге от себя самого: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!»
Вспомним, к примеру, поэму А. Блока «Двенадцать». С момента ее публикации и все годы существования Советской власти «Двенадцать» называли первой октябрьской поэмой. Идеи неотвратимости и очистительной бури, которую приветствует автор, подтверждались выписками из дневника Блока и стилистическим анализом текста. В качестве «несводимой вероятности» в поэме смущал финал, где шествовал «в белом венчике из роз / Впереди Исус Христос». Он даже заменялся порой в эстрадном исполнении на революционного матроса. Но со временем изменилось отношение к Октябрю, превратившемуся из Октябрьской революции в переворот. Изменилось и отношение к христианству. И трактовка поэмы получает сегодня совсем другой смысл: крестная мука ожидает тех, «которые идут державным шагом». Но и это описание тоже принадлежит к разряду «вероятностных».
Представим себе, предлагает Пригожин, что Адам не решается надкусить запретное яблоко, что изгнания из рая не произошло и нам предстоит дать описание безгрешного Адама. Но между библейской историей и сегодняшним днем пролегли тысячелетия прогресса и информации, а потому «на современном языке можно было бы сказать, что адекватным описанием Адама было бы вероятностное описание»[252].
Таким образом, при описании системы фактор времени имеет решающее значение. Теория относительности А. Эйнштейна изменила отношение к однонаправленной «стреле времени», дала основание для поисков обратной связи во времени. «Эйнштейновская метрика» связывает время и пространство, задает новое измерение, «вводит инвариант». Появляется «мнимое время». У вселенной Эйнштейна нет ни возраста, ни «стрелы времени». Но в книге Пригожина есть глава «Узкая тропинка». В ней рассказывается, как выдающийся математик Курт Гедель, восприняв идею Эйнштейна, подарил ему очерк, в котором человек отправляется в прошлое. Гедель подсчитал даже количество топлива на единицу пути. Однако Эйнштейн усомнился, что кому-нибудь удастся «телеграфировать в свое прошлое». При всей точности расчетов Геделя и гениальности теории Эйнштейна физическое путешествие назад означало бы отрицание реального мира.
Путь назад – путь памяти, путь творческого начала, человеческой психологии. Именно так разворачивается роман Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Это не вполне реальность, но это и не мистика. Пригожин отрицает и вполне логический, и чисто интуитивный подход. Его реальный мир управляется недетерминистическими законами, равно как и не абсолютными случайностями. В теории систем Пригожина интуиция – не синоним авторского произвола. Это иной, внутренний способ постижения мира, имеющий свои права. И если путь науки – путь накопления знаний и логики, то путь искусства – путь духовного озарения. В грядущем веке ученый угадывает синтез искусства и техники, Бога и точного расчета – «новый альянс»[253].
В статье «Философия нестабильности», опубликованной в журнале «Вопросы философии», Илья Пригожин пишет: «Литературное произведение, как правило, начинается с описания исходной ситуации с помощью конечного числа слов, причем в этой своей части повествование еще открыто для многочисленных различных линий развития сюжета. Эта особенность литературного произведения как раз и придает чтению занимательность – всегда интересно, какой из возможных вариантов развития исходной ситуации будет реализован. Так же и в музыке – в фугах Баха, например, заданная тема всегда допускает великое множество продолжений, из которых гениальный композитор выбирал на его взгляд необходимое. Такой универсум художественного творчества весьма отличен от классического образа мира, но он легко соотносим с современной физикой и космологией»[254].
В изучении литературы как сложной динамической, открытой, нестабильной системы, постоянно находящейся в состоянии перехода от хаоса к порядку и от порядка к хаосу, может быть использован системно-синергетический подход.
Способность к саморегуляции, относительная временная устойчивость среди хаоса придает литературе «художественное произведение». Художественное произведение – центральный элемент системы «литература»:
В современной культуре возникает новое состояние всемирной глобализованной литературы, характеризующееся бесконечным увеличением числа взаимосвязанных систем национальных и региональных литератур. В результате возникают многоэлементные сверхсложные метасистемы[255].
Синергетический подход позволяет исследовать смысловой аспект взаимоотношений системы «литература» с многочисленными контекстами, с окружающей средой. В филологии в последние годы появились многочисленные работы с названиями «Искусство и синергетика», «Синергетика текста» и т. п.[256]. Особо отметим книгу «Этюды по теории искусства», имеющую подзаголовок «Диалог естественных и гуманитарных наук»[257]. Эта мысль о «диалоге» важна, поскольку нередко в исследованиях возникает некорректное противопоставление гуманитарного и естественнонаучного знания. Напоминая, что «…в социально-гуманитарных науках предмет включает в себя человека, его сознание и часто выступает как текст, имеющий человеческий смысл», философ B.C. Стёпин подчеркивает, что «…фиксация такого предмета и его изучение требуют особых методов и познавательных процедур»[258]. Такие «познавательные процедуры» могут быть выделены в рамках системно-синергетического подхода.
Синергетика изучает взаимодействие сложных систем. Определяя смысл термина, Г. Хакен подчеркивал, что «синергетика – это междисциплинарное поле, в рамках которого исследуются системы, состоящие из нескольких или большого числа элементов»[259]. Согласно Г. Хакену, среди самых сложных и интересных проблем синергетики рассматривается вопрос о самопорождении смысла в сложных системах. Такими сложными системами предстают «литература», художественное произведение и концепт.
Герман Хакен (Haken, 1927) – выдающийся немецкий ученый, создатель новой науки – синергетики. Г. Хакен закончил университет в г. Эрлангене, с 1960 г. – профессор теоретической физики в университете города Штутгарта. Разрабатывая конкретные проблемы лазерной физики и нелинейной оптики, физики плазмы и теории бифуркации, Г. Хакен выдвинул принципы синергетики, управляющие поведением сложных саморегулирующихся систем. В последние десятилетия немецкого ученого особенно интересуют «человекомерные» (Ю.А. Данилов) аспекты синергетики. В рамках исследовательской программы под руководством Г. Хакена синергетические модели применяются в биологии, медицине, психологии, социологии, теории и практике менеджмента, планировании развития городов и гуманитарном знании.
Литература:
Хакен Г. Информация и самоорганизация. – М., 1991.
Хакен Г. Синергетика и некоторые ее применения в психологии / Пер. с англ. Е.Н. Князевой // Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в искусстве. – М., 2002.
Синергетике 30 лет. Интервью с профессором Г. Хакеном. Проведено Е.Н. Князевой // Вопросы философии. – 2000. – № 3.
Haken Н. Erfolgsgeheimnisse der Natur. Synergetik: Die Lehre vom Zusammenwirken. – Reinbek bei Hamburg, 1995.
Haken II., Haken-Krell M. Gehirn und Verhalten. Unser Kopf arbeitet anders, als wir denken. – Stuttgart, 1997.
Haken H. Die Selbstorgani-sation komplexer Systeme – Ergebnisse aus der Werkstatt der Chaostheorie. – Wien, 2004.
Haken H. Synergetics. Introduction and Advanced Topics. – Berlin: Heidelberg, 2004.
Haken H. Synergetic Computers and Cognition. A Top-Down Approach to Neural Nets. – Berlin: Heidelberg, 2004.
Синергетика дает описание динамического поведения сложных систем. Акцент в этом случае ставится на эмерджентных свойствах системы.
В. Г. Зинченко характеризовал понятие «эмерджентное свойство» следующим образом.
Эмерджентное свойство – новое свойство элементов системы, которым они ранее (вне системы) не обладали и которое появляется у них в больших (сложных) системах. В связи с этим иногда эмерджентное свойство рассматривают как системное качество, состоящее в приращении свойств элементов, когда они находятся внутри целого системы.
Эмерджентное свойство присуще не только элементам систем, но и самим системам. Эмерджентное свойство системы проявляется в скачкообразности возникновения системы в ходе ее саморегуляции и в скачкообразности изменений в системе в процессе ее саморазвития[260].
Интересно рассмотреть мегаполис как сложную синергетическую систему. Понимание города как текста в последнее время получило широкое распространение во многом благодаря работам В.Н. Топорова о «петербургском тексте» в русской литературе. Многочисленные статьи и диссертации о «московском тексте», «парижском тексте», «пражском тексте» открывают еще один аспект исследования.
В качестве примера изберем конголезский город Киншаса и рассмотрим его как текст. Пример Киншасы мы заимствовали у бельгийского антрополога, известного африканиста Филипа де Бука (Filipp de Boeck)[261].
Киншаса была основана в 1881 г. Во времена колониального владычества Бельгии, город назывался Леопольдвиль. В 1920 г. Леопольдвиль стал столицей Бельгийского Конго. В 1966 г. был переименован в Киншасу по названию поглощенной им деревни. В настоящее время – столица Демократической Республики Конго. Современная Киншаса – подвижная, неустойчивая, неравновесная, сверхсложная динамическая урбанистическая система. Киншаса – мегаполис эпохи глобализации. Филип де Бук свидетельствует, что жители Киншасы приобретают все более индивидуалистические черты, утрачивая традиционные ценности: «большая семья», «племя», «клан». Население забывает все больше о своей этнической идентичности. Люди все меньше ощущают свою принадлежность к маленькому миру семьи, рода, улицы, квартала[262].
В Киншасе городская структура состоит из значительного числа переменных величин. Неизвестно точно, сколько в городе населения. Население растет скачкообразно, увеличиваясь за счет провинций, и сокращается во время войн. В Киншасе почти нет привычной для европейских городов инфраструктуры – надежного электроснабжения, канализации, катастрофически не хватает питьевой воды.
На окраине города возникают новые районы, имеющие смешанную городскую и сельскохозяйственную структуру. В Киншасе есть план города. Но он не соответствует реальному положению дел. Схемы улиц и маршрутов движения городского транспорта – переменные величины.
Вместе с тем город Киншаса – система, способная к саморегуляции. Так, в столичном районе MONT NGAFULA долгие годы продолжалось строительство заправочной станции FINE. Наконец, строительство было завершено, и в 2002 году она начала работать. Спустя несколько месяцев владелец заправки установил рядом с ней уличный фонарь. И поскольку на заправке есть генератор, независимый источник энергии, фонарь всегда зажигался по вечерам.
Моментально вокруг фонаря выросли бары, открылось интернет-кафе, появилась телефонная будка. Водители автобусов перенесли к фонарю конечную остановку ряда маршрутов, возникла новая стоянка такси. Начал процветать расположенный неподалеку отель. В результате саморегуляции в урбанистической системе Киншасы возникло эмерджентное свойство. Система перестроилась, породила новый смысл. В ней произошел смысловой скачок.
Современная литература также способна к саморегуляции, смысловой перестройке. Так, отвечая на вопросы писательницы Екатерины Садур, в интервью журналу «Voyage» (март 2002), сербский классик постмодернизма Милорад Павич отмечал, что «литература должна приспосабливаться к новой электронной эре, где преимущество отдается не плавному, линейному, состоящему из последовательных звеньев литературному произведению, а иконизированному образу, знаку, семиотическому сигналу, который можно передать мгновенно, ведь XXI век требует именно этого». У Павича текст «…роится, разветвляется, как наши мысли или сновидения»[263]. Он пишет прозу, имеющую интерактивную нелинейную структуру. Можно сказать, что в смысловой глубине эта проза функционирует подобно фонарю в районе MONT NGAFULA в Киншасе. По словам Павича, его проза имеет «интерактивную нелинейную структуру». Она непосредственно вовлекает, втягивает внутрь себя читателя.
Проза Павича постоянно хаотизируется, переходя к фазе саморегуляции. В текстах Павича порождается эмерджентное свойство за счет включения динамических положительных обратных связей с читателем. Так, роман М. Павича «Ящик для письменных принадлежностей» «…имеет два завершения – одно в книге, другое в Интернете». В бумажной версии романа Павич указал электронный адрес для активных и увлеченных созданием собственных текстов читателей. В сети Интернет возник совершенно другой финал романа[264]. М. Павич сознательно переуступает читателю функции творца. Книга начинает напоминать меню, а читатель становится посетителем ресторана, совершающего заказ блюд по своему собственному усмотрению[265]. Неустойчивость, нестабильность системы приводит к саморегуляции текста и возникновению нового эмерджентного свойства. В результате в системе «литература» возникает новая переменная величина, влияющая на моментальное порождение «текста» с возможностью его дальнейшего скачкообразного перехода в статус «произведения». Литературные артефакты Павича постоянно колеблются между состоянием «произведения» и фазой «текста». В результате процедур подобного скачкообразного перехода в системе «литература» возникает новый смысл.
Смысл — основа культуры, «одна из самых трудных для философии категорий» (А.Ф. Лосев). Категорию «смысл» можно рассматривать по вертикали и по горизонтали. По вертикали смысл открывается как суть, полнота, целостность, вечность, сфера, круг, Бог. В определении Платона, сфера – «…образ идеального самодовления, ибо включает в себя все существующие фигуры и ничего не оставляет рядом с собой». В философском плане смысл связан с «ноосферой (В.И. Вернадский). Смысл – это «Нададресат», «Третий» (М.М. Бахтин), Бог, совесть, истина, суд истории. В этом ключе смысл для человека – принципиальная возможность быть услышанным. Смыслом М.М. Бахтин называл «ответы на вопросы». Смысл в понимании Бахтина диалогичен.
По горизонтали смысл проявляет себя в духовных и материальных формах культуры, цивилизации и литературы. Смысл в литературе связан с общей проблемой смыслопорождения в культуре, зависящего от контекста и точки зрения участников общения. По утверждению философа, крупнейшего отечественного специалиста по методологии науки Г.П. Щедровицкого, каждый человек понимает что-либо «…в силу воздействия на него той ситуации, в которой он находится. Каждый понимает соответственно своей ситуации. И при этом мы обычно это понимание выражаем словом «смысл». Значит, смысл – это особое структурное, как бы остановленное, представление процесса понимания»[266]. Смысл в культуре возникает как «конфигурация связей и отношений» между текстом и контекстом в ходе деятельности человека[267]. Культурные смыслы «можно представить как кластеры значений, которые прорастают, упав на почву контекста»[268].
Специфика категории «смысл» в литературе заключается в особенностях художественного произведения и контекста. Для понимания «смысла» надо попытаться еще раз отграничить понятие «произведение» от понятия «текст». Представляется, что «текст» несет «содержание», а произведение – «смысл». Под «содержанием» Г.И. Богин понимает «наборы предикаций в рамках пропозициональных структур»[269]. Часть этих предикаций является «готовой», данной, заранее известной, так что читатель не сталкивается с задержкой времени, смещениями пространства, деформациями образности. Снимаются все типы «остранения» в тексте, прочитанном лишь в плане его содержания. Понятый так текст наделен содержанием, но лишен «художественности». «Художественность» в литературном произведении неразрывно связана со «смыслом», понятым как «конфигурация всех связей и отношений» в ситуации художественного коммуницирования, восстанавливая или создавая которую читатель понимает произведение[270]. Отметим, что в цитируемых тезисах Г.И. Богин связывает термин «текст» и с «содержанием», и со «смыслом». Разграничение между «текстом» и «содержанием» введено в рамках системно-синергетического подхода к литературе.
Уже отмечалось, что писатель, создавая текст, содержащий описание вымышленного мира, и снабжая его программой, обеспечивающей восприятие этого мира в качестве художественного изображения, вступает в диалог с читателем, преклоняющимся перед этим изображением. В этом случае «текст», не переставая быть носителем информации («содержания»), становится литературным произведением. При этом не менее конкретное лицо – читатель, открывший для себя художественность текста и преклоняющийся перед нею, предстает как ценитель литературного произведения.
Выражая эти мысли на другом терминологическом языке, можно сказать, что «текст» «…не равняется всему произведению в его целом». Он не равен произведению в статусе «эстетического объекта». По мысли М.М. Бахтина, в произведение входит и его «необходимый внетекстовый контекст». Произведение «как бы окутано музыкой интонационно-ценностного контекста, в котором оно понимается и оценивается». Это восприятие, этот контекст меняются от века к веку[271]. Следовательно, «смысл» возникает при восприятии «интонационно-ценностного контекста» произведения, которое подобно партитуре симфонического произведения заново интерпретируется оркестром читателей. Так, исследуя сборник Гёте «Западно-восточный диван», А.В. Михайлов сделал глубокий вывод о смыслопорождении в этом произведении: «Помимо многообразия таких внутренних связей, какие устанавливаются между огромным количеством текстов, составляющих весь свод «Западно-восточного дивана», и которые никогда не могут быть прослежены и исчерпаны до конца, потому что это многообразие устроено как открытое множество и связи должны устанавливаться заново в каждом акте чтения, – помимо этого многообразия Гёте позаботился и об ином – о том, чтобы была выделена общая идея произведения»[272].
Контекст в литературе – «растущий контекст», принципиально открытый и «незавершенный»[273]. Связь с теорией художественных систем осуществляется здесь по признакам «открытости», «неустойчивости» и «динамичности».
В системе «литература» смысл формируется в высказывании. Высказывание – «событие жизни произведения», возникающее на рубеже двух сознаний, двух субъектов[274]. Смысл – контекстуальное значение высказывания, включенное в диалог с помощью интонационного оформления. Новый смысл – неожиданный экспрессивный, аффективно-интеллектуальный информационный скачок в произведении. Ю.М. Лотман называл подобный скачок «взрывом»[275].
Смысл – процесс и результат художественной коммуникации, он диалогичен и символичен. Объект литературы «…имеет смысл, если он способен нечто означать, символизировать, указывать на что-то иное, нежели на самого себя…» (Ю.М. Лотман).
Смысл – новая информация, которая передается в процессе художественной коммуникации, изменяя значение каждой лексемы. Лексическая полисемия путем отбора слов открывает широкие возможности для включения в «ансамбль значений» смысловых сдвигов, которые приближают значения слов «с некоторым порогом к замыслу говорящего» (Н.И. Жинкин). Итак, по горизонтали смысл представляет собой семантический сдвиг, возникающий в процессе коммуникации на основе полисемии и приближающий значения слов к замыслу говорящего. Смысл в художественной коммуникации связан с замыслом речи, выражающимся в интонации, логических ударениях. Смысл в коммуникации связан с саморегуляцией, с «перспективой развития мысли».
Итак, смысл возникает в системе «литература» в результате восприятия произведения читателем. Смысл не сводится к сумме элементов системы, возникая в результате синергетического скачка.
Г. Хакен связывает «возникновение нового качества системы» с «самопорождением смысла»[276]. Представление о самопо-рождении смысла в литературе почти стало общим местом. Об этом писал, например, Ю.Н. Тынянов, размышляя о тесноте стихового ряда. Новым поворотом здесь можно считать размышление о способе порождения смысла. В синергетике таким способом называют синергетический скачок, или нелинейный фазовый переход.
Так, в рассказе А.П. Чехова «Студент» (1894), двум простым деревенским женщинам, вдове Василисе и ее дочери Лукерье, студент духовной академии Иван Великопольский рассказывает, что произошло девятнадцать веков назад в точно такую же «холодную ночь», когда у костра грелся апостол Петр[277]. В момент рассказа изображенный Чеховым мир размыкается, становится неустойчивым, нелинейным: «Точно в такую же холодную ночь грелся у костра апостол Петр, – сказал студент, протягивая к огню руки. Значит, и тогда было холодно» (376). Студент напоминает слушающим его женщинам о том, как трижды отрекся в эту ночь от Иисуса апостол Петр, как после третьего раза запел петух, а Петр вспомнил слова Иисуса – «…трижды отречешься, что не знаешь меня». Тогда Петр «пошел со двора и горько-горько заплакал» (377).
Как же может человек противостоять собственной слабости, страху, вековечному ледяному ветру? Только благодаря силе воображения, сопереживания, помогающим пережить прошлое в его незаконченности, незавершенности и «незавершимости»: «Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине слышатся глухие рыдания…», – говорит Иван Великопольский (377). Если отречение апостола Петра и его раскаяние были и прошли, если они однажды случились и завершились, то это значит, что евангельские события не имеют отношения к современному человеку. Если же всякий раз холод и мрак Страстной Пятницы возвращают человека в тот самый «тихий-тихий, темный-темный сад», если евангельский мир продолжает иметь к нам отношение, то освобождающее чувство сопричастности может вторгнуться в жизнь каждого человека.
М.М. Бахтин отмечал, что писатель «…умеет работать на языке, находясь вне языка», поскольку он «…обладает даром непрямого говорения» (305). Автор способен изобразить не только свой собственный, субъектный, лирический, «первый» голос. Он способен показать и «второй голос», который может быть осмыслен как «чистое отношение», как воплощение диалога.
Автору удается использовать «непрямое говорение». Иван Великопольский вздыхает и задумывается. Его рассказ потрясает слушательниц: «Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль» (377). Здесь звучание второго «голоса» заменяется невербальными средствами коммуникации.
Это момент соединения разных уровней и возникновения нового смысла. Природный, человеческий и божественный уровни на миг находят друг друга, стыкуются. Происходит сопряжение вертикали и горизонтали. В этот момент возникают «дальнодействующие корреляции», и сложная система начинает вести себя как целое. Возникающий новый смысл состоит в том, что «частицы, находящиеся на макроскопических расстояниях друг от друга, перестают быть независимыми» друг от друга. Апостол Петр, Иван Великопольский, Лукерья соединяются в одно целое. Евангельское время-пространство начинает резонировать со временем-пространством героев рассказа.
Переживание двойного времени и пространства приводит к возникновению воображаемого времени, в котором возникает созвучие различных голосов, восходящих к разным субъектам сознания. Из хаоса и оставленности русского деревенского мира, леса, луга, речки, «вдовьих огородов» рождаются новый порядок и согласие. Тепло, слезы, огонь, совесть и стыд пересиливают ветер, холод, мрак, ужасы жизни.
Люди преодолевают холод и мерзость жизни, поскольку боль других начинает иметь к ним «какое-то отношение»
(378). В этот миг Иван Великопольский понимает, что прошлое «…связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого». И ему показалось, что «он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного, как дрогнул другой» (378). В этом резонансе прошлого, настоящего и будущего, в этом прорастании одного из другого, в чувстве сострадания, памяти и совести человека, по-видимому, открывает Чехов «высокий смысл» «восхитительной, чудесной» человеческой жизни.
Вопросы к теме
1. Возможны ли общие подходы к изучению естественных и гуманитарных наук? В чем заключается специфика системно-синергетического подхода к литературе?
2. Какие системы относятся к разряду саморегулирующихся? Можно ли считать «литературу» сложной открытой неустойчивой саморегулирующейся системой?
3. Как в рамках системно-синергетического подхода можно исследовать проблему город… как текст?
4. В чем состоит сходство и отличие между понятиями «текст» и «произведение»?
5. Применим ли понятийный аппарат синергетики к системе «литература»?
Литература по теме
1. Пригожин И., Стенгерс И. Время. Хаос. Квант. – М., 1994.
2. Пригожин И. Конец определенности. Время, хаос и новые законы природы. – Ижевск, 1999.
3. Богин Г.И. Методологическое пособие по интерпретации художественного текста (для занимающихся иностранной филологией) // http: // , html.
4. Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) // В.Н. Топоров. Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического. – М., 1995.
5. Щедровицкий Г.П. Организация, руководство, управление // Электронная версия книги: .
6. Хакен Г. Информация и самоорганизация. – М., 1991.
7. Синергетика и некоторые ее применения в психологии / Пер. с англ. Е.Н. Князевой // Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в искусстве. – М., 2002.
Дополнительная литература
1. Богин Г.И. Быстротекущее время и вялотекущее время как производные от формы текстопостроения // Пространство и время в языке: тезисы и материалы Международной научной конференции 6–8 февраля 2001 г. Ч. I. – Самара, 2001.
2. Корман Б.О. Проблема автора в художественной литературе и целостность текста. – Ижевск, 1974.
3. Левин Ю.И. О типологии непонимания текста // Избранные труды. Поэтика и семиотика. – М., 1998.
4. Синергетике 30 лет. Интервью с профессором Г. Хакеном. Проведено Е.Н. Князевой //Вопросы философии. – 2000. – № 3.
5. Щедровицкий Г.П. Знак и деятельность. Кн. I: Структура знака: смыслы, значения, знания. 14 лекций 1971 г. – М., 2005.
6. Щедровицкий Г.П. Знак и деятельность. Кн. II: Понимание и мышление. Смысл и содержание. 7 лекций 1972 г. – М., 2006.
7. Haken Hermann. Synergetics. Introduction and Advanced Topics. -Berlin: Heidelberg, 2004.
Тема 14 Концепт в литературе
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фрактал, фрактальность, концепт, значение, смысл, микромодель системы культура, дискурс, текст, художественное произведение, саморегуляция
Термин «концепт» возвращает нас к полемике, развернувшейся в XIV столетии между номиналистами и реалистами. Спор шел о соотношении имен, идей и вещей. Столкновение крайних точек зрения привело к возникновению «умеренного номинализма», вошедшего в историю философии под названием «концептуализм».
Еще Пьер Абеляр в XII веке полагал, что звучащие имена по своей природе (naturaliter) не входят в обозначенную ими вещь, но существуют в силу «налагания» их людьми на вещи. Это «налагание» имен ниспослано людям Мастером, самим Богом. При этом имена (звуки и целые предложения) оказываются у Абеляра «орудиями восприятия вещей»[278]. Концепт вводится в сознание слушающих как сверхличное, целостное орудие восприятия вещи. Итак, концепт – имя вещи, которое закрепляется в сознании слушающих и говорящих. По существу Абеляр рассматривает концепт в контексте коммуникации людей друг с другом и с Богом. Концепт у Абеляра есть Смысл.
В средневековой философии сложилось понимание концептов как имен, особых «психологических образований», несущих с собой «какую-нибудь смысловую функцию» (А.Ф. Лосев). Смысловая функция имени раскрывается в общении. Концепт направлен на собеседника, слушающего. По замечанию С.С. Неретиной, «обращенность к слушателю всегда предполагала одновременную обращенность к трансцендентному источнику речи – Богу». Будучи конкретным, индивидуальным, контекстуальным смыслом, концепт заключал в себе и указание на всеобщий, универсальный источник, порождающий Смысл[279]. Если Ницше «…внес мощный вклад в освобождение означающего от его зависимости, производи ости по отношению к логосу и от связанного с ним понятия истины или первичного означаемого, как бы мы его ни трактовали[280], то С.А. Аскольдов (1870–1945) выделил как главную заместительную функцию концепта.
В статье «Концепт и слово» (1928) С.А. Аскольдов в качестве самого существенного признака концепта выдвигает «функцию заместительства»[281]. Вот как выглядит одно из центральных определений его статьи: «Концепт есть мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода». В статье приводится ряд примеров «заместительных отношений», причем не только из области мысли, но также и из чисто жизненной сферы. Так, «концепт тысячеугольника есть заместитель бесконечного разнообразия индивидуальных тысячеугольников», конкретность которых осуществима лишь в целом ряде актов мысленного счета, вообще длительного синтезирования данной фигуры из ее элементов. В данном случае концепт выступает как заместитель этих длительных операций (85).
Сергей Алексеевич Алексеев
(1870–1945; псевдоним Аскольдов) – известный русский философ. Занимался проблемами теории познания и этики. Статья «Концепт и слово» (1928) вернула категорию «концепт» в контекст гуманитарного знания. Разрабатывая структуру ментальных и вербально выраженных концептов, академики Д.С. Лихачев и Ю.С. Степанов опираются на программную статью С.А. Аскольдова.
Литература:
Аскольдов СА. Основные проблемы теории познания и онтологии. – М., 1900.
Аскольдов С А. Алексей Александрович Козлов. – СПб., 1997 (первое издание – М., 1912).
Аскольдов СА. Религиозноэтическое мировоззрение Достоевского // Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А.С. Долинина. – Пг., 1922.
Очень интересны примеры из реальной жизни. Дипломатические отношения перед военными действиями, военные маневры перед битвой, когда передвижение замещает реальное сражение, решает судьбу позиции. Замечателен вывод философа о том, что некий реальный фактор, по своему удельному весу малый и даже ничтожный, может «означать» или быть знаком «чего-то реального и притом тяжеловесного по своему воздействию или эффекту» (86).
Второе открытие С.А. Аскольдова состоит в том, что заместительная функция концепта символична. Отсюда следует вывод, что концепт является не отражением замещаемого множества, но «его выразительным символом, обнаруживающим лишь потенцию совершить то или иное». В результате концепт открывается как «обозначенная возможность», предваряющая символическая проекция, символ, знак, потенциально и динамически направленный на замещаемую им сферу. Динамичность и символизм с разных сторон выражают потенциальную природу концепта.
С.А. Аскольдов вычленяет два основных типа концептов – познавательные и художественные. Вместе с тем подобное разделение не является абсолютным. По мнению философа, концепты разных типов сближает между собой медиум, при помощи которого они выражаются, – абстрактное, обобщенное и конкретно-чувственное, индивидуальное слово. Автор подчеркивает, что «концепты познавательного характера только на первый взгляд чужды поэзии». Хотя и лишенные логической устойчивости, «художественные концепты» также заключают в себе некую общность (84).
Открытие Аскольдова состоит в указании на подвижность границ между понятийными и образными моментами в структуре концептов и выражающих их слов.
Рассматривая познавательные концепты, С.А. Аскольдов подчеркивает их схематизм, понятийную природу. Характеризуя концепт как понятие, он выделяет проблему точки зрения (86–87). Познавательные концепты замещают, обрабатывают область замещаемых явлений с единой и притом общей точки зрения. Понятие восходит к единой точке зрения, связанной с единством родового начала. Единство родового начала связано с единством сознания.
Художественные концепты диалогичны, поскольку связаны с множеством одновременно значимых точек зрения. Порождающее и воспринимающее сознание в этом смысле равноценны. Композитор, художник, писатель не могут существовать без читателей, слушателей или зрителей. Конечно, художник может адресовать свои творения зрителям и слушателям потенциальным, «лазеечным» (М.М. Бахтин), удаленным от него во времени и пространстве. Однако восприятие концептов представляет собой вариант их нового порождения. Опираясь на идеи С.А. Аскольдова, можно сказать, что создание и восприятие концептов – двухсторонний коммуникативный процесс. В ходе коммуникации создатели и потребители концептов постоянно меняются местами.
Согласно С.А. Аскольдову, художественные концепты заключают в себе «неопределенность возможностей». Их заместительные способности связаны не с потенциальным соответствием реальной действительности или законам логики. Концепты этого типа подчиняются особой прагматике «художественной ассоциативности». Художественные концепты образны, символичны, поскольку то, «что они означают, больше данного в них содержания и находится за их пределами» (91). Эту символичность С.А. Аскольдов называет «ассоциативной запредельностью». Вероятно, под «ассоциативной запредельностью» автор имеет в виду «чужое» сознание, сознание Другого, «услышанность» (М.М. Бахтин) как таковую.
В статье С.А. Аскольдова на разных уровнях варьируется одна и та же мысль: концепт символичен, динамичен, потенциален. Порожденные создателем концепты растут, развиваются, отторгаются, искажаются в восприятии. Возникающие цепочки «своих» и «чужих» концептов имеют контекстуальный смысл.
С.А. Аскольдов подчеркивает, что «иногда цепь этих образов направлена совсем не туда, куда влек бы их обыкновенный смысл слов и их синтаксическая связь» (92).
Опираясь на фундаментальные идеи немецкого логика и философа Г. Фреге, можно сказать, что художественные концепты выявляют расхождение значения и смысла[282]. Сцепление концептов порождает смысл, превосходящий смысл каждого элемента, взятого по отдельности. Хотя С.А. Аскольдов напрямую не вводит понятие системы, по сути он размышляет именно о ней[283]. Цепочки художественных концептов порождают образные коммуникативные системы, характеризующиеся открытостью, потенциальностью, динамичностью. Существуя в пространстве языка, такая система определяет характер национальной картины мира.
Литература, как и культура, принадлежит к особому классу объектов – фракталов, или фрактальных объектов. Фрактал (лат. fractus – изломанный) – научный термин, введенный в науку американским математиком Бенуа Мандельбротом[284]. Отмеченное исследователем главное свойство фракталов заключается в их способности быть «нерегулярными», но «самоподобными». Самоподобие объектов означает, что они наделены свойством масштабной инвариантности. Непредсказуемость фракталов кроется в отсутствии линейных размеров (длины, площади, объема) при определенности внутренней структуры. При этом меньший фрагмент структуры такого объекта подобен большему, а больший фрагмент структуры подобен структуре объекта, взятого в целом.
Системно-синергетический подход исходит из самоподобия, фрактальности макросистемы и микросистемы. Макросистема – это литература. Микросистема – концепт. В рамках системно-синергетического подхода художественный концепт можно рассматривать как единицу коммуникации в системе «литература»[285].
Ближайшим образом концепт можно определить как смысл. Концепт – это смысл, а не значение знака (или сочетания знаков) в художественной коммуникации. В современном постмодернистском контексте не принято говорить о смысле. Между тем именно категория «смысл» в наибольшей мере раскрывает суть термина «концепт». Смысл отличается от значения, поскольку он целостен, т. е. имеет «отношение к ценности – к истине, красоте и т. п.». Уже отмечалось, что смысл не существует без «ответного понимания, включающего в себя оценку»[286]. Смысл всегда кто-то открывает, находит, распознает. Смысл подразумевает наличие воспринимающего сознания и его носителей. В системе «литература» это «автор» и «читатели». При определенном подходе можно констатировать, что у текста нет и не может быть персонифицированных авторов и читателей. В этом случае текст рассматривается как «интертекст», знаки которого лишены функции репрезентации[287]. В рамках этой концепции «Автор» и «Читатель» подвергаются деконструкции. Наступает «смерть автора»[288].
Однако Ж. Деррида считает, что концепцию «смерти автора» также необходимо подвергнуть деконструкции. Нужна «деконструкция деконструкции». Концепция Р. Барта, отрицающая автора и читателя текста, принадлежит, по мнению Ж. Деррида, «…к той самой онтотеологии», которую она оспаривает[289]. Ж. Деррида ставит задачу преодолеть цивилизацию логоса, «…в которой смысл бытия, его цель определяются как явленность (parousia)» (175). С этой точки зрения «эпоха знака по сути своей теологична…» (129). Философ Деррида, автор книги «О грамматологии» (1967), исходит из положения, что «…вообще текст как знаковая ткань» выступает как нечто вторичное. Ему предшествует «…истина или смысл, уже созданные логосом и в стихии логоса» (130). Эту предпосылку Ж. Деррида подвергает деконструкции.
Системно-синергетический подход расходится с теорией деконструкции в оценке категорий «смысл» и «линейность». Ж. Деррида отождествляет представление о линейности речи со всей онтологической традицией от Аристотеля до Гегеля: «Если принять, что линейность речи неразрывно связана с расхожим мирским понятием временности (однородной, подчиненной форме данного момента и идеалу непрерывного движения по прямой линии или по кругу) – понятием, которое, по мнению Хайдеггера, определяет изнутри любую онтологию от Аристотеля до Гегеля, то тогда размышление о письме и деконструкция истории философии становятся неотделимыми друг от друга» (222). Системно-синергетический подход исходит из эмерджентных свойств сложных систем, их нелинейности, возможности скачкообразного, фазового перехода от хаоса к порядку и обратно. Смысл порождается и хранится не только в статичных тезаурусах литературы и культуры, где подвергается консервации мир значений, но и в динамичных диссипативных саморегулирующихся системах. Такова современная интерактивная литература, представленная, например, в творчестве М. Павича и Э.-Э. Шмитта. В системе «литература» основной единицей коммуникации можно считать «художественный концепт».
Юрий Сергеевич Степанов
(р. 1930) – лингвист, историк и теоретик культуры, академик РАН. Один из создателей сравнительной концептологии. Его труд «Константы: Словарь русской культуры» посвящен исследованию концептов – «объединяющих идей русской культуры». Концепты «представляют собой в некотором роде «коллективное бессознательное» современного российского общества». При этом особое внимание уделяется «этимологии слов, выражающих данный концепт», а также эволюции концептов в культуре, вплоть до сегодняшнего дня. Концепт может быть воплощен не только в вербальной, но и в изобразительной и других формах.
Литература:
Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – М., 1975.
Степанов Ю.С. Константы мировой культуры. Алфавиты и алфавитные тексты в периоды двоеверия. – М., 1993 (совместно с С.Г. Проскуриным).
Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. – М., 1997. (2-е изд.– 2001).
Степанов Ю.С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. – М., 2007.
В структуре концепта различимы статичность и динамичность, тезаурусность и субъективность. По словарному значению «концепт» и «понятие» – слова близкие. Так, в «Словаре итальянского языка» Дзингарелли «концепт» (concetto) – это «мысль» (pensiero), «идея» (idea), «мнение» (nozione)[290]. В английских словарях «концепт» – «идея, лежащая в основе целого класса вещей», «общепринятое мнение, точка зрения» (general notion)[291]. В такой трактовке концепт приближается к понятию. В современном французском языке «концепт» также понимается как абстрактная, обобщенная репрезентация объекта[292].
Однако при ближайшем рассмотрении картина утрачивает четкость и однозначность. Концепт перестает казаться единицей словаря-тезауруса. В «Longman Dictionary of Contemporary English» «концепт» определяется как «чья-то идея о том, как что-то сделано из чего-то или как оно должно быть сделано» (someone's idea of how something is, or should be done)[293]. Возникает неожиданное указание на мыслящее лицо, деятеля, обладателя некой идеи и точки зрения. При всей абстрактности и обобщенности этого «некто» (someone) вместе с ним в «концепт» входит потенциальная субъективность. Между тем всякая субъективность противоположна понятию в собственном смысле слова.
Та же самая ситуация наблюдается и во французском языке. Стоит перейти от абстрактного существительного concept к словообразовательному гнезду, как тотчас открывается проективный, порождающий потенциал слова. Сошлемся на сложное существительное concepteurprojeteur, в котором объединяются семы «проектирования» и «порождения».
В русском языке слово «концепт» возникает как транслитерация латинского conceptus, что означает буквально «понятие, зачатие» (от глагола concipere – зачинать)[294]. Ю.С. Степанов подчеркивает, что слова «концепт» и «понятие» сходны по своей внутренней форме. Этимологически «понятие» восходит к глаголу «пояти», что означает «схватить, взять в собственность, взять женщину в жены». Таким образом, понятое, познанное (вспомним библейское выражение «познать женщину») есть нечто взятое и удержанное.
Во внутренней форме слова ощутимы противоположные полюсы динамики (схватывание) и стабильности (удержание). Между этими полюсами и разворачивается концепт. Намеченное здесь раздвоение подтверждают данные других языков. Итальянский глагол concepire связан как с деятельностью воображения (immaginare), так и с mente, т. е. деятельностью интеллекта. Если латинский глагол capire – синоним intellego, то их перевод на итальянский язык допускает как pensare (мыслить, думать), так и progettare – замысливать, планировать, предполагать[295]. Возникает одновременное ощущение устойчивости, глубины (интеллект) и стремительного движения вперед, пробрасывания, проектирования, предполагания (progettare).
Этимологический словарь французского языка указывает на то, что в XV–XVI веках слово «концепт» понималось как «план, замысел, проект» (dessein, projet). Связь между французским concept и латинским conceptus прослеживается следующим образом: «1е fait, de contenir, reunion, procreation». И здесь заметны семантические мотивы синтеза, интеграции, проектирования и творения[296]. Отметим, что глагол concevoir появляется во французском языке около ИЗО года в переводах библейской Книги Иова. В значении «формирования идеи» (formation d’une idee) этот глагол закрепляется во французском между 1190 и 1315 годами[297]. Вновь статический и динамический моменты в концепте объединяются.
Между внутренней формой слова и его базовым значением сохраняется напряжение, которое можно истолковать следующим образом: «концепт» содержит одновременно 1) «общую идею» некоего ряда явлений в понимании определенной эпохи и 2) этимологические моменты, проливающие свет на то, каким образом общая идея «зачинается» во множестве конкретных, единичных явлений.
Концепт – одновременно и индивидуальное представление, и общность. Такое понимание концепта сближает его с художественным образом (символом), заключающим в себе обобщающие и конкретно-чувственные моменты. Смысловое колебание между понятийным и чувственным, образным полюсами делает концепт гибкой, универсальной структурой, способной реализовываться в дискурсах разного типа.
Литературное произведение – диссипативная, открытая саморегулирующаяся структура. Произведение – центральный элемент системы «литература». Как уже отмечалось, теория подобных систем разработана нобелевским лауреатом И. Пригожиным и положена в основу нашей книги. На материале технических наук и антропологии ученый сделал открытие о жизнеспособности и вариативности подобных систем по сравнению с упорядоченными «закрытыми» системами, не способными к коммуникации. «Мы, – пишет И. Пригожин, – рассматриваем человеческие системы не в понятиях равновесия или как «механизмы», а как креативный мир с неполной информацией и изменяющимися ценностями, мир, в котором будущее может быть представлено во многих вариантах. Социальная проблема ценностей в широких пределах может связываться с нелинейностью. Ценности – это коды, которые мы используем, чтобы удержать социальную систему на некоторой линии развития, которая выбрана историей. Системы ценностей всегда противостоят дестабилизирующим эффектам флуктуации, которые порождаются самой социальной системой, это и придает процессу в целом черты необратимости и непредсказуемости»[298]. Мысль И. Пригожина о ценностях как кодах, удерживающих систему на «некоторой линии развития», выбранной историей и противостоящей дестабилизирующим эффектам флуктуации, вводит проблематику «смысла».
Процитированный фрагмент статьи И. Пригожина заставляет задуматься о том, что и литературу можно представить в виде системы ценностей, состоящей из произведений литературы и художественных текстов и возвышающейся над нею системы ценностных кодов, единых для культурной традиции. В культурной коммуникации традиция, будучи общей для автора и читателя, создает возможность понимания смысла произведения литературы читателем, и она же обеспечивает последнего набором кодов-критериев, которыми он может воспользоваться, чтобы из множества текстов выделить корпус произведений художественной литературы. В качестве такого кода и может быть назван концепт.
Структура вербально выраженного концепта аналогична, подобна самой системе «литература». Ее можно представить следующим образом:
внутренняя форма ↔ ядро ↔ актуальный слой
Здесь представляется принципиальным указание на концепт как микросистему, элементы которой соединены прямыми и обратными связями. Ю. Степанов вычленяет «три компонента, или три «слоя», концепта», однако прямые и обратные связи между ними специально не рассматривает[299].
Рассмотрим конкретный пример. Первая книга рассказов о деньгах и русских предпринимателях вышла в издательстве «Подкова»[300]. В нее вошли лучшие истории, отобранные в рамках литературного конкурса «Чудесные истории о деньгах». Рассказы отбирало жюри под председательством Татьяны Толстой. Книга получила название «Талан». Девиз литературного конкурса «Чудесные истории о деньгах» – знак стремительных изменений в отечественной культуре. Отметим, что концепт «чудесное» в лексиконе традиционной русской культуры плохо сочетается с концептом «деньги».
Т. Толстая нашла для книги замечательное название – «Талан». Талан – «старинное слово тюркского происхождения, означающее «удачу, судьбу, барыш, прибыток». Заметим, что ключевое слово для рассказов о деньгах имеет иноземное происхождение. «Талан» связан с «талантом». Татьяна Толстая поясняет: «В дореволюционной литературе слово «бесталанный» означало «невезучий», в ХХ-м же веке стало употребляться как синоним слова «неталантливый». Между тем «талант», т. е. «одаренность», происходит от греческого слова, обозначающего меру веса (видимо, серебра), т. е. деньги. Зарыть свой талант в землю, по евангельской притче, попросту означает не инвестировать деньги ни в какое дело, не нарастить процентов, не рискнуть капиталом, не пустить в оборот. Можно сказать, что талант – это капитал, а талан – доход, талант – это основа, а талан – счастливое везение. Зарыв талант, не получишь талана»[301].
Итак, Т. Толстая четко структурирует вербально выраженный концепт: внутренняя форма (талант как мера веса, серебра) ядро (талант как одаренность) актуальный слой (талант как талан: доход, барыш, удача).
Т. Толстая играет с евангельской притчей, которую Христос рассказывает ученикам. В притче говорится о человеке, который, «отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе…». Как известно, «получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; Точно так же и получивший два таланта приобрел другие два; Получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: “господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них”. Господин его сказал ему: “хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего”. Подошел также и получивший два таланта и сказал: “господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них”. Господин его сказал ему: “хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего”. Подошел и получивший один талант и сказал: “господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал; И убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое”. Господин же его сказал ему в ответ: “лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед получил бы мое с прибылью; Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов”. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!» (Матф.: 25; 14–30).
Стремительно меняются народ-отправитель, народ-получатель, традиция и реальность. Т. Толстая толкует евангельскую притчу для бизнесменов буквально. Она оперирует не смыслом, т. е. «конфигурацией» (Г.П. Щедровицкий) прямых и обратных связей в системе (внутренняя форма ядро актуальный слой), а лишь буквальным значением слова «талант» (мера веса, деньги). В данном случае на место ядра попадает «ближайшее этимологическое значение» (внутренняя форма). При этом Т. Толстая полностью отсекает второй смысловой план, совершенно очевидный и единственно важный в евангельском контексте. В евангельской притче основной смысл касается не собирания денег, а собирания «души», не «собирания сокровищ», а «в Бога богатения» (Лука: 12; 21). В Евангелии от Матфея (25; 14–30) речь идет о «бодрствовании» перед вторым пришествием Иисуса Христа, которое будет предшествовать Страшному Суду: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий» (Матф.: 25; 13). Речь идет о Часе Страшного Суда, когда «соберутся перед Ним все народы; и отделит одних от других…» (Матф.: 25; 31).
Истолкование Т. Толстой иное: употребление слова «талант» «так далеко отлетело от его первоначального значения, что талант в наши дни противопоставляется деньгам. Деньги, мол, – это низменный и презренный металл, гадкие бумажки, их можно зарабатывать или красть, зато талант – дар, полученный от богов просто так, ни за что, именно что даром». И современная писательница заключает: «Не в том ли глубочайшая культурная разница между Россией и Западом, что мы ценим подаренное больше, чем заработанное, случайное – больше, чем выстраданное, стрекозу – больше, чем муравья?» Интересно, что Т. Толстая смешивает «труд» и «деньги», превращая коллективиста-муравья из басни Крылова в индивидуалиста-бизнесмена. Индивидуалистка же стрекоза становится у нее концептом русской ментальности по признаку «безделье». Концепты противоречиво накладываются друг на друга.
Базовые значения концепта «талант» подвергаются постоянному воздействию актуального слоя. Если концепт «талан» (барыш, удача) будет тиражироваться, повторяться, все чаще сливаясь с концептом «талант», то может произойти языковая и ментальная подмена. Талантливым будет считаться тот, кто имеет талан, т. е. деньги, барыш, удачу. Близость звучания (талант талон) приводит к сближению значений. Один и тот же артефакт (концепт) «деньги» через производителя и получателя в современной глобализованной культуре соотносится с разными традициями и реальностями. В этом случае коммуникация между современными бизнесменами и современными верующими людьми может не состояться. Происходит трансформация национально-культурной картины мира. Изменения носят системный характер, поскольку затрагивают не слова, а концепты. Меняется не значение слов, а их смысл.
Путь концепта в литературоведение, по-видимому, можно проложить, воспользовавшись системным подходом к литературе. В коммуникативной цепи наличествуют не только прямые, но и обратные связи: автор произведение читатель, где «произведение слово» эту связь доносит.
Уже отмечалось, что «автор произведение» – достаточно устойчивая данность, хотя и с преувеличением закрепленная в русской пословице о том, что «написанное пером не вырубишь топором». Напротив, связь «произведение читатель» – величина в принципе переменная, зависящая от эпохи, социальных и индивидуальных причин. Эту подсистему изучает с успехом рецептивная эстетика. В целом систему «литература» можно охарактеризовать как открытую, нестабильную, диссипативную систему. Открытость ее обусловлена тем, что традиция и реальность не прямо связаны с художественными произведениями. Связь эта осуществляется через автора и читателя. Неустойчивость – от неравновесности отношений в подсистеме «произведение читатель». Вместе с тем в системе «литература» возможна саморегуляция, способствующая фазовому переходу текста в художественное произведение. Под «фазовым переходом» в синергетике понимают «…переход от одного связанного многообразия к другому принципиальное изменение состояния системы». «Произведение» и «текст» – различные состояния системы «литература». Текст и произведения – два разных типа «связанного многообразия».
Подобно системе «литература» в целом, концепты открыты, неустойчивы, нестабильны, неравновесны. Выражая не значение, а контекстуальный смысл, концепт предстает как микромодель системы «литература». Рассмотрим, например, словосочетание «болдинская осень». Для человека, не владеющего «прецедентным смыслом» этого выражения в русской культуре, понятно лишь его значение. «Болдинская осень» – это осень в селе Болдино.
Концепт «болдинская осень» содержит не значение, а смысл, раскрывающийся в цепочке прецедентных, всеобще значимых, аффективно-интеллектуальных ассоциаций: гений А.С. Пушкина, полет вдохновения, «Евгений Онегин», «Маленькие трагедии», «Повести Белкина» и т. д. Значение и концептуальный смысл выражения «болдинская осень» кардинально различаются. Точно так же различаются текст, имеющий информативное значение, и воспринятый читателем текст, получивший смысл и обретший статус эстетического факта. В ходе фазового перехода так понятый текст переходит в состояние «произведения». Итак, «текст» соотносится с «произведением» так, как «значение» соотносится со «смыслом» (концептом).
Вопросы к теме
1. Каков генезис понятия «концепт»?
2. Охарактеризуйте типологию концептов С.А. Аскольдова?
3. В чем специфика «художественного концепта»?
4. Какова структура вербально выраженного концепта и как она
соотносится с моделью системы «литература»?
5. Как связаны между собой понятия «смысл», «концепт» и «дискурс»?
Литература по теме
1. Аскольдов С. А. Концепт и слово //Русская словесность / Под общ. ред. д.ф.н., проф. В.П. Нерознака. – М., 1997.
2. Гумбольдт Вильгельм фон. Язык и философия культуры. – М., 1985.
3. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Межкультурная коммуникация: практикум. Ч. I. – Нижний Новгород, 2002.
4. Степанов Ю. Константы: словарь русской культуры. – М., 2001.
5. Степанов Ю.С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. – М., 2007.
6. Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и информатика. – Вып. 35. – М., 1997.
Дополнительная литература
1. Гак В.Г. Лексическое значение слова // Языкознание / Гл. ред.
В.Н. Ярцева. 2-е (репринтное) изд. «Лингвистического энциклопедического словаря 1990 года». – М., 2000.
2. Зусман В.Г. Диалог и концепт в литературе. – Нижний Новгород, 2001.
3. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М., 1987.
4. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 1996.
5. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. – М., 2007.
Тема 15 Литература как дискурс
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дискурс, смысл, система литература, текст, художественное произведение, высказывание, концепт
Взгляд на литературу как дискурс означает особый тип ее понимания. Слово «дискурс» пришло в русский язык через посредство французского (от франц. discours) и английского (discourse) языков, в которых оно, в свою очередь, было заимствовано из латыни (лат. discursus). Discursus – бег в разные стороны, туда и сюда[302]. Буквальное значение исходного слова проливает свет на роль «дискурса» в коммуникации. В буквальном значении слова заложено указание на динамику, подвижность, смысловой «бег». Понятая как дискурс, литература представляет собой открытую, неустойчивую, нелинейную, динамическую саморегулирующуюся систему. Литература – сложная, даже сверхсложная система, тесно связанная с «внесистемным окружением», «окружающей средой».
Мишель Фуко (Michel Foucault, 1926–1984) – французский историк и теоретик культуры. Разработал теорию автора и включил ее в теорию дискурса. Фуко разработал особый метод анализа дискурса – «археологию», противопоставив его традиционной описательности. Философ разработал понятия «дискурсивной формации», «дискурсивной практики» и «эпистемы» как структуры, обусловливающей возможность определенных научных теорий в тот или иной исторический период. Основой эпистемы является заданное на каждом историческом этапе соотношение «слов» и «вещей». Центральные темы Фуко-историка и культуролога – «история безумия» и связанные с ней социальные практики. Фуко отрицает принцип «всеобщих необходимостей» в философии, дискурс власти и принцип авторитета, сжимающих личную свободу человека.
Литература:
ФукоМ. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В.П. Визгина и Н.С. Автономовой. – СПб., 1994.
Фуко М. Археология знания. – Киев, 1996.
Фуко М. История безумия в классическую эпоху/ Пер. с фр. И. Стаф; под ред. В. Гайдамака. – СПб., 1997.
Современное понимание дискурса, сложившееся в трудах французского философа, историка и теоретика культуры М. Фуко, носит в целом надлитературный и надлингвистический характер. Его интересуют более общие проблемы истории и культуры. В книге «Слова и вещи» (1966) М. Фуко трактует дискурс как «совокупность структурирующих механизмов надстройки» в противоположность «недискурсивным» экономическим, техническим механизмам и закономерностям[303]. В этом контексте «дискурс» – явление коллективной ментальности.
Развитие французской школы анализа дискурса происходит в контексте студенческой революции 1968 г. под знаком соединения социологии, семиотики, философии и психоанализа. В книге М. Фуко «Археологии знания» (1969) главным предметом анализа становятся речевые практики, сосуществующие внутри одной эпистемы. Под «эпистемой» М. Фуко понимает «исторически изменяющиеся структуры», «исторические априори», которые определяют основания наук в каждый данный период[304]. Французского философа интересует взаимодействие речевых, дискурсивных практик, определяющее «как слова, так и вещи»[305]. В контексте «Археологии знания» термин «речевая практика» акцентирует языковое выражение ментальных явлений.
В отличие от лингвистов литературоведы значительно реже использовали термины «дискурс» и «дискурсивный подход». Вместе с тем термин «дискурс» занимает важное место в научном словаре французских структуралистов. Ц. Тодоров и его круг понимали под дискурсом «…все те уровни, которые накладываются (дополняют, перекрывают) нить повествования в строгом смысле слова»[306]. Ц. Тодоров писал, что структурную поэтику интересует не «…литературное произведение само по себе: ее интересуют свойства того особого типа высказываний, каким является литературный текст (discours litteraire)»[307]. В таком понимании текст делится на «интригу» и «дискурс»4. Существенно, что структурализм связывает дискурс с экспрессивными элементами текста.
В 60—70-е годы XX века термин «дискурс» активно использовался в «нарратологии» – теории повествования. В этом контексте «дискурс» понимался как элемент структуры текста, его внутреннего строения[308]. Итак, между концепцией М. Фуко и французской школы «анализа дискурса», с одной стороны, и литературоведческим пониманием дискурса во французском структурализме, с другой, очевидны значительные расхождения. Если М. Фуко и его последователи трактуют дискурс как «институционный механизм» порождения высказывания[309], то структуралисты интерпретируют дискурс как элемент структуры текста. В целом намечается два уровня интерпретации термина: 1) дискурс – имманентный признак литературы; 2) дискурс – экстралитерартурный момент.
В постструктуралистском литературоведении с опорой на идеи Фуко была разработана теория «интердискурса»[310]. «Интердискурс» состоит из дискурсивных элементов, которые могут встречаться в различных областях. Объектом анализа становились, например, коллективные символы (Fairness, ветер) и т. д. Новый поворот к «дискурсу» в литературоведении наметился в конце 80-х – начале 90-х годов XX века в работах представителей «нового историзма» (New Historicism), также опиравшихся на М. Фуко.
В изучении дискурса теория литературы следует за языкознанием. В лингвистике discours означает «речь». В этом значении этот термин широко использовал Ф. де Соссюр. Еще в 1908–1909 гг. Ф. де Соссюр поставил вопрос о «двух лингвистиках»2. При этом он не отрицал «взаимозависимости» между языком и речью[311]. Однако вторую лингвистику Ф. де Соссюр не считал объектом серьезного изучения. По мнению женевского ученого, речь нельзя обследовать досконально, поскольку она «беспрерывно обновляется» в результате «деятельности социальных сил»[312]. Второй лингвистике предстояло, однако, большое будущее в XX веке.
В дальнейшем критика дихотомии Ф. де Соссюра (язык – речь) оказалась продуктивной для становления теории дискурса. В 20-х годах XX века ученые из круга М.М. Бахтина выступили против «абстрактного объективизма», характерного для женевской школы. Так, В.Н. Волошинов в книге «Марксизм и философия языка», содержащей ключевые идеи М.М. Бахтина о диалоге и диалогизме, подчеркивал, что Ф. де Соссюр не рассматривал «высказывание» как серьезный объект изучения[313]. М.М. Бахтин, напротив, видел в языке «процесс», не статичную, а динамическую, открытую систему. Его интересовала «установка говорящего», слушающего и понимающего, с позиций которых языковая форма представляет собой «изменчивый и гибкий знак»[314]. С этой точки зрения языковой дискурс можно назвать становящимся, открытым языковым процессом, содержащим «изменчивые и гибкие знаки» говорящих и слушающих. Позднее М.М. Бахтин использовал термин «речевое общение». «Речевое общение» противопоставлено «языку» как статичной системе[315]. Дискурс с этой точки зрения – процесс речевого общения, понятый как динамическая система. Единицей дискурса является не предложение, а высказывание.
В понимании М.М. Бахтина, высказывание – «речевое целое». Высказывание как единица дискурса «входит в мир совершенно иных отношений…». Такие отношения М.М. Бахтин определяет как «диалогические», т. е. требующие экстра-лингвистического, экстратекстового «ответного понимания» и включающие в себя оценку. Высказывание, по М.М. Бахтину, имеет «…не значение, а смысл…»[316]. В рамках системно-синергетического подхода можно утверждать, что дискурс состоит из высказываний, содержащих концепт.
В литературе носителями прирастающего или теряемого смысла могут выступать любые знаки. Даже самый малый диакритический знак может существенно изменять смысл целого, выступая как концепт. Так, например, в финале «Золотого горшка» (1814; 1819) Э.Т.А. Гофмана повествователь задает вопрос: «Ist denn überhaupt des Anselmus Seligkeit etwas anderes als das Leben in der Poesie, der sich der heilige Einklang aller Wesen als tiefstes Geheimnis der Natur offenbaret?» Знак вопроса здесь сигнализирует об иронии, налагающей, как известно, впечатление двойственности на всю «сказку из новых времен». Однако переводивший этот фрагмент А.В. Федоров заменил знак вопроса на знак восклицания: «Да разве и блаженство Ансельма не есть не что иное, как жизнь в поэзии, которой священная гармония всего сущего открывается как глубочайшая из тайн природы!»[317]. Замена всего лишь одного знака в переводе, по виду случайная, но внутренне закономерная, меняет смысл финала на противоположный. Если Э.Т.А. Гофман подвергает сомнению романтическое представление о всевластии «поэзии», то в русском переводе концовка звучит утвердительно и однозначно. Снимается авторская ирония. Переводчик воссоздает более ранний слой художественного мировоззрения немецких романтиков, с которым как раз и полемизирует Э.Т.А. Гофман в «Золотом горшке». Заменив знак вопроса на знак восклицания, переводчик «сломал» интонационный строй финала. Одновременно у читателей возникло иное представление об окружающей сказку Гофмана внетекстовой среде. А.В. Федоров создает образ затекстовой реальности, тяготеющей к утверждению, пафосу и отторгающей иронию. Он сообщает читателям иное смысловое содержание, иной концепт. Входя в советский дискурс, «Золотой горшок» Э.Т.А. Гофмана «советизируется».
Очевидно, что интонация изменяет смысл высказывания, хотя словарные значения слов формально остаются неизменными. Высказывание в дискурсе перестраивается синергетически, включаясь в «совместное смысловое действие, «совместную работу» произведения. Высказывание внутренне перестраивается по отношению к чужим высказываниям, к предмету, к самому говорящему и к слушающему. Высказывание входит в широкий контекст. Текст входит в дискурс и становится потенциально способным трансформироваться в произведение.
Эмиль Бенвенист (Вепveniste, 1902–1976) – выдающийся французский лингвист, специалист по общему и европейскому языкознанию, семиотике, автор «Словаря индоевропейских социальных терминов», в котором рассматриваются ключевые концепты культуры, создатель оригинальной теории дискурса. Э. Бенвенист отмечает, что знаку «присуща подлинная символика», с помощью которой объективные данные транспонируются в формализованные элементы, «состоящие из переменных элементов и постоянного «значения». По мнению Э. Бенвениста, характерное свойство языка состоит в том, «чтобы обеспечить субститут опыта, который без конца можно передавать во времени и пространстве…».
Литература:
Бенвенист Эмиль. Общая лингвистика / Ред., вст. ст. и коммент. Ю.С. Степанова. – М., 1974.
Бенвенист Эмиль. Словарь индоевропейских социальных терминов / Общ. ред. и вст. ст. акад. Ю.С. Степанова. – М., 1995.
В лингвистике есть несколько ведущих концепций дискурса. Все их объединяет признак «процессуальности», отнесенный к семиотическим процессам[318].
Глубокой концепцией дискурса представляется теория французского лингвиста Э. Бенвениста, разработанная в 40—50-е годы прошлого столетия. С его точки зрения, «дискурс» – это «язык в действии», «акт речи», соединяющий язык и присваивающего его человека. Он подчеркивал, что «высказывание» есть «…приведение языка в действие посредством индивидуального акта его использования»[319]. Присутствие «субъекта» выражается в словах «я», «сейчас», «здесь», «обещаю», «клянусь»[320]. Эти «показатели дейксиса» «прицепляют» высказывание ко времени, к месту, к обстоятельствам акта высказывания.
Для дискурсивных изысканий важен контекст: «кто это сказал», «кому», как, о чем, с какой целью. Слово (в самом общем смысле) в равной степени определяется как тем «чье оно», так и тем, для кого оно»[321]. В системе «литература» таким контекстом могут быть названы литературная и языковая традиции, а также экстралитературная реальность – социальные, бытовые, временные условия функционирования текста.
Из многочисленных современных определений наиболее удачным видится определение Н.Д. Арутюновой: дискурс – это речь, погруженная в жизнь, «связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами»[322]. По аналогии дискурс в литературе – художественный текст, погруженный в жизнь и способный трансформироваться в «произведение»:
Именно традиция и реальность, окружающая среда художественного текста, постоянно перестраивают его смысловую структуру. Текст становится открытым, нелинейным, дискурсивным. Особенно явно такое превращение текста в дискурс и переход его в статус произведения заметны в переводе. Рассмотрим в качестве примера переводы зачина пушкинской «Сказки о царе Салтане». Немецкий перевод сказки Пушкина интересен и с другой точки зрения. Здесь исходный текст перестраивается в дискурс. Возникает новое произведение, несущее в себе возможные реакции немецких читателей. Переводчик на немецкий язык К. Воровски прибегает к бессознательной замене мотивировок. Сравним оригинал с переводом:
Только вымолвить успела, Дверь тихонько заскрыпела, И в светлицу входит царь, Стороны той государь. Во все время разговора Он стоял позадь забора; Речь последней по всему Полюбилася ему. Kaum war dieses Wort gеsprochen, hörten sie ein lautes Pochen, ratet einmal, wer da war? In das Zimmer trat der Zar! War gerad vorbeigekommen, hatte aufgehorcht am Zaun, wollte nun die Jüngste schaun[323].(курсив мой. – В.З.)
Переводчик подает царя Салтана как самовластного владыку. Если в оригинале «дверь тихонько заскрыпела», то в переводе царь открывает ее «с громким стуком». Если А.С. Пушкин не вступает с читателем в разговор, то К. Воровски начинает играть с ним: «Угадай, кто это там?». Однако самая поразительная замена в буквальном смысле слова «закрадывается» в перевод. У Пушкина царь стоял «позадь забора» «во все время разговора». Немецкая ментальность переводчика запрещает такое времяпрепровождение для царя. К. Воровски оправдывает царя Салтана: «Случайно шел мимо и прислушался у забора» (War gerad vorbeigekommen, // hatte aufgehorcht am Zaun…). Изменения в переводе носят явный дискурсивный характер. В сказке в игровом плане проявляется существенное для национальной ментальности отношение ко времени и пространству Экстра-текстовые факторы определяют внутритекстовые замены. В ситуации иной художественной коммуникации рождается новое литературное произведение.
Произведения литературы сообщаются с окружающей средой через созидающее сознание автора и воспринимающее сознание читателя. Текст включается таким образом в движение смыслов, циркулирующих в традиции и реальности. Так, в хрестоматийной новелле Т. Манна «Марио и волшебник» (1930) гипнотизер, «чародей» (Zauberer) Чиппола прямо отрицает «свободу воли»[324], восхваляя способность публики «отрешиться» от своего «я» (202). Гипнотизер утверждает, что есть силы «более могущественные, нежели разум и добродетель» (211). «Чародей» Чиппола с огромной силой воздействует на аудиторию, соблазняя, издеваясь, превращая зрителей в рабов. В новелле возникает образ «магического вождя», порождающего «нигилизм», всеобщую «развинченность», особую атмосферу вседозволенности и страха. Сюжет новеллы вырастает из атмосферы времени, пронизанной флюидами национализма. Патриоты – везде и всюду; даже пляж в Торре «кишел юными патриотами» (176).
Новелла Т. Манна является ярким примером текста, входящего в дискурс и перерастающего в произведение. «Марио и волшебник» – текст, не только вобравший в себя «дух времени». Это еще и произведение-прогноз. Прогностические свойства произведения в большой степени связаны с его дискурсивной природой. Рассмотренная в составе дискурса, включенная в контекст традиции и реальности и воспринятая читателями, новелла оказывается потенциально открытой для порождения смысла. Происходит синергетическое взаимодействие произведения и контекста. Связь фашизма, атмосферы вседозволенности, страха и рекламы, угаданная Т. Манном, определяет, например, и дневниковую запись Виктора Клемперера от 20 апреля 1933 г. Выдающийся критик языка и ментальности Третьего рейха, В. Клемперер отмечает: «Ist es die Suggestion der ungeheueren Propaganda – Film, Radio, Zeitungen, immer neue Feste (heute der Volksfeiertag, Adolf des Führers Geburtstag)? Oder ist es die zitternde Sklavenangst ringsum? (…) Genial verstehen sie sich auf die Reklame. Wir sahen vorgestern (und hörten) im Film, wie Hitler den grossen Appel abhält: Die Masse der SA-Leute vor ihm, das halben Dutzend Mikrophone vor seinem Pult, das seine Worte an 600000 SA-Leute im ganzen Dritten Reich weitergibt – man sieht seine Allmacht und duckt sich»[325]. Ключевые слова здесь – «реклама» (Reklame) – «всевластие» (Allmacht.) – «сгибаться» (sich ducken). В них дана сжатая формула взаимодействия новеллы Т. Манна и дневника В. Клемперера с «атмосферой эпохи», затекстовой реальностью.
Достраивает смысл новеллы и судьба слова «интеллектуальный» в языке Третьего рейха. Антиинтеллектуализм Муссолини и Гитлера, многое объясняющий в поведении чародея Чипполы, обворожил многих представителей высокой европейской культуры. Само слово Intellektueller начинает восприниматься как «сниженное». Если в 11-м издании словаря правописания Дуден 1934 г. оно дефинируется еще как «образованный человек, принадлежащий к духовной элите» (Gebildeter, Angehoriger der geistigen Oberschicht), то в 12-м издании этого же словаря в 1941 году уже определяется как «односторонний рассудочный человек» (einseitiger Verstandesmensch)[326]. В языке Третьего рейха пейоративное, сниженное «интеллектуал» соединяется со словами «разлагать» (zerset.zen) – «система» (System) – «лишенный органичности» (nic.ht. organisch). Текст, ставший произведением в дискурсе, вбирает и удаляет смыслы, порождаемые благодаря наличию прямых и обратных связей в системе «литература». Дискурсивное превращение текста в произведение порождает особую экспрессивность.
Приведем пример из истории исполнительства. Великий пианист Генрих Густавович Нейгауз не согласился однажды с интерпретацией фуги b-moll из второго тома ХТК И.С. Баха, предложенной пианисткой Марией Вениаминовной Юдиной. Юдина исполнила эту фугу в одном из концертов в начале Великой Отечественной войны. На замечание Нейгауза Юдина ответила твердо и лаконично: «А сейчас война!»[327]. В исполнении Юдиной фуга И.С. Баха перестала быть «памятником музыкального искусства». Музыкальный текст в военном дискурсе превратился в новое произведение.
Известный германист Петер Шпренгель открывает «Историю немецкоязычных литератур 1900–1918» разделом под названием «Портрет эпохи»[328]. Автор рассматривает «Тенденции времени»: кризис авторитета и авторитетности, самоубийство среди молодежи, проблему «отцов и сыновей», «властителей и верноподданных», ускорение и нервозность, соотношение техники и человека, фактор кинематографа, новую мобильность, альтернативные жизненные формы и социальные движения – богему и дендизм, анархизм, сионизм религиозный и сионизм в культуре… Представляется, что П. Шпренгель характеризует литературу эпохи как дискурс.
Для теории литературного дискурса важна мысль о том, что «…только контакт языкового значения с конкретной реальностью, только контакт языка с действительностью, который происходит в высказывании, порождает искру экспрессии: ее нет ни в системе языка, ни в объективной, существующей вне нас действительности»[329]. Таким образом, новый смысл, возникающий в художественном произведении в дискурсе, можно понимать как экспрессию в самом широком смысле слова.
Литературный дискурс устанавливает связи между художественным произведением и автором, художественным текстом и читателем, автором и традицией, читателем и реальностью… Дискурс – это текст произведения, открытого для непрерывной «переакцентуации», становящийся в точках встречи текста и контекста, «я» и «другого». Входя в дискурс, произведение «…восполняется рядом очень существенных моментов неграмматического характера, в корне меняющих его природу»[330]. В 50—70-е годы XX века М.М. Бахтин разрабатывает проблему «художественного высказывания, сосредоточив внимание на смысловом скачке от «данного к новому в речевом высказывании»[331]. В результате скачка текст становится произведением в дискурсе, вбирая и отдавая новые «искры экспрессии». Дополнительная экспрессия в произведении возникает за счет включения прямых и обратных связей между автором
читателем и внетекстовыми традицией и реальностью. Их особая сложность состоит в том, что литературный дискурс «перебрасывает мостик» между миром воображения и конкретной реальностью, между вымышленным миром литературы и действительностью. Анализ литературы как дискурса смещает акценты. В фокус внимания попадает не Обломов, а обломовщина, не Передонов, Фауст или Карамазов, а «передоновщина», «карамазовщина», фаустианское начало.
Структуралистская поэтика включила категории «литературное произведение» и «дискурс» в оппозицию «статическое – динамическое». В структурализме был осуществлен «обратный перевод» «литературного произведения» в «дискурс». Образцом для этой бинарной структуры служила оппозиция Ф. де Соссюра «язык – речь». При этом произведение воспринималось как аналог языка, а дискурс – речи. В рамках системно-синергетического подхода категории «текст» и «дискурс» интерпретируются как различные состояния системы «литература». Текст и произведение – два разных типа «связанного многообразия». Художественная коммуникация приводит к рецепции текста читателем или читателями. В ходе рецепции порождается «смысл». Дискурс – динамический модус существования системы «литература». В дискурсе запускаются системные механизмы «литературы». Происходит фазовый переход текста в художественное произведение.
Вопросы к теме
1. Каков генезис понятия «дискурс»?
2. Каковы основные свойства дискурса в понимании М. Фуко?
3. Прокомментируйте теорию дискурса в трудах Э. Бенвениста.
4. Какой смысл вкладывает М.М. Бахтин в термин «высказывание»? Как соотносятся категории «дискурс» и «концепт»?
5. Как соотносятся понятия «текст» и «литературное произведение» в контексте «художественного дискурса»?
6. Как связаны между собой понятия «смысл», «концепт» и «дискурс»?
Литература по теме
1. Фуко Мишель. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб., 1994.
2. Ильин И.П. Словарь терминов французского структурализма // Структурализм: «за» и «против». – М., 1975.
3. Тодоров Цветам. Поэтика // Структурализм: «за» и «против». – М., 1975.
4. Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса / Предисл. Ю.С. Степанова; общ. ред., вст. ст. и коммент. Патрика Серио. – М., 1999.
Дополнительная литература
1. Автономова Н. Познание и перевод. – М., 2008.
2. Автономова Н. Открытая структура: Якобсон – Бахтин – Лотман – Гаспаров. – М., 2009.
3. Зусман В.Г. Дискурс в литературе // Русская германистика. Т. III. – М., 2007.
4. Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. – М., 2000.
5. Постмодернизм. Энциклопедия / Сост. и науч. ред. А.А. Грицанов, М.А. Можейко. – Минск, 2001.
6. Bossinade Johanna, Poststruktiiralistische Literaturtheorie. Stuttgart-Weimar, 2000.
7. Metzler Lexikon Literatur– und Kulturtheorie. Ansdtze – Personen – Grundbegriffe. 2. uberarb. und erw. Aufl. / Hrsg. v. Ansgar Nunning. – Stuttgart-Weimar,2001.
8. Mills Sara, Der Diskurs. – Tubingen und Basel, 2007.
Заключение
Вопрос о путях изучения художественной литературы давно является предметом дискуссий. В них включены философы и социологи, психологи и теологи, лингвисты и литературоведы. Неоднократно делались попытки перечислить основные подходы к произведению. Так, Н.С. Трубецкой в статье «О методах изучения Достоевского» назвал – «1) биографический; 2) философско-идеологический; 3) фрейдианско-психоаналитический; 4) социологический; 5) формальный методы»[332]. Неполнота и произвольность выбора не должны нас слишком смущать. Со времени написания статьи Н.С. Трубецкого, с 30-х годов, прошло более восьмидесяти лет. Время расставило новые акценты, изменилась терминология, появились новые подходы. Но осталось неизменным то, что литературоведческие методы предполагают открытие в литературе новых свойств, прежде остававшихся вне поля зрения.
Каждый метод в литературоведении имеет свою специфику. Есть разные эпохи, авторы, жанры и стили, которые в наибольшей мере открываются благодаря тому или иному типу истолкования. Выбор метода обусловлен, конечно, мировоззренческими и научными установками исследователя, связанными с современной научной парадигмой. В целом же представляется разумным определить тот специфический ключ (или набор ключей), который помогает лучше понять конкретное произведение. Разным элементам системы «литература» потенциально соответствуют и разные методы анализа. Монопольным владением истины не обладает ни один из них, а потому именно полилог методов, взаимно соотносимых и иерархически стыкующихся, способствует разностороннему подходу к объекту истолкования.
Новые методы не исключают старых. Ни один из них не является универсальным и окончательным. Системно-синергетический подход не отменяет биографического, культурно-исторического, компаративного, социологического, формального, герменевтического, психологического или иного типа истолкования. Но и в этом перечне авторы не претендуют на полноту характеристик. Для этого в каждом отдельном случае потребовалась бы монография. Поставленная задача скромнее – дать начинающим литературоведам общее представление о различных методах и возможности сочетания разных подходов к системе «литература».
Новым взглядом на изучение литературы стал системно-синергетический подход, акцентирующий внимание на порождении смысла и саморегуляции системы «литература». Смыслом М.М. Бахтин называл «ответы на вопросы». В литературе смысл диалогичен и символичен. Художественное произведение имеет смысл, если способно «…нечто означать, символизировать, указывать на что-то иное, нежели на самого себя…» (Ю.М. Лотман). В «литературе» смысл не сводится к сумме элементов системы. Смысл в системе «литература» возникает как результат превращения текста в художественное произведение.
Ключевые понятия
Автор — один из элементов системы «литература», также представляющий собой сложную систему: автор биографический ↔ автор художественный (концепированный).
Автор биографический — автор как конкретное лицо, со своей психологией и жизненной историей, находится в центре внимания биографического метода.
Автор концепированный (художественный) – носитель художественного сознания, обнимающего произведение целиком.
Актуальный слой вербально выраженного художественного концепта — элемент в структуре концепта, соединенный прямыми и обратными связями с ядром. Актуальный слой концепта во взаимосвязях с традицией и реальностью передает реакцию зрителя, слушателя, читателя на ядро художественного концепта. Благодаря актуальному слою ключевые слова и словосочетания предстают как слова с «памятью», с «расширением» (Ю.С. Степанов). Актуальный слой содержит не словарное значение слова, а смысл, который слово вобрало в себя из контекста, из совокупности «всех психологических фактов» (Л.С. Выготский), возникающих в сознании читателя благодаря слову.
Биографический метод в системе «литература» ориентирован на отношение «автор – произведение», в котором автор — живой, конкретный человек. В биографическом методе биография и личность писателя рассматриваются как определяющие моменты творчества. Основоположник метода – Ш. О. Сент-Бёв. М. Пруст писал о «вненаходимости» автора по отношению к произведению в книге «Против Сент-Бёва». Сходные мысли высказывал М.М. Бахтин. Биографический метод связан с психологическим и культурно-историческим подходами к литературе.
Вариант (лат. varians (variantis) – изменяющийся) – 1) видоизменение, 2) разновидность, одна из нескольких комбинаций инварианта.
Вариант – термин, который используется в математике и лингвистике.
В математике вариант – величина, изменяющаяся при тех или иных преобразованиях; в лингвистике вариант – конкретная единица языка в противоположность инварианту, в литературе – воплощение абстрактной модели, художественное произведение.
Вербализация — «выраженность мысли внешней речью» (Е.Г. Эткинд), перевод ментальных концептов в языковые.
Внутренняя форма — один из признаков значения слова, соединившийся с его звучанием. Наличие разных слов для обозначения одного и того же явления иллюстрирует этот феномен. Вслед за В. фон Гумбольдтом А.А. Потебня определял внутреннюю форму как «образ образа», «представление».
Внутренняя форма в структуре вербально выраженного концепта — один из элементов микросистемы «концепт», связанный прямыми и обратными связями с ядром. Внутреннюю форму окутывает облако ассоциаций. В художественной коммуникации архаические ассоциации могут «подновляться», неожиданно возвращаясь в ассоциативный фонд читателей.
«Встречное течение» (А.Н. Веселовский) – готовность «воспринимающего контекста» вступить в диалог с воспринимаемым литературным явлением.
Высказывание — единица диалогических отношений в понимании М.М. Бахтина. За каждым высказыванием стоит субъект сознания, со своей точкой зрения, позицией в общении, собственным голосом и диалогическим словом. Высказывание имеет «…не значение, а смысл…», т. е. соотносится с Нададресатом, Третьим, Богом, совестью, истиной, судом истории, красотой… (М.М. Бахтин). Интонация изменяет смысл высказывания в диалоге, хотя словарные значения слов формально остаются неизменными. Высказывание связано с порождением художественных концептов в системе «литература».
Герменевтика (метод литературной герменевтики) – наука толкования текстов, учение о принципах их интерпретации. Герменевтическое истолкование произведения ставит задачу постижения смысла, а не содержания произведения.
Глобализация (франц. global – всеобщий; лат. globus – шар) – одна из ведущих тенденций в современном нестабильном мире, заключающаяся в интеграции, унификации и стандартизации. Глобализация – планетарное явление. Метафорами глобализации являются «мировая деревня» и «сетевое общество». Аналогичное явление – «сетевая литература». Ключевой формат «сетевой литературы» – гипертекст. Мировая литература глобализованной эпохи – интерактивная сетевая литература, возникающая во множестве вариантов и продолжений при участии читателей – пользователей Интернета. Читатель нового типа – часто и по преимуществу интернет-пользователь, находящийся в сети и участвующий, по приглашению автора, в создании все новых вариантов выложенного в сети текста. Многовариантные, открытые нестабильные тексты постмодернистской литературы известны в высоком, элитарном и «массовом» вариантах. Образцы постмодернистских элитарных текстов принадлежат сербскому прозаику и драматургу М. Павичу (1929–2009).
Граница (слав, gran – ребро, край, «острие») – одна из ключевых категорий природного, социального, литературного и языкового миров. Граница – линия раздела, черта, межа. Граница – категория семиотическая, о чем свидетельствуют межевые, приграничные знаки. На границе формируется «пограничное мышление» (К. Хаусхофер), контактное и заградительное одновременно. Граница маркирует точки контакта между текстом и контекстом. «Только в точке этого контакта текстов вспыхивает свет, освещающий назад и вперед, приобщающий данный текст к диалогу» (М.М. Бахтин).
Диалог (греч. dialogos – разговор, беседа, букв, ‘речь через’) – в узком понимании диалог – диалогическая речь, вид речи, представляющий собой попеременный обмен репликами двух и более людей.
В широком понимании диалог есть диалогизм – философский принцип понимания мира как целостности, единства (М.М. Бахтин), ключевая категория художественной коммуникации. Диалог – «онтологически-событийная равнозначность» (В.Л. Махлин), не результат, а процесс, непрерывное становление. Диалог – это всегда «обращенность» к Другому, «исхождение из себя» (М.М. Бахтин). Форму полифонического романа-диалога М.М. Бахтин исследует на примере творчества Ф.М. Достоевского.
Человек в диалоге – «субъект обращения» к «другому», к адресату, ко второму участнику общения (М.М. Бахтин). Однако в «диалогической сфере бытия» возможна и обращенность к Нададресату, к Третьему как носителю высшего смысла.
Дискурс (лат. discursus – бег в разные стороны, туда и сюда) – «текст в контексте», «речь, погруженная в жизнь», «связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами» (Н.Д. Арутюнова). Дискурс – это «язык в действии», «акт речи», соединяющий язык и присваивающего его человека. Присутствие «субъекта» выражается в словах «я», «сейчас», «здесь», «обещаю», «клянусь». Эти «показатели дейксиса» «прицепляют» высказывание ко времени, к месту, к обстоятельствам акта высказывания (Э. Бенвенист).
Дискурс художественный — динамический модус существования системы «литература». В дискурсе запускаются системные механизмы «литературы». Автор и читатель вступают в обмен информацией и энергией с традицией и реальностью. Входя в художественный дискурс, текст «…восполняется рядом очень существенных моментов неграмматического характера, в корне меняющих его природу», вбирая и отдавая новые «искры экспрессии» (М.М. Бахтин). Происходит переход текста в художественное произведение.
Значение — информация, передаваемая знаком. В философии значение – «идеальное единство», не зависящее от индивидуальных представлений, картин, образов, ассоциаций, тождественное для адресата и адресанта (Э. Гуссерль). В лингвистике лексическое значение слова – содержание слова, соотносимое с философской категорией «понятие». Изъятое из контекста и диалога, значение лишь потенциально нацелено на смысл (М.М. Бахтин).
Интегративное свойство системы «литература» – способность системы выступать в качестве целого по отношению к ее частям.
Коммуникация (от лат. communicatio – связь, сообщение) – категория, обозначающая взаимодействие системных элементов, взятых в знаковом, семиотическом аспекте. Теория коммуникации получила быстрое развитие в последние десятилетия XX века в связи с успехами кибернетики и компьютеризации. В лингвистике, психологии, этнологии выявлен широкий спектр функций и возможностей коммуникации.
Коммуникация художественная (литературная) – процесс взаимодействия автора, произведения и читателей на основе прямых и обратных связей в системе «литература».
Контекст (лат. cont.ext.us – тесная связь, соединение) – 1) в языкознании окружение языковой единицы. Благодаря контексту языковая единица приобретает дополнительные значения, диктуемые текстом как целым; 2) в понимании М.М. Бахтина соотношение текст ↔ контекст в литературе диалогично. В точке контакта текста с контекстом возникает новое понимание, новый смысл. «Этапы диалогического движения понимания: исходная точка – данный текст, движение назад – прошлые контексты, движение вперед – предвосхищение (и начало) будущего контекста» (М.М. Бахтин); 3) дискурс в системе «литература» – текст в контексте, текст в совокупности с его экстралингвистическими факторами.
Концепт (от лат. concept.us, concipere – поятие, зачатие) – основная единица коммуникации в системе «литература». Концепт – это смысл, а не значение знака (или сочетания знаков) в художественной коммуникации.
Концепт и имя. Смысл – это путь, «которым люди приходят к имени». Смысл «отражает способ представления обозначаемого данным знаком» (Г. Фреге).
Концепт ментальный входит в состав «внутренней речи». Ментальные концепты получают выражение в языке в результате вербализации.
Концепт познавательный — термин философа С.А. Аскольдова, подчеркивающий схематизм, понятийную природу концептов. Познавательные концепты замещают область репрезентируемых явлений с единой родовой точки зрения.
Концепт художественный отличается от познавательного концепта прежде всего, тем, что представляет замещаемые явления не с родовой, а с индивидуальной точки зрения. Заместительные способности художественных концептов связаны не с потенциальным соответствием реальной действительности или законам логики, а с «художественной ассоциативностью». Художественные концепты образны, снмволнчны, поскольку то, «что они означают, больше данного в них содержания и находится за их пределами». Эту символичность С.А. Аскольдов называет «ассоциативной запредельностью».
Концепт художественный — микромодель системы «литература»,у. В структуру художественного концепта входят внутренняя форма, ядро и актуальный слой. Эти элементы связаны между собой прямыми и обратными связями. Их
взаимодействие создает смысл знака или сочетания знаков языка литературного произведения в художественной коммуникации.
Концепт языковой (вербально выраженный) — «ключевое слово» или словосочетание языка (А. Вежбицкая).
Культурно-исторический метод возникает на основе исторического подхода к литературе и культуре. Метод трактует литературу как запечатление духа народа в разные этапы его исторической жизни. Исследователей интересуют связи произведения с исторической традицией и социальной средой. Одним из создателей метода во второй половине XIX века считается французский философ, историк и литературовед И.-А. Тэн, разработавший ключевые категории – раса, среда, момент.
Литература (от лат. littera – буква) – совокупность письменных и печатных текстов, способных получить статус художественного произведения в системе:
Автор Произведение Читатель
Литература – система словесной художественной коммуникации, содержащая прямые и обратные связи и порождающая художественные ценности. Системное качество литературы – художественность. Литература обменивается энергией и информацией с «окружающей средой» – «традицией» и «реальностью». Система «литература» центрирована относительно элемента «произведение». Присутствие на входе и на выходе системы «литература» человека в лице «автора» и «читателя» превращает ее в сложную саморегулирующуюся систему.
Метод (от греч. через лат. methodus – «следование + путь») – обобщенный способ построения и обоснования системы научного знания, в данном случае о литературе и ее истории.
Методы литературоведческие — способы построения научного знания о системе «литература» и ее подсистемах. Литературоведческие методы нацелены на изучение произведения, взятого либо в связях и отношениях с окружающей средой (биографический метод и культурно-исторический метод, социологический метод), либо имманентно, вне связи и отношений с этой средой (формальный метод и структурный метод, герменевтика). Произведение является лишь одним из элементов системы «литература», поэтому ни один из существующих литературоведческих методов не может соответствовать всем системным принципам и играть роль универсального метода. Методы связаны с конкретными методиками анализа.
Методика — ряд конкретных способов и приемов анализа системы «литература».
Нададресат — одна из центральных категорий диалогических отношений в понимании М.М. Бахтина. Нададресат – высший смысл, Третий участник коммуникации наряду с адресантом (автором) и адресатом (читателем). Нададресат – воплощение возможности быть «услышанным», связанный с принципиальной установкой на «ответ».
Парадигма гуманитарных наук — общая модель мировидения, понимания и оценки действительности, принятые сообществом гуманитариев в данную эпоху.
Подсистема — компонент системы, который может состоять из двух и более элементов, связанных отношениями между собой и с другими компонентами системы. В системе «литература» представляется возможным выделить две связанные общим для них элементом «произведение» подсистемы «автор – произведение» и «произведение – читатель». Эти подсистемы существенно отличаются друг от друга по характеру составляющих их элементов. Создатель произведения литературы – лицо или группа лиц (в случае коллективного творчества), которое остается относительно неизменным. Читатели – это неоднородное множество лиц, состав которого к тому же меняется в процессе функционирования произведения в пространстве и во времени.
Подход в науке – совокупность способов рассмотрения определенных научных областей и проблем, общее направление исследований.
Произведение художественное — текст в системе «литература».
Психологические подходы к литературе ориентированы на изучение психологии автора как творца и на исследование восприятия художественного произведения читателем. В системе «литература» сторонников психологического подхода интересуют в первую очередь подсистемы «автор ↔ произведение» и «произведение ↔ читатель». В России психологический подход обязан своим развитием прежде всего трудам А.А. Потебни и Д.Н. Овсянико-Куликовского. В XX веке получили распространение фрейдизм, неофрейдизм, психопоэтика.
Рецепция – воссоздание и пересоздание художественного текста, реакция воспринимающего сознания на традицию, поэтический мир автора, отдельное произведение.
Рецептивная эстетика и эстетика воздействия – диалог между текстом и читателем. Рецептивная эстетика выделяет подсистему «произведение ↔ читатель», фокусируя внимание на прямых и обратных связях. Прямая связь в подсистеме «произведение ↔ читатель» порождает «эстетику воздействия» (Wirkungsasthetik), разработанную В. Изером. Если акцент ставится на обратной связи, то запускаются механизмы «рецептивной эстетики», основы которой заложены в трудах Х.Р. Яусса.
Связь — взаимообусловленность существования явлений, разделенных в пространстве и во времени. В системе «литература» в качестве таких явлений выступают автор или коллектив авторов, произведение и его читатели.
Связь прямая и обратная определяет специфику художественной коммуникации в системе «литература». По направлению действия связи разделяются на прямые и обратные. Особую роль в системе «литература» играет обратная связь. Она идет от читателя через произведение к автору. Если обратная связь усиливает результаты функционирования, то ее называют положительной, если же она их ослабляет – то отрицательной. Положительная обратная связь обычно ведет к неустойчивой работе системы, тогда как отрицательная обратная связь, напротив, стабилизирует функционирование системы, делает ее работу устойчивой. Взаимодействие обратной положительной и обратной отрицательной связи в системе «литература» делает возможным процесс ее саморегуляции, способствующий переходу текста в художественное произведение.
Синергетика — 1) фундаментальное направление современного научного мышления, имеющее междисциплинарный характер и объединяющее естественно-научное и гуманитарное знание; 2) теоретическая основа естественных и гуманитарных наук, связанная с идеями системности, нелинейности, нестабильности и способности систем к самоорганизации, В художественной коммуникации синергетика дает объяснение динамическому поведению сложных систем. В контексте синергетики рассматривается вопрос о самопорождении смысла.
Система (от греческого – целое, составленное из частей) – совокупность элементов, находящихся в связях и во взаимных зависимостях. Основное свойство системы состоит в том, что система больше суммы ее частей. Построение «общей теории систем» принадлежит австрийскому биологу-теоретику Л. Берталанфи (1901–1972), применившему формальный аппарат термодинамики к биологии и разработавшему общие принципы поведения систем и их элементов.
Системный подход основан на общих принципах системности. К ним относятся целостность, взаимозависимость элементов, наличие системообразующих факторов, иерархичность, несводимость свойств системы к сумме свойств ее элементов, относительная самостоятельность элементов, являющихся по отношению к системе подсистемами.
Система «литература» изучается в рамках системно-синергетического подхода. Она имеет следующую структуру:
Системно-синергетический подход к литературе опирается на понимание литературы как большой саморегулирующейся системы, которая состоит из элементов, соединенных прямыми и обратными связями (автор, произведение, читатель) и обладающими способностями к саморазвитию.
Содержание и смысл литературного произведения — различные категории в рамках системно-синергетического подхода. «Текст» несет «содержание», а произведение – «смысл».
Сравнительно-исторический метод (компаративистика) разработан создателем «исторической поэтики» А.Н. Веселовским. Сравнение и сопоставление, принадлежащие к числу наиболее общих принципов культуры и жизни, определяют специфику метода. В основе сравнительно-исторического рассмотрения литератур – генетическое и типологическое изучение повторяемости явлений. Специальной областью сравнительного литературоведения является сопоставительное изучение явлений, принадлежащих к разным литературам. Вслед за А.Н. Веселовским В.М. Жирмунский выявил два типа сравнений: сравнение «…историко-генетическое, рассматривающее сходные явления как результат их родства по происхождению…» и сравнение «…историко-типологическое, объясняющее сходство генетически между собой не связанных явлений сходными условиями общественного развития» (В.М. Жирмунский).
Сравнительно-исторический метод (компаративистика) и «сетевая литература». Принципы традиционной компаративистики неприменимы к изучению глобализованной сетевой литературы и ее гипертекстов. Опираясь на представления об интертекстуальности, концепции «смерти автора» и «читателя», исследователи «сетевой литературы» принципиально отказываются от анализа генетических и типологических связей, т. е. от обнаружения «сходного в несходном». «Сетевая литература», литература в сети Интернет, состоит из гипертекстов. В ней принципиально невозможны «произведения».
Структура — основное свойство объекта, его инвариант, абстрактное обозначение одной и той же сущности, взятое в отвлечении от конкретных модификаций-вариантов.
Структурный метод — принцип имманентного исследования художественного текста. Структурный метод оперирует терминами – отношение, элемент, уровень, оппозиция, положение, вариант, инвариант. Находясь в рамках текстовой реальности, исследователь осуществляет анализ с целью установления принципов организации в художественное целое всех текстовых элементов произведения. При структуралистском подходе объектом анализа является срединный элемент системы «литература» – текст произведения «от первого слова до последнего» (Ю.М. Лотман). В рамках структурного подхода предпочтение отдается термину «поэтический текст», а не термину «произведение». Вместе с тем в отличие от постструктурализма и деконструктивизма для структурного метода остаются значимыми категории «автор», «читатель», смысл. В отечественной филологии структурный метод складывается в трудах тартусско-московской школы.
Смысл — основа культуры, «одна из самых трудных для философии категорий» (А.Ф. Лосев). Смыслом М.М. Бахтин называл «ответы на вопросы». Смысл в его понимании диалогичен. В литературе смысл диалогичен и символичен. Объект «…имеет смысл, если он способен нечто означать, символизировать, указывать на что-то иное, нежели на самого себя…» (Ю.М. Лотман).
Социологический метод связан с пониманием литературы как одной из форм общественного сознания. Русская критическая традиция XIX века, представленная работами В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, Д.Н. Писарева, готовила появление социологического метода в литературе. Преуменьшая значимость имманентных законов существования литературы, метод объясняет ее исходя из материальных законов бытия. Социологический метод предполагает внимание к процессам, а не к индивидуальностям. С точки зрения социологического метода литература иллюстрирует борьбу классов и социальных групп. Для этого метода характерен интерес к воздействию литературы на политическую ситуацию и – шире – общественную жизнь. В вульгарном варианте социологический метод жестко увязывает «передовое» мировоззрение с качеством литературы. Социологический метод, имеющий законную сферу применения, не раз выдавали за единственно возможный, универсальный подход к литературе. При этом происходила неизбежная в таких случаях вульгаризация.
Текст (от лат. textus, textum – ткань), письменный или печатный, – носитель «содержания», «информации». В рамках системно-синергетического подхода текст и литературное произведение – не синонимы.
Текст художественный, не переставая быть носителем информации в системе «литература» – художественное произведение.
Текст и произведение — два разных типа «связанного многообразия» в системе «литература».
Формальный метод — один из имманентных методов изучения литературы. Одна из центральных категорий формального метода – «прием». Прием – способ «…комбинирования словесного материала в художественные единства» (Б.В. Томашевский). Систему приемов, обеспечивающую перевод бытового факта в литературный, P.O. Якобсон обозначал термином «литературность». Произведение отличается от объектов действительности особой «условностью» (В.Б. Шкловский), «литературностью» (P.O. Якобсон), художественностью, связанных со сплошной семантизацией элементов формы произведения.
Художественность — смысловая нагруженность, сплошная семантизация формы произведения, возникающая в результате использования приемов смещения, деформации, «остранения». Художественность – ключевой смысловой признак произведения в системе «литература», – категория рецептивной эстетики.
Читатель реальный – биографическое лицо, погруженное в чтение текста.
Читатель концепированный (имплицитный) – идеальный адресат, «идеальное воспринимающее начало». Он является элементом «…не эмпирической, а эстетической реальности» (Б.О. Корман). Читатель концепированный открывает для себя художественность текста, «преклоняясь» перед ним. Тем самым текст становится «эстетическим фактом», произведением.
«Ядро» вербально выраженного художественного концепта — однопорядковая категория с понятием, однако полного совпадения тут нет. Ядро несет лексическое значение слова, выражающего концепт. Содержание ядра раскрывается при помощи дефиниций слова в толковых словарях. Лексическое значение слова, образующее ядро концепта, включает совокупность лексико-семантических вариантов слова, среди которых выделяются основное и производные значения слова. Лексико-семантический вариант представляет собой «иерархически организованную совокупность сем» (В.Г. Гак): родовых (архисем, интегрирующих), видовых (дифференциальных) и потенциальных.
Темы рефератов и докладов
1. Литература как вид словесного творчества.
2. Литература как система.
3. История изучения литературы как системы.
4. Специфика литературной (художественной) коммуникации.
5. Категория автора в литературе. Автор биографический и автор концепированный.
6. Теория автора в литературоведении XX века (М.М. Бахтин, Б.О. Корман, Р. Барт).
7. «Историческая поэтика» А.Н. Веселовского как источник возникновения сравнительной поэтики.
8. Основные литературоведческие методы и подходы, восходящие к «Исторической поэтике» А.Н. Веселовского.
9. Категория внутренней формы в трудах В. фон Гумбольдта и А.А. Потебни.
10. Проблема диалогизма в трудах М.М. Бахтина.
11. Факт жизни и факт литературы: полемика социологической и формальной школ.
12. Ю.М. Лотман о структуре художественного текста.
13. Диалог Ю.М. Лотмана с И. Пригожиным. Ключевые идеи монографии Ю.М. Лотмана «Культура и взрыв» (1992).
14. Художественный перевод как проблема компаративистики.
15. Образ старого князя Болконского в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» и в трех киноверсиях: в фильмах Кинга Видора (Италия – США, 1956), Сергея Бондарчука (СССР, 1968) и Роберта Дорнхельма (Италия, Франция, Германия, Россия, Польша, 2007).
16. Положения общей теории систем И. Пригожина применительно к системе «литература».
17. «Текст» и «произведение» в рамках системно-синергетического подхода к литературе.
18. Категории «содержание» и «смысл», «смысл» и «значение» в контексте системно-синергетического подхода к литературе.
19. Рецепция Шекспира (Гете, Байрона, Гофмана) в русской литературе XIX–XX веков.
20. Трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов» и романтическая рецепция творчества Шекспира.
21. Образ России в английской (французской, немецкой и др.) литературе XIX–XX веков.
22. Концепты художественного мира Ф. Кафки.
23. Герменевтический круг в трудах Х.-Г. Гадамера.
24. Автор биографический и автор художественный в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина.
25. В. Набоков – читатель и переводчик романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
26. Поэзия Б. Пастернака (О. Мандельштама, И. Бродского) как интертекст.
27. Роман-пастиш как вариант интертекста (Б. Акунин, Дж. Барнс, П. Зюскинд, М. Павич, У. Эко).
28. «Сетевая литература» глобализованного мира и проблемы современной компаративистики.
29. Системный подход к анализу художественного произведения в школе (на примере поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри»),
30. Принцип историзма в вузовской лекции по литературе.
Рекомендуемая литература и источники в интернете
Автономова Н. Познание и перевод. – М., 2008.
Автономова Н. Открытая структура: Якобсон – Бахтин – Лотман – Гаспаров. – М., 2009.
Арутюнова Н.Д. Дискурс //Языкознание. – 2-е (репринтное) изд. «Лингвистического энциклопедического словаря» 1990 года. – М., 2000.
Академические школы в русском литературоведении. – М., 1975.
Алексеев М.П. Сравнительное литературоведение / Отв. ред. академик Г.В. Степанов. – Л., 1983.
Андреев Л.Г. Сюрреализм. – М., 1972.
Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность: антология / Под. общ. ред. д.ф.н., проф. В.П. Нерознака. – М., 1997.
Балашова Т.В. Французская поэзия XX в. – М., 1982.
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Сост. Г.К. Косиков. – М., 1989.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. / Сост. С. Г. Бочаров. – 2-е изд. – М., 1986.
Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. – М., 1986.
Богин Г.И. Филологическая герменевтика. – Калинин, 1982.
Богин Г.И. Методологическое пособие по интерпретации художественного текста (для занимающихся иностранной филологией) //
Бройтман С.Н. Историческая поэтика: учеб. пособие. – М., 2001.
Веселовский А.Н. Избранные статьи. – Л., 1939.
Веселовский А.Н. Избранное: Историческая поэтика / Сост. И.О. Шайтанов. – М., 2006.
Вежбицкая Анна. Язык. Культура. Познание / Сост. М.А. Кронгауз. – М., 1997.
Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей. – М., 1961.
Волошинов В.Н. Философия и социология гуманитарных наук / Сост. Д.А. Юнов. – СПб., 1995.
Волошинов В.Н. Фрейдизм. – М.; Л. 1927.
Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1987.
Гадамер Г.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – М., 1988.
Гаспаров М.Л. Избранные статьи. – М., 1995.
Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. / Сост. Мих. Лифшиц. – М., 1977.
Гердер И.Г. Избранные сочинения / Сост. В.М. Жирмунский. – М.; Л., 1959.
Гете И.В. Об искусстве / Сост. А.В. Гулыга. – М., 1975.
Гинзбург Л.Я. О литературном герое. – Л., 1979.
Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций. – М., 1973.
Греймас А.Ж., Курте Ж. Семиотика: объяснительный словарь теории языка / Пер. с фр. В.П. Мурат. – М., 1983.
Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. – М., 1995.
Гумбольдт Вильгельм– фон. Избранные труды по языкознанию / Под ред. Г.В. Рамишвили. – М., 1984.
Деррида– Ж. О грамматологии / Пер. с фр. и вст. ст. Н. Автономовой. – М., 2000.
Деррида– Ж., Хартман Д., Изер В. Деконструкция: триалог в Иерусалиме // / dekon.php.
Добролюбов Н.А. Литературная критика. – М., 1979.
Дюришин Диониз. Теория сравнительного изучения литературы / Предисл. Ю.В. Богданова. – М., 1979.
Евин И.А. Синергетика мозга. – М., 2005.
Жеребин А.И. Абсолютная реальность. «Молодая Вена» и русская литература. – М., 2009.
Жирмунский В.М. Введение в литературоведение / Под ред. З.И. Плавскина, Н.А. Жирмунской. – СПб., 1996.
Жирмунский В.М. Очерки по истории классической немецкой литературы. – Л., 1972.
Жирмунский В.М. Литературное течение как явление международное. – Л., 1967.
Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. – Л., 1979.
Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. – 2-е изд. – Л., 1978.
Жирмунский В.М. Гёте в русской литературе. – 2-е изд. – Л., 1981.
Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Работы по поэтике выразительности: Инварианты – Тема – Приемы – Текст / Предисл. М.Л. Гаспарова. – М., 1996.
Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. Трактаты. Статьи. Эссе / Сост., общ. ред. Г.К. Косикова. – М., 1987.
Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И., Рябов Г.П. Словарь по межкультурной коммуникации. Понятия и персоналии. – М., 2010.
Ильин И.П. Словарь терминов французского структурализма // Структурализм: «за» и «против». – М., 1975.
Итарден Роман. Исследования по эстетике / Пер. с польского А. Ермилова и Б. Федорова. – М., 1962.
Караулов Ю.Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. – М., 1999.
Квадратуры смысла. Французская школа анализа дискурса. – М., 2000.
КемперД. Гёте и проблема индивидуальности в культуре модерна / Пер. с нем. А.И. Жеребина. – М., 2009.
Конрад Н.И. Запад и Восток: статьи. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1972.
КопцикВ., Рыжов В., Петров В. Этюды по истории искусства. – М., 2004.
Корман Б. О. Литературные термины по проблеме автора. – Ижевск, 1982.
Корман Б. О. Избранные труды по теории и истории литературы / Предисл. и сост. В.И. Чулкова. – Ижевск, 1992.
Кун Т.С. Структура научных революций / Пер. с англ. И.Э. Налетова. – М., 1975. Электронный вариант: . net./books/kuntsO 1 /index.htm
Леви-Строс К. Структурная антропология: Пер. с фр. – М., 1985.
Леонтович О.А. Проблема ретрансляции и адаптации культурных смыслов // Вестник МГУ. – Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2008. – № 2.
Лихачев Д. С. Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение и другие работы. – СПб., 1997.
Лихачев Д. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. – № 8. – 1968.
Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. – М., 1982.
Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля / Сост. А.А. Тахо-Годи. – Киев, 1994.
Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение / Сост. А.А. Тахо-Годи. – М., 1995.
Лотман Л. Островский и русская драматургия его времени / Под ред. Б.М. Эйхенбаума. – М.; Л., 1961.
Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – М., 1988.
Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. – Л., 1972.
Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. Анализ поэтического текста. Статьи. Исследования. Заметки / Вст. ст. М.Л. Гаспарова. – СПб., 1996.
Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров /Предисл. В.В. Иванова. – М., 1996.
Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970.
Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. – Таллинн, 1993.
Юрий Михайлович Лотман / Под ред. В.К. Кантора – М., 2009.
Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории / Пер. с нем. И.Д. Газиева; под ред. Н.А. Головина. – СПб., 2007.
Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении. – М., 1993.
Межкультурная коммуникация: учеб. пособие / Под ред. д.ф.н., проф. В.Г. Зусмана. – Н. Новгород, 2001.
Михайлов А.В. Языки культуры: учеб. пособие по культурологии / Предисл. С.С. Аверинцева. – М., 1997.
Михайлов А.В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры. – М., 1989.
Михайлов А.В. Обратный перевод / Сост. Д.Р. Петрова и С.Ю. Хурумова. – М., 2000.
Михальская Н.П. Образ России в английской художественной литературе IX–XIX веков. – М., 2003.
Мукаржовский Ян. Структуральная поэтика. – М., 1996.
Неретина С.С. Тропы и концепты. – М., 1999.
Нефедов Н.Т. История зарубежной критики и литературоведения. – М., 1988.
Панченко А.М. Русская история и культура. – СПб., 1999.
Пелипенко А.А. Яковенко И.Г. Культура как система. – М., 1998.
Писарев Д.И. Литературная критика: в 3 т. Т. 1 / Сост. Ю.С. Сорокина. – Л., 1981.
Попова З.Д., CmepHUH И.А. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях. – Воронеж, 1999.
Постмодернизм. Энциклопедия / Сост. и науч. ред. А.А. Грицанов, М.А. Можейко. – Минск, 2001.
Потебня А.А. Слово и миф / Отв. ред. А.К. Байбурин. – М., 1989.
Пресняков О.П. А.А. Потебня и русское литературоведение конца XIX – начала XX века. – Саратов, 1978.
Пригожин П., Стенгерс И. Время. Хаос. Квант. – М., 1994.
Пригожин И. Конец определенности. Время. Хаос и новые законы природы. – Ижевск, 1999.
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. – М., 1986.
Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: курс лекций / Текст к печати подготовила д.ф.н., проф. М.И. Воропанова. – М., 1996.
Русская словесность: антология / Под общей ред. д.ф.н., проф. В.П. Нерознака. – М., 1997.
«Свое» и «Чужое» в европейской культурной традиции: литература, язык, музыка / Под ред. З.И. Кирнозе, В.Г. Зусмана, Л.Г. Пеер, Т.Б. Сидневой, А.А. Фролова. – Н. Новгород, 2000.
Сент-Бёв Ш.О. Литературные портреты: критические очерки / Сост., вст. ст., коммент. М. Трескунова. – М., 1970.
Современное зарубежное литературоведение: энциклопедический справочник. – М., 1996.
Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М., 1997.
Степанов Ю.С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. – М., 2007.
Степин B.C. Теоретическое знание. – М., 1999 //
Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2000.
Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика / Вст. ст. Н.Д. Тамарченко; коммент. С.Н. Бройтмана при участии Н.Д. Тамарченко. – М., 1996.
Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика / Вст. ст. Н.Д. Тамарченко. Коммент. С.Н. Бройтмана при участии Н.Д. Тамарченко. – М., 1996.
Топер П.М. Перевод в системе сравнительного литературоведения. – М., 2000.
Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического. – М., 1995.
Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино / Изд. подготовили Е.А. Тоддес, А.П. Чудаков, М.О. Чудакова. – М., 1977.
УэллекР., Уоррен О. Теория литературы / Вст. ст. А.А. Аникста. – М., 1978.
Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и информатика. – Вып. 35. М., 1997.
Фрейд 3. Введение в психоанализ: лекции / Под ред. М.Г. Ярошенко. – М., 1989.
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр.
В.П. Визгина и Н.С. Автономовой. – СПб., 1994.
Хрестоматия по теории литературы. – М., 1982.
Шайтанов И. Классическая поэтика неклассической эпохи. Была ли завершена «Историческая поэтика»? // Вопросы литературы. – № 4. – 2002.
Швейбельман Н.Ф. Опыт интерпретации сюрреалистического текста. – Тюмень, 1996.
Щедровицкий Г.П. Организация, руководство, управление // Электронная версия книги:
Шкловский Виктор. Гамбургский счет / Предисл. А.П. Чудакова. – М., 1990.
Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие / Предисл. Бенедикта Сарнова. – М., 1990.
Шпет Г.Г. Сочинения. – М.,1989.
Эткинд Е.Г. «Внутренний человек» и внешняя речь: очерки психопоэтики русской литературы XVIII–XIX вв. – М., 1998.
Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. – М., 1978.
Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. – М., 1977.
Юнг К.Г. Архетип и символ. – М., 1991.
Якобсон Роман. Избранные работы / Сост. д.ф.н. В.А. Звегинцева; предисл. д.ф.н. Вяч. Вс. Иванова. – М., 1985.
Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения / Пер. с нем. и предисл. Н. Зоркой // Новое литературное обозрение. – М., 1995. – № 12.
Примечания
1
Стёпин B.C. Теоретическое знание. – М., 1999.
(обратно)2
См.: Курдюмов С.П., Князева Е.Н. Структуры будущего: синергетика как методологическая основа футурологии // Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в искусстве. – М., 2002; Хакен Г. Информация и самоорганизация. – М., 1991.
(обратно)3
Климонтович Н.Ю. Без формул о синергетике. – Минск, 1986. С. 56–58.
(обратно)4
Томашевский Б.В. Поэтика (Краткий курс). – М., 1996. С. 6.
(обратно)5
Конрад Н.И. Избранные труды. Литература и театр. – М., 1978.
(обратно)6
Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970. С. 346.
(обратно)7
Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Философия духа. – М., 1977. С. 383.
(обратно)8
См.: Рождественский Ю.В. Введение в культуроведение. 2-е изд., испр. – М., 1999. С. 127–128.
(обратно)9
Корман Б.О. Литературоведческие термины по проблеме автора. – Ижевск, 1982. С. 17–18; См. также: Корман Б.О. Целостность литературного произведения и экспериментальный словарь литературоведческих терминов // Проблемы истории критики и поэтики реализма. – Куйбышев, 1981.
(обратно)10
Стёпин B.C. Синергетика и системный анализ // Синергетическая парадигма. Когнитивно-коммуникативные стратегии современного научного познания. – М., 2004. С. 60.
(обратно)11
Стёпин B.C. Синергетика и системный анализ // Синергетическая парадигма… С. 60.
(обратно)12
Садовский В.Н. Система // Философский энциклопедический словарь. – М., 1983. С. 610. См. также: Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Системный подход // Философский энциклопедический словарь. – М., 1989. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. – М., 1978.
(обратно)13
Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Философия духа. – М., 1977. С. 383.
(обратно)14
Милорад Павич. Вечность и еще один день // Милорад Павич. Кровать для троих. – СПб., 2008. С. 107.
(обратно)15
Авторы благодарят за это указание С.В. Сапожкова. См.: Чистов К.В. Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд). – СПб., 2003.
(обратно)16
Попович А. Проблемы художественного перевода. – М., 1980. С. 43; Slovnik literarni teorie. – Praha, 1984; Zilka T. Poetickу2 slovnik. – Bratislava, 1987. S. 36.
(обратно)17
Корман Б.О. Некоторые предпосылки изучения образа автора в лирической поэзии. (Понимание лирики как системы) // Избранные труды по теории и истории литературы. – Ижевск, 1992. С. 36.
(обратно)18
Корман Б.О. О целостности литературного произведения // Там же. С. 124–126.
(обратно)19
Корман Б.О. Целостность литературного произведения и экспериментальный словарь литературоведческих терминов // Там же. С. 187.
(обратно)20
Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977. С. 282.
(обратно)21
Там же. С. 502.
(обратно)22
Неупокоева И.Г. История всемирной литературы: Проблемы системного и сравнительного анализа. – М., 1976. С. 34.
(обратно)23
Конрад Н.И. Введение // История всемирной литературы: в 9 т. – М., 1983. Т. 1. С. 17.
(обратно)24
Лихачев Д.С. Древнеславянские литературы как система //VI Международный съезд славистов. – Прага, 1968. С. 5.
(обратно)25
Неупокоева И.Г. История всемирной литературы: Проблемы системного и сравнительного анализа. – М., 1976. С. 40.
(обратно)26
Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977. С. 282.
(обратно)27
См.: Нефедов Н.Т. Возникновение биографического метода // Нефедов И.Т. История зарубежной критики и литературоведения. – М., 1988. С. 116–118.
(обратно)28
Сент-Бёв Ш.О. Шатобриан в оценке одного из близких друзей в 1803 г. // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. Трактаты. Статьи. Эссе / Сост., общ. ред. Г.К. Косикова. – М., 1987. С. 40.
(обратно)29
Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. Трактаты. Статьи. Эссе / Сост., общ. ред. Г.К. Косикова. – М., 1987. С. 40.
(обратно)30
Сент-Бёв Ш.О. Литературные портреты. Критические очерки / Сост., вступ. статья, коммент. М. Трескунова. – М., 1970. С. 41.
(обратно)31
Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. Трактаты. Статьи. Эссе / Сост., общ. ред. Г.К. Косикова. – М., 1987. С. 42; 46; 51.
(обратно)32
Сент-Бёв Ш.О. Пьер Корнель. Литературные портреты… С. 55.
(обратно)33
Сент-Бёв Ш.О. Пьер Корнель. Литературные портреты… С. 49.
(обратно)34
Сент-Бёв Ш.О. Литературные портреты… С. 330.
(обратно)35
См.: Косиков Г.К. Современное литературоведение и теоретические проблемы науки о литературе // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. Трактаты. Статьи. Эссе. – М., 1987. С. 13.
(обратно)36
См.: Горбунов А.Н. Отречение: Чосер и Толстой // JIiikii времени: сб. статей. – М.: Изд-во МГУ, 2009. С. 26–31.
(обратно)37
Федоров С.В. Н.А. Некрасов // Сквозь даль времен: учебник по литературе второй половины XIX века для 10 класса. Ч. II / Под общ. ред. чл. – корр. РАО В.Г. Маранцмана. – СПб., 1997. С. 5–6.
(обратно)38
Маранцман ВТ. Л.Н. Толстой // Сквозь даль времен… С. 109, 379.
(обратно)39
См.: Академические школы в западноевропейском и русском литературоведении //Хрестоматияпо теории литературы. – М., 1982.
(обратно)40
Тэн И. История английской литературы. Введение // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. Трактаты. Статьи. Эссе. – М., 1987. С. 78–79.
(обратно)41
Тэн И. Зарубежная эстетика и теория литературы… С. 82–83.
(обратно)42
Тэн И. Зарубежная эстетика и теория литературы… С. 84–85.
(обратно)43
В традициях культурно-исторического метода работает французский ученый Гюстав Лансон (1857–1934), автор «Французской литературы» (1894) и работы «Метод в истории литературы». История литературы для Лансона – часть истории цивилизации. При этом, в отличие от Тэна, главное внимание он уделяет самим литературным текстам, дополняя научный анализ импрессионистическими впечатлениями и изучением психологии художника.
(обратно)44
Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: курс лекций / Текст к печати подготовила д.ф.н., проф. М.И. Воропанова. – М., 1996. С. 303–304.
(обратно)45
Пуришев Б. Очерки немецкой литературы XV–XVII вв. – М., 1955.
(обратно)46
Шайтанов Игорь. Зачем сравнивать? Компаративистика и / или поэтика // Вопросы литературы. – Сентябрь – октябрь, 2009. С. 5—31.
(обратно)47
Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра / Подготовка текста и общ. ред. Н.В. Брагинской. – М., 1997. С. 20–21.
(обратно)48
Веселовский А.Н. Историческая поэтика / Вступ. ст. И.К. Горского. – М., 1989. С. 37.
(обратно)49
См.: Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М., 1997. С. 188.
(обратно)50
И.О. Шайтанов подчеркивает, что А.Н. Веселовский в мышлении опирался на представление о литературе как системе. Даже если Веселовский слово «система» не употреблял, «…оно реально соответствует тому, что он делал, как он мыслил». См.: Шайтанов И. Классическая поэтика неклассической эпохи. Была ли завершена «Историческая поэтика»? // Вопросы литературы. – № 4,—2002.
(обратно)51
Веселовский А.Н. История или теория романа // Веселовский А.Н. Избранные статьи. – Л., 1939. С. 5.
(обратно)52
Там же. С. 101.
(обратно)53
Там же. С. 101.
(обратно)54
Веселовский А.Н. Историческая поэтика… С. 58.
(обратно)55
Там же. С. 215.
(обратно)56
Веселовский А.Н. Определение поэзии // Русская литература. – № 3. – 1959. С. 117. См.: Шайтанов И. Классическая поэтика неклассической эпохи. Была ли завершена «Историческая поэтика»? // Вопросы литературы. – № 4. – 2002.
(обратно)57
Веселовский А.Н. Определение поэзии // Русская литература. – № 3. – 1959. С. 117. См.: Шайтанов И. Классическая поэтика неклассической эпохи. Была ли завершена «Историческая поэтика»? // Вопросы литературы. – № 4. – 2002. С. 299–300.
(обратно)58
Жирмунский В.М. А.Н.Веселовский // Веселовский А.Н. Избранные статьи… С. XXII.
(обратно)59
Шайтанов И. Классическая поэтика неклассической эпохи. Была ли завершена «Историческая поэтика»? // Вопросы литературы. – № 4. – 2002.
Шайтанов И.О. Историческая поэтика А.Н. Веселовского: сравнительный метод // Знание. Понимание. Умение. – 2007. – № 3. Электронная версия: -joumal.rU/zpu/contents/content_2007/3/
(обратно)60
Веселовский А.Н. Избранное: Историческая поэтика / Сост. И.О. Шайтанов. – М., 2006.
(обратно)61
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / Сост. С.Г. Бочаров. – 2-е изд.-М., 1979. С. 384.
(обратно)62
Опираясь на идеи О.Э. Мандельштама, эту мысль высказывает
В.Н. Топоров: «Соотнесение-сравнение того и этого, своего и чужого (курсив. – В.Т.) составляет одну из основных и вековечных работ культуры, ибо сравнение, понимаемое в самом широком плане (как и любой перевод – с языка на язык, с пространства на пространство, с времени на время, с культуры на культуру), самым непосредственным образом связано с бытием человека в знаковом пространстве культуры, которое имеет своей осью проблему тождества и различия, и с функцией культуры». См.: Топоров В.Н. Пространство культуры и встречи в нем // Восток – Запад. Переводы. Публикации. – М., 1989. С. 7.
(обратно)63
Лихачев Д.С. Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение и другие работы. – СПб., 1997. С. 286.
(обратно)64
Михайлов А.В. Варианты эпического стиля в литературах Австрии и Германии // А.В. Михайлов. Языки культуры: учеб. пособие по культурологии / Предисл. С.С. Аверинцева. – М., 1997. С. 346. Принцип «взаимного освещения» искусств обосновал немецкий литературовед О. Вальцель, труды которого были важны для становления «формального метода» в России. См.: Жирмунский В.М. Из истории западноевропейских литератур / Отв. ред. М.П. Алексеев, Ю.Д. Левин. – Л., 1981. С.114–119.
(обратно)65
Жирмунский В.М. Введение в литературоведение / Под ред. З.И. Плавскина, Н.А. Жирмунской. – СПб., 1996. С. 419–439. Верли М. Общее литературоведение. – М., 1967. С. 212. УэллекР., Уоррен О. Теория литературы / Вступ. статья А.А. Аникста. – М., 1978. С. 65–73. Дюришин Диониз. Теория сравнительного изучения литературы / Предисл. Ю.В. Богданова. – М., 1979. С. 71–95. В исследовании Петера В. Зимы общее литературоведение понимается как теоретический и методологический репертуар сравнительного литературоведения. См.: Zima Peter V. Komparatistik. – Tubingen, 1992. S. 7.
(обратно)66
Жирмунский B.M. Очерки по истории классической немецкой литературы. – Л., 1972. С. 255–257.
(обратно)67
Herders Werke: In 5 Bd. Bd. 2. – Berlin und Weimar, 1978. S. 208.
(обратно)68
Гёте И.-В. Об искусстве / Сост. А.В. Гулыга. – М., 1975. С. 568.
(обратно)69
См.: Гумбольдт Вильгельм фон. Избранные труды по языкознанию / Под ред. Г.В. Рамишвили. – М., 1984. С. 316, 319.
(обратно)70
Гегель Г.Ф.В. Эстетика: в 4 т. / Сост. Мих. Лифшиц. – М., 1977.
(обратно)71
Первая кафедра сравнительного литературоведения была создана Ж. Текстом во Франции, в 1896 г. – См: Zima Peter V. Komparatistik. – Tubingen, 1992. S. 19. Для генезиса сравнительного литературоведения большое значение имели знаменитая книга французской писательницы мадам де Сталь «О Германии» (1810), «Чтения о драматическом искусстве и литературе» А.В. Шлегеля, а также лекции по истории европейской литературы Ф. Шлегеля. См.: Schlegel A. W. Vorlesungen tiber dramatische Kunst und Literatur: Kritische Ausgabe: In 2 Bd. / Eingeleitet v. G. Amoret-ti. – Bonn und Leipzig, 1923. Schlegel Fr. Kritische Ausgabe: Bd. 6. / Hrsg. v. H. Eichler. – Mtinchen; Paderborn; Wien; Zurich, 1961.
(обратно)72
Tieghem P. Van. Le Preromantisme: Etude d' histoire litterature europeenne: La Decouverte de Shakespeare sur le continent: V. 3. – P., 1947.
(обратно)73
Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX веков / Сост. Г.К. Косикова. – М., 1987. С. 108–135. Укажем на талантливую книгу «Шекспир и немецкий дух» (1911), принадлежащую перу ученика Дильтея Фр. Гундольфа, построенную на категориях «переживания» и «вчувствования» (Einfilhlung). – См.: GimdolfFr. Shakespeare und der deutsche Geist. – Berlin, 1911.
(обратно)74
См.: Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – Л., 1940. Веселовский А.Н. Избранное: Историческая поэтика / Сост. И.О. Шайтанов. – М., 2006. См. также: Михайлов А.В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры. – М., 1989. С. 6—25; Жирмунский В.М. Литературное течение как явление международное. – Л., 1967; Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение: Восток и запад. – Л., 1979; Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. 2-е изд. – Л., 1978; Жирмунский В.М. Гёте в русской литературе. 2-е изд. – Л., 1981.
(обратно)75
См.: Дюришин Диониз. Теория сравнительного изучения литературы… С. 143.
(обратно)76
Степанов Ю.С. Слово // Русская словесность: антология / Под общ. ред. д.ф.н., проф. В.П. Нерознака. – М., 1997. С. 302.
(обратно)77
См.: Дюришин Диониз. Теория сравнительного изучения литературы… С. 98–99.
(обратно)78
В 1914 г. Цветаева написала стихотворение в защиту «ее Германии»: «Ты миру отдана на травлю, / И счета нет твоим врагам. / Ну, как же я тебя оставлю? / Ну, как же я тебя предам?» См.: Цветаева Марина. Соч.: в 2 т. Т. 2. / Сост. Анны Саакянц. – М., 1988. С. 7; 111.
(обратно)79
Жирмунский В.М. Из истории западноевропейских литератур / Отв. ред. М.П. Алексеев. – Л., 1981. С. 76.
(обратно)80
ГинзбургЛ.Я. О литературном герое. – Л., 1979. С. 192.
(обратно)81
Дима А. Принципы сравнительного литературоведения. – М., 1977. С. 121.
(обратно)82
Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино / Изд. подготовили Е.А. Тоддес, А.П. Чудаков, М.О. Чудакова. – М., 1977. С. 350–395.
(обратно)83
Лавров А.В. Андрей Белый и Кристиан Моргенштерн // Сравнительное изучение литератур: сб. статей к 80-летию академика М.П. Алексеева. – Л., 1976. С. 466–472; Томашевский Б. Пушкин: в 2 т. Т. 1. – М., 1990. С. 69.
(обратно)84
Мандельштам Осип. Разговор о Данте // Осип Мандельштам. Сочинения: в 2 т. Т. 2. / Сост. С.С. Аверинцева и П.М. Нерлера. – М., 1990. С. 214–254; См.: Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино… С. 283.
(обратно)85
Дима А. Принципы сравнительного литературоведения. – М., 1977. С. 123–124.
(обратно)86
См.: Томашевский Б. Пушкин: в 2. т. Т.1. – М., 1990. С. 69.
(обратно)87
См.: Жирмунский В.М. Из истории западно-европейских литератур / Отв. ред. М.П. Алексеев. – Л., 1981; Карельский А.В. Драматургия немецкого романтизма первой половины XIX века: Эволюция метода и жанровых форм: дис. д-ра филол. наук. – М., 1985.
(обратно)88
Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Русская словесность… С. 280–287.
(обратно)89
См.: Дюришин Диониз. Теория сравнительного изучения литературы… С. 153–159. Genette Gérard. Palimpsestes. La littérature au second degré. – P., 1982. P. 16—106. Konstantinovich Zoran. Zum gegenwärtigen Augenblick der Komparatistik: Der Weg zur Intertextualität // Beiträge zu Komparatistik und Sozialgeschichte der Literatur: Festschrift für Alberto Martino // Hrsg. von Norbert Bachleitner, Alfred Noe und Hans-Gert Roloff. – Amsterdam; Atlanta, 1997. S. 898.
(обратно)90
Шнитке А.Г. Полистилистические тенденции в современной музыке // Беседы с Альфредом Шнитке / Сост. В. Ивашкин. – М., 1994. С. 143–144. О принципе музыкальности в поэзии очень доказательно писал Е.Г. Эткинд. См.: Эткинд Е.Г. Материя стиха: Репринтное издание. – СПб., 1998. С. 67–491.
(обратно)91
См.: Дюришин Диониз. Теория сравнительного изучения литературы… С. 117–118.
(обратно)92
Жирмунский В.М. Эпическое творчество славянских народностей и проблемы сравнительного изучения эпоса. – М., 1958; Жирмунский В.М. Введение в литературоведение… С. 435.
(обратно)93
Конрад Н.И. Запад и Восток: статьи. 2-е изд., испр. и доп. – М., 1972.
(обратно)94
См.: Genette Gerard. Palimpsestes. La litterature au second degre. – P., 1982; Смирнов И.П. Порождение интертекста: Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б.Л. Пастернака. 2-е изд. – СПб., 1995.
(обратно)95
Смирнов И.П. Порождение интертекста… С. 7—12.
(обратно)96
Zoran Konstantinovich. Zum gegenwartigen Augenblick der Komparatistik… S. 900.
(обратно)97
Добавим, что А. Шнитке далек от представлений о «смерти автора», сформулированных Р. Бартом, поскольку для него «элементы чужого стиля» служат лишь «модуляционным пространством, оттеняющей периферией собственного индивидуального стиля». См.: Шнитке А.Г. Полистилистические тенденции в современной музыке… С. 145–146.
(обратно)98
Смирнов И.П. Порождение интертекста…; Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. – М., 1994; Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Работы по поэтике выразительности: Инварианты – Тема – Приемы – Текст / Предисл. М.Л. Гаспарова. – М., 1996.
(обратно)99
Чернышевский Н.Г. «Что делать? Из рассказов о новых людях» / Вступ. ст. и примеч. П. Николаева. – М., 1985. С. 326. Конечно, эти романы существенно между собой отличаются. У Золя в центр поставлен «магазин», подобный могучему механизму, полному «лихорадки», «великих содроганий», напоминающий «…вавилонскую башню с наслоениями этажей», «муравейник», втягивающий в себя людей. Для Чернышевского главное – рассказ о «новых людях». – См.: Золя Эмиль. Дамское счастье / Предисл. С. Брахман. – М., 1983. С. 248, 252, 293.
(обратно)100
Ю.М. Лотман отмечает, что выражение «иметь значение» означает наличие определенной смысловой «направленности», т. е. системности. При этом элементы всякой системы существуют не в их «изолированной сущности», а во «взаимной соотнесенности». См.: Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – М., 1988. С. 57. Эту мысль можно отнести и к системе методов изучения литературы.
(обратно)101
Отметим в этой связи работы В.М. Жирмунского и М.П. Алексеева. См.: Жирмунский В.М. Гёте в русской литературе. – Л., 1981; Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение. – Л., 1979. См. также: Алексеев М.П. Русская культура и романский мир. – Л.,1985. См. также: Robert. Jaufi. Literaturgeschichte als Provokation. – Fr. a. М., 1970; WolfgangIser. Der Akt des Lesens. – Mimchen, 1994.
(обратно)102
Отметим в этой связи, что в статье «Мотивы русской драмы» (1864) Д.И. Писарев критикует Н.А. Добролюбова за то, что в работах об А.Н. Островском он «…поддался порыву эстетического чувства…» и выступил против собственных идей. Писарев ДМ. Литературная критика: в 3 т. / Сост. Ю.С. Сорокина. Т. 1. – Л., 1981. С. 323.
(обратно)103
Добролюбов Н.А. Темное царство // Добролюбов Н.А. Литературная критика. – М., 1979. С. 58.
(обратно)104
См.: Волошинов В.Н. Философия и социология гуманитарных наук / Сост. Д.А. Юнов. – СПб., 1995. С. 59–86. Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении. – М., 1993.
(обратно)105
Добролюбов Н.А. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 6. / Под ред. Б.И. Бурсова. – М.; Л., 1963. С. 309–360. См. также: Полянский Валерьян. Добролюбов // Литературная энциклопедия. Т. 3. / Отв. ред. А.В. Луначарский.
(обратно)106
См.: А.Н. Островский в русской критике: сб. статей / Под ред. Г.И. Владыкина. – М., 1948.
(обратно)107
В статье о романе И.А. Гончарова критик также подчеркивал, что над фигурами русской жизни и литературы «…тяготеет одна и та же обломовщина…». См.: Добролюбов Н.А. Что такое обломовщина? // Добролюбов Н.А. Литературная критика. – М., 1979. С. 27.
(обратно)108
Добролюбов Н.А. Что такое обломовщина? // Добролюбов Н.А. Литературная критика. – М., 1979. С. 7.
(обратно)109
Григорьев АЛ. После «Грозы» Островского. Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу // Драма А.Н. Островского «Гроза» в русской критике / Сост. И.Н. Сухих. – Л., 1990. С. 85. См. также: Скафтымов А.Н. Нравственные искания русских писателей: Статьи и исследования о русских классиках / Сост. Е. Покусаева. – М., 1972. С. 519. Костелянец Б. «Бесприданница» А.Н. Островского. – Л., 1982. С. 129.
(обратно)110
В исследованиях, посвященных творчеству А.Н. Островского, эта тема затрагивалась лишь эпизодически. См.: Шамбинаго С.А. А.Н. Островский. – М., 1937. С. 61. Ревякин А.Н. Искусство драматургии А.Н. Островского. – М., 1974. С. 186–187. Анастасьев А. «Гроза» Островского. – М., 1975. С. 80. Лакшин В. А.Н. Островский. – М., 1982. С. 350–351. Штейн А.Л. Мастер русской драмы. Этюды о творчестве Островского. – М., 1973. С. 136–137; 156. Журавлева А.И., Макеев М.С. Александр Николаевич Островский: В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам. – М., 1997. С. 35–55.
(обратно)111
Мукаржовский Ян. Структуральная поэтика. – М., 1996. С. 134.
(обратно)112
А.Н. Островский в русской критике: сб. статей / Под ред. Г.И. Владыкина. – М., 1948. С. 419. Добавим, что для становления социологического метода в России большое значение имели работы П.Н. Сакулина «Новая русская литература» (1908) и «Социологический метод в литературоведении» (1925).
(обратно)113
В.М. Фриче критикует «портретно-биопсихологический» метод Г. Брандеса за невнимание к общим условиям эпохи, а работы позднего Ф. Брюнетьера за «формально-имманентную точку зрения». См.: Литературная энциклопедия / Отв. ред. В.М. Фриче. – М., 1930. Ст. 575, 592.
(обратно)114
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. Второе издание / Сост.
С.Г. Бочаров. – М., 1986. С. 389–390.
(обратно)115
Волошинов В.Н. Философия и социология гуманитарных наук / Сост. Д.А. Юнов. – СПб., 1995. С. 61–84.
(обратно)116
Далее В.Н. Волошинов анализирует моменты содержания и формы. Для содержания наибольшее значение имеет «ценностный ранг» изображенного события и его носителя – героя, «…взятый в строгой корреляции к рангу творящего и созерцающего». Отношения между автором и героем В.Н. Волошинов сопоставляет с иерархиями политической и правовой жизни: господин – раб, товарищ – товарищ. «Царь, отец, брат, раб, товарищ – как герои высказывания – определяют и его формальную структуру». Возникает «удельный иерархический вес героя», который определяется в свою очередь «невысказанным основным ценностным контекстом». Здесь заложена одна из неточностей рассуждения: традиция жанра и стиля, инерция жанра, автоматизация типов повествования могут существенно влиять на отношения автора и героя, на выбор последнего. Внутрилитературные закономерности обладают своими собственными механизмами, своими каналами художественной коммуникации, которые прямо не соотносятся с внеположенной социальной реальностью. См.: Волошинов В.Н. Философия и социология гуманитарных наук… С. 78–79.
(обратно)117
См.: Гуковский ГЛ. Пушкин и проблемы реалистического стиля. – М., 1957. С. 301. Цит. по: Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – М., 1988. С. 89–90. Ю.М. Лотман поясняет далее, что для каждого человека «…социокультурная ситуация не только раскрывает некоторое множество возможных путей, но и дает возможность разного отношения к этим путям…». «Мощному нивелирующему воздействию среды может быть противопоставлена столь же мощная сила духовного сопротивления личности, поскольку сама среда не только создает человека, но и активно создается им».
(обратно)118
См.: Гуковский ГЛ. Пушкин и русские романтики. – М., 1995. С. 23—
311.
(обратно)119
Имеется в виду книга Б. Мейлаха о русском романтизме, закрепившая на десятилетия деление романтизма на «революционный», гражданский (прогрессивный) и «реакционный».
(обратно)120
Укажем лишь на один пример: W. Benjamin. Uber Kafka: Texte, Brief-zeugnisse, Aufzeichnungen / Hrsg. м. H. Schweppenhauser. – Fr.a.M., 1981.
(обратно)121
Arnold Hauser. Soziologie der Kunst. – Miinchen, 1974. S. XV.
(обратно)122
Georg Lukdcs. Kunst und objektive Wahrheit // Georg Lukacs. Probleme des Realismus. – Berlin, 1955. S. 5—46.
(обратно)123
Бак Д. Реалисты // Новый мир. – № 2. – 1997.
(обратно)124
Паперно Ирина. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма / Авториз. пер. с англ. Т.Я. Казавчинской. – М.,
1996. С. 7.
(обратно)125
См.: Осьмаков Н.Н. Психологическое направление в русском литературоведении. Д.Н. Овсянико-Куликовский. – М., 1981. Наследование положений культурно-исторической школы и биографического метода отобразило существенную черту русского академика: «Соперничая между собой, школы не отвергали положительного опыта, а усваивали и развивали его» (С. 5).
(обратно)126
См.: Геннекен Э. Опыт построения научной критики. (Эстопсихология). – СПб., 1892.
(обратно)127
Бибихин В.В. Внутренняя форма слова. – СПб., 2008. С. 81.
(обратно)128
См.: Потебня А.А. Мысль и язык. – М., 1989. С. 114.
(обратно)129
Потебня А.А. Мысль и язык… С. 145
(обратно)130
Бибихин В.В. Внутренняя форма слова. – СПб., 2008. С. 89.
(обратно)131
См.: Чудаков А.П. О Потебне // Академические школы в русском литературоведении. – М., 1975. С. 305–354.
(обратно)132
См.: Овсянико-Куликовский Д.Н. Собрание сочинений: в 6 т. – СПб., 1911. Т. 1, Т. 6. С. 2, 26, 84–85.
(обратно)133
См.: Овсянико-Куликовский Д.Н. Собр. соч. Т. 1. – М., 1923. С. 28–35.
(обратно)134
Овсянико-Куликовский Д.Н. Собр. соч. Т. 1… С. 138.
(обратно)135
См.: Овсянико-Куликовский Д.Н. Собр. соч. Т. 6. – СПб., 1909. С. 84—
85.
(обратно)136
Овсянико-Куликовский Д.Н. Наблюдательный и экспериментальный методы в искусстве // Хрестоматия по теории литературы. – М., 1982. С. 385.
(обратно)137
Овсянико-Куликовский Д.Н. Собр. соч. Т. 6… С. 26.
(обратно)138
См. статью Ю.А. Айхенвальда о творчестве поэта Козлова. Автор останавливается на таких моментах: слепота как центр его творчества; семейственность; тишина его внутреннего мира и покорность слепой судьбе; момент баллады // История русской литературы XIX века. Т. 1 / Под ред. Д.Н. Овсянико-Куликовского. – М., 1910. С. 156–163. Интересна современная работа по «психопоэтике». По мнению Е.Г. Эткинда, «психопоэтика» – область филологии, исследующая соотношение «мысль-слово», понятое как «вербализация» всей внутренней жизни человека. См.: Эткинд Е.Г. «Внутренний человек» и внешняя речь: Очерки психопоэтики русской литературы XVIII–XIX вв. – М., 1998. С. 12.
(обратно)139
См.: Леонтьев А.Н. Вступительная статья // Выготский Л.С. Собр. соч.: в 6 т. Т. 1. – М., 1982. С. 13–14, а также Ярошевский М.Г. Послесловие // Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1987. С. 293.
(обратно)140
Выготский Л.С. Мышление и речь. Собр. соч.: в 6 т. Т. 2. – М., 1982. С. 358.
(обратно)141
См.: Бибихин В.В. Внутренняя форма слова. – СПб., 2008.
(обратно)142
Лурия А.Р. Письмо и речь. Нейролингвистические исследования. – М., 2002. С. 83.
(обратно)143
См.: Выготский Л.С., Лурия А. Предисловие к русскому переводу работы «По ту сторону принципа удовольствия» // Фрейд 3. Психология бессознательного. – М., 1990. С. 29–38.
(обратно)144
См.: Волошинов В.Н. Фрейдизм. – М.; Л. 1927. С. 15. См. также Ярошевский М.Г. Зигмунд Фрейд – выдающийся исследователь психологической жизни человека // Фрейд 3. Психология бессознательного. – М., 1989. С. 3.
(обратно)145
См.: Фрейд 3. Психология бессознательного. – М., 1989. С. 18.
(обратно)146
См.: Манифесты сюрреализма Андре Бретона, произведения С. Дали, де Кирико, обширная литература по искусству XX века; Андреев Л.Г. Сюрреализм. – М., 1972; Балашова Т.В. Французская поэзия XX века. – М., 1982; Швейбельман Н.Ф. Опыт интерпретации сюрреалистического текста. – Тюмень, 1996 и др.
(обратно)147
Волошинов В.Н. Фрейдизм… С. 116–117.
(обратно)148
См.: Куликов А. Когда утрачиваются различия между мыслью и действием // Фрейд 3. Навязчивые состояния. Человек-крыса. Человек-волк. – СПб., 2007. С. 6–7.
(обратно)149
См.: Хомский М. Язык и мышление. – М., 1972.
(обратно)150
См.: Руднев В.П. Прочь от реальности. – М., 2000.
(обратно)151
См.: Лакан Ж. Функция и поле речи в языке и в психоанализе. – М.,
1995. С. 35; Руднев В.П. Прочь от реальности… С. 263.
(обратно)152
Аверинцев С.С. Аналитическая психология К.Г. Юнга //О современной буржуазной эстетике. Вып. 3. – М., 1972. С. 118.
(обратно)153
См. Кодуэлл К. Иллюзия и действительность. Об источниках поэзии: пер. с англ. – М., 1969. С. 211.
(обратно)154
См. Аверинцев С.С. Аналитическая психология К.Г. Юнга и закономерности творческой фантазии //О современной буржуазной эстетике. Вып. 3. – М., 1972. С. 127–128.
(обратно)155
Аверинцев С.С. Аналитическая психология К.Г. Юнга и закономерности творческой фантазии… С. 124, 126.
(обратно)156
См.: Ляликов Д.Н. Юнг // Философский энциклопедический словарь. – М., 1989. С. 782.; Аверинцев С.С. Аналитическая психология К.Г. Юнга и закономерности творческой фантазии… С. 129.
(обратно)157
Bachelard G. Le nouvel esprit scientifique. – P., 1934; Le materialisme rationnel. – P., 1963. Рус. пер.: Башляр Г. Новый рационализм. – М., 1967.
(обратно)158
См.: Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. – М., 1989. С. 50.
(обратно)159
Филиппов Л.Я. Проблема воображения в работах Гастона Башляра // Вопросы философии. – № 3. – 1972; Федорюк Г.М. Французский неорационализм. – Ростов н/Д, 1983.
(обратно)160
Балашова Т.В. Научно-поэтическая революция Гастона Башляра // Вопросы философии. – № 9. – 1972. С. 140–147.
(обратно)161
Шкловский Виктор. Гамбургский счет / Предисл. А.П. Чудакова. – М., 1990. С. 120.
(обратно)162
Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино / Отв. ред. В.А. Каверин и А.С. Мясников. Коммент. Е.А. Тоддес, А.П. Чудакова, М.О. Чудаковой. – М., 1977. С. 506. См. также: Erlich Vidor. Russischer Formalismus / Mit einem Geleitwort v. Rene Wellek. – Fr. A. М., 1987. S. 64–66.
(обратно)163
В «Сентиментальном путешествии» (1923), художественной книге о собственной жизни, В.Б. Шкловский вспоминает события 1917 г., когда он был послан в Галицию в качестве военного комиссара Временного правительства. Он должен был поднять боевой дух войск. На этом участке фронта русским частям противостояли австрийцы. В.Б. Шкловский вспоминает, как он поднял в атаку полк солдат. «Я поднял лежащие рядом с головой какого-то солдата две русские жестяные бомбы, положил в карман и взял винтовку, перешагнул нашу цепь и пошел вперед». В этих двух глаголах – «перешагнул» и «пошел» – запечатлен ритм эпохи. Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие / Предисл. Бенедикта Сарнова. – М., 1990. С. 68.
Иванов Вяч. Вс. Лингвистический путь Романа Якобсона // Роман Якобсон. Избранные работы / Сост. д.ф.н. В.А. Звегинцева; предисл. д.ф.н. Вяч. Вс. Иванова. – М., 1985. С. 7.
(обратно)164
Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении. – М., 1993. С. 47–61.
(обратно)165
Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля / Сост. А.А. Тахо-Годи. – Киев, 1994. С. 130–139; Жирмунский В.М. Из истории западноевропейских литератур / Отв. ред. М.П. Алексеев, Ю.Д. Левин. – Л., 1981. С. 114–119.
(обратно)166
Erlich Victor. Russischer Formalismus… S. 31.
(обратно)167
Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика / Вступ. статья Н.Д. Тамарченко; Коммент. С.Н. Бройтмана при участии Н.Д. Тамарченко. – М.,
1996. С. 180.
(обратно)168
Шкловский Виктор. Пародийный роман «Тристрам Шенди» Стерна // Texte der russischen Formalisten: In 2 Bd. Bd. 1. / Hrsg. v. Jurij Striedter. – Mtinchen, 1969. S. 296.
(обратно)169
Шкловский Виктор. Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля // Texte der russischen Formalisten: In 2 Bd. Bd. 1. / Hrsg. v. Jurij Striedter. – Mtinchen, 1969. S. 50.
(обратно)170
Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика… С. 23. См. также: Zima V. Peter. Formalismus und Strukturalismus zwischen Autonomie und Engagement. Sieben Thesen // Prager Schule: Kontinuitat und Wandel. Arbeiten zur Literaturasthetik und Poetik der Narration / Hrsg. von Wolfgang F. Schwarz. – Fr. a. М., 1997. S. 305–315.
(обратно)171
Шкловский Виктор. Гамбургский счет / Предисл. А.П. Чудакова. – М., 1990. С. 63.
(обратно)172
Шкловский Виктор. Гамбургский счет… С. 60.
(обратно)173
В известной статье «Литературный факт» (1924) Ю.Н. Тынянов намечает противопоставление «литературная личность» / «индивидуальность литератора». См. коммент. к: Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино… С. 512. Позднее эти идеи, угаданные учеными формальной школы, были подробно разработаны Б.О. Корманом. См.: Корман Б.О. Целостность литературного произведения и экспериментальный словарь литературоведческих терминов // Корман Б.О. Избранные труды по теории и истории литературы / Предисл. и сост. В.И. Чулкова. – Ижевск, 1992. С. 174.
(обратно)174
Эйхенбаум Б. Как сделана «Шинель» Гоголя» // Texte der russischen Formalisten: In 2 Bd. Bd. 1 / Hrsg. v. Jurij Striedter. – Munchen, 1969. S. 150, 152.
(обратно)175
Якобсон Роман. Вопросы поэтики. Постскриптум к одноименной книге // Роман Якобсон. Работы по поэтике / Сост. д.ф.н. М.Л. Гаспарова. Вступ. ст. д.ф.н. Вяч. Вс. Иванова. – М., 1987. Эти идеи В.Б. Шкловский высказал в статье «Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля» (1916). См.: Texte der russischen Formalisten: In 2 Bd. Bd. 1 / Hrsg. v. Jurij Striedter. – Munchen, 1969. S. 44–46.
(обратно)176
Шкловский Виктор. Гамбургский счет… С. 64.
(обратно)177
Шкловский Виктор. Пародийный роман «Тристрам Шенди» Стерна // Texte der russischen Formalisten: In 2 Bd.: Bd. 1 / Hrsg. v. Jurij Striedter. – Munchen, 1969. S. 244–298.
(обратно)178
Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика… С. 25.
(обратно)179
Жирмунский В.М. К вопросу о «формальном методе» // Русская словесность: Антология / Под общ. ред. д.ф.н., проф. В.П. Нерознака. – М.,
1997. С. 125.
(обратно)180
Жирмунский Виктор. Задачи поэтики // Texte der russischen Formalisten: In 2 Bd. Bd. 2 / Hrsg. v. Wolf-Dieter Stempel. – Munchen, 1972. S. 144; 160.
(обратно)181
Жирмунский В.М. К вопросу о «формальном методе»… С. 126–127.
(обратно)182
Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении… С. 121—
132.
(обратно)183
По справедливому замечанию М.Л. Гаспарова, структурализм считает равноправными «семантические элементы художественной структуры», которые формальная школа принижала. См.: Седьмые тыняновские чтения: материалы для обсуждения. – Рига – Москва, 1995–1996. С.10.
(обратно)184
Тынянов Ю.Н. Проблемы изучения литературы и языка // Поэтика. История литературы. Кино… С. 282.
(обратно)185
Эйхенбаум Борис, Литературный быт // Texte der russischen Formalisten: In 2 Bd. Bd. 1 / Hrsg. v. Jurij Striedter. – Munchen, 1969. S. 474. Примечательно, что статью «О литературной эволюции» Ю.Н. Тынянов посвящает Борису Эйхенбауму, соратнику по ОПОЯЗу и другу.
(обратно)186
Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка // Литературный факт / Вступ. ст. В.Н. Новикова. – М., 1993. С. 81.
(обратно)187
Мукаржовский Ян. Структуральная поэтика… С. 116. Таким образом, можно сказать, что произведение в литературе предстает как система, запускающая движение контекстуальных смыслов разных уровней в прямом и обратном направлении. Эта семантическая активность возникает в результате соприкосновения текста с воспринимающим сознанием. Смысл произведения предстает как колеблющаяся, переменная величина. Однако колеблется он вокруг некоего смыслового ядра, возникающего в результате встречи воплощенных в тексте интенций автора, читательских ожиданий, а также «памяти жанра». Другими словами, каждая подсистема системы «литература» содержит трансляцию, перевод всей художественной коммуникативной цепи на свои определенные уровни. Возникает «внутритекстовая» коммуникативная цепочка. См.: Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. – М., 1998. С. 467. Имманентные законы литературы содержат информацию о правилах подобной трансляции внешнего во внутреннее и наоборот (во втором случае текст можно рассматривать и как «единый сигнал»). См.: Левин Ю.И. Избранные труды… С. 464.
(обратно)188
С. Бернштейн, талантливый филолог, член ОПОЯЗа, рассматривал произведение «…как выразительную систему sui generis – как внешний знак эмоционально-динамической системы внечувственных элементов, сводящихся к беспредметным эмоциям». Далее автор отмечал, что «…функционирование художественного произведения в качестве знака…» обусловлено его структурой, которая, в свою очередь, определяется соотношением материала и формы. Художественное произведение С.И. Бернштейн определял «какчувственную данность», как форму, т. е. «знак… содержания». См.: Бернштейн Сергей. Эстетические предпосылки теории декламации // Texte der russischen Formalisten: In 2 Bd. Bd. 2 / Hrsg. v. Wolf-Dieter Stempel. – Munchen, 1972. S. 342–348.
(обратно)189
См., напр.: Современный словарь иностранных слов. – М., 1992. С. 148; Большой энциклопедический словарь. Т. 1. – М., 1991. С. 295; Философский энциклопедический словарь. – М., 1983. С. 111–112; Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987. С. 77.
(обратно)190
Мень А. Библиологический словарь: в 3 т. Т. 1. – М., 2002. См. также «Библиологический словарь» в Интернете: / men/article/mel/mel-0312.htm.
(обратно)191
Гадамер Г.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – М., 1988. С. 237.
(обратно)192
Современное зарубежное литературоведение: энциклопедический справочник. – М., 1996. С. 202.
(обратно)193
Dilt.hey W. Gesammelte Schriften. Bd. 7. – Stuttgart, 1958. S. 227. Перевод: Цурганова ЕЛ. Герменевтический круг // Современное зарубежное литературоведение: энциклопедический справочник. – М., 1996. С. 202.
(обратно)194
Онтология – философское учение о бытии, его основных принципах, структуре и закономерностях.
(обратно)195
Гадамер Г.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – М., 1988. С. 348.
(обратно)196
Малахов B.C. Философская герменевтика Г.Г. Гадамера // Г.Г. Гадамер. Актуальность прекрасного. – М., 1991. С. 328.
(обратно)197
Гадамер ГГ. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – М., 1988. С. 334.
(обратно)198
Там же. С. 334.
(обратно)199
Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991. С. 78.
(обратно)200
Там же.
(обратно)201
JaufS Hans Robert.. Literaturgeschichte als Provokation. – Fr. a. М., 1970.
S. 169–195; См. также: Нефедов Н.Г. Литературная герменевтика // Нефедов Н.Т. История зарубежной критики и литературоведения. – М., 1988. С. 218–220.
(обратно)202
Коршунов А.М., Мантатов В.В. Диалектика социального познания. – М., 1988. С. 328–329.
(обратно)203
Пастернак Е.В. Г.Г. Шпет // Шпет Г.Г. Сочинения. – М., 1989.
С. 3–4.
(обратно)204
Шпет Г.Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст. Литературнотеоретические исследования / Под ред. А.В. Михайлова. – Москва, 1992.
С. 279. Эту мысль развил позднее И. Пригожин, указав на «точки бифуркации» – «точки нестабильности», вокруг которых происходят «неисчислимые пертурбации». Пройдя «точку бифуркации», макроскопическая система может перейти в новое состояние. См.: Prigogin Ilya, Stengers Isabelle. La nouvelle alliance: Metamorphose de la science. – P., 1986. P. 229. См. также: Лотман Ю.М. В точке поворота // Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии / Вступ. статья М.Л. Гаспарова. – СПб., 1996. С. 676–680.
(обратно)205
Шпет Г.Г. Сочинения / Предисл. Е.В. Пастернак. – М., 1989. С. 380.
(обратно)206
Шпет Г.Г. Сочинения… С. 382–383.
(обратно)207
Там же. С. 408.
(обратно)208
Там же. С. 446.
(обратно)209
Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка // Литературный факт / Вступ. ст. В.И. Новикова. – М., 1993. С. 87.
(обратно)210
См.: Богин Г.И. Филологическая герменевтика. – Калинин, 1982; он же. Типология понимания текста. – Калинин, 1986; Схемы действия читателя при понимании текста. – Калинин, 1989.
(обратно)211
Борее Ю. Художественная рецепция и герменевтика. По мнению Ю. Борева, опыт герменевтики для интерпретации художественного произведения заключается в том, что этот метод 1) «ставит вопрос о том, что следует видеть за текстом: авторскую личность? вопросы современной эпохи, породившей данное произведение? культурную традицию? и т. д.;
2) дает методологические принципы интерпретации; 3) ориентирует на выявление конкретно-исторического содержания культуры; 4) направляет критика на неэмпирический, целостный, концептуально-философский подход к произведению; 5) способствует применению текста в современной культурной жизни». См.: Теории, школы, концепции. (Критические анализы.) Художественная рецепция и герменевтика. – М., 1985. С. 62–63.
(обратно)212
Богин Г.И. К онтологии понимания текста // Вопросы методологии. – № 2,– 1991. С. 35.
(обратно)213
Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977. С. 282.
(обратно)214
Борее В.Ю. Структурная поэтика // Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987. С. 428.
(обратно)215
Zilka Т. Poetiky slovnik. – Bratislava, 1987. S. 36.
(обратно)216
Гаспаров МЛ. Предисловие // Ю.М. Лотман и тартусско-московская семиотическая школа. – М., 1994. С. 15.
(обратно)217
Григорьев В.П. Минус-прием // Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987. С. 221.
(обратно)218
Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. – Л., 1972. С. 24.
(обратно)219
Об этом свидетельствует как терминология изданной ранее книги Ю.М. Лотмана «Структура художественного текста», так и прямые упоминания коммуникативной системы. См., напр.: Лотман Ю.М. Структура художественного текста… С. 22.
(обратно)220
Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. – Л., 1972. С. 24.
(обратно)221
Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. Анализ поэтического текста. Статьи. Исследования. Заметки / Вступ. ст. М.Л. Гаспарова. – СПб., 1996. С. 43.
(обратно)222
Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. Анализ поэтического текста… С. 23.
(обратно)223
Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. Анализ поэтического текста… С. 132.
(обратно)224
Там же. С. 49.
(обратно)225
Опираясь на традицию А. Шенберга, музыковед Ф. Гершкович определяет музыкальное произведение как «систему повторений». См.: Гершкович Филипп. О музыке. Статьи. Заметки. Письма. Воспоминания / Под ред. Л. Гофмана. – М., 1991. С. 63.
(обратно)226
Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. Анализ поэтического текста… С. 179.
(обратно)227
Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. Анализ поэтического текста… С. 138.
(обратно)228
Winkgens Meinhard. Wirkungsasthetik // Literatur– und Kulturtheorie / Hrsg. v. Ansgar Nunning. 2., Uberarbeitete und erweiterte Autlage. Stuttgart. – Weimar, 2001. S. 679.
(обратно)229
<<Im Gelesenwerden geschieht die fur jedes literarische Werk zentrale Interaktion zwischen seiner Struktur und seinem Empfanger». Cm.: Iser Wolfgang. Der Akt des Lesens. Theorie asthetischer Wirkung. 4 Aullage. – Mtinchen, 1994. S. 38. В дальнейшем страницы по этому изданию приводятся прямо в тексте.
(обратно)230
Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории / Пер. с нем. И.Д. Газиева; под ред. Н.А. Головина. – СПб., 2007.
(обратно)231
Цурганова Е.А. Рецептивная критика // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Ред. и сост. А.Н. Николюкин. – М., 2001. С. 872–875.
(обратно)232
Iser Wolfgang. Der Akt des Lesens. Theorie asthetischer Wirkung.
4 Auflage. – Miinchen, 1994. S. 28.
(обратно)233
Antor Heinz. Rezeptionsasthetik // Literatur– und Kulturtheorie / Hrsg. v. Ansgar Niinning. 2., tiberarbeitete und erweiterte Aullage. – Stuttgart; Weimar, 2001. S. 549.
(обратно)234
Ингарден Роман. Исследования по эстетике / Пер. с польского А. Ермилова и Б. Федорова. – М., 1962. С. 44.
(обратно)235
Там же. С. 60.
(обратно)236
Там же. С. 43.
(обратно)237
Архипов Ю. И. Анализ и восприятие. (Проблемы рецептивной эстетики) // Теории, школы, концепции (Критические анализы). Художественная рецепция и герменевтика / Отв. ред. Ю.Б. Борев. – М., 1985. С. 205. Jaufi Н. R. Literaturgeschichte als Provokation. F. a. – М., 1970. S. 169.
(обратно)238
Архипов Ю. И. Анализ и восприятие. (Проблемы рецептивной эстетики) // Теории, школы, концепции (Критические анализы) Художественная рецепция и герменевтика / Отв. ред. Ю.Б. Борев. – М., 1985. С. 205. Jaufi Н. R. Literaturgeschichte als Provokation. F. a. – М., 1970. S. 169.
(обратно)239
Antor Heinz. Erwartungshorizont // Literatur– und Kulturtheorie…
S. 152.
(обратно)240
Muller– Oberhauser Gabriella. Jaufl Hans Robert // Literatur– und Kulturtheorie… S. 297.
(обратно)241
Луман H. Социальные системы. Очерк общей теории / Пер. с нем.
Н.Д. Газиева; под ред. Н.А. Головина. – СПб., 2007. С. 106.
(обратно)242
Iser Wolfgang. Der Akt des Lesens… S. 23. Далее страницы из «Акта чтения» В. Изера указываются прямо в тексте.
(обратно)243
Ant.or Heinz. Rezeptionsasthetik // Literatur– und Kulturtheorie…
S. 550.
(обратно)244
Winkgens Meinhard. Leerstelle // Literatur– und Kulturtheorie / Hrsg. v. Ansgar Nilnning. 2., tiberarbeitete und erweiterte Aullage. – Stuttgart; Weimar, 2001. S. 363.
(обратно)245
Grab Hermann. Der Stadtpark und andere Erzahlungen / Mit einem Nachwort von Peter Stangle. – Fr.a.M., 1987. S. 185–187.
(обратно)246
Граб Герман. Шофер такси / Пер. с нем. В.Г. Зусмана // Зусман В.Г. Художественный мир Франца Кафки: малая проза. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского ун-та, 1996. С. 167. В дальнейшем страницы указываются прямо в тексте
(обратно)247
Adorno Th.W. Hermann Grab // Grab Hermann. Der Stadtpark und andere Erzahlungen… S. 196.
(обратно)248
Winkgens Mehihard. Iser Wolfgang // Literatur– und Kulturtheorie / Hrsg. v. Ansgar Nunning. 2., tiberarbeitete und erweiterte Auflage. – Stuttgart; Weimar, 2001. S. 292.
(обратно)249
См.: Предисловие издательской группы «Прогресс» // Пригожин И., Стенгерс И. Время. Хаос. Квант. – М., 1994.
(обратно)250
Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций. – М., 1973. С. 10–12.
(обратно)251
Пригожин И., Стенгерс И. Время. Хаос. Квант. – М., 1994. С. 67.
(обратно)252
Там же. С. 49.
(обратно)253
См.: Prigogine I., Stengers I. La nouvelle alliance. Metamorphose de la science. – P., 1979.
(обратно)254
Пригожин И. Философия нестабильности. – № 6. – 1991. С. 57.
(обратно)255
См. анализ «международной художественной системы» европейского символизма в монографии А.И. Жеребина: Жеребин А.И. Абсолютная реальность. «Молодая Вена» и русская литература. – М., 2009.
(обратно)256
Евин ИЛ. Синергетика мозга. – М., 2005.
(обратно)257
Копцик В., Рыжов В., Петров В. Этюды по истории искусства. – М., 2004.
(обратно)258
Стёпин B.C. Теоретическое знание. – М., 1999. Цит. по: http://www. philosophy.ru/library /stepin/index.html
(обратно)259
Хакен Г. Синергетика и некоторые ее применения в психологии // Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве / Сост. и отв. ред. В.А. Копцик. – М., 2002. С. 296.
(обратно)260
Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И., Рябов Г.П. Словарь по межкультурной коммуникации. Понятия и персоналии. – М., 2010. С. 107.
(обратно)261
Филип Де Бук (Filip De Boeck) – научный руководитель бельгийского Центра исследований Африки (Africa Research Center, Belguim) и профессор антропологии в университете г. Левена (Leuven). Важнейшие публикации Ф. Де Бука: «Makers and Breakers: Children and Youth in Postcolonial Africa» (2005); «Tales of the Invisible City» (2006).
(обратно)262
De Boeck Filip. Das Lachen Kinschasas. Eine postkoloniale Stadt und ihre Architektur aus Worten und Korpern // Lettre International. – № 76. – 2007.
S. 38–46.
(обратно)263
Павич Милорад. Кровать для троих. – СПб., 2008. С. 277.
(обратно)264
Павич Милорад. Кровать для троих. – СПб., 2008. С. 279, 280.
(обратно)265
Там же. С. 107–108.
(обратно)266
Щедровицкий Г.П. Организация, руководство, управление // Электронная версия книги: .
(обратно)267
Цит. по: Богин Г.И. Методологическое пособие по интерпретации художественного текста (для занимающихся иностранной филологией) // .
(обратно)268
Леонтович О.А. Проблема ретрансляции и адаптации культурных смыслов // Вестник МГУ. – Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2008. – № 2.
(обратно)269
Богин Г.И. Быстротекущее время и вялотекущее время как производные от формы текстопостроения // Пространство и время в языке. Тезисы и материалы Международной научной конференции 6–8 февраля 2001 г. Ч. I. – Самара, 2001. С. 47.
(обратно)270
Там же. С. 47–48.
(обратно)271
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986. С. 390.
(обратно)272
Михайлов А.В. «Западно-восточный диван» Гёте: смысл и форма // Гёте И.В. Западно-восточный диван. – М., 1988. С. 639.
(обратно)273
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986. С. 382.
(обратно)274
Там же. С. 301.
(обратно)275
Автономова Н.С. Ю.М. Лотман, переходящий в память // Юрий Михайлович Лотман / Под ред. В.К. Кантора – М., 2009. С. 357–359.
(обратно)276
Хакен Г. Информация и самоорганизация. – М., 1991. Термин синергетика – «…происходит от древнегреческого слова «синергия» – содействие, совместный труд. Герман Хакен применил этот термин для названия той науки, которая начала изучать закономерности самоорганизации в сложных открытых физико-химических системах, находящихся в состояниях, далеких от равновесия (нестабильных)». См.: Лутай B.C. Синергетическая парадигма как философско-методологическая основа решения главных проблем XXI века // Практична фигософ1я. – № 1. – 2003. С. 21.
(обратно)277
Чехов А.П. Студент //Чехов А.П. Собр. соч.: в 12 т. Т. 7. – М., 1962. С. 375. Далее страницы по этому изданию приводятся прямо в тексте.
(обратно)278
Лосев А.Ф. Имя. Избранные работы, переводы, беседы, исследования, архивные материалы / Сост., общ. ред. А. А. Тахо-Годи. – СПб., 1997.
С. 280.
(обратно)279
Неретина С.С. Тропы и концепты. – М., 1999. С. 30.
(обратно)280
Деррида Ж. О грамматологии / Пер. с фр. и вст. ст. Н. Автономовой. – М., 2000. С. 135.
(обратно)281
Аскольдов С А. Концепт и слово // Межкультурная коммуникация: практикум. Ч. I. – Нижний Новгород, 2002. С. 85. В дальнейшем страницы указываются прямо в тексте. См. также: Аскольдов С А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: антология / Под общ. ред. д.ф.н., проф. В.П. Нерознака. – М., 1997. С. 267–279.
(обратно)282
Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика информатика. Вып. 35. – М., 1997. С. 354. Вслед за Г. Фреге в современной когнитивной лингвистике концепт понимается как «оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона <…> всей картины мира, отраженной в человеческой психике. Понятие концепт отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессах мышления…» (см.: Кубрякова Е.С. Концепт // Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 1996. С. 90–93.
(обратно)283
Известный специалист по системным исследованиям Э.Г. Юдин подчеркивал, что при исследовании объекта как системы описание элементов не носит самодовлеющего характера, поскольку «элемент описывается не «как таковой», а с учетом его «места» в целом». См.: Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. – М., 1977. С. 141.
(обратно)284
Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. – М., 2002.
(обратно)285
Так, например, Д. Кемпер исследует концепт «индивидуальность» в литературе. См.: Кемпер Д. Гёте и проблема индивидуальности в культуре модерна / Пер. с нем. А.И. Жеребина. – М., 2009.
(обратно)286
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / Сост. С.Г. Бочаров. – 2-е изд. – М., 1986. С. 322.
(обратно)287
BossinadeJohanna. Poststrukturalistische Literaturtheorie. – Stuttgart – Weimar, 2000. S. IX–XI.
(обратно)288
Барт P. Смерть автора // Барт P. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Сост., общ. ред. и вст. ст. Г.К. Косикова. – М., 1994. С. 384–391.
(обратно)289
Деррида Ж. О грамматологии / Пер. с фр. ивст. ст. Н. Автономовой. – М., 2000. С. 195. В дальнейшем страницы по этому изданию приводятся прямо в тексте.
(обратно)290
Zingarelli N. Vocabolario della Lingua Italiana. Dodocesima edizione. – Bologna, 1999. P. 420.
(обратно)291
Hornby A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. – Oxford LTniversity Press, 1974. P. 176.
(обратно)292
Le Petit Robert // Par P. Robert / Redaction dirigee par A. Rey et 1. Rey-Debove. – P., 1979. P. 356.
(обратно)293
Longman Dictionary of Contemporary English. – Third Ed. – Bungay (Suffolk), 1995. P. 279.
(обратно)294
Степанов Ю. Константы: Словарь русской культуры. 2-е изд., испр. и доп. – М., 2001. С. 43. Ср.: Kluge F. Etymologisches Worterbuch der deutschen Sprache. 22 Aullage / Unter Mithilfe von Max Burgisser u. Bernd Gregor, vollig neu bearbeitet von Elmar Seebold. – Berlin; N. Y., 1989. S. 403. Cm. также: Skeat. W.W. Etymological Dictionary of the English Language. – Oxford, 1956. P. 90, 127.
(обратно)295
Cast.igt.ioniL., Mariotti S. Vocabulario Delia Lingua Latina. Latina Italiano – Italiano Latina / Redatto con collaborazione di A. Brambilla e C. Camagna. – Terza Editore. – Milano, 1996. P. 1564.
(обратно)296
Blochet. O., von Wart.burg W. Dictionnaire Etymologique de la Langue Framjaise / Ref. par W. von Wartburg. Deuxieme Edition. – P., 1950. P. 141.
(обратно)297
Daurat A., Dubois J., Minerand H. Larousse Etymologique. Nouveau Dictionnaire Etymologique et historique. Deuxieme ed. Revue et corrige. – P., 1971. P. 186.
(обратно)298
Пригожин И. Природа, наука и новая рациональность // Философия и жизнь. – 1991. – № 7. С. 36.
(обратно)299
Степанов Ю. Константы: словарь русской культуры. 2-е изд., испр. и доп.-М., 2001. С. 47.
(обратно)300
Талан. Рассказы о деньгах и счастье / Предисл. Т. Толстой. – М., 2002.
(обратно)301
Толстая Т. Кошелек интимнее обнаженного тела // Аргументы и факты. – 2002. – № 5. С. 8. См. также: Толстая Т. Купцы и художники // Талан. – М., 2002. С. 7–24.
(обратно)302
Met.zler Lexikon Literatur– und Kulturtheorie. Ansat.ze – Personen – Grundbegriffe. – 2. tiberarb. und erw. Aufl. / Hrsg. v. Ansgar Ntinning. – Stuttgart-Weimar, 2001. S. 115. См.: Можейко МЛ., о. Сергий Ленин. Дискурс // Постмодернизм: энциклопедия / Сост. и науч. ред. А.А. Грицанов, М.А. Можейко. – Минск, 2001. С. 233–237. Mills Sara. Der Diskurs. – Tubingen und Basel, 2007.
(обратно)303
Автономова Н.С. Мишель Фуко и его книга «Слова и вещи» // Мишель Фуко. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб., 1994. С. 26. См. также: Автономова Н. Познание и перевод. – М., 2008.
(обратно)304
Автономова Н.С. Мишель Фуко и его книга «Слова и вещи»… С. ^.Такое понимание термина «эпистема» соотносимо с концепциями Т.С. Куна
о структуре научных революций. См.: Кун Т.С. Структура научных революций / Пер. с англ. И.Э. Налетова. – М., 1975.
(обратно)305
Автономова Н.С. Фуко // Философский энциклопедический словарь. – М., 1989. С. 718.
(обратно)306
Ильин И.П. Словарь терминов французского структурализма // Структурализм: «за» и «против». – М., 1975. С. 454.
(обратно)307
Тодоров Цветан. Поэтика // Структурализм: «за» и «против». – М., 1975. С. 41. См. также: Зусман В.Г. Дискурс в литературе // Русская германистика. Т. III. – М., 2007.
(обратно)308
Там же. С. 454, 458.
(обратно)309
Серио П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса / Предисл. Ю.С. Степанова; общ. ред., вступ. статья и коммент. Патрика Серио. – М., 1999. С. 25.
(обратно)310
BossinadeJohanna. Poststrukturalistische Literaturtheorie. – Stuttgart-Weimar, 2000. S. 101. Cm.: Met.zler Lexikon Literatur– und Kulturtheorie. Ansat.ze – Personen – Grundbegri ffe. 2. tiberarb. und erw. Aull. / Hrsg. v. Ansgar Nunning. – Stuttgart-Weimar, 2001. S. 475–477. См. также: Фатеева НА. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. – М., 2000.
(обратно)311
Косериу Э. Синхрония, диахрония и история. – М., 2001. С. 174.
(обратно)312
Там же. С. 147.
(обратно)313
Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка: Основные проблемы социологического метода в науке о языке // Коммент. В. Махлина. – М., 1993. С. 67–68.
(обратно)314
Там же. С. 74. В дальнейшем страницы приводятся прямо в тексте.
(обратно)315
Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / Сост. С.Г. Бочаров. 2-е изд. – М., 1986. С. 302. См. Автономова Н. Открытая структура: Якобсон – Бахтин – Лотман – Гаспаров. – М., 2009. С. 176–183.
(обратно)316
Там же. С. 322.
(обратно)317
Гофман Э.Т.А. Собр. соч.: в 6 т. Т. 1. / Под ред. А.Б. Ботниковой, А.С. Дмитриева, А.В. Карельского, М.Л. Рудницкого. – М., 1991. С. 262.
(обратно)318
Греймас А.Ж., Курте Ж. Семиотика: объяснительный словарь теории языка / Пер. с франц. В.П. Мурат. – М., 1983. С. 488.
(обратно)319
Бенвенист Э. Общая лингвистика / Под ред. Ю.С. Степанова. – М., 1974. С. 312.
(обратно)320
Серио П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. – М., 1999. С. 15.
(обратно)321
Макаров М. Основы теории дискурса. – М., 2003. С. 203. См. также: Волошинов В. Марксизм и философия языка. – Л., 1929. С. 102.
(обратно)322
Арутюнова Н.Д. Дискурс // Языкознание. 2-е (репринтное) изд. «Лингвистического энциклопедического словаря» 1990 г. – М., 2000.
С. 136–137.
(обратно)323
Puschkin Alexander. Das Marchen vom Zaren Saltan / Ubers. u. hrsg. v. Kay Borowsky. – Stuttgart, 2001. См.: Межкультурная коммуникация: практикум. 4.1. – Нижний Новгород, 2002. С. 210.
(обратно)324
Манн Томас. Марио и волшебник // Манн Томас. Собр. соч.: в 10 т. Т. 8 / Под ред. Н.Н. Вильмонта, Б.Л. Сучкова; пер. Р. Миллер-Будницкой. – М.,
1960. С. 199. В дальнейшем страницы приводятся прямо в тексте.
(обратно)325
Literatur im Dritten Reich. Dokumente und Texte / Hrsg. v. Sebastian Graeb-Koenneker. – Stuttgart, 2001. S. 24. В дальнейшем страницы приводятся прямо в тексте.
(обратно)326
Schmitz-Berning Cornelia. Vokabular des National-Sozialismus. – Berlin; N.Y., 2000. S. 319.
(обратно)327
Хитрук Андрей. Невычитаемые параллели. Послесловие к 100-летию М.В. Юдиной // Музыкальная Академия. – № 2. – 2000. С. 95.
(обратно)328
Sprengel Peter. Geschichte der deutsprachigen Literatur 1900–1918. Von der Jahrhundertwende bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. – Miinchen, 2004.
(обратно)329
Бахтин M.M. Эстетика словесного творчества… С. 281.
(обратно)330
Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986. С. 281, 272, 276.
(обратно)331
Там же. С. 315.
(обратно)332
Цит. по: Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей. – М., 1961. С. 30.
(обратно)



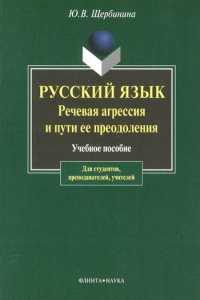
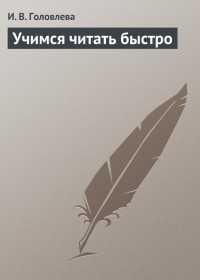



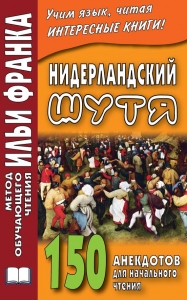


Комментарии к книге «Литература и методы ее изучения. Системный и синергетический подход: учебное пособие», Зоя Ивановна Кирнозе
Всего 0 комментариев